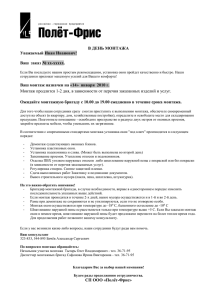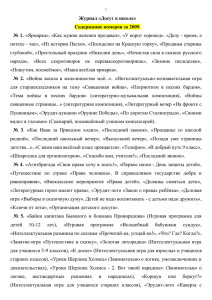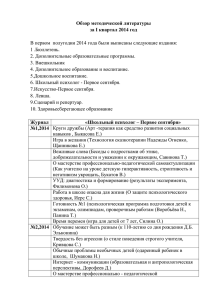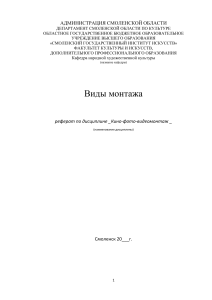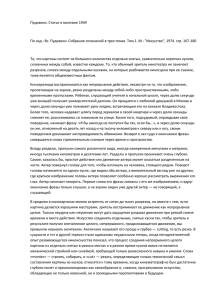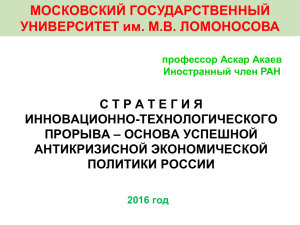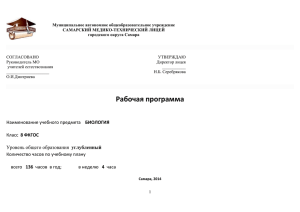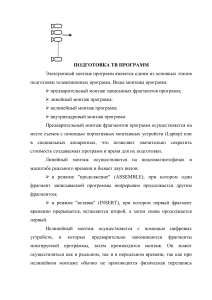1 Сергей Эйзенштейн См. также 5-й хэндаут 1
реклама

1 Сергей Эйзенштейн См. также 5-й хэндаут 1-го семестра «Монтаж – I: Эйзенштейн». Определения основных понятий – образ, монтаж, вертикальный и полифонный виды монтажа, – а также представление Эйзенштейна о кинотексте как инструменте идеологии в общем виде даны уже там. Здесь, по сути, – дополнения к той информации. «По ту сторону игровой и неигровой» (1928) «Когда вопрос гегемонии материала перешел во всеобщее потребление, в кликушечий вопль, в “культ” материала – пришел конец материалу. Материалу с большой буквы “М”; материалу как исчерпывающему определителю. И новая страница имеет развернуться под резко обратным лозунгом: П р е з р е н и е к м а т е р и а л у . <…> Если над предыдущим периодом довлел материал, вещь, сменившие “душу и настроение”, то последующий этап сменит показ явления, материала, вещи на вывод из явления, суждения по материалу, конкретизируемые в законченные понятия. <…> Кинематографии пора начать оперировать абстрактным словом, сводимым в конкретное понятие. И в первую очередь понятием предельно конкретизированным, сжатым и активно сформулированным, понятием, сведенным в лозунг. Новый этап пойдет под знаком понятия – под знаком лозунга. <…> Период возни с материалом был периодом осознания монтажного куска как слова, иногда – буквы. Наиболее ценным и положительным выводом из этого периода было установление понятия о кинообразности как монтажном комплексе, где отдельные монтажные куски играют роль однозначных (для данного контекста) слов. <…> Сферой новой кинословесности, как оказывается, является сфера не показа явлений, ни даже социальной трактовки, а возможность отвлеченной социальной оценки». «О форме сценария» (1929) «Ибо сценарий, по существу, есть не оформление материала, а стадия состояния материала на путях между темпераментной концепцией выбранной темы и ее оптическим воплощением. Сценарий не драма. Драма – самостоятельная ценность и вне ее действенного театрального оформления. Сценарий же – это только стенограмма эмоционального порыва, стремящегося воплотиться в нагромождение зрительных образов. Сценарий – это колодка, удерживающая форму ботинка на время, пока в него не вступит живая нога. Сценарий – это бутылка, нужная только для того, чтобы взорваться пробке и пеной хлынуть темпераменту вина в жадные глотки воспринимающих. Сценарий – это шифр. Шифр, передаваемый одним темпераментом – другому. Соавтор своими средствами запечатлевает в сценарии ритм своей концепции. Приходит режиссер и переводит ритм этой концепции на свой язык, на киноязык; находит кинематографический эквивалент литературному высказыванию. <…> Центр тяжести в том, чтобы сценарием выразить цель того, что придется зрителю пережить. 2 А в поисках методики подобного изложения мы пришли к той форме киноновеллы, в какой форме мы и стараемся излагать на экране сотнями людей, стадами коров, закатами солнц, водопадами и безграничностью полей. Киноновелла, как мы ее понимаем, это, по существу, предвосхищенный рассказ будущего зрителя о захватившей его картине. Это представление материала в тех степенях и ритмах захваченности и взволнованности, как он должен “забирать” зрителя. Никаких оков оптического изложения фактов мы не признаем. Иногда нам чисто литературная расстановка слов в сценарии значит больше, чем дотошное протоколирование выражения лиц протоколистом. Сценарий ставит эмоциональные требования. Его зрительное разрешение дает режиссер. И сценарист вправе ставить его своим языком. Ибо, чем полнее будет выражено его намерение, тем более совершенным будет словесное обозначение. И, стало быть, тем специфичнее литературно. И это будет материал для подлинного режиссерского разрешения. “Захват” и для него. И стимул к творческому подъему на ту же высоту экспрессии средствами своей области, сферы, специальности». «Монтаж» (1938) «Следовало бы обратиться к случаям, когда куски не только не безотносительны друг к другу, но когда само конечное, общее, целое не только предусмотрено, оно самое предопределяет как элементы, так и условия их сопоставления. Это будут случаи нормальные, общепринятые и общераспространенные. В них это целое совершенно так же будет возникать, как “некое третье”, но полная картина того, как определяются и кадр и монтаж – содержание того и другого,– будет нагляднее и отчетливее. И такие случаи как раз окажутся типическими для кинематографа. При таком рассмотрения монтажа как кадры, так и их сопоставление оказываются в правильном взаимоотношении. Мало того, сама природа монтажа не только не отрывается от принципов реалистического письма фильма, но действует как одно из наиболее последовательных и закономерных средств реалистического раскрытия содержания. Действительно, что мы имеем при таком понимании монтажа? В этом случае каждый монтажный кусок существует уже не как нечто безотносительное, а являет собой некое частное изображение единой общей темы, которая в равной мере пронизывает все эти куски. Сопоставление подобных частных деталей в определенном строе монтажа вызывает к жизни, заставляет возникнуть в восприятии то общее, что породило каждое отдельное и связывает их между собой в целое, а именно – в тот обобщенный образ, в котором автор, а за ним и зритель переживают данную тему. И если мы теперь рассмотрим два рядом поставленных куска, то мы сами в несколько ином свете увидим их сопоставление. А именно: кусок А, взятый из элементов развертываемой темы, и кусок В, взятый оттуда же, в сопоставлении рождают тот образ, в котором наиболее ярко воплощено содержание темы. Выраженное в императивной форме, более точно и более оперативно, это положение прозвучит так: изображение А и изображение В должны быть так выбраны из всех возможных черт внутри развиваемой темы, должны быть так выисканы, чтобы сопоставление их – именно их, а не других элементов – вызывало в восприятии и чувствах зрителя наиболее исчерпывающе полный образ самой темы».