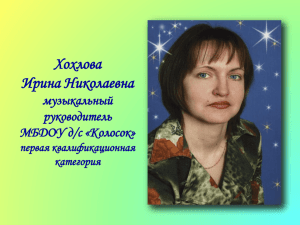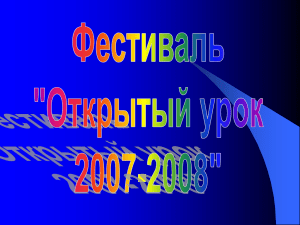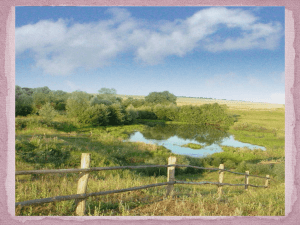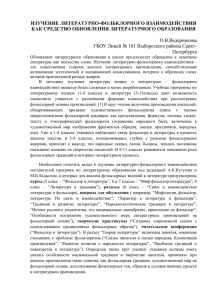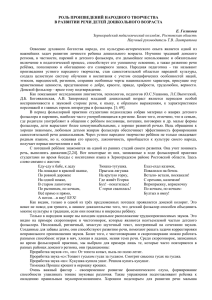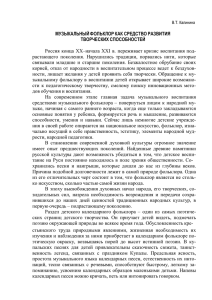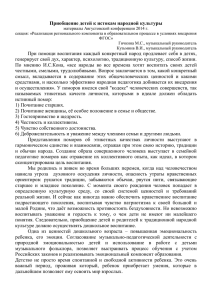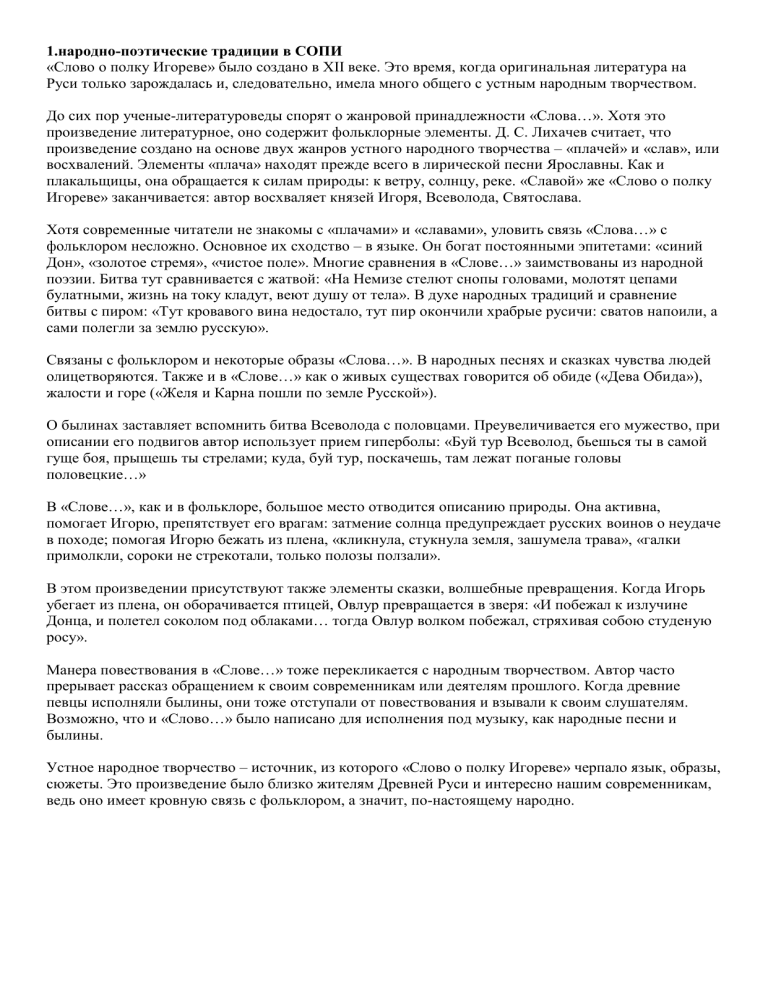
1.народно-поэтические традиции в СОПИ «Слово о полку Игореве» было создано в XII веке. Это время, когда оригинальная литература на Руси только зарождалась и, следовательно, имела много общего с устным народным творчеством. До сих пор ученые-литературоведы спорят о жанровой принадлежности «Слова…». Хотя это произведение литературное, оно содержит фольклорные элементы. Д. С. Лихачев считает, что произведение создано на основе двух жанров устного народного творчества – «плачей» и «слав», или восхвалений. Элементы «плача» находят прежде всего в лирической песни Ярославны. Как и плакальщицы, она обращается к силам природы: к ветру, солнцу, реке. «Славой» же «Слово о полку Игореве» заканчивается: автор восхваляет князей Игоря, Всеволода, Святослава. Хотя современные читатели не знакомы с «плачами» и «славами», уловить связь «Слова…» с фольклором несложно. Основное их сходство – в языке. Он богат постоянными эпитетами: «синий Дон», «золотое стремя», «чистое поле». Многие сравнения в «Слове…» заимствованы из народной поэзии. Битва тут сравнивается с жатвой: «На Немизе стелют снопы головами, молотят цепами булатными, жизнь на току кладут, веют душу от тела». В духе народных традиций и сравнение битвы с пиром: «Тут кровавого вина недостало, тут пир окончили храбрые русичи: сватов напоили, а сами полегли за землю русскую». Связаны с фольклором и некоторые образы «Слова…». В народных песнях и сказках чувства людей олицетворяются. Также и в «Слове…» как о живых существах говорится об обиде («Дева Обида»), жалости и горе («Желя и Карна пошли по земле Русской»). О былинах заставляет вспомнить битва Всеволода с половцами. Преувеличивается его мужество, при описании его подвигов автор использует прием гиперболы: «Буй тур Всеволод, бьешься ты в самой гуще боя, прыщешь ты стрелами; куда, буй тур, поскачешь, там лежат поганые головы половецкие…» В «Слове…», как и в фольклоре, большое место отводится описанию природы. Она активна, помогает Игорю, препятствует его врагам: затмение солнца предупреждает русских воинов о неудаче в походе; помогая Игорю бежать из плена, «кликнула, стукнула земля, зашумела трава», «галки примолкли, сороки не стрекотали, только полозы ползали». В этом произведении присутствуют также элементы сказки, волшебные превращения. Когда Игорь убегает из плена, он оборачивается птицей, Овлур превращается в зверя: «И побежал к излучине Донца, и полетел соколом под облаками… тогда Овлур волком побежал, стряхивая собою студеную росу». Манера повествования в «Слове…» тоже перекликается с народным творчеством. Автор часто прерывает рассказ обращением к своим современникам или деятелям прошлого. Когда древние певцы исполняли былины, они тоже отступали от повествования и взывали к своим слушателям. Возможно, что и «Слово…» было написано для исполнения под музыку, как народные песни и былины. Устное народное творчество – источник, из которого «Слово о полку Игореве» черпало язык, образы, сюжеты. Это произведение было близко жителям Древней Руси и интересно нашим современникам, ведь оно имеет кровную связь с фольклором, а значит, по-настоящему народно. 2.Русский фольклор и его особенности Фольклор (folk-lore) – международный термин английского происхождения, впервые введенный в науку в 1846 году ученым Вильямом Томсом. В буквальном переводе он означает – "народная мудрость", "народное знание" и обозначает различные проявления народной духовной культуры. В русской науке закрепились и другие термины: народное поэтическое творчество, народная поэзия, народная словесность. Названием "устное творчество народа" подчеркивают устный характер фольклора в его отличии от письменной литературы. Название "народно-поэтическое творчество" указывает на художественность как на признак, по которому отличают фольклорное произведение от верований, обычаев и обрядов. Такое обозначение ставит фольклор в один ряд с другими видами народного художественного творчества и художественной литературы.1 Фольклор – сложное, синтетическое искусство. Нередко в его произведениях соединяются элементы различных видов искусств – словесного, музыкального, театрального. Его изучают разные науки – история, психология, социология, этнология (этнография)2. Он тесно связан с народным бытом и обрядами. Неслучайно первые русские ученые подходили к фольклору широко, записывая не только произведения словесного искусства, но и фиксируя различные этнографические детали и реалии крестьянского быта. Таким образом, изучение фольклора было для них своеобразной областью народознания3. Наука, изучающая фольклор, называется фольклористикой. Если под литературой понимать не только письменное художественное творчество, а словесное искусство вообще, то фольклор – особый отдел литературы, а фольклористика, таким образом, является частью литературоведения. Фольклор – это словесное устное творчество. Ему присущи свойства искусства слова. Этим он близок к литературе. Вместе с тем он имеет свои специфические особенности: синкретизм, традиционность, анонимность, вариативность и импровизация. Предпосылки возникновения фольклора появились в первобытно-общинном строе с началом формирования искусства. Древнему искусству слова была присуща утилитарность – стремление практически влиять на природу и людские дела. Древнейший фольклор находился в синкретическом состоянии (от греческого слова synkretismos – соединение). Синкретическое состояние – это состояние слитности, нерасчлененности. Искусство еще было не отделено от других видов духовной деятельности, существовало в соединении с другими видами духовного сознания. Позднее за состоянием синкретизма последовало выделение художественного творчества вместе с другими видами общественного сознания в самостоятельную область духовной деятельности. Фольклорные произведения анонимны. Их автор – народ. Любое из них создается на основе традиции. В свое время В.Г. Белинский писал о специфике фольклорного произведения: там нет "знаменитых имен, потому что автор словесности всегда народ. Никто не знает, кто сложил его простые и наивные песни, в которых так безыскусственно и ярко отразилась внутренняя и внешняя жизнь юного народа или племени. И переходит песня из рода в род, от поколения к поколению; и изменяется она со временем: то укоротят ее, то удлинят, то переделают, то соединят ее с другой песнею, то сложат другую песню в дополнение к ней – и вот из песен выходят поэмы, которых автором может назвать себя только народ".4 Безусловно прав академик Д.С. Лихачев, который отмечал, что автора в фольклорном произведении нет не только потому, что сведения о нем, если он и был, утрачены, но и потому, что он выпадает из самой поэтики фольклора; он не нужен с точки зрения структуры произведения. В фольклорных произведениях может быть исполнитель, рассказчик, сказитель, но в нём нет автора, сочинителя как элемента самой художественной структуры. Традиционная преемственность охватывает большие исторические промежутки – целые столетия. По словам академика А.А. Потебни, фольклор возникает "из памятных источников, т. е. передается по памяти из уст в уста насколько хватает памяти, но непременно прошедший сквозь значительный слой народного понимания"5. Каждый носитель фольклора творит в границах общепринятой традиции, опираясь на предшественников, повторяя, изменяя, дополняя текст произведения. В литературе присутствуют писатель и читатель, а в фольклоре – исполнитель и слушатель. "На произведениях фольклора всегда лежит печать времени и той среды, в которой они длительное время жили, или “бытовали”. По этим причинам фольклор и называют народным массовым творчеством. У него нет индивидуальных авторов, хотя есть много талантливых исполнителей и творцов, в совершенстве владеющих общепринятыми традиционными приемами сказывания и пения. Фольклор непосредственно народен по содержанию – т. е. по мыслям и чувствам, в нем выраженным. Фольклор народен и по стилю – т. е. по форме передачи содержания. Фольклор народен по происхождению, по всем приметам и свойствам традиционного образного содержания и традиционным стилевым формам".6 В этом состоит коллективная природа фольклора. Традиционность – важнейшее и основное специфическое свойство фольклора. Всякое фольклорное произведение бытует в большом количестве вариантов. Вариант (лат. variantis – меняющийся) – каждое новое исполнение фольклорного произведения. Устные произведения имели подвижную вариативную природу. Характерной особенностью фольклорного произведения является импровизация. Она непосредственно связана с вариативностью текста. Импровизация (ит. improvvisazione – непредвиденно, внезапно) – создание фольклорного произведения или его частей непосредственно в процессе исполнения. Данная особенность в большей степени характерна для причитаний и плачей. Однако импровизация не противоречила традиции и находилась в определенных художественных рамках. Учитывая все эти признаки фольклорного произведения, приведем предельно краткое определение фольклора, данное В.П. Аникиным: "фольклор – это традиционное художественное творчество народа. Оно равно относится как к устному, словесному, так и иному изобразительному искусству, как к старинному творчеству, так и к новому, созданному в новое время и творимому в наши дни".7 Фольклор, как и литература, – искусство слова. Это дает основание использовать литературоведческие термины: эпос, лирика, драма. Их принято называть родами. Каждый род охватывает группу произведений определенного типа. Жанр – тип художественной формы (сказка, песня, пословица и т. д.). Это более узкая группа произведений, чем род. Таким образом, под родом подразумевается способ изображения действительности, под жанром – тип художественной формы. История фольклора – это история смены его жанров. Они в фольклоре обладают большей устойчивостью, по сравнению с литературными, жанровые границы в литературе шире. Новые жанровые формы в фольклоре возникают не в результате творческой деятельности отдельных лиц, как в литературе, а должны быть поддержаны всей массой участников коллективного творческого процесса. Поэтому их смена не происходит без необходимых исторических оснований. В то же время жанры в фольклоре не неизменны. Они возникают, развиваются и отмирают, заменяются другими. Так, например, былины возникают в Древней Руси, развиваются в средние века, а в XIX веке постепенно забываются и отмирают. С изменением условий бытования разрушаются и предаются забвению жанры. Но это не свидетельствует об упадке народного искусства. Изменения в жанровом составе фольклора – естественное следствие процесса развития художественного коллективного творчества. Каково соотношение между действительностью и ее отображением в фольклоре? Фольклор сочетает прямое отражение жизни с условным. "Здесь нет обязательного отражения жизни в форме самой жизни, допускается условность".8 Ему свойственны ассоциативность, мышление по аналогии, символичность. 3.Былинные и житийные сюжеты в русской литературе 4.народно-поэтические традиции в творчестве Гоголя Фольклорная образность, являясь смысло- и формообразующей составляющей понятия фольклоризм, определяется спецификой авторского восприятия устного народного творчества и реализуется на следующих уровнях: аксиологическом, идейно-тематическом, композиционном, персонажном, языковом. Это совокупность образов устной поэзии, ассимилированных индивидуально-авторским мировоззрением и нашедших творческое воплощение в художественном мире писателя. Элементы фольклорной образности способствуют установлению интертекстуальных и ассоциативных связей в культуре. Фольклорные традиции не существуют в гоголевском тексте изолированно, в чистом виде; они активно взаимодействуют с литературными традициями и с религиозными интенциями. Масштабное намерение показать всю Русь («Вся Русь явится в нем!») соединилось у Гоголя со стремлением глубоко проникнуть во внутренний мир русского человека, дать многообразие оттенков его натуры, «чтобы по прочтеньи <.> предстал как бы невольно весь русский человек». Поэма призвана была произвести глубокое преобразующее воздействие на нацию через нравственное возрождение отдельной личности. Изображая «пошлость и бедность» русской жизни, писатель стремился пробудить национальную «субстанцию», «плодовитое зерно», «творящие способности» и «дарования», скрытые в тайниках души русского человека, а во втором и третьем томах -явить их зримый образ. Решая эту задачу, автор апеллировал к разным пластам культуры, в том числе и к фольклору, в ряде жанров которого воплотилось представление об идеальной сущности, основополагающих особенностях национального характера. Таким образом, обращение к фольклору было мотивировано стремлением Гоголя к глубокому познанию природы русского человека, к выявлению его ментальности, национальной идентичности, позволяло увидеть «все здоровое и крепкое» в структурах персонажей, традиционно относимых к «мертвым душам», а если учесть, что поэма так или иначе была ориентирована на конкретную социально-историческую действительность, то служило и современникам писателя напоминанием об их истинном предназначении. Обращение Гоголя к устному народному творчеству продуцировало определенный тип образности на различных уровнях структуры поэмы: идейно-тематическом, аксиологическом, сюжетнокомпозиционном, персонажном, пространственно-временном, языковом. Фольклорная образность реализуется на уровне авторского замысла. Постижение природы русского человека невозможно было, по мнению Гоголя, без обращения к устной поэзии. В фольклоре выработана устойчивая система нравственных, культурно-эстетических, религиозных и других представлений и норм, характерных не для личности-индивидуальности, а для этноса в целом. Поэтическое творчество воплотило наиболее отчетливо национальный идеал, с позиций которого автор «Мертвых душ» и стремился дать оценку поступков персонажей, акцентируя позитивные и негативные начала природы русского человека. Обращение к традициям фольклора способствовало решению одного из центральных вопросов русской литературы - возрождение нравственно погибшего человека. Фольклорная образность обусловливает жанровую специфику произведения. Так, эпопейный замысел соотносится с образностью былины; романное .начало проецируется на образность сказки; лирическое начало, связанное с образностью народной песни, позволяет квалифицировать произведение с жанровой точки зрения как поэму; образность народной смеховой культуры способствует проявлению признаков, характерных для ирои-комической поэмы. Образность устного народного творчества проявляется на сюжетно-композиционном уровне «Мертвых душ». Созданию внешнего сюжета (похождения персонажа, наделенного плутовскими качествами) способствует образность кумулятивной сказки. На реализацию внутреннего (глубинного) сюжета «Мертвых душ», связанного с идеей инициации (в контексте замысла - возрождение погибшей души персонажа), направлена образность волшебной сказки. Обращение к фольклору продуцирует образность на персонала юм уровне. Реминисценции из животной кумулятивной сказки акцентируют животное начало, осмысляемое Гоголем как мертвое, что обнаруживает перекличку с заглавием произведения. Черты сказочного героя в структуре образа Чичикова допускают возможность развития сюжета поэмы по сценарию волшебной сказки, что в контексте авторского замысла связано с нравственным преображением покупщика «мертвых». Истинность и ложность помощи, оказываемой Чичикову в процессе его духовного возрождения, правильность выбранного им пути выражается через типологическое сходство некоторых персонажей поэмы с дарителями (помощниками) волшебной сказки. Демоническое начало, скрываемое за «пошлостью» современной жизни, в структурах образов центрального, а также других персонажей поэмы акцентируется через обращение Гоголя к жанру былички. Традиции народной смеховой культуры позволяют увидеть в персонажей^произведения наряду с «мертвенностью» и «земностью» высокие начала русской природы. Проекция на исторически конкретную действительность дает повод рассуждать об амбивалентности русского характера, что, на взгляд создателя книги, оставляет надежду на духовное воскрешение нации. Той же цели способствует образность былины, если учесть, что богатырство расценивалось Гоголем в качестве одной из ключевых составляющих русского национального характера. Фольклорная образность способствовала созданию целостной картины действительности. Представление о раздробленности, демонизме, ярмарочности жизни настоящего создается за счет обращения писателя к жанрам былички и кумулятивной сказки, образу ярмарки. Образность устного народного творчества реализуется на уровне авторской аксиологии. Гоголь стремился «выразить» русского человека «в той действительности, в какой он ныне есть», и в «том идеале, в каком он должен быть» (VIII, 367). Проявлению антиидеала, связанного в тексте с изображением пороков каждого отдельного человека, русского общества, человечества в целом, способствует образность былички; представления писателя об идеале и антиидеале актуализируются в образах народной смеховой культуры; концентрации авторского идеала способствует проекция «Мертвых душ» на жанр былины, лирической песни, пословицы, духовного стиха. Проявлению антиидеала способствовала образность несказочной прозы, в первую очередь, жанра былички. Образность былички проявляется в отчетливо выраженной установке на «игру с нечистой силой». Семантика демонического начала в индивидуально-авторском восприятии включает в себя понятия: пошлость, обыденность, «обыкновенность», традиционно соотносимые с процессом оскудения и извращения души, обольщения ее богатством, господством материального начала над духовным, отступлением от нравственного идеала, который стремился актуализировать создатель «Мертвых душ». Стремлением эксплицировать демоническое начало в отдельных фрагментах текста обусловливается обращение Гоголя к модели былички, реализуемой в одном из слухов о Чичикове. В контексте идейного замысла поэмы образность былички провоцирует ощущение демонического ужаса от восприятия реальности, инициирует читательские рефлексии о необходимости нравственного очищения общества. Проявлению идеала и антиидеала писателя способствует образность народной смеховой культуры. В тексте «Мертвых душ» (внутренне пространство которых может быть квалифицировано как смеховое) актуализируется образ ярмарки. Он имманентен мироощущению Гоголя и отвечает внутренней специфике произведения. Стилистические приемы ярмарочного фольклора отличаются функциональной амбивалентностью: направленные на высмеивание людских пороков, служат указанием на наличие в структурах образов «мертвых душ» исконных субстанциальных черт, что оставляет надежду на их нравственное преображение. Преодоление пороков современного общества Гоголь связывал с развитием важных субстанциальных «свойств» русских: богатырства, жизненной, житейской мудрости, «спохватности» ума, широты души, стремления к вольности, удали, разгулу, восприимчивости к «высокому слову евангельскому». Эти специфические национальные особенности воплотились в жанрах былины, лирической песни, пословицы, духовного стиха. Положительная патетика, высокий замысел произведения Гоголя, направленный на создание национальной эпопеи, были ориентированы на поэтику жанра былины с воплощенным в ней эпическим идеалом богатырства. Этому понятию присущ большой смысловой объем (от физических проявлений силы до способности к духовному подвигу). Идеал богатырства в «Мертвых душах» это идеал, частично сконцентрированный в прошлом, крупицы его рассеяны в настоящем, а полная материализация должна произойти в будущем. В свете авторских интенций логика внутреннего сюжета «Мертвых душ» может быть определена как движение от ярмарки, демифологизированного социального хаоса современной действительности, к духовному богатырству. Душа» русской ментальности, ее поэтическая составляющая, которую стремился выразить Гоголь в «Мертвых душах», получила, на взгляд создателя, наибольшее выражение в лирической песне. Воспеваемые в произведениях этого жанра вольность, удаль, разгул, широта души входили в число идеализируемых автором национальных «свойств». С народной песней связано лирическое начало в поэме. «Лиризм» имманентен произведению, предметом изображения в котором должна была послужить «вся Русь»: «<.> два предмета вызывали у наших поэтов этот лиризм <.>. Первый из них Россия. При одном имени как-то вдруг просветляется взгляд у нашего поэта, раздвигается дальше его кругозор, все становится у него шире, и он сам как бы облекается величием, становясь превыше обыкновенного человека» (VI, 216). Лирическое начало, выходящее на общенациональный уровень, выражало также субъективированное представление автора о путях развития России, ее значении в мировом пространстве. Выражая «живую душу», песенная образность инициирует пробуждение «живых» начал в персонажах, традиционно относимых к «мертвым душам». Концентрации авторского идеала способствовали также пословицы, воплотившие народную мудрость, рациональное начало природы русского человека. Обращение к традиции этого фольклорного жанра позволяло дать оценку действительности от лица «многоликого и огромного духа народа». Образность этого фольклорного жанра связана с идейными установками произведения. Так, высказывание о «спохватном» уме выступает своеобразной метафорой замысла произведения. «Спохватность» должна была послужить толчком к преображению персонажей поэмы (а за ними - и современников Гоголя), напоминанием о подлинном предназначении. Дидактическая линия, проповеднический пафос авторских обращений, религиозный аспект поэмы о России (наряду с традициями учительной литературы) были ориентированы на традиции и поэтику духовных стихов. Образность этого жанра фольклора, проявляясь во внутреннем строе первого тома произведения, проецируется на его перспективный сюжет, реализующий тему покаяния и нравственного преображения персонажей. Реминисценции и аллюзии из духовных стихов служат своеобразным напоминанием о «спохватном» уме, которым силен русский. Способность «принять в себя высокое слово евангельское, возводящее к совершенству человека», Гоголь считал одним из «высоких достоинств русской природы» (VII, 335). В связи с этим духовные стихи - упрощеннофольклорный вариант церковного учения - служили тем, что «проще и ближе ставит человека к исполнению обязанностей» (VII, 338). Выраженное в произведениях этого жанра лирическое начало позволяет квалифицировать произщведение Гоголя как поэму о душе. Народность (которая расценивалась Гоголем как национальное мировоззрение, «манера понимать вещи») и фольклор в восприятии писателя - понятия близкие. Дух народа, высокое субстанциальное начало, воплотились, на взгляд создателя, в устном поэтическом творчестве. Народностью автор «Мертвых душ» стремился преодолеть пошлость современной действительности - проекция в фольклорное «прошлое» и «настоящее» должна была указать «пути и дороги» «для всякого» от пошлости современной жизни к ее идеалу, способствовала решению вопросов духовного существования человека, поиска истинных ценностей жизни. 5.Народно-поэтические традиции в творчестве Пушкина «Начало искусства слова в фольклоре», – так определил А.М. Горький органические связи литературы с фольклором.1 Народно-поэтическое творчество вливалось в русскую литературу, русские писатели опирались на него, оно одухотворяло ее, вносило русское национальное начало, обогащая их художественное творчество сюжетами и образами, героями из народа и народнопоэтическими стилистическими приемами. Литературно-фольклорные связи основывались на глубоком интересе литературы к духовному миру народа, к проблеме народности, освоению фольклорных традиций. Литература опиралась на народное творчество, постигала его нравственные и эстетические идеалы. Фольклор является питательной средой литературы, его живительными истоками. Богатством народной поэзии стремилась обогатиться вся русская литература. Жанры и фольклорные сюжеты, выразительно-изобразительные средства вливаются в русскую литературу и придают ей национальное своеобразие. Она обнаруживает идейную и художественную близость с устной поэзией. Нет ни одного писателя, который прошел бы мимо устной народной поэзии, не отразил бы в своем творчестве фольклорных традиций и не обратился бы к фольклору. С особой глубиной народно-поэтические мотивы отразились в произведениях А.С. Пушкина. Поэт увлекался народным творчеством. «Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма, – писал он. – Что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! Что за золото!» «Пушкин был первым русским писателем, – отмечал Горький, – который обратил внимание на народное творчество и ввел его в литературу. Он украсил народную песню и сказку блеском своего таланта, но оставил неизменным их смысл и силу».2 Народные элементы естественно входили в поэзию и прозу Пушкина, поскольку она сама была народной, глубоко проникающей в духовный мир. Пушкина пленяло народное творческое воображение, его фантазия, художественное образное мышление, стихия языка. Поэт последовал принципам фольклорной сказки. Его сказки, сложенные по образцу народных, «удерживали прелесть и свободу сказочного чуда» (В.П. Аникин), народный склад. В сказках Пушкина, как и в народных, открывался мир удивительных чудес: возникший на пустынном острове златоглавый город «с теремами и церквями», и затейливая белка, которая «песенки поет, да орешки все грызет, а орешки не простые, все скорлупки золотые», и тридцать три богатыря. В них удивительная Царевна-Лебедь, которая «днем свет божий затмевает, ночью землю освещает, месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит». Ее образ соотносится с фольклорными героинями: «а сама-то величава, выступает будто пава; а как речь-то говорит, словно реченька журчит». Фантастические чудеса народного вымысла идут у Пушкина от народной сказки. Так, образ кота-баюна из записанной Пушкиным сказки «Чудесные дети», представленный сказочной народной «формулой»: «у моря-лукомория стоит дуб, а на том дубу золотые цепи, и по тем цепям ходит кот: вверх идет – сказки сказывает, вниз идет – песни поет» – входит в поэзию Пушкина как «кот ученый». Здесь присутствуют те же художественные поэтические образы, что и в народной поэзии. Сам же Пушкин в поэме «Руслан и Людмила» изображаемый им сказочный мир характеризует как мир необыкновенный, фантастический: «Там чудеса: там леший бродит, Русалка на ветвях сидит; Там на неведомых дорожках Следы невиданных зверей; Избушка там на курьих ножках Стоит без окон, без дверей».3 В его мире и колдуны, и богатыри, и царевна, и бурый волк, и ступа с Бабою Ягой, и царь Кощей. И все эти поэтические образы сказки исконно русские, национальные. Поэт подчеркивает: «Там русский дух… там Русью пахнет!» В этом поэтическая народность пушкинских строк. Поэма «Руслан и Людмила» выдержана в народно-сказочных традициях: сказочный сюжет – похищение героини, ее поиски героем, преодоление различных препятствий, народно-традиционные сказочные чудеса, счастливый конец. Пушкин опирается на народные былинные традиции. Действие происходит, как и в былинах, в древнем Киеве, в гриднице высокой пирует Владимир- Солнце. Пир изображен также в былинной манере. Главный герой Руслан подобен былинным богатырям. Черты его гиперболизированы и героичны. Он освобождает Киев от печенегов, с которыми борется в одиночку. Поразительна и стихия народной речи, выраженная в пословицах и поговорках: «Хоть лоб широк, да мозгу мало! Я еду-еду не свищу, А как наеду, не спущу!»4 Народно-поэтические мотивы используются Пушкиным и в других его произведениях. Фольклорные темы, мотивы и сюжеты выступают как средство характеристики народной жизни, психологии и эстетических представлений народа. Народный «разбойничий» фольклор входит в сюжет повести «Дубровский». Широко используется народное поэтическое творчество в «Капитанской дочке» в эпиграфах, пословицах. При помощи народных пословиц, песен, сказок создаются характеристики Пугачева и пугачевцев. О «привычках милой старины» Пушкин пишет и в романе «Евгений Онегин», рассказывая о деревенской жизни семьи Лариных: «Они хранили в жизни мирной Привычки милой старины; У них на масленице жирной Водились русские блины; Два раза в год они говели; Любили круглые качели, Подблюдны песни, хоровод…».5 А.Д. Сойманов пишет: «Поэзия Пушкина вырастает на родной основе, в этом ее огромная сила, очарование и непреходящая ценность. Он смело вводит фольклор в литературу, во многом предопределив пути дальнейшего его освоения».6 6. «Конек- горбунок» Ершова связь с фольклором Фольклорные элементы в сказке П. Ершова «Конёк-Горбунок» были замечены давно. Некоторые исследователи говорят, что основой для ее написания стали народные сказки «Иван-царевич и серый волк», «Сивка-бурка». На самом деле «Конёк-Горбунок» – самостоятельное литературное произведение, в котором отразились народные взгляды, обычаи, верования. Фольклорные особенности можно проследить на разных уровнях сказки: сюжете, системе образов, стилистике. В сокровищнице народного творчества есть множество сказок, легенд, в которых действуют три брата. Они отличаются по уму, представляя такую себе лесенку: старший брат – самый умный, средний – ни умен, ни глуп, младший – дурак. Младший братец благодаря простоте нрава обычно получает подарок судьбы, который старшие пытаются отобрать обманом. Такие образы есть и в произведении Ершова. Конёк-горбунок является мудрым проводником и наставником Ивана-дурака. Проводник-наставник, которого получает настойчивый или добрый герой тоже характерен для русского устного народного творчества. В народной культуре небесные светила считались божествами, что восходит еще к язычеству. В «Коньке-горбунке» это родственники Царь-девицы. Они, как и полагается, живут на небе, наблюдая за тем, что происходит внизу. Огромную рыбу, которая глотает людей, корабли, прекрасных жар-птиц тоже можно встретить в фольклоре. П. Ершов несколько раз упоминает героев былин и сказок: Еруслана (богатырь), Сивку-бурку. С первым сравнивается Иванушка, что делает образ дурака еще комичнее. Сюжет сказки П. Ершова тоже построен по фольклорной традиции. Сначала младшему сыну достается огромное богатство – прекрасные кони. Они и стают причиной дальнейших приключений Ивана. Задания для дурака построены по принципу от легкого до сложного. Сначала главный герой должен поймать жар-птицу, потом – прекрасную царевну, в конце – обыскать океан, чтобы привезти красавице перстень. Как и полагается, конец у сказки счастливый: все испытания пройдены, добро побеждает зло. Читая сказку, несложно заметить присутствие в ней числа «три»: произведение состоит из трех частей, у крестьянина было три сына, лошадь приводит троих жеребьят, Иван получает три задания, купается в трех котлах. Это число издавна считается магическим не только в русской, но и в мировой культуре. Оно считается оберегом, символом единства у христиан. В фольклорном духе выдержана и стилистика произведения. В каждой части сказки автор встречает читателя пословицей. Начинается «Конёк-горбунок» традиционным для фольклора указанием на место событий: «За горами, за лесами, за широкими морями». Вторая и третья части начинаются шуточными присказками, которые призваны заинтриговать читателя. В них вспоминаются образы или сюжеты, взятые из фольклора. Часто автор использует и фольклорные художественные средства, например, в тексте встречаются традиционные эпитеты «грива золотая», «месяц ясный». Речь персонажей оживляется фразеологизмами народного происхождения: как в масле сыр катался, не клепли, постучали ендовой. 7. фольклорные традиции в творчестве Ремизова Анализируя насыщенные фольклором и этнографией произведения писателя в хронологическом порядке, мы смогли проследить, как далекий от традиционной народной культуры автор, увлеченный радикальными идеями в политике и в искусстве, за сравнительно короткое время становится одним из наиболее авторитетных представителей «русской линии» в символизме, не только «знатоком и ценителем», но и своеобразным «продолжателем» фольклорной традиции, «сказочником и сказителем». Нулевую фазу» ремизовского фольклоризма демонстрирует анализ раннего рассказа писателя «Иван Купал» (1903), в котором фольклорно-мифологический антураж (элементы купальской обрядности) по сути дела маскируют реальную основу произведения и его внелитературную цель. Существенные нестыковки обрядового и литературного текстов свидетельствуют о пока еще слабом знании автором славянского фольклорно-этнографического мира. Отдельные, но весьма показательные ошибки и неточности Ремизова в изображении этого мира подтверждают наше предположение об изначальной отчужденности писателя от фольклорной традиции. Видимо, ощущая этот «недостаток», Ремизов в поздней книге воспоминаний «Подстриженными глазами» скрупулезно собирает детские впечатления фольклорно-мифологического плана, в частности развивает традиционный для русской литературы мотив няни-сказительницы. Но главным, если не единственным, источником ремизовского фольклоризма была книга - записанные и опубликованные тексты фольклорных произведений, описания обрядов и верований, научные исследования по этнографии и фольклористике XIX и начала XX веков. Ремизов, как это показано в первой главе, пришел к отечественному фольклору и мифологии не вполне обычным для русского писателя путем -через традиционную культуру коми-зырян. Авторы ремизовского поколения приобщались к «славянским древностям» или естественным образом, как, например, «новокрестьянские писатели», для которых фольклоризм был выражением их автобиографического «я», или через филологические факультеты университетов, как многие соратники писателя по символизму. На долю Ремизова выпал «третий путь» - путь самостоятельного, книжного освоения народной культуры, своеобразно вживания в биографически далекую от него традицию. Закономерным следствием ученичества стала поначалу невольная, а позднее и преднамеренная ориентация на такую внелитературную форму авторства как сказитель (сказочник) для произведений, основанных на фольклорно-мифологическом материале, и писец (переписчик) для текстов с древнерусской литературной основой. Ремизов не только осознал себя продолжателем фольклорной традиции, но и убедил в этом значительную часть читателей и критиков. Определения «сказитель» и «сказочник» применялись по отношению к нему едва ли не чаще, чем слово «писатель». Уже в 1913 году Б.М. Эйхенбаум подчеркивал, что Ремизов «не рассказчик, а сказитель»1. «Последним из народных сказителей» называл Ремизова К.В. Мучульский . Современная писателю критика зачастую принимала его правила игры и намеренно не отделяла ремизовские версии фольклорных сюжетов от подлинных народных произведений. В рецензии на сборник писателя «Николины притчи» З.Н. Гиппиус замечала: «Не знаю, все ли «притчи» Ремизовым только взяты или сочинены иные, но это безразлично: они единого духа. Ремизов тут почти не писатель, просто один из многих «создателей» Николиных «сказов»3. Выражение «почти не писатель» напоминает об этикетной средневековой формуле самоуничижения автора, которой часто пользовался Ремизов, стараясь и в творческом поведении походить на древних книжников и сказочников. При этом сам писатель, судя по целому ряду разновременных высказываний, четко различал фольклор и литературу, сказительство и индивидуальной творчество. Работая с фольклорно-мифологическим материалом Ремизов лишь надевает маску сказителя, на время входит в образ «народного рапсода». Наиболее показательным среди так называемых «фольклорных пересказов» писателя является его вариант пьесы о царе Максимилиане, получивший в свое время признание у таких знатоков фольклора как П.Г. Богатырев и P.O. Якобсон. Хроника постановки этой народной драмы в XX веке в России и за границей свидетельствует, что ремизовский текст практически полностью вытеснил спектакли на основе аутентичных записей. Уже в первых опытах поэтического пересоздания зырянской мифологии и фольклора Ремизов открыто опирается на аутентичные источники и их исследовательскую интерпретацию. Мифологический дискурс активно насыщается специфически «декадентскими» смыслами и мотивами, а также скрытыми аллюзиями на «текст жизни» автора. «Декаданс» здесь в большинстве случаев неотделим от «автобиографизма» в акцентировании мотивов тоски, «подполья», всемирного одиночества, томной эротики и желанной смерти. Во второй публикации зырянского цикла (1907) писатель добавляет примечания с элементами научного комментария, что уже само по себе демонстрирует установку на особый тип творчества, основанный на достоверном, с точки зрения науки, источнике. Об этом же свидетельствует и почти курьёзная попытка Ремизова объяснить в примечаниях неточности в изложении мифа, возникшие как вследствие декадентских увлечений, так и из-за использования не вполне точного источника. Подобного рода «самокритика» характерна для академической среды. Для «среднего» писателя-символиста в такой ситуации более ожидаемой была бы апелляция к безграничной свободе индивидуального творчества. Интерес писателя к традиционной культуре национальных окраин России и сопредельных народов не ограничивался зырянской тематикой. И в «Посолони», и в книге «К Морю-Океану» встречаются существенные элементы неславянской мифологии. После революции 1917 года, на волне романтического пафоса переустройства старого мира писателем были созданы «сказы» народов Сибири, Кавказа и далее Тибета4. Это была лишь небольшая часть грандиозного плана, о котором Ремизов писал в автобиографии 1922 года: «Мне пришло на мысль выразить русским голосом (самым в мире свободным по мечте своей) голос народов всего мира и, главным образом, народов отверженных, «диких» или затесненных, обиженных, или погибающих, или совсем погибших. Пусть прозвучит по-русски их заветное на всеобщем суде!»5. Но основной интерес для писателя в 1900-е годы представлял отечественный фольклор и отраженная в нем славянская мифология. Фольклорно-мифологические рассказы Ремизова, собранные им в книгах «Посолонь» и «К Морю-Океану», основываются прежде всего на огромном этнографическом материале, опубликованном в XIX и в начале XX века. (Полевой фольклористикой писатель никогда не занимался, и единичные ссылки на устную сказку, скорее всего, мистифицированы). Состав источников дает представление о степени усвоения Ремизовым традиционной народной культуры и о динамике этого процесса, а также о научных предпочтениях писателя в этой области. К последним относятся работы отечественных мифологов, собравших огромный фактический материал. Не случайно, что наиболее востребованным для Ремизова стал фундаментальный труд А.Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу». При этом писателя трудно назвать безусловным адептом мифологической школы. Теоретические воззрения Афанасьева, его «солярные» и «метеорологические» построения Ремизов использует очень редко и с определенными художественными «оговорками». Так в новелле «Воробьиная ночь», сконструированной в духе метеорологической концепции, писатель все же меняет излюбленного афанасьевского Громовика на безымянного воробья, а «облачную нимфу» на «невесту-воробушка», придавая тексту легкий пародийный смысл. В научном и идеологическом планах писатель все больше и больше тяготеет к школе академика А.Н. Веселовского как более актуальной для эпохи. Идеология и общий пафос трудов Веселовского так или иначе влияли на формирование фольклоризма писателя еще до того, как он непосредственно познакомился с работами ученого. В ремизовское окружении в 1900-е годы входили ученики академика: Е.В. Аничков, Ю.В. Верховский, П.Е. Щеголев, консультациями которых писатель широко пользовался. Идеи Веселовского и его последователей, по нашему мнению, предохранили Ремизова от соблазна «великорусского шовинизма», так распространенного в литературнохудожественной среде. Они имели определяющее влияние на отношение писателя к проблеме соотношения языческого и христианского субстрата в культуре, на формирование его концепции «русского стиля». В мемуарной книге «Подстриженными глазами» Ремизов высказался на эту тему образно и определенно: «. после Веселовского не засластишь под «русское», да и «белой» гурьевской каши не сваришь» (8; 64). Прямое или отраженное влияние Веселовского ощущается и в ремизовском отношении к источникам. Писатель не работал с «основным мифом», он обращался к «материалу, захваченному движением истории», к мифу, «в его народно-историческом обособлении» (обряд, детская игра, волшебная сказка и пр.). Глобальные реконструкционные задачи, о которых Ремизов говорил в «Письме в редакцию», не более чем дань символистской риторике своего времени — «воссозданиям» основного мифа, кабинетной мифологией он, в отличие, например, от К. Бальмонта, С. Городецкого или А. Кондратьева, никогда не занимался. В ходе работы писателя над книгами «Лимонарь» и «К Морю-Океану» произошла постепенная смена научных приоритетов. Ремизову стала очевидна искусственность построений сторонников мифологической школы, их замкнутость в пределах славянского мифа. Писатель становится сознательным сторонником сравнительно-исторического направления, а «Разыскания в области русского духовного стиха» академика А.Н. Веселовского настольной книгой Ремизова. (При этом «Поэтические воззрения славян на природу» А.Н. Афанасьева оставались для писателя ценнейшим источником фольклорно-этнографического материала еще и в период работы над мифологическим сводом - книгой «К Морю-Океану»). Широко пользуясь этнографическими материалами, Ремизов, как показывают наши наблюдения, вовсе не стремился раскрывать перед читателем все тайны своей «мастерской» и весь «ход своей работы», как об этом заявлял в «Письме в редакцию». Писатель лишь слегка приоткрывает двери в это сакральное помещение. Библиографические ссылки, включенные автором в примечания к основному тексту, носят самый общий и в большинстве случаев фрагментарный характер. Называется, да и то не всегда, лишь основной источник, а использование вспомогательных материалов оговаривается редко. Выявлены нами и другие случаи «библиографического волюнтаризма» Ремизова, впрочем, вполне оправданные в художественном тексте. Писатель, например, существенно сокращает число ссылок на А.Н. Афанасьева, стремясь, очевидно, избежать впечатления о своей зависимости от «Поэтических воззрений». В других случаях он называет источник, мало относящийся к делу, но зато авторитетный, например, ссылка на Ф.И. Буслаева в новелле «Нежит». К такого рода мистификациям существует и этнографическая параллель. Олонецкие крестьяне зачастую указывали фольклористам на ложный, но более весомый, с их точки зрения, источник заимствования былин от особо известных в данной местности сказителей или от «захожих людей»6. При всех этих существенных для нашего исследования оговорках, мы можем утверждать, что новаторское для литературы такого рода указание источников выполнило свою основную задачу - создало читательскую установку на подлинность мифологических рассказов писателя, которые должны восприниматься не как вольные фантазии на фольклорные темы, а как научно обоснованные поэтические реконструкции забытых мифологических персонажей. Необходимо учитывать, что погруженный в научно-этнографические изыскания писатель, все же был человеком, дышавшим «воздухом символизма». Воздействие символизма на фольклорномифологические тексты Ремизова несомненно и значительно. Именно символизм еще в своем первоначальном декадентском варианте дал первоначальный импульс для ремизовского обращения к фольклору. Несколько позже, уже во время работы над «Посолонью», писателя воодушевляли символистские идеи мифотворчества и «жизнетворчества». Фольклорные модели, мотивы и образы проявляются не только в мифологизации собственной личности, но и многих людей из своего окружения. Восстановление основных этапов формирования «пришвинского мифа», предпринятое в диссертации, раскрывает особенности «жизнетворчества» Ремизова. Объективно находясь внутри течения, признаваемый всеми его лидерами, Ремизов, тем не менее, явственно ощущал свою отчужденность от магистральной линии символизма. Жизненный опыт и трезвый природный ум мешали ему принять те или иные «мистические озарения» коллег по символизму и всерьез относится к различным оккультным практикам, распространенным в символистской среде. Известно и резкое неприятие Ремизовым различных модных поветрий в современной ему литературе, будь то «кларизм» М.А. Кузмина или «мистический анархизм» Г.И.Чулкова. Все это выливалось в иронию, проявлявшуюся в том, что Ремизов находил «низкие» фольклорные параллели «высоким» мистическим идеям и образам, захватывающих символистов. Антропософские «Стражи Порога» функционально соответствовали шаловливым и драчливым ремизовским ведогоням («Ведогонь»), Пчела как «аполлонический символ символизма» произошла, согласно фольклорным представлениям, актуализированным Ремизовым, от трупа лошади, целый год провалявшегося в болоте («Божья пчелка»). Воспетая поэтами таинственная Каменная Баба, ставшая символом «скифского мифа» отечественной культуры, была, по утверждению писателя, скандальной и глупой женщиной, наказанной за святотатство («Каменная Баба»). В рассказе «Спорыш» явно прочитывается ироническая аллюзия на «дионисизм» Вяч. Иванова, а в «Летавице» легкая пародия на «фатальных» женщин декаданса. «Высокие» апокалипсические предчувствия, столь значимые для культуры символизма, Ремизов связывает с поведением мифических животных из духовного стиха о «Голубиной книге». Некоторых персонажей низшей народной мифологии (или выдаваемых за таковых) писатель наделяет типично декадентскими чертами («мировая тоска», сознательное стремление к страданию, жажда смерти). Все это позволяет говорить о присутствии в двух основных фольклорно-мифологических книгах Ремизова скрытого пародийного слоя, антисимволистского по своей сути. Но не только автобиографические реалии и литературная культура символизма отражались в «фольклорных» текстах писателя. «Медленное чтение» (в понимании М.О. Гершензона) позволило выделить и прокомментировать ряд аллюзий на современные Ремизову политические события и общественные настроения. (При «обычном» прочтении этот слой в настоящее время практически не ощущается). И в этом случае писатель оставался в рамках фольклорной поэтики, предполагающей некоторое отражение исторической действительности, «где текст это позволяет» (P.O. Якобсон). Речь здесь не идет об использовании мифологической маскировки для исследования каких-то злободневных проблем. Миф, по мнению Ремизова, должен оставаться мифом, и все современные коннотации не должны его существенно модернизировать. В 1909 году Ремизов писал, по сути дела цитируя более опытных коллег по символизму, что «при воссоздании народного мифа. материалом может стать потерявшее всякий смысл. имя — Кострома, Калечина-Малечина, Спорыш, Мара-Марена, Летавица.» (2; 608). Такие чудом сохранившиеся слова в его время в науке принято было называть «обломками» или, в стиле английской антропологии, «пережитками» (survival) древних мифов. Из «обломка» можно было «вырастить» новый миф, привлекая для этого дополнительные фольклорно-этнографические материалы, но более всего свою собственную фантазию, что, собственно, и старался поначалу делать Ремизов. Его соратник по направлению Городецкий прямо предлагал весь этот непонятный, плохо сохранившийся фольклор «пустить на семена» для нового творчества. Но символизм знал и другое отношение к «обломкам» оставить их в том виде, в каком они дошли до нашего времени. В таком подходе к древностям была и своя правда, и своя поэзия. Из современников писателя более других это почувствовал И.Ф. Анненский, написавший от лица античного обломка проникновенные стихи. Похожие настроения, только по отношению к славянской мифологии, владеют и Ремизовым. Основные мифологические книги писателя насыщены множеством не разработанных детально, «не отреставрированных» персонажей. В этом пункте, как нам представляется, художественная интуиция писателя опережала фольклористику его времени. В XIX веке этнографы понимали мифологический персонаж как образ с постоянным именем, конкретным местом в демонологической иерархии, определенной внешностью, одеждой, особенностями характера и т.п. Эти образы, по сути дела, мало отличались от литературных образов в художественных произведениях. Мифологические фантомы из книги «К Морю-Океану», а также ряд «подлинных» персонажей, часто имеют весьма неопределенный статус в мифологической системе, произвольный внешний вид и атрибуты, далеко не всегда «законное» имя (в ряде случаев — «мифологический обломок»), но практически всегда четко обозначены их роли и функции, выделен «ядерный мотив» их поведения. Некое подобие функционального следа легко прочитывается даже у стаффажных персонажей, как бы «угасших» в народной памяти. К такому пониманию специфики «низшей народной демонологии» писатель пришел в результате изучения множества областных этнографических материалов, публиковавшихся в журналах «Живая старина» и «Этнографическое обозрение», в других специальных изданиях. Эти материалы наглядно иллюстрировали разнообразие локальных традиций в трактовке мифологических персонажей. Сравнивая полевые материалы начала XX века, представленные в этнографической периодике, с информацией, содержащейся в классических трудах Сахарова, Буслаева и Афанасьева, писатель не мог не заметить существенную изменчивость мифологических представлений за сравнительно короткий исторический период. В результате у Ремизова выработался свое понимание диалектики мифа, которое по ряду критериев близко к современному научному взгляду. «Для нас естественно, пишет Е.Е. Левкиевская, - что мифологическое в народной культуре лишь отчасти выражается через субстантивы, что разные персонажи обладают различной степенью субстантивности, а некоторые вообще лишены ее, представляя себя почти исключительно через функцию. Для нас естественно, что мифологический персонаж не есть константа, не подверженная каким-либо изменениям, а совокупность вариантов, распространенных в определенном ареале и эволюционирующих с течением времени»7. Творчество Ремизова по фольклорно-этнографическим материалам вписывалось в общую тенденцию обращения к национальным культурным истокам, характерную для петербургского крыла русского символизма, и во многом питало и определяло эту тенденцию 8. тема природы в творчестве Есенина В истории русской поэзии Есенин занимает совершенно особое место как проникновенный лирик родной природы, которой он посвятил свое творчество. Родина и ее природа — с этими двумя темами связано все лучшее в лирике поэта: “Моя лирика жива одной большой любовью — любовью к Родине. Чувство Родины — основное в моем творчестве”. “Стихи я начал писать рано, лет в девять”, — говорит поэт в своей автобиографии. Его первые стихотворные опыты были, конечно, слабыми, но уже в них можно было заметить незаурядность авторского мировосприятия, его творческую индивидуальность, проявляющиеся в необычной системе образов, в новизне сравнений, метафор, эпитетов: Там, где капустные грядки/Красной водой поливает восход,/Котеночек маленький матке Зеленое вымя сосет. Почти все первые стихи Есенина посвящены описанию природы. Да и могло ли быть иначе — ведь молодой поэт с детства был окружен великолепием просторов и богатств родной земли. Есенинская поэзия ярка и красочна, полна звуков, запахов. Раздается белый перезвон берез, заливаются бубенцы, шумит камыш, полыхают зори, рощи кроют синим мраком, горит золотистая зелень, пахнет яблоками и медом, льют ели запах ладана — таков светлый и прекрасный мир природы у Есенина. Этот мир не бесшабашно-весел, в нем всегда где-то в глубине таится что-то грустное, что трудно выразить словами. Пожалуй, эта грусть — о непрочности, хрупкости всего земного. И потому все прекрасное в жизни становится еще ближе, понятней и дороже. Пейзажи Есенина глубоко народны, но не только потому, что им используются народные, фольклорные эпитеты, мотивы, образы. Народность Есенина кроется в особом творческом восприятии мира самим поэтом. В стихах его деревья, цветы, травы, реки, пашни исполнены жизни, все живет и говорит с героем: У плетня заросшол крапива/Обрядилась ярким перламутром/И, качаясь, шепчет шаловливо: “С добрым утром!” Подобного рода мировосприятие основано на фольклорной эстетике — эстетике олицетворения, параллелизма, соответствия явлений природы и внутреннего мира человека. Поэт, проведший свое детство в деревне, среди крестьян, с самого начала впитал в себя особенности народного, природного подхода к миру. У Есенина трудно найти чисто пейзажные стихотворения. Природное начало у него пронизывает все творчество, душевные переживания и картины природы как бы сливаются в его стихах: Я по первому снегу бреду,/В сердце ландыши вспыхнувших сил./Вечер синею свечкой звезду Над дорогой моей засветил. Есенин говорит о себе как о крестьянском поэте, и его Русь — Русь крестьянская, сельская. В ней много патриархального, религиозного: розовые иконы, Иисус Христос, Божья Матерь, светлые хаты, старинные предания, обряды, связанные с деревенским бытом. Однако в стихах Есенина не только мифы и этнографические описания, но и ...пашни, пашни, пашни, Коломенская грусть... Это: ...степь и ветры, И ты, мой отчий дом. Воспевая Родину, Есенин естественным образом возвращается к первоначальной тематике, к пейзажным описаниям. В его творчестве сливается воедино любовь к Родине и любовь к ее природе: О Русь — малиновое поле И синь, упавшая в реку, — Люблю до радости и боли Твою озерную тоску. Иначе для Есенина и не может быть: также, как для других художников любовь к своей стране означает любовь к ее истории, культуре, языку, для самого автора привязанность к России означает, прежде всего, привязанность к ее природе. Через все творчество поэта проходит образ русской березки. Это и “белая береза под моим окном”, и трогательные строки: Я навек за туманы и росы Полюбил у березки стан, И ее золотистые косы, И холщовый ее сарафан. “Страной березового ситца” называет поэт Русь. Так в одном образе объединил он самые дорогие его сердцу понятия: береза для него это и само дерево, и вся русская природа вообще, и олицетворение родной страны. В преддверии революции Есенин создает несколько стихотворений, в которых пытается показать будущее России. Он чувствует, что грядет великая буря. Он пророчит России роль “начертательницы третьего Завета”. При этом верит, что путь страны — “с крестьянским уклоном”. В нашествии “стальной конницы” он видит гибель своей, крестьянской Руси. Однако исторический путь страны был не тем, которого ждал поэт. И потому герой его послереволюционных стихов с горечью замечает: Моя поэзия здесь больше не нужна, Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен... Но, как ни грустно, как ни больно чувствовать себя бесполезным в родной стране, автор не ожесточается. Он знает: Никакая родина другая Не вольет мне в грудь мою теплынь. И он хочет “на родине любимой, все любя, спокойно умереть”. Поэтому поэт не только примиряется с действительностью, но и пытается найти в ней то, что ему близко, и продолжает воспевать Всем существом в поэте Шестую часть земли С названьем кратким “Русь”. На протяжении творческого пути Есенина претерпевает изменение и образ России в его стихах. В ранний период творчества Русь — сельская, патриархальная, пусть убогая, но полная затаенной прелести и силы. Разлюбив “нищую” Россию после возвращения из Америки, поэт в своем образе Руси новой сохранил и по-новому выразил прелесть родной земли. Ой пытается увидеть через “каменное и стальное” образ иной страны: Мне теперь по душе иное... Но, пожалуй, несмотря на эти слова, Есенин не оставляет своей любимой темы, темы Руси крестьянской — он не может, в силу природы своего дара, стать певцом индустриальной, городской России, подобно Брюсову, Маяковскому. И потому в конце своего жизненного пути С. Есенин пишет: И теперь, когда вот новым светом И моей коснулась Жизнь судьбы, Все равно остался я поэтом Золотой бревенчатой избы. Две основные темы — Родина и природа — переплетаются в творчестве Есенина и вытекают одна из другой. И это закономерно: без родной природы родина — понятие абстрактное. Нельзя сохранить любовь к стране, когда не видишь с детства привычного пейзажа, и наоборот, любуясь природой, мы начинаем любить и страну, которая ею представлена. Вдохновленный близкими для него темами, Сергей Есенин создает в своих стихах прекрасный и светлый мир. И для многих он навсегда останется певцом красоты родного края, его природы. 9. народно-поэтические традиции в поэме вася теркин После окончания вооружённого конфликта с Финляндией А.Т.Твардовский постоянно думал о том, что теперь, в мирное время, он должен написать о минувшей войне что-то серьёзное. 20 апреля 1940 года поэт записал в своём дневнике: «Герой нашёлся… Вася Тёркин! Он подобен фольклорному образу. Он – дело проверенное. Необходимо только поднять его, поднять незаметно, по существу… А как необходима его весёлость, удачливость, энергия и неунывающая душа для преодоления сурового материала этой войны!.. В нём пафос пехоты, войска, самого близкого к земле, к холоду, к огню и смерти. Соврать он может, но только не преувеличит своих подвигов, а, наоборот, неизменно представляет их в смешном, случайном, нестоящем виде. При удаче это будет ценнейший подарок армии, это будет её любимец, нарицательное имя». Таким был замысел книги. Понятность, доступность поэмы и необыкновенная внешняя ясность, кажущаяся незатейливость ее формы, действительно относятся к достоинствам главной книги Твардовского. Эти достоинства отмечались не только рядовыми читателями полюбившейся им книги, но и коллегами Твардовского по писательскому труду. Выразителен отзыв обычно скупого на похвалы И.А. Бунина: «Это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем и какой необыкновенный народный, солдатский язык — ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого слова». «Василий Теркин» — это поэма-памятник русскому солдату, который был воздвигнут задолго до окончания войны. Читаешь ее и как бы погружаешься в пушкинскую стихию живого, естественного, точного слова, сдобренного юмором, подковыркой («А в какое время года лучше гибнуть на войне?»), просторечиями, придающими языку терпкость («и хотя бы плюнь ей в морду»), фразеологизмами («вот тебе сейчас и крышка»). Через язык поэмы передается бодрое, честное перед собой и другими народное сознание. Поэт умеет подобрать простые, точные слова и обороты речи для описания природы, событий, людей; он широко использует привычные обороты русского фольклора: «это присказка покуда, сказка будет впереди», «хоть глаз коли»; слова народной речи «пособить», «мастак», «ухватка»; фронтового лексикона — «санбат», «садит из минометов», «козья ножка». Большую часть текста занимает разговорная речь, и слова автора порой трудно отличить от слов героя. Мысли о Родине, пронизывающие всю поэму, так естественно сливаются с ее содержанием, что «Василий Теркин» может быть назван образцом подлинно народного произведения. Вся поэма пропитана сочным, здоровым солдатским юмором, светлой верой в победу. Но писатель предупреждает, что бодрый тон поэмы не должен вызвать ошибочного мнения, «что, мол, горе не беда», что победы легко доставались солдатам. Нет, путь к победе был «долог до тоски». Недаром даже маленькая, наполненная доброй шуткой глава «О награде» заканчивается суровыми словами, выражающими основную мысль произведения: Страшный бой идет, кровавый, Смертный бой не ради славы — Ради жизни на земле. 10. фольклорные мотивы в современной русской литературе Разумеется, обогащение литературы фольклорными элементами происходит всегда, в этом нет чегото необычного или принципиально нового: собственно, литература во многом выросла из фольклора и не прерывает этого контакта до наших дней. Заимствования бывают прямые и опосредованные, порой явленные в виде цитат или же улавливаемые только на уровне вдохновляющих мотивов. Цели, ради которых авторы обращаются к фольклорному наследию, бывают разными, но главной, как я вижу, является подсознательное желание писателей найти опору в апробированном временем и подтверждённым традицией материале. Кроме того, читателю это упрощает процесс вхождения в новый текст, знакомство с новым художественным миром: видя знакомых персонажей, узнавая сюжеты, даже просто интуитивно предчувствуя жанровые законы, он преодолевает первый порог знакомства, что гарантирует лояльность к тексту в дальнейшем. Поэтому – и по ряду других причин – современные авторы любят черпать вдохновение в фольклоре, но, как я подчёркивала выше, само по себе это нельзя назвать тенденцией. Анализа, на мой взгляд, заслуживает другое: что именно из фольклора попадает в литературу (сюжеты, персонажи, мотивный и типологический состав и т.д.), каким образом происходит внедрение этих элементов в текст, с какой целью и результатом и можно ли за этим уловить нечто общее. Как мне кажется, здесь уже можно проследить некие тенденции, характеризующие современную литературу, причём свои для разных жанров. Конечно, когда мы говорим о фольклорном происхождении, на ум в первую очередь приходит детская литература и особенно – сказки. В фольклоре этот жанр особенно хорошо изучен, но и в художественной литературе он очень популярен по сей день. Однако если мы постараемся провести беглый анализ текстов, написанных в этом жанре в последние годы, мы неожиданно обнаружим, что прямого совпадения с фольклорной сказкой у современной литературной сказки не так-то много. Что можно счесть за главное, жанрообразующее начало для фольклорной сказки? В первую очередь, это функциональность сюжетного построения. Как известно из знаменитых постулатов В. Проппа[1], фольклорная сказка строится таким образом, что нам не важны персонажи как таковые с их характерными особенностями и индивидуальными чертами, а гораздо более важно то, что они делают и как себя ведут. Состав персонажей и их ролей в классической фольклорной сказке тоже хорошо изучен, как и мотивный состав, закреплённый за каждым из них. Более того, если мы вдумаемся, то обнаружим, что в нашем восприятии именно мотивный состав превращается в характеристику персонажа: нигде в сказках вы не найдёте указаний на то, как выглядел Кощей Бессмертный, злой он или добрый, однако мы воспринимаем его как отрицательного персонажа в соответствии с поступками и ролью протагониста по отношению к главному герою. Хорошо изучено и формальное устройство сказочного повествования: традиционные речевые зачины, концовки и медиальные формулы, ритмизированные вставки и др. элементы, помогающие устной передаче, запоминанию и рассказыванию текста. Конечно, типичная фольклорная сказка бытовала устно, и это объясняет все перечисленные особенности, а кроме того – её предельную фиксацию на сюжете: именно сюжет делает сказку, вопервых, интересной, во-вторых, динамичной и лёгкой для восприятия. Представьте сами: если вы будете пересказывать содержание какого-либо фильма, на чём вы сделаете акцент – на психологическом обосновании действий героев или на событиях, которые происходили на экране? Сказка – это тоже своеобразный пересказ событий: именно её предельная действенность обеспечила жанру долгую жизнь, тогда как психология персонажей, как и витиеватый язык повествования всегда оставались на совести рассказчика, более или менее талантливого в своём деле. Однако если прочесть достаточное количество современных литературных сказок, легко заметить такую тенденцию: сюжет как основа не является превалирующим, он заменяется описаниями, изобретением необычных персонажей или миров, а также психологией и обоснованием поведения героев. По сути, современная сказка так же сложна для пересказа, как и текст любого другого жанра, вне зависимости, на какой возраст читателя она рассчитана. Можно сказать, что она дрейфует в сторону психологической прозы, и это главное, что отличает современную литературную сказку от фольклорной. Как это ни странно, но функциональность сюжета – эта основа сказки как таковой – почти не попадает в современную литературную сказку. Однако с удовольствием заимствуются все внешние, формальные маркеры жанра: типичные персонажи (тот же Кощей Бессмертный, баба Яга, Иван Царевич и др.), словесные формулы, сам сказочный антураж и стилистика. Кроме того, не редки случаи, когда автор, смутно понимая, что у разного фольклорного материала разная природа, а значит, и разная сфера бытования, добавляет в сказку персонажей таких жанров, какие в традиции ни при каких обстоятельствах не могли бы встретиться в рамках одного текста: например, лешие, языческие боги, потусторонние существа других национальностей... Стоит ли говорить, что результат в таких случаях получается более чем сомнительный. Готовясь к этому докладу, я поняла, что найти пример хорошей литературной сказки очень непросто. И всё-таки в качестве иллюстрации могу привести текст А. Олейникова «История рыцаря Эльтарта, или Сказки синего леса» (2015 г.). Сам по себе материал, на котором выстраивается повествование, нельзя назвать традиционным: персонажи этой сказки либо вымышленные, либо взяты из разных европейских мифологических традиций. То же касается в целом художественного мира текста. Однако хорошее знание фольклорных законов позволяет автору создавать оригинальный, но крепко сшитый текст: здесь есть и яркие персонажи со своим мотивным составом, чьи действия обусловлены сюжетной необходимостью, а не психологизмом, и продуманный функциональный сюжет (горе, постигающее героя в самом начале, требует разрешения и становится движущим мотивом его путешествия), на пути его сопровождают и помощники, и антогонисты, – одним словом, классический набор ролей. Всё это сближает текст с фольклорными прототипами. Однако не только детская литература обогащается фольклорными элементами. И не только сказки становятся их источниками. Другими набирающими популярность в наше время жанрами фольклора, питающими литературу, становятся былички, детские страшилки, городские легенды, все те тексты, чью прагматику можно определить как намеренное создание эмоционального напряжения, стремление напугать слушателя (читателя), а также передать информацию о персонажах актуальной мифологии – домовых, леших, русалках, барабашках, НЛО и проч., их повадках, контактах с человеком и способах общения с ними. Если говорить об элементах, попадающих из этих текстов в литературу, так это в первую очередь названная прагматическая особенность – испуг, эмоциональное напряжение с разными целями и разными путями разрешения. Остальное – сами персонажи актуальной мифологии, мотивы, сюжеты и т.д., - также переходит в литературу, но уже не так часто, а главное, не всегда с теми же функциями. Как видно из беглого обзора заимствуемых элементов, в данном случае у авторов остаётся большая свобода: беря одни элементы, они могут игнорировать другие, и всё равно давать читателю понять, с какими фольклорными источниками он имеет дело. Не сложно догадаться также, о каких жанрах литературы идёт речь: в первую очередь это фантастика, фентэзи, хоррор... На первый взгляд кажется, что сам по себе этот материл диктует авторам, обращающимся к нему, строгие жанровые законы, однако, как станет видно ниже, при умелой работе с ним авторы могут уходить от жёстких жанровых форм (т.н. формульной литературы [3]) и чувствовать себя художественно раскрепощёнными. Таким образом, эти элементы попадают в переходные между коммерческими и некоммерческими жанрами тексты. Так, к примеру, очень свободно чувствует себя М. Галина в романе «Автохтоны» (2015 г.), насыщая свой текст городскими легендами некоего реального украинского города, порой с очень конкретной географической привязкой (или стилизуя текст под аналогичные устные примеры), актуализируя персонажей европейской мифологии, создавая необходимую эмоциональную среду – мистическую, напряжённую, таинственную – и в то же время, не уходя в жёсткую жанровую форму. С другой стороны Н. Измайлов пишет дилогию (позиционирующуюся как романы для подростков) «Убыр» (2013 г.) и «Никто не умрёт» (2015 г.) в жанре, очень близком классическому хоррору, наполняя текст национальным колоритом не только за счёт языка, но и за счёт актуальной татарской мифологии и самого построения сюжета, близкому к волшебной сказке в трактовке В. Проппа [2] как истории обряда инициации подростков. Как мы видим, данный фольклорный материал даёт авторам широкие художественные возможности. Редким фольклорным жанром, попадающим в художественную литературу, является народная песня. Собственно, мне известен только один пример работы с этим материалом не в качестве источника для цитирования, а как источник заимствования, однако он настолько яркий, что заслуживает отдельного упоминания: это роман А. Иванова «Ненастье» (2016 г.). Автор, не чуждый ни формульным повествованиям, ни фольклорному багажу вообще, в этом романе нашёл нетривиальный путь для создания узнаваемой русским читателем художественной реальности: весь текст – и корпус главных персонажей, и сюжет, и даже хронотоп – составлен с опорой на русские народные песни разных жанров (баллады, романсы, исторические, лирические, разбойничьи и др. песни), на их мотивный состав и образный ряд. Я не буду углубляться в анализ романа с этой точки зрения, ему посвящена моя отдельную статью [4], хочу лишь сказать, что такая работа с фольклорным материалом, даже если она не была проделана автором намеренно, а стала результатом его попытки найти нечто архетипическое в русском характере, достигла цели: мир романа узнаваем, а к персонажам сразу устанавливается нужное эмоциональное отношение. Наконец, самым обширным – и самым, пожалуй, нелитературным жанром фольклора, проникающим в современную литературу, является мифология. Почему, собственно, нелитературным? Потому что сама по себе мифология базируется не только и не столько на текстах. В культуре она может быть явлена и невербально, в виде узоров на одежде, бытовом поведении, культурных кодов; поверья и мифологические представления могут быть не оформлены текстуально, но являть собой багаж общего знания, доступного представителям той или иной культуры. Поэтому автор, черпающий вдохновение в той или иной мифологии, может поступать двумя способами: с одной стороны, воссоздавать с помощью художественных средств традицию, социальное устройство и в целом мировоззрение людей, зная их мифологию; с другой стороны, воссоздавать мифологию на основе материала культуры. Кроме того, не обязательно такие базисные явления, как мировоззрение или социальное устройство могут становиться предметом интереса современных авторов. Порой в текст попадают отдельные мифологические элементы в виде конструктов, образов, базовых идей или систем, они ложатся не в основу текста, а представляют из себя важную художественную деталь, символ, аллюзию и т.д., открывая диалог с другими текстами и расширяя границы текста как такового. Подобные случаи не редки, наверняка, многие с ними знакомы. В качестве примера такой работы с мифологическим материалом в сугубо реалистичном (с историческими отсылками) тексте хочу назвать роман Л. Юзефовича «Журавли и карлики» (2008 г.). В нём можно обнаружить два типичных мифологических мотива. Первый – это двойничество и связанный с ним мотив самозванничества, известный по мировому фольклору в разных жанрах, от сказок до быличек (если самозванцем назвать лешего, выдающего себя за человека). Второй, чуть менее очевидный, но ставший основой художественного ряда романа, – это образ трикстера, базовый для мирового фольклора и мифологии разных народов, его поведение, выводящее из равновесия других персонажей, сама по себе его жизнь с риском, авантюрами, контактом с иным миром настолько, что даже смерти он у итоге становится не доступен. Таким образом, главный герой романа, Жохов, продолжает линию других литературных трикстеров, от Тиля Уленшпигеля до Остапа Бендера. Если же мы обратимся к собственно мифологии и текстам, написанным с опорой на этот материал, то обнаружим, что авторский взгляд может быть обращён на него двумя способами: помещён внутрь традиции, а также находиться снаружи, вне описываемого мира. Существенная разница при этом будет в том, в каком свете предстанет та или иная мифология и порождённая ею культура: как своя, понятная и привлекательная, или же чуждая, неприятная и отталкивающая. Такая разница в подходах известна по антропологическим исследованиям, в которых изначально существуют две тенденции в описании культур: с попытками понять её или сравнением с известной, т.е. собственной (в таком случае чужая культура всегда проигрывает). Этот "взгляд снаружи" транслируется в литературе, когда автор желает создать образ "отсталого" народа. Даже если текст не ангажирован, "взгляд снаружи" не добавит читателю понимания и эмпатии к героям. В качестве примера можно вспомнить уже упомянутого А. Иванова с его ранними романами "Сердце пармы" (2003 г.) и "Золото бунта" (2005 г.), где традиционные уральские культуры поданы с точки зрения стороннего наблюдателя, и показаны только их внешние элементы и атрибуты сакрального – шаманские камлания, ритуализированное поведение, фигурки-фетиши и т.д., что не приближает читателя к пониманию этих культур и не создаёт представления об их мифологии. Другой вариант, "взгляд изнутри", позволяет автору показать мифологию того или иного народа во всей полноте, даже обладая минимум знаний о внешних её проявлениях, ритуалах и системе взаимоотношений внутри общества. Сам по себе приём погружения позволяет автору войти самому и впустить читателя в мир людей, чья культура далека, непонятна, но благодаря этому подходу не требует перевода – она становится интуитивно доступна. Из текстов, где такой порог погружения в чуждую мифологию был пройден, могу назвать роман А. Григоренко "Мэбэт" (2011 г.), основанный на ненецкой мифологии, а также мой роман "Кадын" (2015 г.) о скифах Алтая. Оба текста написаны на разном материале: этнографическом и археологическом, поэтому степень художественного допущения в них разная. Однако и тот, и другой написаны с погружением в чужую культуру и позволяют не только узнать о быте, жизни и социальном устройстве общества, но главное – проникнуть в их мифологическое представление, почувствовать другой образ мышления, отличный от мышления современного городского человека, и понять, что в жизни людей могло стать основой для тех или иных мифологических мотивов, и наоборот – породило поведенческие паттерны с основой на мифологическом представлении. 11. фольклорные традиции в поэзии серебряного века Одной из существенных черт русской культуры XX века стало оживление интереса к мифу и национальному фольклору. Прямо или опосредованно связанный с подъемом освободительного движения в стране, интерес этот имел разный характер у писателей различных литературноэстетических направлений. В творчестве А.М.Горького он был обусловлен последовательным становлением концепции героической личности. У молодого М.Пришвина в его фольклорно-собирательской деятельности и художественной практике рассматриваемая тенденция соприкасалась с ремизовскими поисками истоков русского национального характера. Для Н.Клюева обращение к фольклорной образности - излюбленный способ выражения лирического "я", осознаваемого как неотъемлемая часть коллективного, крестьянского "мы". Пролетарских поэтов (А.Богданова, Е.Тарасова, А.Гмырева и др.) привлекают в фольклоре ноты социального протеста. В эстетике русского символизма второй половины 1900-х годов ориентация на миф и фольклор явилась следствием кризиса индивидуалистического сознания, тяготения к общезначимым, народным началам творчества. 2. Специфической особенностью обращения к национальной фольклорной стихии писателейсимволистов представляется его "космическая" окраска и синтетичность. В мотивах и образах русской мифологии и фольклора символистов привлекает прежде всего их обобщенноуниверсальное значение, отголоски древних пантеистических воззрений на мир природы и человека. Художественное освоение фольклор' ного материала русскими символистами нередко сочеталось с иссле-довательско-филологической работой в этой области, получало теоретическое осмысление. 3. Неомифологизм поэтов-символистов 1900.гх годов был неоднородным по своей эстетической и стилистической природе. 4Ф Конкретный анализ художественной практики четырех поэтов: А.Блока, А.Белого, К.Бальмонта и раннего С.Городецкого показывает, что приобщение русских символистов к национальной мифологии и фольклору осуществлялось тремя основными способами: I) Субъективно-лирический, когда народно-поэтический контекст использовался для выражения личностной авторской позиции. Этот способ получал своеобразное идейное наполнение в зависимости от мировоззрения каждого отдельного поэта. С точки зрения структуры он явился непосредственным продолжением романтической традиции русской лирики, однако у символистов он серьезно осложнялся попытками конструировать собственные, индивидуальные мифы на фолькло ной основе. Субъективно-мифотворческая тенденция особенно отчетливо проявилась в лирике К.Бальмонта эпохи первой русской революции, в оставшемся за пределами рассмотрения в данной диссертации творчестве Ф.Сологуба, отдельные ее элементы можно обнаружить у А.Блока и А.Белого. Стремление привлечь фольклорную образность в качестве "символа своих переживаний" не' всегда приводит поэтов-символистов к ощутимым творческим достижениям. Эклектическое соединение субъективно-импрессионистического стиля с народно-поэтическими традициями обрекает на неудачу сборник К.Бальмонта "Жар-птица. Свирель славянина".В ранней же лирике А.Блока возникает сложный, но внутренне цельный стилевой комплекс, в котором фольклорные мотивы, почти теряя свою первооснову, приобретают новое, мистико-мифологическое звучание♦ В 1910-е годы, после распада русского символизма как единого направления, субъективно-лирический принцип освоения фольклора получит наиболее плодотворное развитие в творчестве крестьянских поэтов (Н.Клюева, С.Есенина, П.Орешина и др.) 2) Объективно-мифотворческий, предполагающий полное слияние личности творца с "психеей" народа. Последовательным теоретиком такого метода был Вяч.Иванов, создавший утопическую социально-эстетическую концепцию преодоления декадентства на путях "от символа к глифу", сфорь?улировавший принципы синтетического "реалистического символизма". Ивановская теория являлась исторически бесперспективной и поэтому не мосла быть реализована в лирике рассматриваемого периода, однако подобная тенденция существовала (у раннего С.Городецкого, переходного А.Блока в сборнике "Нечаянная Радость"). А.Блок и С.Городецкий, каждый по-своеь^у, в 19061907 годах "соприкоснулись" с мыслями Вяч.Иванова о "стихии фолькл ра" как непреходящем и вечном достоянии народной души и, преодолев их влияние, пошли далее другими, несхожими творческими путями. В историко-литературном плане концепция "мифотворчества" Вяч. Иванова подготовила почву для возникновения акмеизма, отдельные ее положения позднее позаимствовали русские футуристы с ин лозунгом искусства-жизнестроения. Теоретические работы Вяч.Иванова -прямее предвосхищение некоторых западных модернистских учений, в частности, юнгианского понимания архетипа. 3) "Полифонический", т.е. представляющий равное "право голоса" народно-поэтическому и индивидуально-авторскому началам. К нему тяготеет в своей ориентации на живой, современный фольклор А.Белый в "Пепле", но в полной мере этот тип творческого освоения фольклора воплощается только в лирике А.Блока, проявившись в цикле "Родина", а впоследствии - в поэме "Двенадцать". Следует отметить, что обращение к народным истокам было связано с жанровым движением внутри символистской лирики, поисками выхода к эпическим формам мышления. 5. Опыт русских символистов показывает, что включение национальных фольклорных элементов в модернистскую эстетическую систему при всей неоднозначности и противоречивости этого процесса, при наличии в нем "общих мест" и творческих срывов, способно было нести в себе и позитивные тенденции, приводя к плодотворному художественному результату. 12. русский фольклор в поэзии кольцова, никитина, трефова, некрасова Богат и образен язык Кольцова. В его «Песнях» много общего и с поэтикой этого жанра, и с лучшими песнями его предшественников – Ю.А. Нелединского-Мелецкого, А.Ф. Мерзлякова, Ф. Глинки, А. Дельвига. Как и они, Кольцов использует традиционные темы (красота родной природы, несчастная любовь, прославление доблести русского человека). Художественные особенности творчества Кольцова тесно связаны со стилем руской поэзии 1810–1820-х гг.: это и традиционные обороты («венок терновый», «томный взор», «утрата роковая», «улыбка страстная») и перифразы («филомелы глас», «зефир колышет рощами лениво»). Близость к фольклору, который он изучал, записывая народные песни, пословицы и поговорки, – все это также нашло отражение в поэтическом словаре Кольцова. «Сине море», «красна девица», «дугарадуга», «чаша полная», «слезы горькие» («горючие»), «ветры буйные», «заря красная» – постоянные эпитеты в его стихотворениях. Но Кольцов и сам создает собственные эпитеты и они кажутся как бы взятыми из народной поэзии: Бури страшные, громовые, Удалой души не радуют. «Тоска по воле», 1839 Всегда водяна и докучна Глупца пустая болтовня. «Осень», 1828 А вот оригинальная перифраза «червонной пыли мне не надо» (и это о деньгах!) «Послание В. Г. О», 1829. А как поэтичны и оригинальны сравнения Кольцова: Соловьем залетным Юность пролетела, Волной в непогоду Радость прошумела. «Горькая доля», 1837 и противопоставления: Тот богатый, я без хаты – Целый мир мои палаты! «Терем», 1829 Стихи Кольцова – настоящая народная речь: Не родись богатым, А родись кудрявым: По щучьему веленью Все тебе готово. «Первая песня Лихача Кудрявича», 1837 Восхищаясь народной поэзией, Кольцов ей не подражал, но развивал и обогащал. Его песни – не стилизация, а оригинальные произведения. Верно замечено, что только песни, созданные самим народом, могут сравниться с песнями Кольцова в богатстве языка и образов. Кольцов по-своему перерабатывает народные пословицы и поговорки, он удивительно свободно обращается с ними, и под его пером они приобретают новое звучание: Разойдусь с бедою – С горем повстречаюсь. «Горькая доля», 1837 Век прожить – не поле Пройти за сохою ... В золотое время Хмелем кудри вьются; С горести-печали Русые секутся. «Вторая песня Лихача Кудрявича», 1837 Все постоянно – лишь за морем, И потому, что нас там нет. «Утешение», 1830 Без сорочки я Родился на свет! «Косарь», 1836 Я б головушку Понес на сечу. «Песня», 1830 Сорвали улыбку – Сиянье души. «Умолкший поэт», 1836 Слова и выражения живой разговорной речи играют большую роль в стихотворениях Кольцова (непогодь, копейкой не нуждалась, гуторить, людями, сердечко запрядало, от ворот поворот, мал мала меньше, мыкать горе, недоброхотливые люди, подглядливые очи). Народный оборот – «вольная воля» – и мы уже не замечаем, что это тавтология. Кольцов создает собственные оригинальные обороты (он часто прибегает и к повторам и не боится тавтологии): «Без талана – где таланится», «к счастью – счастия лишись», «горьким горем слез», «так нежно и нежной». А вот своебразная рифмовка: Твой жгучий, страстный поцелуй! – Приди же вновь, страдальца поцелуй! «Мой друг, мой ангел милый...», 1831 Один из любимых поэтических приемов Кольцова – синонимический или антонимический повтор («залюбуюсь, загляжусь»; «обойми, приголубь, поцелуй, приласкай»; «расступись, разойдись»). Еще В.Г. Белинский восхищался особенностью глагольных форм в поэзии Кольцова (степь – «пораскинулась, понадвинулась»), подчеркивая, что русский язык необыкновенно богат для выражений явлений природы. *** Кольцов ввел в поэзию нового героя – русского крестьянина. Это не просто условные «поселяне», у них уже собственные имена. Это не только Лихач Кудрявич, но и Павел («Женитьба Павла»), Грунюшка («Косарь»), Иван Кузьмич («Пора любви»), Кузьма («Размышления поселянина»). Кольцов показал всю многогранность народного характера – любовь к воле, трудолюбие, жизненную мудрость, весь огромный и многообразный мир человеческих чувств. Искренность поэта, жизненная правдивость его героев, лиризм его песен – все это сделало Кольцова поистине всенародным поэтом. Удивительно точно заметил В.Г. Белинский: «...подражать Кольцову невозможно: легче сделаться таким же, как он, оригинальным поэтом, нежели в чем-нибудь подделаться под него. С ним родилась его поэзия, с ним и умерла ее тайна». Поэма «Кому на Руси жить хорошо?» занимает центральное место в творчестве Некрасова. Она стала своеобразным художественным итогом более чем тридцатилетней работы автора. Все мотивы лирики Некрасова развиты в поэме; заново осмыслены все волновавшие его проблемы; использованы высшие его художественные достижения. Некрасов многократно обращался в лирике к фольклорным мотивам и образам. Поэму о народной жизни он целиком строит на фольклорной основе. Действительно, в «Кому на Руси жить хорошо?» в той или иной степени «задействованы» все основные жанры фольклора: сказка, песня, былина, сказания. Каково же место и значение фольклора в поэме? У фольклора свои особые идеи, стиль, приемы, своя образная система, свои законы и свои художественные средства. Самое же основное отличие фольклора от художественной литературы – отсутствие в нем авторства: народ слагает, народ рассказывает, народ слушает. В фольклоре авторскую позицию заменяет нечто принципиально иное – общенародная мораль. Индивидуальная авторская точка зрения чужда самой природе устного народного творчества. Поэму открывает пролог – самая насыщенная фольклорными элементами глава. Уже сам «сказочный» зачин настраивает читателя на определенный лад. Некрасов мастерски воспроизводит тон фольклорного сказа, сохраняет фольклорную символику: не случайно «сошлися и заспорили» именно семь мужиков – это одно из традиционных значимых чисел, и герои лишены реальной атрибутики: у них нет фамилий - либо имена, либо прозвища (Губины), нет реальных адресов любую деревню можно назвать Гореловым, Нееловым или Неурожайкой. Лишены Некрасовские мужики и индивидуальных характеров. Все они воспроизводят один общенародный тип. Собственно, такими и должны быть сказочные герои – разве нас интересует фамилия Иванушки – дурачка, разве у него есть свой характер, своё мировосприятие! Ведь он ценен не как единственная и неповторимая личность, но как персонифицированное воплощение народных черт, народных нравственных принципов. Семеро мужиков, заспоривших в «Прологе», наделены лучшими качествами народного характера: болью за свой народ, бескорыстием, жгучим интересом к главным вопросам жизни: что есть правда, что есть счастье; способностью к самопожертвованию. И в то же время это отнюдь не идеализированные «пейзане»: они ухватливы и смекалисты, не прочь подраться, когда спор зашел в тупик, знают толк в выпивке. Создав великолепную стилизацию под «народный сказ», Некрасов вводит в «Пролог» элементы, подчеркнуто противостоящие всему тону «сказа», не вписывающиеся в него. Так звучит словечко «временнообязанные», так звучат названия деревень. Все это придает «сказу» приметы времени, вовлекает читателя в лукавую и невеселую игру: чего уж тут «угадывать», в каком году происходит действие – в этом году, в наше время!.. и деревеньки эти всем известны: какую ни возьми – все они Нееловы да Заплатовы. Сказочный зачин «Пролога» позволяет автору существовать в «сказочной реальности», где летают говорящие птич! ки и под деревом закопаны скатерти-самобранки. Это сопряжение мира реальности и мира фантастики и делает возможным дальнейший поворот сюжета: мужики могут отправиться по свету на поиски счастья. И здесь звучит один из важнейших мотивов русского фольклора – мотив странничества. Традиционно герой русских сказок отправляется в путьдорожку ради какого-то общего дела: то прослышал, что Змей Горыныч мучает жителей дальнего села; то выручает царскую дочь, томящуюся у Кощея Бессмертного. Так и наши герои отправляются в путь искать общее счастье, узнать, есть ли оно вообще – счастье мужицкое. Отсюда видно, что Некрасов брал те фольклорные тексты, которые, украшая и подслащая действительность, находились в вопиющем противоречии с ее реальными фактами, и либо изменял эти тексты, переделывая их так, чтобы они правдиво отражали реальность, либо тут же полемизировал с ними, опровергая их фактами противоположного рода. Автор использовал такие фольклорные образы, которые могли показаться н! ейтральными, поскольку в них не нашла отчетливого отражения классовая оценка действительности, и так видоизменял эти образы, чтобы они могли послужить целям революционной борьбы. И самое главное, Некрасов, опираясь не на букву фольклора, а на его дух, его стиль, сам создавал гениальные народные песни, проникнутые чувством вражды к существовавшему порядку вещей и звавшие к революционному действию. Встречая среди фольклорных материалов ту или иную народную песню, пословицу, поговорку, Некрасов пытался представить себе, из каких кругов крестьянской массы может она исходить. Поэт видел, что русский фольклор отнюдь не отражает в себе целостного круга воззрений монолитного, сплошного народа. Он применял принципы классификации родного фольклора, каких не было ни у одного из поэтов его поколения, пытавшихся так или иначе приобщиться к народному творчеству.