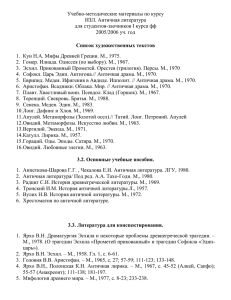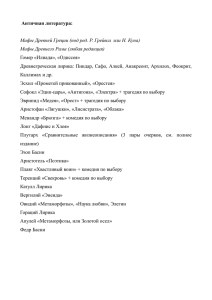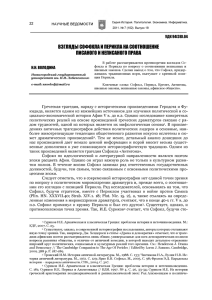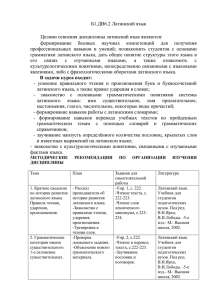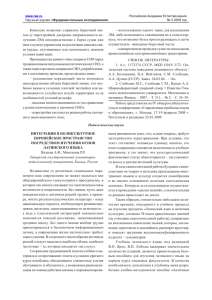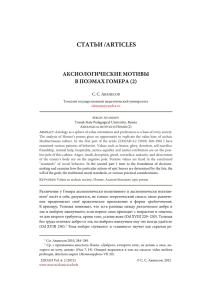Полемика с Ярхо_10142012
реклама
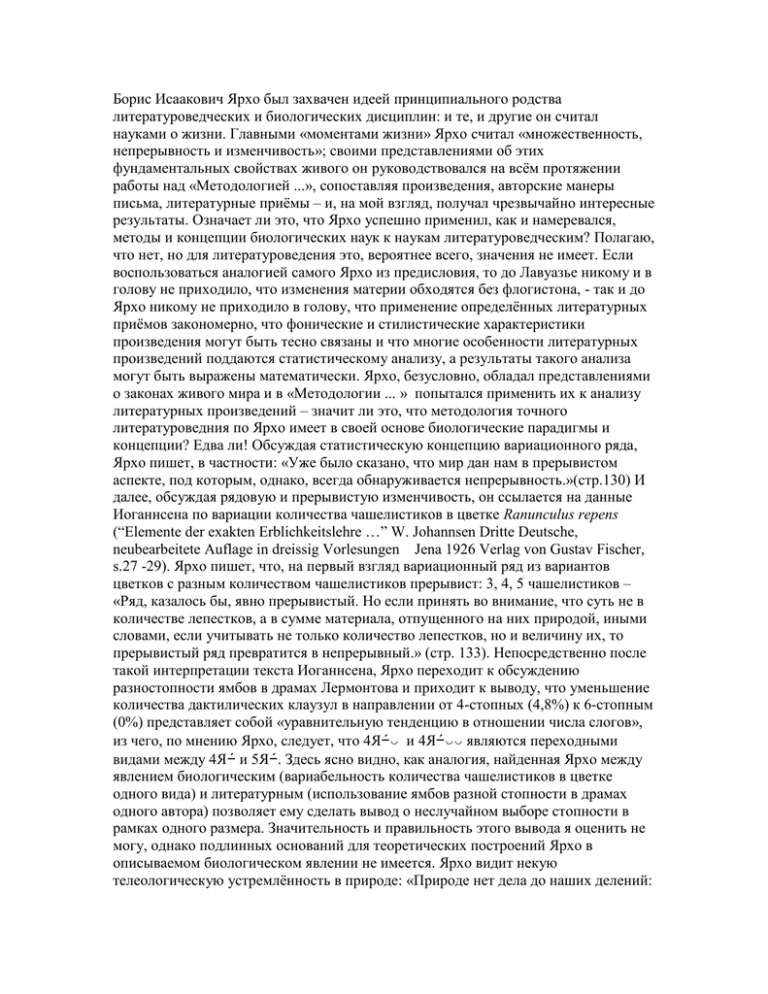
Борис Исаакович Ярхо был захвачен идеей принципиального родства литературоведческих и биологических дисциплин: и те, и другие он считал науками о жизни. Главными «моментами жизни» Ярхо считал «множественность, непрерывность и изменчивость»; своими представлениями об этих фундаментальных свойствах живого он руководствовался на всём протяжении работы над «Методологией ...», сопоставляя произведения, авторские манеры письма, литературные приёмы – и, на мой взгляд, получал чрезвычайно интересные результаты. Означает ли это, что Ярхо успешно применил, как и намеревался, методы и концепции биологических наук к наукам литературоведческим? Полагаю, что нет, но для литературоведения это, вероятнее всего, значения не имеет. Если воспользоваться аналогией самого Ярхо из предисловия, то до Лавуазье никому и в голову не приходило, что изменения материи обходятся без флогистона, - так и до Ярхо никому не приходило в голову, что применение определённых литературных приёмов закономерно, что фонические и стилистические характеристики произведения могут быть тесно связаны и что многие особенности литературных произведений поддаются статистическому анализу, а результаты такого анализа могут быть выражены математически. Ярхо, безусловно, обладал представлениями о законах живого мира и в «Методологии ... » попытался применить их к анализу литературных произведений – значит ли это, что методология точного литературоведния по Ярхо имеет в своей основе биологические парадигмы и концепции? Едва ли! Обсуждая статистическую концепцию вариационного ряда, Ярхо пишет, в частности: «Уже было сказано, что мир дан нам в прерывистом аспекте, под которым, однако, всегда обнаруживается непрерывность.»(стр.130) И далее, обсуждая рядовую и прерывистую изменчивость, он ссылается на данные Иоганнсена по вариации количества чашелистиков в цветке Ranunculus repens (“Elemente der exakten Erblichkeitslehre …” W. Johannsen Dritte Deutsche, neubearbeitete Auflage in dreissig Vorlesungen Jena 1926 Verlag von Gustav Fischer, s.27 -29). Ярхо пишет, что, на первый взгляд вариационный ряд из вариантов цветков с разным количеством чашелистиков прерывист: 3, 4, 5 чашелистиков – «Ряд, казалось бы, явно прерывистый. Но если принять во внимание, что суть не в количестве лепестков, а в сумме материала, отпущенного на них природой, иными словами, если учитывать не только количество лепестков, но и величину их, то прерывистый ряд превратится в непрерывный.» (стр. 133). Непосредственно после такой интерпретации текста Иоганнсена, Ярхо переходит к обсуждению разностопности ямбов в драмах Лермонтова и приходит к выводу, что уменьшение количества дактилических клаузул в направлении от 4-стопных (4,8%) к 6-стопным (0%) представляет собой «уравнительную тенденцию в отношении числа слогов», из чего, по мнению Ярхо, следует, что 4Я и 4Я являются переходными видами между 4Я и 5Я. Здесь ясно видно, как аналогия, найденная Ярхо между явлением биологическим (вариабельность количества чашелистиков в цветке одного вида) и литературным (использование ямбов разной стопности в драмах одного автора) позволяет ему сделать вывод о неслучайном выборе стопности в рамках одного размера. Значительность и правильность этого вывода я оценить не могу, однако подлинных оснований для теоретических построений Ярхо в описываемом биологическом явлении не имеется. Ярхо видит некую телеологическую устремлённость в природе: «Природе нет дела до наших делений: она продолжает творить бесконечное множество вещей с бесконечно малыми различиями.»(стр. 133) Аналогично, « ... мы считаем безударные слоги после константы совершенно иррелевантными для размера; но оказывается, что в подсознании поэта они весомы.» (стр.133) Но ничего подобного в описании Иоганнсеном вариабельности количества чашелистиков нет! Мало того, нигде в тексте Иоганнсен не утверждает, как делает это Ярхо, что «суть не в количестве лепестков, а в сумме материала, отпущенного на них природой»(стр.132). Иоганнсен просто напоминает, что при использовании описываемых им методов вариационной статистики наиболее вероятное количество чашелистиков выразится числом 5,26; но чашелистиков не может быть не-целое число – их может быть лишь 4 или 5 или 6. Однако поскольку число 5 попадает в пределы от 4,5 до 5,5,то оно является полноправным членом непрерывного выриационного ряда (3, соответственно, лежит в пределах между 2,5 и 3,5 – и т.д.) (s.28-29). Нигде в своём тексте Иоганнсен не утверждает, что для построения вариационного ряда необходимо учитывать «не только количество лепестков, но и величину их» (с.133). Это чистый домысел Ярхо – именно он позволяет ему учитывать в одном логическом построении стопность ямба и количество дактилических клаузул. На мой взгляд, анализ стопности ямба в драмах Лермонтова совершенно логичен: речь идёт о количествах, - стоп (4-, 5- 6) и дактилических клаузул (9% в 3Я, 4,8% в 4Я, 0,8% в 5Я и 0% в 6Я), в то время как у цветков Ranunculus repens Ярхо предлагает сравнивать количество И размер (3 больших чашелистика – или 5 чашелистиков меньшего размера). Пример Иоганнсена оказался настолько привлекательным для Ярхо, что он использовал его снова, обсуждая связи признаков: « ... если величина лепестков какого-нибудь цветка будет больше нормальной, то материала может не хватить на полное нормальное их количество, и возникнет компенсационное отношение: меньше лепестков, зато каждый лепесток больше.»(стр.237). Комментаторы справедливо отмечают, что здесь Ярхо, вероятнее всего, имеет в виду закон Сент-Илера – Ярхо конкретно упоминает о законе в примечании к работе «Распределение речи в пятиактной трагедии», опубликованной в одном томе с «Методологией ...». Однако и здесь Ярхо приспосабливает закон Сент-Илера к своим взглядам о том, что природа «компенсирует» количество размером – однако Сент-Илер на деле сравнивает размер с размером и/или орган с органом – «орган ... не достигает никогда исключительного развития без того, чтобы в той же пропорции не пострадал другой орган ... излишний объём одной из масс обусловливает уменьшение объёма другой ... между ними устанавливаются компенсаторные отношения» (стр. 690). Снова биолог сранивает орган с органом, объём с объёмом, в то время как Ярхо продолжает «уравновешивать» и компенсировать размеры лепестков и их количества. Такая телеологическая направленность природы, по мнению Ярхо, находит соответствие в творческой личности: «Так же и на поэта отпущена известная степень формоощущения, способности создавать эстетические ценности: если он перенапряг эти способности в одном отношении, то его уже не хватит на другие формы. Здесь – полная гомология.» (стр. 237) Можно безоговорочно принять это положение Ярхо или спорить с ним, однако никакой гомологии с сент-илеровским законом компенсации в живой природе Ярхо не продемонстрировал. Нет гомологического сходства между поэтом, «перенапрягшим» свои способности на одних поэтических формах, а потому неспособным к другим, и цветком, с большим количеством материала, позволившим ему вырастить не пять, а шесть чашелистиков. На мой взгляд, здесь трудно усмотреть даже аналогию. Переходя от терминологического и понятийного аппарата вариационной статистики к таковому менделевской генетики, Ярхо продолжает свои слишком вольные трактовки биологических концепций. «Затем одни признаки из А, другие из Б входят в новый комплекс (доминантые признаки), а другие, как из А, так и из Б, отбрасываются (рецессивные признаки).» (стр. 259). В примечании к этому фрагменту (примечания 585 и 790) совершенно верно указано, что Ярхо пользуется здесь терминологией Менделя. Однако из дальнейшего становится ясно, что Ярхо не до конца понимал, какой именно смысл был вложен Менделем в понятия доминантнсти и рецессивности. Не то принципиально важно, что рецессивный признак «отбросится» в потомстве А и Б, а то, что у потомков гибрида А и Б этот самый признак неизбежно появится снова, при этом в строго определённой пропорции! Таким образом, для того, чтобы называть некоторые признаки литературных произведений «рецессивными», Ярхо необходимо было бы продемонстрировать, как минимум, 1) исчезновение признака (мотива, персонажа, приёма) в произведении I, и 2) возникновение этого же самого признака в прямом потомке произведения I. Думаю, что даже самые внимательные и доброжелательные читатели «Методологии ...» вынуждены будут согласиться с тем, что удаётся Ярхо только 1), в то время как именно 2) и является наиболее существенной частью понятия «рецессивности» в биологии. Ещё большее недоумение вызывают утверждения Ярхо, сделанные им при анализе возникновения и развития новых форм в поэзии Лермонтова (смешанных трёхдольников и силлабо-тонических логаэдов): «Мы видим, что те признаки, которые при первом скрещении были доминантными,здесь являются рецессивными и наоборот.» (стр. 263). Итак, в своём поэтическом развитии Лермонтов различным образом сочетает приёмы стихосложения балладного дольника с таковыми силлабо-тонической традиции. В результате он получает новые формы: смешанные трёхмерники с одной стороны, и силлабо-тонические логаэды с другой. Неравносложность с равнотактностью присущи одной форме, неравнотактность с разносложностью – другой. Использование терминов «доминантный» и «рецессивный» в данном случае абсолютно произвольно и вызывает недоумение: кто же доминирует над кем? Неравнотактность над равнотактностью? Или наоборот? Магия биологической терминологии увлекает Ярхо ещё дальше при попытке включить в терминологический аппарат литературоведения понятия «фенотипа» и «генотипа» : «... два фенотипа, принадлежащие к одному генотипу, могут оказаться весьма непохожими друг на друга (примерно, как птицы и ящеры)»; « ... с другой стороны ... два производных от совсем разных корней могут быть весьма схожи по своему фенотипу.» (стр.268). Только лишь упоминания «птиц и ящеров» в одной фразе достаточно, чтобы понять, что Ярхо имеет в виду эволюционный процесс, - именно он соединяет птиц и ящеров, а никак не генотип – совокупность генетических признаков индивидуума. Естественно, в генотипе птицы есть признаки, роднящие её с другими птицами, - они присущи всему классу птиц; есть в нём элементы, роднящие птицу с ящерицами, общие для всех современных позвоночных животных; более того, вероятно, в нём можно найти и то, что роднит птицу с ископаемыми ящерами: эти элементы – некие последовательности ДНК – вероятнее всего, присущи генотипам многих ныне существующих и ископаемых животных. Однако же «генотипа» присущего одновременно птицам и ящерам нет и не может быть! Правомернее в данном контексте было бы говорить об общности «генезиса» птиц и ящеров, но, по-видимому, стремясь к по меньшей мере «биологической» точности, Ярхо решил использовать биологические же термины – «фенотип», « генотип» - и продемонстрировал собственное искажённое представление о том, что же эти термины означают. Мне кажется вероятным, что высказываясь на эту тему Ярхо был в плену собственных идей о фундаментальных свойствах живого – всё тех же «множественности, непрерывности и изменчивости» (стр. 7). Именно пресловутая непрерывность позволяет легко объединить птиц и ящеров в один «генотип». На деле же дискретность определённых процессов и явлений, их, если угодно, « прерывность», лежит в основе огромного много- и разнообразия форм живой материи. Выделение клеточного ядра в специальное образование; возникновение многоклеточности; образование хорды, а затем и позвоночника, - вот некоторые вехи этой «прерывности». Идея «непрерывности» как фундаментального свойства живого чрезвычайно важна для Ярхо; использование её в «Методологии» очень часто приводит к весьма спорным толкованиям вполне базисных биологических понятий. Так, на стр. 245 «Методологии» Ярхо предлагает « ... откинуть для литературы различие между эволюцией индивидуума и эволюцией вида», утверждая несколькими строчками ниже, что « эволюция <это> изменение признаков от одной особи к другой». Это же утверждение перефразируется далее (стр.291): «...границы онтогенеза и филогенеза чисто условны». Для опровержения этого тезиса проще всего воспользоваться терминологией литературоведения: принципиальная разница между онтогенезом и филогенезом, основная причина, по которой они несводимы к друг другу состоит в том, что онтогенез – процесс синхронический, а филогенез – диахронический. Уравнивая онтогенез с филогенезом, Ярхо не только игнорирует разницу между индивидуумом и группой, между единицей и множеством, но и удаляет из описываемых феноменов измерение времени. Пользуясь таким подходом можно изучать эволюцию эпической поэзии на примерах «Махабхараты», «Песни о Нибелунгах», «Калевалы» и др. – или на примерах всех известных текстов только «Песни о Нибелунгах», от первых сохранившихся рукописей до электронных изданий для планшетов: ведь границы онтогенеза и филогенеза чисто условны. Стремление любой ценой отыскать в явлениях литературы некое глубокое родство с явлениями мира живого неоднократно приводит Ярхо к неоправданным упрощениям и, в конце концов, к сранению несравнимого. Обсуждая эволюцию в литературе, Ярхо пишет: « при переработке «Гамлета» в XVIII в. ... меняются стих, стиль, характеры персонажей, отдельные сюжетные мотивы, но жанр (трагедия) сохраняется. Во время первого расцвета христианской литературы ... вся сюжетная, эмоциональная и идейная сторона латинской поэзии переживает резкое изменение, но стихосложение у огромного большинства авторов ... остаётся в пределах старых форм.» (стр. 293). «Между этими двумя полюсами отмечу переходный вид мутации для того только, чтобы показать, какие причудливые формы принимает этот процесс.» (стр. 294). Ярхо вводит новый термин – «переходный вид мутации» (хотелось бы, между делом, поинтересоваться: переходный от чего к чему? - но здесь, собственно, не вполне понятно, что же именно подвергается мутации. Жанр? Но он остаётся прежним – трагедия. Метрика? Арсенал приёмов стихосложения? Но они остаются «в пределах старых форм». Остаётся признать, что «многообразие мутационного процесса» по Ярхо проявляется при сравнении и сопоставлении принципиально несравнимых признаков (что уже было неоднократно отмечено ранее): жанра одной группы произведений с метрикой другой группы произведений. Использование биологической терминологии не помогает Ярхо, оно затрудняет понимание его идей. Ярхо, тем не менее, употребляет её и там, где она вовсе неприменима. Усвоив менделевский закон независимости (или самостоятельности) наследования признаков, Ярхо вводит следующие категории признаков: «1)стабильные; 2)колеблющиеся; 3)эволюционирующие : а)доминантные, б)рецессивные.» (стр. 315) – разумеется, не без немедленной оговорки, что «границы между этими категориями, конечно, относительны, как и все границы.» (там же). Из дальнейшего текста становится ясно, что собственные представления автора о некоторых из этих категорий весьма зыбки – вплоть до того, что незначительно колеблющиеся признаки он относит к стабильным, не определяя «значительность» или «незначительность» колебаний. И если с некоторой натяжкой с такой классификацией ещё можно согласиться, то категория «эволюционирующих» признаков, да ещё и подразделяемая на признаки «доминантные» и «рецессивные» абсолютно неприемлема. Ведь для того, чтобы такое представление о признаках приобрело необходимую весомость, Ярхо должен был бы показать, что 1) не все признаки стихотворных/прозаических форм литературного произведения эволюционируют (что, вообще говоря, противоречит фундаментальным основам его мировоззрения) и 2) совершенно определённые признаки литературных произведений являются эволюционирующими. Но Ярхо ограничивается лишь заявлением о том, что астрофические стихотворения Пушкина являются «ясным примером доминантного <эволюционирующего> признака» (стр.316), не приводя никаких дополнительных объяснений и/или доказательств своего утверждения. Продолжая эту тему ниже, Ярхо продолжает упорно пользоваться терминами «доминантная» и «рецессивная» <тенденция> более того, не только в собственных умозаключениях, но и в отсылках к трудам Штокмара и Тимофеева, хотя Штокмар просто отмечает «огромное преобладание пятистопного ямба» (примечание 794, стр. 736). Невероятно, но там, где сопоставление с биологическими явлениями и, соответственно, биологическая терминология были бы чрезвычайно уместны, Ярхо не замечает явления, проходит мимо, возможно, именно в силу ограниченности собственного понимания биологии и её терминологического аппарата. Так, рассматривая использование образа Вакха в поэзии VIII и XIII веков, Ярхо снова упоминает о « ... сходстве фенотипа при разном генотипе» (стр. 269): в стихотворении VIII века образ «Bacche pater» заимствован у Горация, в то время как «Рater Bacche» в мессе вагантов XIII века является пародийной модификацией «Рater Noster» и не имеет ничего общего с Горацием. Итак, фенотип (упоминание Вакха) один, генотип разный (Гораций, с одной стороны, и христианская молитва, с другой). Здесь Ярхо полностью игнорирует явно напрашивающееся сравнение литературного явления с хорошо описанным в биологии явлением конвергенции: необходимость выполнения функции рытья эволюционно привела к сходству конечностей крота и медведки, не имеющих по своему происхождению ничего общего, - произошла структурная конвергенция формы конечности насекомого и млекопитающего. Аналогично, в вышеприведенном примере Ярхо можно отметить, что общий элемент в тематике поэтических произведений VIII и XIII веков – питьё вина, пьянство, присутствие алкоголя – вызвал у автора (авторов) «привычную» ассоциацию с Вакхом и желание его упомянуть. И если в VIII веке Вакх заимствуется напрямую из античности (откуда и Вакх, и Гораций происходят), то в более позднем XIII веке ассоциация с Вакхом реализуется уже пародийно – через «Рater Noster» - что немудрено: за пять столетий – с VIII по XIII - ассоциация порядком износилась. Ярхо полагал, что ближайшей задачей литературоведения является приближение к «<биологической> стадии научности» (стр.29). При этом он не уточнял, что эта стадия научности была достигнута биологией в результате применения математических методов; вероятно, он действительно формулировал свои мысли сопоставляя наблюдаемые литературные явления с биологическими, но упуская из виду то, что методы анализа биологических явлений исходно не принадлежат биологии. На деле же, закономерности, описываемые им, обнаруживаются путём анализа литературных произведений или их конкретных характеристик (стихотворный размер, количество участников сцен в драматических произведениях) с помощью методов математической статистики. Это отдельная прикладная наука, которая с успехом применяется и в биологии, и в химии, и в физике; заслуга Ярхо, на мой взгляд, состоит в том, что он впервые продемонстрировал возможность её успешного применения в литературоведении. (В самой «Методологии ...» есть, как минимум, три ярких примера чрезвычайно интересных результатов, полученных путём применения методов математической статистики к анализу литературных произведений: обнаружение коррелятивных отношений между длиной паузы и маркировкой силлабического движения (на примере драм Хротсвиты); схема анализа разнообразия и степени красочности цветовых асоциаций в пяти героических поэмах; анализ сходства и различия распределения речи между персонажами в драматических произведениях XVII века). Увы, постоянные поиски биологических аналогий (или гомологий), использование не до конца понятых терминов и искаженная репрезентация объективно наблюдаемых биологических явлений не добавляют никакой ценности «Методологии ...», а часто и затрудняют понимание этого уникального труда. Издатели «Методологии ....» установили хронологию работы Б.И.Ярхо; из приводимых ими дат ясно, что последние исправления в рукопись были внесены не позже конца 1940 г., меньше, чем за полтора года до кончины автора, которому на момент смерти было 52 года. Несмотря на все критические замечания, высказанные мною выше, я не сомневаюсь, что, выйди книга вскоре после своего написания, она кардинально изменила бы пути развития русского – а, возможно, и мирового – литературоведения и, скорее всего, многократно бы перерабатывалась и переиздавалась. Вместо этого Ярхо был прочно забыт и возвращён читателю только в самом конце прошлого столетия. М.В. Акимова и М.И. Шапир с горечью пишут в предисловии: «Время для издания его трудов .... оказалось невозвратно упущено.» Мне не хочется соглашаться с таким пессимистичным взглядом на ситуацию; я верю, что современные литературоведы и те, кто будет заниматься литературоведением в будущем, многое почерпнут для своей будущей работы в «Методологии ....». Основания для этой уверенности мне дают слова знаменитого ровесника Ярхо, Людвига Виттгенштейна, написанные им незадолго до смерти в набросках к незавершённой работе «Über Gewissheit” :”Ich glaube einen Philosophen, einen der selbst denken kann, könnte es interessieren meine Noten zu lesen. Denn wenn ich auch nur selten in’s Schwarze getroffen habe, so wurde er doch erkennen, nach welchen Zielen ich unablässig geschossen habe.” («Über Gewissheit” von Ludwig Wittgenstein Herausgegeben von G.E.M. Anscombe und G.H. von Wright 1969 J.& J. Harper Editions New York and Evanston p.50) Все ссылки, обозначенные в тексте только номерами страниц, относятся к изданию: Б.И.Ярхо Методология точного литературоведения. Избранные труды по теории литературы Издание подготовили М.В.Акимова, И.А. Пильщиков, М.И. Шапир под общей редакцией М.И.Шапира «Языки славянских культур» Москва 2006 927 с.