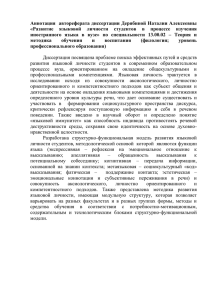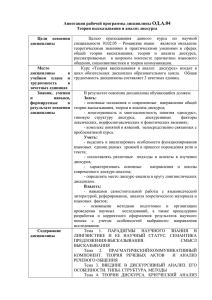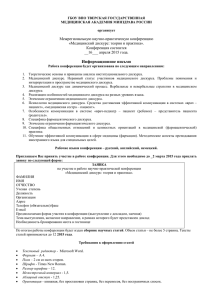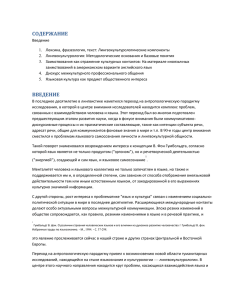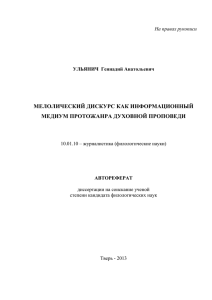«ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» ИНОЯЗЫЧНОГО ДИСКУРСА
реклама

«ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» ИНОЯЗЫЧНОГО ДИСКУРСА Корнилов Олег Александрович, доктор культурологии, профессор кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации факультета иностранных языков и регионоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор Высшей школы международных исследований университета Чун Ан (Сеул, Республика Корея) ([email protected]) Понимание текста предполагает не только знание текста, но также и знание мира Т.А. Ван Дейк С чем обычно связаны трудности понимания иноязычного текста или устного высказывания, если при этом исходить из того, что их реципиент обладает вполне достаточной языковой компетенцией? Нам представляется, что это может происходить в двух случаях: во-первых, если имеет место сознательное искажение автором текста или высказывания какой-либо языковой формы (изменение орфографии слова, нарушение привычных синтаксических связей и т. п.) с целью достижения максимального эмотивного эффекта, а во-вторых: когда получатель текста недостаточно знаком с широким культурным контекстом того языка, на котором этот текст изложен. Однако при более внимательном анализе выясняется, что и трудности первого типа всё равно оказываются следствием явлений экстралингвистического характера: проявлений тех или иных черт национального менталитета и особенностей культуры. В дальнейшем попытаемся этот тезис подтвердить конкретными примерами из русского и корейского языков (поскольку именно с этими языками я в настоящий момент и имею дело, обучая корейцев русскому). Вряд ли стоит повторять, что овладеть иностранным языком в максимально возможной степени, например для успешной работы переводчиком, абсолютно невозможно без знания особенностей психологии и менталитета народа - носителя этого языка. Хотя бы потому, что культурные и ментальные особенности любого народа неизбежно отражаются на так называемых коммуникативных стратегиях, которые используются носителями конкретного языка при решении тех или иных коммуникативных задач и при порождении дискурсов разных жанров. Данные коммуникативные стратегии в родном и иностранном языках могут кардинально различаться. Если человек к этому не готов, не понимает причин этих отличий, то ожидать положительного результата от его попыток адекватно воспринять иноязычный текст не стоит. Стремление русского человека при порождении текста говорить «форсисто, с хитрым извитием слов» (Н. Лесков) является следствием соответствующей коммуникативной стратегии, направленной на достижение максимального эмоционального эффекта, на (по выражению того же Н. Лескова) «проистечение велемощного умудрения в мозгах» адресата этого текста. Коммуникативная стратегия детерминирована особенностями национального менталитета, а он – типом культуры. Выстраивается такая причинноследственная логическая цепочка: «хитрое извитие слов», т. е. ЯЗЫКОВОЙ ФЕНОМЕН, отклоняющийся от нормы ← КОММУНИКАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ ← МЕНТАЛИТЕТ субъекта речи или автора текста ← установки, нормы и ценности КУЛЬТУРЫ, к которой этот субъект принадлежит ← ТИП этой культуры. В одной из своих работ известный американский лингвист Эдвард Сэпир, объясняя причины низкого престижа своей профессии в США, сетовал на то, что в общественном сознании американцев укрепилось стойкое мнение, что различные национальные языки – это всего лишь «разные способы выбалтывания мыслей» и не более того. Мы глубоко убеждены, что любой, кто разделяет такой упрощённый подход к сущности иностранного языка, никогда не овладеет им в высокой степени. Если же опираться на противоположную точку зрения, согласно которой «языки творят миры», создают языковые картины мира, то можно надеяться на гораздо лучшие результаты. Сошлёмся на авторитеты. «Язык можно уподобить своеобразной когнитивно-этнической вакцине, а сам процесс усвоения этого языка – когнитивно-этнической иммунизации, через которую непременно проходит каждый новый член этнического сообщества. Важнейшее следствие такой иммунизации в придании языковой личности свойственной данному этносу когнитивной ориентации, в приобщении её к непрерывной культурной традиции соответствующего народа»1. Каждый народ воспринимает окружающий мир в особой, неповторимой проекции, специфика которой неизбежно запечатлевается в языке и передаётся от поколения к поколению. В процессе этой передачи «... человеку в языковой форме вводится программа, определяющая бессознательное моделирование им окружающего мира»2. Попробуем посмотреть, что именно может служить «подводным камнем» в понимании русскими корейских дискурсов и, наоборот, корейцами – русских. И постараемся найти этому объяснения в разнице культурных традиций. «Подводным камнем» мы считаем неожиданно возникающую трудность понимания иноязычного текста. Преодоление этой трудности происходит в два этапа: на первом этапе происходит разгадка лингвистического ребуса, выяснение, что же означает необычное слово или фигура речи? Каков их смысл? На втором этапе следует попытаться понять, почему сказано или написано ТАК (неожиданно для реципиента текста). Иногда непонятной может оказаться общая тональность дискурса в целом или даже сама коммуникативная стратегия. Перейдём к примерам. Начнём с корейского языка. В книге российского журналиста Олега Кирьянова, много лет жившего и работавшего в Корее, я нашёл любопытное высказывание, в котором автор пытается объяснить одно слово, которое, на наш взгляд, можно отнести к категории национально-специфических концептов. Это слово косэнь – «тяготы, трудности, лишения»: «Если ты живёшь постоянно в этих косэнях, то ты молодец, тебя все уважают, жалеют: вот, мол, человек трудится, старается. Если же будешь ходить с довольным лицом, имея при этом кучу свободного времени, то окружающие начнут поглядывать на тебя подозрительно: что-то с тобой не так. Даже если всё успеваешь сделать – неважно, в жизни обязательно должен быть тот самый косэнь. Наверное... для корейцев сам по себе факт старания важнее результата».3 Казалось бы, ну есть такое слово и есть, что в нём такого необычного? Но лично мне после знакомства с ним стала совершенно понятна одна очень характерная особенность той самой коммуникативной стратегии, часто используемой корейцами. Мне всегда казалось, что они излишне любят жаловаться: мало вчера спал, очень много было дел и т. п. Мною это воспринималось как (извините) нытьё, а оказалось – это вполне понятное в их культуре желание вызвать уважение к себе. Иногда корейские преподаватели даже сознательно завышают оценки таким студентам, потому что факт старания сам по себе заслуживает не меньшего поощрения, чем положительный результат такого старания. Зачастую семантический анализ только одного подобного слова в общекультурном контексте может, как нам кажется, сказать о народе, в чьём языке оно используется, очень многое. В тупик русского человека может поставить фраза корейца, говорящего о своей супруге woori anae – «наша жена», хотя при этом существует местоимение nae – «мой, моя», так же кореянка скажет о своём муже: woori nampyong – «наш муж». Это вовсе не означает, что в Корее процветает многожёнство или многомужество, общество вполне себе моногамно, а за супружескую неверность можно угодить в тюрьму (!) или лишиться своей доли имущества при разводе. Таким необычным способом всего лишь проявляется доминантная черта корейской ментальности – коллективизм. Ощущение себя вне коллектива для корейца 1 2 3 Морковкин В.В., Морковкина А.В. Язык как проводник и носитель знания // Русский язык за рубежом №1 – 2, 1997, с. 47-48. Иванов В.В. Язык в сопоставлении с другими средствами передачи и хранения информации // Прикладная лингвистика и машинный перевод: Сб. статей. – Киев, 1962, с. 108. Кирьянов О.В. Наблюдая за корейцами. Страна утренней свежести. – РИПОЛ классик, М., 2010, с. 29-30. Подчёркнуто – О.К. непереносимо и может даже стать причиной самоубийства. Как называется самый «народный» банк Южной Кореи? Woori Bank («Наш банк). Ну, заодно и жёны с мужьями – тоже woori. В потоке корейской речи удивляет частое использование выражений, переводимых как «старший брат» и «старшая сестра», как будто они все кругом родственники. Это, конечно же, не так. Просто таков этикет: если твой практически сверстник старше тебя хотя бы на год, то обращаться к нему следует исключительно на «вы» с добавлением к имени «старший брат». Он же тебе будет спокойно тыкать и звать только по имени. У девушек то же самое. При этом эти обозначения варьируются в зависимости от пола младшего собеседника: «старший брат» – oppa (если младшая женщина/девушка обращается к старшему мужчине/юноше) и hyung (если младший мужчина/юноша обращается к старшему мужчине/юноше); «старшая сестра» – onni (если к старшей женщине/девушке обращается младшая женщина/девушка) и noona (если к старшей женщине/девушке обращается младший мужчина/юноша). Простой дифференциации на no – «ты» и tangshin – «вы» оказывается недостаточно, если просто обратиться к старшему (хоть на год) на «вы» без добавления «старший брат», указания должности, звания или без добавления к фамилии суффикса – ssi (аналог японского san или китайского senshang), вас наверняка посчитают грубияном. Такое внимание к разнице в возрасте объясняет тот факт, что корейцы при знакомстве сразу же стараются выяснить ваш возраст, что русским кажется достаточно бестактным. Кстати, именно этот вопрос задали мне мои студенты в аудитории первым. Эта коммуникативная стратегия отражает другую доминанту корейской ментальности: приверженность строгой иерархичности, принципу вертикально структурированного общества, миру «без равных людей». До тех пор, пока кореец точно не уяснил для себя своё место и место своего собеседника в этой вертикали (по принципу социального статуса и старшинства по возрасту), ему некомфортно, он боится выбрать неверные формы общения. Завершим мы корейскую часть тем, как корейцы называют мужа и жену. Жена – jipsaram («домашний человек»), зато муж – bakkatsaram («внешний (важный) человек»). Распространено именование жены по модели «мать + имя ребёнка», например: Kim omma – «мать Кима». Думаю, комментарий излишен, внутренняя форма слов лишь констатировала очевидный факт, что традиционная корейская ментальность отводит женщине второстепенную роль в обществе. Обратимся теперь к «русской почве». Хотелось бы акцентировать внимание на том, что в современном обществе все социокультурные и социопсихологические процессы невероятно ускорились. Система же языка (как достаточно инертное образование) отстаёт от этих изменений и уже не может в полной мере служить «зеркалом» народной души. Если мы будем судить о современном менталитете россиян только на основе классического литературного языка и отражённых в нём национальных черт, то составим впечатление не совсем верное, устаревшее. На традиционно присущие русскому народу черты за последние два десятилетия наложились черты, лишь недавно приобретённые под влиянием колоссальных политических и экономических изменений. Современные россияне говорят (а главное, думают) уже совсем не так, как герои Толстого, Достоевского и Чехова. Что же тогда сейчас можно считать «зеркалом народной души»? Для ответа на этот вопрос уместно вспомнить нашего замечательного лингвиста Л.В. Щербу, который в статье «О трояком аспекте языковых явлений» предлагал делать различия между языком, речью и текстами. Именно современные тексты и современная речь, фиксируемая в них, моментально (по историческим меркам) отражают всё, что происходит в обществе и в сознании людей. Именно современный дискурс «исповедуется» о том, что происходит в душе народа и что не может не вызывать сожаления и горечи: утрата чувства патриотизма и национального достоинства, чувства гордости за свою страну (проявляется в огромном количестве ничем не обоснованных заимствований из английского, в нежелании пользоваться словами родного языка в силу их «меньшей престижности»); неуважение к окружающим, к властям разных уровней, пренебрежение общепринятыми нормами поведения, цинизм (проявляется в крайне агрессивном речевом поведении как в быту, так и в информационном пространстве); тотальное снижение общего уровня культуры (выражается в проникновении бранной лексики во все сферы жизни и в тексты средств массовой информации); социальное расслоение по разным признакам (имущественному, образовательному, культурному, религиозному и т.п.) (проявляется в замкнутости отдельных социальных групп, появлении субкультур с собственными жаргонами, сленгом). Эти негативные явления наслаиваются на традиционные культурные особенности русского народа, и в результате появляются такие «речевые монстры», которые не в силах понять (и, естественно, перевести) даже вполне квалифицированный переводчик, а носитель языка испытывает затруднения с их расшифровкой и «переводом» на нормальный русский язык. Попробуем проиллюстрировать сказанное примерами. Российский певец Юрий Лоза в одном из своих интервью справедливо заметил: «... В нашей комедии всегда есть сатира и какая-то слезинка. Мы не умеем просто шутить. Нам всегда нужен подтекст. Такие мы. Наверное, это ментальность народа. Мы так привыкли к двойному дну, эзопову языку, что... это трудно выветрить»4. На этот эзопов язык и это двойное дно постоянно натыкается переводчик, работая с текстами, авторы которых всего лишь следуют психологической потребности российских читателей в подтексте и остроумной игре слов и образов. Это не «болезнь», а типологическая особенность русской культуры, которая по одному из критериев, применяемых в этнологии, относится к высококонтекстным культурам5, для которых характерны именно такие особенности речевого поведения. Но проблема в том, что на эту культурную особенность наслаиваются «болезни» современного российского общества. Вот конкретный пример. Журналистка Ольга Коробицина в июне 2012г. в газете «Аргументы и факты» (имеющей, кстати, самый большой тираж в стране) опубликовала интервью с испанским певцом Хулио Иглесиасом, озаглавив его так: «Хулио приехал ты, Иглесиас». Носитель русского языка реагирует на это однозначно эмоционально: кто-то засмеётся, ктото возмутится. А иностранец просто не поймёт странного синтаксиса, почему имя и фамилия оказались разделены другими словами. Такой порядок слов, действительно, абсолютно не обоснован. Он не почувствует более чем сомнительной «игры слов». А дело в том, что имя певца без последней буквы означает по-русски грубое матерное ругательство со значением либо «что?», либо «зачем, с какой целью?». И именно при таком порядке слов всё предложение воспринимается как вопрос, который в самой мягкой форме можно перевести как «Какого чёрта приехал ты, Иглесиас?». Что это? Журналистская находка, остроумие, смелость, дерзость? По-моему, так просто низкий уровень культуры и неуважение к певцу и читателям. А самое некрасивое – то, что кумир миллионов во всём мире даже и не подозревал, что мило беседующая с ним труженица пера будет публично упражняться в своём псевдоостроумии на его имени. При этом формально она не нарушала правил приличия, не использовала грубой лексики, но провокационность использованной ею фигуры речи налицо. По-русски такие поступки можно назвать «фига в кармане». А как такой заголовок должен переводить переводчик? Видимо, игнорируя «остроумие» исходного текста. Другой пример. В эмоциональных и полемически заострённых выступлениях представителей разных политических сил в СМИ, в статьях публицистов в последнее время часто используются «новаторские модификации» названий участников политического процесса. Иностранцам приходится объяснять, что коммуняки – это коммунисты, дерьмократы – это демократы, прихватизаторы – те, кто проводил приватизацию, либерасты – это либералы. Затем приходится раскрывать так называемую внутреннюю 4 5 Журнал «Огонёк» №7, 2005, с. 51. Этот параметр описания культур предложен Эдвардом Холлом. форму этих новообразований, после чего проясняется, что в результате незначительных фонетических изменений происходят «волшебные» изменения смысла: сторонники демократии превращаются в сторонников власти дерьма, участники приватизации – в воров, прихвативших народное достояние. А с либерастами ещё сложнее. Тут имеет место двухслойная этимология новообразованного слова. Первый уровень: взяли и объединили два слова (либерал и педераст). Второе из этих слов, по сути, медицинский термин, обозначающий человека, подверженного педерастии, т.е. гомосексуализму. Использовать названия болезней для оскорбительного именования людей, которые не вызывают симпатии, – вполне устоявшаяся традиция в стилистически сниженной русской речи (дебил, даун, олигофрен, идиот – примеры из того же ряда). Но в данном случае имеет место не простое желание дать обидное обозначение, но и указание на один из мотивов негативного отношения. Либерально настроенная часть общества в России (и во всём мире) активно выступает за то, что одни называют борьбой за права сексменьшинств, а другие – агрессивной пропагандой гомосексуализма. Эта часть политической программы либералов и послужила мотивом для лексической новации. А совсем недавно (19-го сентября) в эфире программы «Подъём» на Русской службе новостей я услышал ещё один вариант именования либералов – либероиды. Данный неологизм образован по той же модели: в одно слово соединили либерал и шизоид (синоним слова шизофреник) и получили либероида. Номинация имеет явно выраженную отрицательную эмоциональную окраску, поскольку содержит намёк на психическое нездоровье тех, кого этим словом называют (а точнее, обзывают). К этому же типу «словотворчества» относится и Педриарх Кирилл (в комментариях в блоге Андрея Мальгина на РСН). В конце сентября в телеэфире на канале «Культура» (что весьма примечательно) заведующий кафедрой мировой литературы и культуры МГИМО, заслуженный работник культуры РФ Ю.П. Вяземский назвал атеистов «животными, которых надо лечить», чем вызвал печальный комментарий одного из блогеров, с которым мы вполне согласны: «Какова культура, таковы и заслуженные работники». Так и хочется пожелать г-ну Вяземскому не останавливаться на достигнутом и последовать дальше, следуя хотя бы примеру другого медийного лица – доктора политологии Марка Урнова, именовавшего в программе «Культурная революция» (от культуры прямо никуда не деться!) несимпатичный ему тип людей быдляками и хорьками быдлянскими. Нет ничего удивительного в том, что эти самые животные (по терминологии заслуженного работника культуры РФ) не остаются в долгу и применяемую по отношению к ним коммуникативную стратегию именуют «шипением убогого фанатичного шизоида». Что тут скажешь?! Как говорил М.С. Горбачёв: «Пир духа!» Стоят ли за этими частными случаями «словотворчества» более глубинные мотивы? Безусловно. В культурной антропологии существуют два параметра описания культур, имеющих отношение к конкретным, выше рассмотренным примерам. Первый параметр называется «дистанция власти» (предложен Гиртом Хофштеде), второй – «бинарность или тернарность культуры» (предложен Юрием Лотманом). В культурах с высокой дистанцией власти преобладает иерархическая организация общества, основанная на психологическом принятии определённого неравенства. Носителям властных полномочий в таких обществах оказывается подчёркнутое уважение и послушание. Критика и открытое противодействие по отношению к вышестоящим в иерархии не допускаются. Все азиатские культуры относятся именно к этому типу. Россию же, видимо, следует отнести к культурам с малой дистанцией власти, где существует психологическая установка на сведение к минимуму любого неравенства. Несогласие или противодействие носителям властных полномочий здесь не рассматриваются в качестве недопустимой модели поведения, а наоборот – вызывают общественное одобрение и поддержку. В среде российской интеллигенции даже бытует мнение, что не быть в оппозиции власти – это неприлично. Бинарные культуры – это культуры, где доминирует бескомпромиссность: хорошо – плохо, свой – чужой, добро – зло. Отсутствует «третье поле», поле для компромисса и поиска точек соприкосновения. Русская культура в этом смысле бинарна. Тернарные культуры (к ним относятся все культуры, исповедующие конфуцианскую этику) всегда нацелены на поиск компромисса, на избегание конфликта и сохранение гармонии в межличностных отношениях и отношениях с властью. Тернарность культуры очень наглядно проявляется, например, в менталитете индейцев кечуа, исповедующих принцип «третьего включённого», что означает, что любая вещь или явление не может быть оценена в рамках двоичной оценки (хорошо / плохо, правильно / неправильно и т. п.), а обязательно включает в себя третий элемент – «неопределённое». Этим объясняется полное отсутствие в дискурсе индейцев кечуа категоричных суждений или оценок. С критерием «бинарности – тернарности» практически полностью совпадает параметр измерения культур, предложенный Рут Бенедикт: культуры аполлонического типа (по другой терминологии – культуры «срединного пути») и дионисического типа (культуры «пути крайностей). Активное использование в современном российском дискурсе описанных нами слов свидетельствует о том, что русская культура в данном своём проявлении тяготеет к культурам малой дистанции власти и культурам «пути крайностей» (т. е. бинарным). Жителям Азии трудно понять агрессивность и стилистическую сниженность российских дискурсов именно потому, что все азиатские культуры (и корейская в том числе) типологически не совпадают с русской: как правило, это культуры большой дистанции власти и культуры срединного пути (тернарные), культуры не конфронтации, а поиска гармонии в межличностном общении и общении с властью. Типологически российская и азиатские культуры совпадают по параметру своей высококонтекстности (когда ценится завуалированная манера выражения, «красноречие молчания», образность высказывания, происходит опора на самый широкий информационный контекст, учитывается множество фоновых знаний участников коммуникации и т. п.), но и здесь есть очень существенное различие. В азиатских высококонтекстных культурах конечной целью текста является донесение информации до собеседника в максимально деликатной форме, исключающей «потерю лица» или любые другие эмоциональные издержки. Тем самым достигается главная цель – сохранение гармонии отношений участников коммуникации и соблюдение этикета, что в конфуцианстве считается «матрицей разумного поведения». Россияне же, судя по тональности, стилистике и используемым изобразительным средствам языка в материалах СМИ, о «сохранении лица» оппонентов и сохранении с ними гармоничных отношений думают в последнюю очередь. Главное – «победить» в дискуссии (очной или заочной) и сделать это максимально эффектно, хлёстко, образно, изобретательно, остроумно. Пример. Известно, что японцы избегают давать прямой отрицательный ответ, отказывать в чём-либо прямо, заботясь о самолюбии того, кто к ним обратился, и не желая обидеть (что у представителей низкоконтекстных культур может вызвать раздражение просто потому, что они не понимают, что им отказывают). Много лет проработавший в Японии журналист Владимир Цветов так описывает возможный вариант отказа в исполнении японца: «Я прекрасно понимаю ваше идущее от сердца предложение, но, к несчастью, я занимаю иное положение, чем Вы, и это не позволяет мне рассмотреть проблему в нужном свете, однако я обязательно подумаю над предложением и рассмотрю его со всей тщательностью, на какую способен»6. Россияне тоже вместо простого «нет» скорее всего предпочтут «хитрое извитие слов», правда, иного порядка, с иной эмотивной функцией. Можно услышать много разных вариантов: «Ага, щ-щас!», «Разбежался», «Держи карман шире!», «Раскатал губы!», «Губозакаточную машинку купил!», «А ху-ху не хо-хо?», «От дохлого осла уши ты получишь, а не ...», «Ага, дадут... Потом догонят и ещё добавят!» Как говорится, почувствуйте разницу. Цель обратная: не «подсластить пилюлю» отказа, а сделать её максимально горькой и обидной. Это может нравиться или нет, но именно такова реальность, отражающая предпочтения существенной части россиян при выборе коммуникативных 6 В. Цветов. Пятнадцатый камень сада Рёандзи. – М., 1991, с. 287. Эту цитату охотно используют в качестве иллюстрации японской манеры выражаться учебники по этнопсихологии. стратегий. На рассмотренных примерах мы хотели показать, что внимательный анализ «неправильностей» современного российского дискурса отнюдь не прихоть профессиональных лингвистов, а настоятельная необходимость, поскольку без этого становится невозможным само понимание значительной части текстов. Кроме этого герменевтика всякого рода лингвистических новаций позволяет судить о настроениях в обществе, процессах, происходящих в массовом сознании, и (что особенно важно для культурологов и этнолингвистов) о типологических особенностях чужой культуры и менталитета. Нам, например, трудно понять корейскую приверженность церемонности в обращении, нежелание сокращать психологическую дистанцию, постоянное подчёркивание местонахождение участников коммуникации в иерархии, основанной на принципе старшинства, постоянные «жалобы» на косэни. Им – нашу нечувствительность к статусным и возрастным различиям, агрессивность в общении, нежелание компромисса, чрезмерную закодированность смыслов, закладываемых в текст или отдельные выражения, смешение стилей. Вывод: для владения иностранным языком на уровне, позволяющем разгадывать ребусы современного дискурса разных типов, оказывается не достаточно просто хорошо знать кодифицированную языковую систему, историю и традиционную культуру страны изучаемого языка, необходимо понимать также современные социальные процессы и настроения в обществе. Только в этом случае многие причуды и странности иноязычного дискурса, порождаемого особыми для каждой культуры коммуникативными стратегиями, могут проясниться. ЛИТЕРАТУРА: 1. Иванов В.В. Язык в сопоставлении с другими средствами передачи и хранения информации // Прикладная лингвистика и машинный перевод: Сб. статей. – Киев, 1962. 2. Кирьянов О.В. Наблюдая за корейцами. Страна утренней свежести. – РИПОЛ классик, М., 2010. 3. Корнилов О.А. Современный российский медиа-дискурс глазами иностранцев: проблемы понимания // Korean Journal of Russian language and Literature. – 2012. No.24-2. Seoul, Korea, pp. 3-22. 4. Лотман Ю.М. Культура и взрыв. – М., 1992б. 5. Морковкин В.В., Морковкина А.В. Язык как проводник и носитель знания // Русский язык за рубежом №1 – 2, 1997. 6. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М., 1993. 7. Цветов В. Пятнадцатый камень сада Рёандзи. – М., 1991. 8. Hall E.T. Beyond Culture. – NY: Anchor Books, 1990. 9. Hofstede G. Culture's Consequences. International Differences Work-Related Values. – Beverly Hills, 1980.