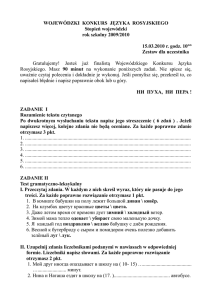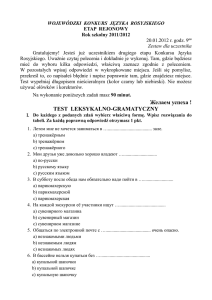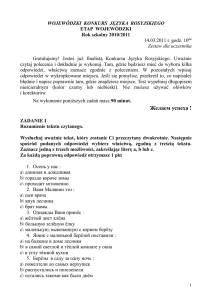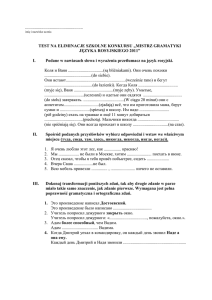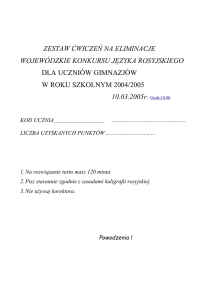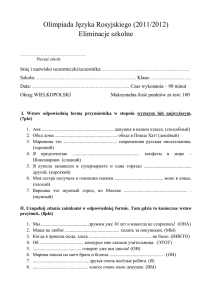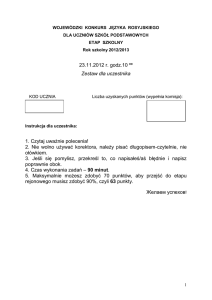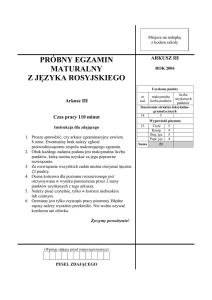Rocznik Instytutu Europy Środkowo
реклама

Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 8 (2011) (2010) Rok 9 Zeszyt 3 Rada Naukowa „Rocznika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” Rada Naukowa Stanisław Bieleń (Warszawa), Teresa Chynczewska-Hennel (Warszawa), „Rocznika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” Jarosław Isajewycz (Lwów), Adolf Juzwenko (Wrocław), Jūratė Kiaupienė (Wilno), Gerard Labuda (Poznań), Jan Malicki (Warszawa), Andrzej Nowak (Kraków), Marek Pietraś (Lublin), Stanisław Bieleń (Warszawa), TeresaJūratė Chynczewska-Hennel (Warszawa), NataliaDaniel Yakovenko, Adolf Juzwenko, Kiaupienė, Adam Rotfeld (Warszawa), Wojciech Sadurski (Sydney), Jarosław IsajewyczAleksiej (Lwów),Miller, Adolf Antony Juzwenko (Wrocław), Jūratė Kiaupienė (Wilno), Andreas Lawaty, Polonsky, Henryk Samsonowicz (Warszawa), Adam Daniel Rotfeld, Henryk Samsonowicz, Gerard Labuda (Poznań), Jan Malicki (Warszawa), Andrzej Sulima Kamiński (Georgetown–Warszawa), Aleksander Smolar, Oleksiy Tolochko, Andrzej Nowak (Kraków), Marek Pietraś (Lublin), Henryk Szlajfer (Warszawa), Piotr S. Wandycz (New Haven), Piotr S.Daniel Wandycz, Jerzy Wyrozumski Adam Rotfeld (Warszawa), Wojciech Sadurski (Sydney), Stanisław Wójcik (Lublin), Jerzy Wyrozumski (Kraków), Jan Zielonka (Oxford) Henryk Samsonowicz (Warszawa), Andrzej Sulima Kamiński (Georgetown–Warszawa), Henryk Szlajfer (Warszawa), Piotr S. Wandycz (New Haven), Stanisław Wójcik (Lublin), Jerzy Wyrozumski (Kraków), Jan Zielonka (Oxford) Kolegium Redakcyjne Komitet Redakcyjny „Rocznika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” Środkowo-Wschodniej” Kolegium Redakcyjne Jerzy Kłoczowski (redaktor naczelny), (przewodniczący), „Rocznika Instytutu Europynaczelnego), Środkowo-Wschodniej” Andrzej GilFilipowicz (zastępca redaktora Mirosław (zastępca), Anna Paprocka (sekretarz), Mirosław Filipowicz, Andrzej Kapuśniak, Gil, Tomasz Jerzy Kłoczowski Grzegorz Głuch, (redaktor naczelny), Hubert Łaszkiewicz, Andrzej Gil (zastępca redaktora naczelnego), Hubert Łaszkiewicz, Grzegorz Głuch, Mirosław Filipowicz, Tomasz Stępniewski Anna Paprocka (sekretarz redakcji) Tomasz Kapuśniak, Hubert Łaszkiewicz, Grzegorz Głuch, Anna Paprocka (sekretarz redakcji) Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Rok 9 (2011) Zeszyt 3 Rzeczpospolita vs Carstwo – spór cywilizacyjny czy walka imperiów? Redakcja Andrzej Gil Lublin 2011 Recenzent Projekt okładki i opracowanie graficzne całości Skład Korekta prof. dr hab. Antoni Mironowicz Amadeusz Targoński www.targonski.pl Maria Juran Nadia Gergało, Anna Paprocka Fotografia na okładce i stronach tytułowych: © Slayerspb | Dreamstime.com Wydanie publikacji zostało sfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Opinie wyrażone w publikacji prezentują wyłącznie poglądy autorów i nie mogą być utożsamiane ze stano­wiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych © Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2011 ISSN 1732-1395 Wydawca Instytut Europy Środkowo-Wschodniej ul. Niecała 5, 20-080 Lublin tel. (48) 81 534 63 95 e-mail: [email protected] www.iesw.lublin.pl Drukarnia Akapit www.akapit.biz Spis treści Andrzej Gil Wprowadzenie 7 Artykuły Михаил Дмитриев Брестская церковная уния 1595-96 гг. как конфликт двух экклезиологий и cultural misunderstanding 15 The Church Union of Brest 1595-1596 as a Conflict of Two Ecclesiologies and Cultural Misunderstanding Константин Ерусалимский Родословное древо или Пальма тирании: переоценки прошлого Русской земли в России и Речи Посполитой XVI века 41 Genealogical Tree or the Palm of Tyranny: Redefinition of the Past of the Ruthenian Lands in Russia and the Commonwealth in the 16th Century Дмитрий Степанов К вопросу о формировании протонационального самосознания украинской элиты в середине-второй половине XVII века 99 Question of the Formation of Protonational Self-Identification of the Ukrainian Elite in the Second Half of the 17th Century Andrzej Gil Państwowość tatarska na Syberii Zachodniej do podboju rosyjskiego 111 Tatar Statehood in Western Siberia till the Russian Conquest Hubert Łaszkiewicz Wędrówka na Wschód Carstwa Moskiewskiego: wieki XVI i XVII. Jakim kosztem i z jakim skutkiem? Journey to the East of the Tsardom of Muscovy: The 16th and 17th Centuries. At What Cost and with What Result? 129 Wprowadzenie Pytanie, dlaczego z dwóch niewątpliwych potęg wschodu Europy – Rzeczypospolitej Wielu Narodów i Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, ostatecznie zwyciężyło państwo carów, jest obecne w polskiej świadomości już od wielu pokoleń. Jak to się stało, że Rzeczpospolita – państwo będące modelowym wręcz przykładem wolności obywatelskich w nowożytnej Europie – przegrała w starciu z Rosją: absolutną, despotyczną monarchią, przysłowiowym więzieniem narodów? Czy rzeczywiście zwyciężyła tylko i wyłącznie brutalna siła, będąca pochodną ograniczania wolności politycznej, religijnej i osobistej poddanych Его царского величества? A może jednak za sukcesem Moskwy stały pewne wartości, atrakcyjne przynajmniej dla niektórych mieszkańców państwa polsko-litewskiego? Nie można bowiem zapominać, że mimo istnienia w nim dwóch narodów politycznych – Polaków i Litwinów – rzeczywistość narodowa była o wiele bardziej złożona, a Rusini stanowili istotny liczebnie segment całej jego populacji. Zarówno wspólne pochodzenie, jak i do pewnego momentu (unia brzeska 1596 roku) ta sama prawosławna religia łączyły przedstawicieli nacji ruskiej z jej moskiewskimi pobratymcami. I – jak się okazało – więzy te miały swoje i historyczne, i całkiem polityczne znaczenie, czego symbolem stała się Rada Perejasławska 1654 roku wraz z jej następstwami. Niewątpliwie za sukcesem Rosji stała także geopolityka. Osadzenie państwa moskiewskiego na peryferiach naszego kontynentu spowolniło jego wejście w sferę oddziaływania ówczesnych europejskich centrów cywilizacyjnych. Zachodni i południowi sąsiedzi monarchii moskiewskich Rurykowiczów początkowo traktowali ją jak teren swojej potencjalnej ekspansji, jednakże od końca XV wieku musieli przyjąć do wiadomości, że Wielkie Księstwo Mo- Wprowadzenie skiewskie staje się regionalną potęgą, z której potencjałem należy się liczyć i która coraz bardziej pragnie kształtować sytuację w Europie Wschodniej według własnych pojęć i dążeń. Oczywiste jest, że w chwilach jej kryzysu możliwe były ofensywne wobec Moskwy działania czy to Szwecji, budującej swoje własne nadbałtyckie imperium, czy Rzeczypospolitej, pragnącej odzyskać utracone w początkach XVI wieku tereny, czy też wreszcie krymskich Tatarów, żyjących złudzeniami z czasów, kiedy­ książęta ruscy zmuszeni byli przekazywać im cenne dary, będące symbolem zależności z okresu rządów mongolskich. Jednakże już od połowy XVII wieku dla wielu obserwatorów wzrastającej potęgi stało się jasne, że Rosja pod rządami nowej dynastii Romanowów jest stałym elementem porządku na styku Europy i Azji i że to jej wpływ na otaczające ją państwa staje się coraz bardziej widoczny. Z jednym wszakże wyjątkiem: na wschód od Uralu znajdowała się przestrzeń będąca – jak się wówczas wydawało – swoistą próżnią polityczną. Zamieszkana była – wyłączywszy Zachodnią Syberię – przez ludy i narody tworzące dopiero zręby bardziej złożonych organizmów społecznych, dalekie od zbudowania instytucji państwa. Przestrzeń tę, obejmującą w szczególności Syberię Środkową i Wschodnią oraz Daleki Wschód, tworzyły miliony kilometrów kwadratowych. Stanowiła ona swoiste wyzwanie dla krzepnącej państwowości rosyjskiej, która szukała nowych terenów do ekspansji. Po upadku Chanatu Syberyjskiego nic – poza przyrodą, warunkami klimatycznymi i samą geografią – nie ograniczało Rosji w tym swoistym międzykontynentalnym Drang nach Osten, zakończonym dopiero na wybrzeżu północnoamerykańskiej Zatoki Kalifornijskiej. Żadne z państw europejskich nie miało takich możliwości ekspansji w swym bliższym i dalszym sąsiedztwie. Oczywiście dla kilku z nich (monarchie Habsburgów, Hohenzollernów i po części także Romanowów) takim substytutem stała się m.in. europejska część Imperium Osmańskiego i Rzeczpospolita Wielu Narodów, ale z racji na odmienny rozwój miejscowych społeczności nie dało się trwale zintegrować tych obszarów z metropoliami. Los Rzeczypospolitej dokonany został ostatecznie w końcu wieku XVIII także rosyjskimi rękoma. Hegemonem w tej części świata na długo stało się carskie imperium, umiejętnie wykorzystujące rodzące się możliwości oddziaływania tak na sytuację wewnętrzną swych rywali, jak i na krańce ówczesnego świata. Wprowadzenie Niniejszy tom „Rocznika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” powstał z myślą o przyjrzeniu się z jednej strony problemowi złożonych relacji systemów i społeczności tworzących przestrzeń Rzeczypospolitej Wielu Narodów i Cesarstwa Rosyjskiego, z drugiej zaś fenomenowi tego ostatniego, potrafiącego – mimo niesprzyjających warunków geograficzno-klimatycznych i skomplikowanego dziedzictwa historycznego, owocującego specyficzną strukturą własnej państwowości – powołać do życia kolonialne imperium, istnie­ jące (mimo znaczącej redukcji peryferii po 1991 roku) do dzisiaj. Pierwszego zagadnienia dotyczą trzy artykuły wybitnych rosyjskich historyków – Michaiła Dmitriewa, Dmitrija Stiepanowa i Konstantina Jerusalimskiego. Michaił Dmitriew ukazuje problemy związane z konstrukcją jednego z bardziej interesujących projektów unijnych Europy okresu nowożytnego – zjednoczenia Cerkwi prawosławnej z Kościołem łacińskim, dokonanego w wyniku aktu brzeskiego w październiku 1596 roku w Brześciu Litewskim. Autor traktuje ten fakt jako swego rodzaju nieporozumienie kulturowe, wynikające z wzajemnej nieznajomości obu wspólnot wyznaniowych. Teza ta warta jest poważnej, naukowej dyskusji, tym bardziej że jej twórca to badacz bardzo kompetentny, wybitny specjalista w dziedzinie kwestii wyznaniowych w Europie Środkowo-Wschodniej przełomu średniowiecza i czasów nowożytnych. Konstantin Jerusalimskij w swojej bardzo erudycyjnej pracy skupia się na refleksji dotyczącej kwestii pewnego przewartościowania przeszłości Rusi w kontekście poszukiwania takiej wizji dziejów, którą można zaadaptować na potrzeby własnej wspólnoty politycznej i może po części narodowej. Innymi słowy, zastanawia się, co pozostało z dawnej Rusi i jaki był stosunek współczesnych do tegoż ruskiego dziedzictwa. Dmitrij Stiepanow stawia z kolei problem, na ile wśród ukraińskiej elity drugiej połowy XVII wieku wykształciło się poczucie odrębności, na ile zaś przetrwało przekonanie o wspólnocie, także etnicznej, z szerszą, ruską ekumeną, w tym także i z (wielko)ruskimi mieszkańcami państwa moskiewskiego. Według tegoż badacza, wśród tej warstwy społecznej obecne były obie postawy, zarówno świadomość łączności ze światem panruskim, jak i rodzące się odczucia narodowe, związane z miejscem i kształtującą się nową, polityczną rzeczywistością. 10 Wprowadzenie Te trzy głosy rosyjskich historyków składają się na interesujący dla polskiego czytelnika sposób odczytania procesów religijno-narodowych ogarniających ruskich mieszkańców Rzeczypospolitej Wielu Narodów i Wielkiego Księstwa Moskiewskiego na progu nowożytności, a więc okresu, kiedy silniej zaczęły się zaznaczać tendencje do szukania nowej samoidentyfikacji, w opozycji do istniejących dotychczas wzorców. Z kolei dwaj historycy polscy, Hubert Łaszkiewicz i Andrzej Gil, zwracają uwagę na znaczenie, jakie miały – i nadal mają – wielkie przestrzenie na wschodzie Eurazji dla powstającego rosyjskiego imperium. Hubert Łaszkiewicz zastanawia się nad ceną, jaką za te podboje płaciła Rosja. Nie chodzi tu oczywiście o zwykłe zestawienie zysków i strat w wymiarze materialnym, ale raczej o głęboką refleksję nad tym, czym dla Rosji było jej parcie na wschód i na zachód i co tak naprawdę przyniosło jej wymierne i niewymierne korzyści. Konstatacja badacza może być dla nas trudna do przyjęcia, ale bilans ten jest zdecydowanie bardziej korzystny dla opcji wschodniej. Bez Syberii i Dalekiego Wschodu, bez ponad dwuwiekowej obecności w Ameryce Północnej Rosja nie miałaby tego poczucia wielkości i potęgi, jakie ma dzisiaj. Problem statusu Zachodniej Syberii przed podbojem rosyjskim i podjęcie rozważań nad znajomością tego statusu w ramach tak dyskursu naukowego, jak i bardziej powszechnego odbioru stanowią przedmiot artykułu Andrzeja Gila. Prezentuje on złożone losy tej części Syberii w kontekście istnienia tam własnej, lokalnej państwowości, mającej przede wszystkim tatarskie oblicze etniczne, chociaż niepozbawione udziału innych etnosów, zwłaszcza ugrofińskiego. Organizmy państwowe Tatarów syberyjskich włączone były w system państwowości koczowniczej i półkoczowniczej, charakterystyczny dla końca średniowiecza i początku okresu nowożytnego dla szerokiego pogranicza Europy i Azji. System ten został zniszczony, poczynając od drugiej połowy XVI wieku, przez rosyjską aktywność militarną i polityczną, szukającą swej przyszłości właśnie na tych wielkich przestrzeniach między Uralem a Pacyfikiem, a później aż do władztwa hiszpańskiego na zachodnim wybrzeżu Ameryki Północnej. Obecnie obszar Zachodniej Syberii, zupełnie zrusyfikowany i odarty z jakichkolwiek znamion przeszłości, jest tym regionem, który konstytuuje współczesną potęgę Federacji Rosyjskiej. Bez niego nie byłoby rosyjskiego imperium, i to nie tylko w wymiarze powierzchniowym (tych Wprowadzenie przysłowiowych milionów kilometrów kwadratowych), ale przede wszystkim potencjału surowcowego i energetycznego oraz możliwości wywierania wpływu na gospodarkę Europy i po części – świata. Przedkładając Czytelnikom ten tom „Rocznika”, ufam, że chociaż w niewielkim stopniu spełni on pokładane w nim nadzieje i stanie się dobrym punktem wyjścia do dalszych badań i refleksji tak nad wzajemnym stosunkiem dwóch wielkich przestrzeni kulturowych – Rzeczypospolitej Wielu Narodów i Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, jak i nad swoistością imperium rosyjskiego i jego historycznego dziedzictwa. Andrzej Gil 11 Михаил Дмитриев Брестская церковная уния 1595-96 гг. как конфликт двух экклезиологий и cultural misunderstanding The Church Union of Brest 1595-1596 as a Conflict of Two Ecclesiologies and Cultural Misunderstanding The Church Union of Brest (1595-1596) resulted from sincere aspiration of both, Catholic and Orthodox Churches, to overcome the schism. However, during the preliminary negotiations and in the very moment when the union was proclaimed, it became apparent that two counterparts had very divergent visions of ecclesiology, as we can see from documents and correspondence that have been analysed in this article. These sources revealed a rather acute conflict of two manners to understand ecclesiological aspects of the union to come. This situation might be regarded as a cultural misunderstanding between Catholic and Orthodox traditions too. 1. Введение В настоящей статье представлены – в сжатом виде – некоторые результаты изучения генезиса Брестской церковной унии 1595-1596 гг. Кому-то представленные в ней тезисы покажутся Статья опирается на наши предшествующие публикации: М. В. Дмитриев, Генезис Брестской унии 1596 г., в: Очерки по истории Украины, Москва 1993, c. 46-72; idem, Взгляд православных и взгляд католиков на объединение церквей накануне Брестской унии 1596 г., в: От Древней Руси к России нового времени. Сборник статей к 70-летию Анны Леонидовны Хорошкевич, Мoсква 2003, c. 458-473; idem, L’Union de Brest (1595-1596), les Catholiques, les 16 Михаил Дмитриев тенденциозными (каковыми они никак не являются) и „антиунионными” (что ещё менее верно, так как автора не интересует вопрос, была ли уния благом или злом). Если статья породит дискуссию, автор будет особенно рад и посчитает свою публикацию вдвойне удавшейся. Суть предлагаемых вниманию читателя наблюдений над источниками, отразившими то, как уния понималась её инициаторами в 1595 г., можно свести к двум утверждениям, отраженным и в названии статьи. Во-первых, судя по этим источникам, православные инициаторы унии исходили из экклезиологических представлений, которые кардинально отличались от экклезиологических представлений Римской курии и католического духовенства в целом. Во-вторых, этот конфликт двух экклезиологий был частным выражением более глубоких различий между восточнохристианской и западнохристианской культурами. В этом смысле уния была примером cultural misunderstanding между византийско-православной и католической конфессиональными традициями. Брестской церковной унии 1595-96 гг. посвящена обильная историография, сделать обзор которой в данной краткой статье невозможно. Тем не менее, многое остается неясным в том, как родился и сформировался унионный проект, как шли переговоры, в ходе которых подготавливалась уния, какие обстоятельства сопровождали заключение унии, наконец, даже в том, как именно виделась грядущая уния ее православным инициаторам и их партнерам из католического лагеря. Историками априорно принимается, что обе стороны ясно осознавали, в чем будет заключаться объединение церквей, какими рисками и опасностями сопровождается уния, во имя чего этими опасностями и рисками стоило пренебречь и т. д. Всё это кажется настолько естественным, что обыкновенно не вызывает никаких вопросов. Однако внимательное и критическое, свободное от априорных посылок и конфессиональной предвзятости прочтение источников – особенно тех, которые введены в оборот сравнительно недавOrthodoxes: un malentendu?, в: Stosunki międzywyznaniowe w Europie Środkowej i Wschodniej w XIV-XVII wieku, red. M. Dygo, S. Gawlas, H. Grala, Warszawa 2002, s. 39-60; idem, Между Римом и Царьградом. Генезис Брестской церковной унии 1595-1596 гг. Москва 2003. Такой обзор дан нами, в частности, в нашей книге: ibidem, c. 7-29. Брестская церковная уния 1595-96 гг. как конфликт двух экклезиологий cultural... но (прежде всего корреспонденции папских нунциев и Римской курии) – заставляет поставить под сомнение многие из сложившихся стереотипов. Один из них – мнение, что уния, провозглашенная в Риме 23 декабря 1595 г. и подтвержденная Брестским собором в октябре 1596 г., была результатом достигнутого в ходе переговоров католической и православной стороны взаимопонимания, увенчанного актом унии. Обращение к источникам порождает сомнения относительно справедливости этого тезиса. Эти сомнения и представлены настоящей статье. Как хорошо известно, в 1595 г. подготовка церковной унии в Речи Посполитой вступила в практическую фазу. Значительная часть православного духовенства вступала в этот этап с достаточно определенной готовностью к осуществлению унии, и к середине года были выработаны условия перехода под власть Рима (32 „артикула”); католическая сторона стала в этом году принимать активное участие в осуществлении унионной программы; осенью в Рим отправилось посольство православного духовенства, во главе с Потеем и Терлецким; в декабре 1595 г., под самое Рождество, уния церквей была торжественно провозглашена в Ватикане. Мы кратко рассмотрим на основе 32 „артикулов”, как планируемая уния понималась православной стороной; какую роль „артикулы” сыграли в выработке унионного соглашения; как совершившееся событие понималось в католических кругах. 2. „Articuli ad unionem cum Ecclesia Romana pertinentes” О том, кем были составлены и как были утверждены 32 „артикула”, определявших условия подчинения Киевской митрополии Риму, известно очень немногое. Обычно считается, что это произошло в июне 1595 г. на церковном соборе в Бресте. Однако, судя по сохранившимся документам, это было не так. Оригинальный текст артикулов, подписанных 1 (11) июня, сохранился См.: ibidem, c. 174-177. 17 18 Михаил Дмитриев в архиве Ватикана вместе с обращением к папе от 12 (22) июня 1595 г. Артикулы были составлены по-латыни и по-польски; обращение – по-латыни и на „руськой мове”. Каково же содержание артикулов, подписанных 1 (11) июня 1595 г.? Вопрос этот имеет принципиальное значение и далеко не всегда получал полное (или хотя бы адекватное) отражение в литературе, посвященной Брестской унии. В документе дважды – в преамбуле и в заключительных фразах – подчеркнуто, что „артикулы” должны быть подтверждены папой и королем (или „господами католиками”) прежде чем православные пойдут на унию. Из этого видно, какое огромное значение придавалось православной стороной „артикулам” и сколь решающую роль они должны были, по мысли православных епископов, сыграть в подготовке Брестской унии. „Артикулы” не только суммируют и конкретизируют то, что заявлялось на предварительных переговорах, но и включают в себя важнейшие пункты предлагавшейся на соборах начала 90-х годов XVI в. программы церковных реформ. Не пересказывая содержания отдельных из выдвинутых условий, которые касаются догматических, обрядовых и организационных вопросов, отметим наиболее существенные из мотивов, пронизывающих „артикулы”. Во-первых, догматическая и обрядовая специфика православия должна была быть сохранена едва ли не полностью: спор о филиокве предлагалось разрешить на основе компромиссной формулы Флорентийского собора (исхождение Святого Духа „от Отца через сына”); учение о чистилище должно было быть объяснено православным католической стороной; брак священников и причастие под двумя видами сохранялись; все церковные праздники должны были праздноваться по старому календарю, обряды и церемонии должны были быть сохранены в неприкосновенности (арт. 1-9). В концовке документа содержится важная формула, показывающая, что авторы его различали „веру”, „обряды” („sacramenta”) и „церемонии” и требовали, На существование в ватиканском архиве „руського” текста обращения указывает Г. Гофманн (G. Hofmann, Ruthenica, I, Die Wiedervereinigung der Ruthenen mit Rom, „Orientalia Christiana”, III/2, No. 12, December 1924-Febrearius 1925, s. 139). Ср. интерпретацию О. Халецкого (O. Halecki, From Florence to Brest (1439-1596), Hamden 1968, p. 289). Брестская церковная уния 1595-96 гг. как конфликт двух экклезиологий cultural... чтобы папа и король гарантировали неприкосновенность и первого, и второго, и третьего. Во-вторых, уния должна была обеспечить резкое улучшение сословного статуса духовенства. Речь шла не только от неприкосновенности имеющихся и возвращении отнятых земель, о предоставлении мест в сенате и привилегий, идентичных привилегиям католического духовенства, но и о введении двух православных епископов в трибунал для обеспечения защиты прав православной церкви (арт. 20). Оговаривались права собора в выдвижении кандидатов на епископские и митрополичью кафедры (арт. 10: собор предлагает четырех кандидатов, одного из которых утверждает по своему выбору король). При этом епископы должны были происходить непременно из „русского или грецкого народа” и „нашей религии”. Речь шла и об исключении духовенства, владеющего землями, которые пожалованы шляхтой, из-под всякой судебной юрисдикции последней (арт. 21). Третий важнейший мотив „артикулов” – защита позиций будущей униатской церкви от распространения влияния католицизма на украинско-белорусских землях: переходы из унии в „латинство” должны быть запрещены (арт. 15), браки между „римлянами и Русью” не должны сопровождаться сменой вероисповедания (арт. 16); не должно допускать обращения православных храмов в костелы и следует отремонтировать попорченные церкви (арт. 25); отлученный от униатской церкви не должен приниматься в католическую и наоборот (арт. 30). В-четвертых, речь шла об очень существенном укреплении власти епископов внутри церкви: монашество и монастыри должны оставаться в полной власти епископов (арт. 19); братства, школы, типографии должны находиться под контролем епископата (арт. 27); шляхта не должна препятствовать осуществлению епископских административных и судебных полномочий (арт. 28); все храмы должны быть подконтрольны епископам, в чьих бы владениях они не лежали, а светские люди не могут допускаться к управлению ими (арт. 29). Documenta Unionis Berestensis eiusque auctorum (1590-1600), ed. A. G. Welykyj. Romae, 1970 (далее – DUB), № 41, p. 67 („iakobyśmy upewnieni będąc o wierze, Sakramentach i Ceremoniach naszych”); № 42, p. 74 („quo certi de fide, sacramentis et caerimoniis nostris [...] ad sanctam hanc unionem cum Ecclesia Romana accedamus”). 19 20 Михаил Дмитриев В-пятых, наконец, предполагалось сохранение фактической церковно-административной независимости епископов и митрополитов от Рима, ибо епископы должны бы были посвящаться митрополитом, а митрополит – получать благославление на эту должность от Рима только в том случае, если он выбран не из числа епископов, при том, что полученное благославление должно было бы быть подтверждено еще двумя православными епископами. Как и прежде, уния рассматривалась как соглашение, условия которого должны быть гарантированы не только Римом, но и поль­скими королями. Как мы видим, уния понималась только как перемена верховной церковной юрисдикции. Именно убежденность в том, „что все свое мы в целости сохраняем” должно было послужить ободрением и побуждением к установлению „святого единства” для тех, кто продолжал сомневаться в его достижимости. Очень существенно и то, что артикулы были одновременно и программой реформ внутри православной церкви Речи Посполитой. „Артикулы”, подписанные 1/11 июня, тесно связаны с датированным 12/22 июня сопроводительным обращением митрополита и всех епископов, в том числе Михаила Копыстенского и Гедеона Балабана, выступивших позднее против заключенной унии, к папе. Издатель документов Брестской унии Афанасий Великий считает, что именно обращение от 22 июня „должно быть рассмотрено как важнейший документ всей Брестской унии”. Думается, однако, что этот действительно важнейший документ никак не может быть оторван от „32 артикулов”. Хотя прямого упоминания „артикулов” обращение от 22 июня не содержит, смысл формулировок этого документа раскрывается именно в „артикулах”. Епископы заявляют в нем о желании восстановить существовавшее некогда „согласие и единство” („unio et concordia”), взаимопонимание, консенсус во всех вопросах („consensum in omnibus”) в послушании и под управлени- Ibidem, № 41, p. 67. Ibidem, № 45, p. 80-81. Брестская церковная уния 1595-96 гг. как конфликт двух экклезиологий cultural... ем „Святого Апостольского Римского престола”. Посылаемым в Рим Потию и Терлецкому поручалось принести „престолу Святого Петра” и папе как „высшему пастырю Христовой церкви” должное послушание при условии, что папа и его преемники от своего и своих потомков имени согласится сохранить в неприкосновенности „порядок свершения таинств, обрядов и церемоний”10. Однако наряду с этими словами, на которых обыкновенно сосредотачивается внимание историков, в послании есть и другие: если бы мы получили все „требуемое нами” („omnia petita a nobis”), мы бы желали всегда быть под управлением Вашего Святейшества11. Поскольку одиннадцатью днями раньше были подписаны „32 артикула”, переданные так же, как и обращение от 22 июня, нунцию для отсылки в Рим, под „omnia petita a nobis” нужно понимать не только сохранение обрядов и церемоний, но и всю совокупность выдвинутых требований12. 1 августом подписан ответ Маласпины на предложения епископов13. Поскольку позиция Маласпины пока еще не была согласована с курией, высказывания его весьма уклончивы. Как он сам объяснял, отправляя очередное донесение в Рим и присовокупляя к нему текст „32 артикулов” и копию своего ответа на них, он руководствовался советами, которые были даны участниками правительственного заседания, посвященного инициативе „рутен­ских” епископов14. Как предполагает Оскар Халецкий, участниками этого совещания могли быть канцлеры Замойский и Сапега, католические епископы Львова и Луцка Соликовский и Мацеевский, ближайший советник нунция краковский епископ Ежи Радзивилл, перемышльский латинский епископ Гослицкий один или два теолога, среди которых должен был Ibidem, p. 80. 10 Ibidem, p. 81. 11 Ibidem: „Quae omnia petita a nobis si obtinuerimus, Sanctitati Vestrae cum omnibus successoribus suis nos et successores nostri dicto audientes, subque regimine Sanctitatis Vestrae semper esse volumus”. 12 Cр. интерпретацию Халецкого, который считает возможным опустить в дословном (!) переводе выражение „omnia petita a nobis” и полагает, что в тексте обращения речь идет о требовании сохранить в неприкосновенности именно обряды и церемонии. O. Halecki, From Florence to Brest, p. 289. 13 DUB, № 62, p. 112-113. Копия официального ответа Маласпины на предложения православных была приложена к его донесению в Рим от 4 августа. Ibidem, № 64, p. 117. 14 Ничего иного об этом совещании до сих пор неизвестно. 21 22 Михаил Дмитриев быть Скарга15. В это же время в Кракове проводились совещания высших сановников Речи Посполитой, посвященные вопросу об антитурецкой лиге, но вопрос об унии церквей рассматривался отдельно16. В своем официальном ответе нунций отозвался лишь на те из артикулов, которые относятся к прерогативам папы. Среди последних догматические вопросы, по его мнению, не вызовут никаких трудностей, ибо предложенное епископами „вполне соответствует католической вере”, отвечает решениям Флорентийского собора и потому нет сомнения, что папа будет расположен принять и одобрить предложения православной стороны. Что касается вопросов, подлежащих рассмотрению в Риме, но относящихся к „человеческим делам”, то они будут рассмотрены папой благожелательно. Нет сомнения, что он благосклонно согласится на то, что „не отклоняется от нормы правоверия”. Мала­ спина выразил надежду, что и польское государство, рассмотрев относящиеся к его ведению вопросы, согласится на то, что справедливо и достойно подлинно христианской унии. Нунций же со своей стороны будет просить папу поддержать своим авторитетом правильные решения17. Что касается короля, то первым его официальным ответом была грамота от 30 июля о подтверждении всех прежних прав православного духовенства и предоставление ему тех же свобод и вольностей, какими было уже наделено католическое духовенство18. Двумя днями раньше, 28 июля король разослал приказ в приграничные области не пропускать на территорию Речи Посполитой никаких посланцев от „греческого” духовенства19. 2 августа 1595 г., то есть практически одновременно с нунцием20, Сигизмунд III ответил и на „32 артикула”. Вряд ли можно сомневаться, что их позиции были согласованы. Король обещал свое согласие и поддержку во всем, что касается внутренней жизни 15 16 17 18 O. Halecki, From Florence to Brest, p. 301. Ibidem, p. 300-301. DUB, № 62, p. 112-113. Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографическою Комиссиею, т. 4, 1588-1632, Санкт Петербург 1851, № 78, c. 109-111; DUB, № 57-59, p. 97-103 (латинская, польская и украинско-белорусская копии). 19 Ibidem, № 75, c. 106; DUB, № 54, p. 96. 20 Ibidem, № 63. Брестская церковная уния 1595-96 гг. как конфликт двух экклезиологий cultural... православной церкви и, отчасти, в защите ее имущественных прав (порядок избрания и утверждения епископов, неотчуждаемость церковных владений, право капитула распоряжаться имуществом епископской кафедры, покуда она пустует, власть епископов над братствами, их контроль над школами и типографиями, которые не должны публиковать ничего, „противного костелови повшехному” и во всем должны следовать его, „повшехного костела” рассудку; запрет „общим людям” распоряжаться отдельными храмами). Из ответа короля видна и ясная заинтересованность государства в устрожении церковной дисциплины, порядка и единоначалия; король не только одобряет укрепление власти епископов над низшим духовенством и мирянами, но и обещает издать постановления, которые сделали бы такой порядок незыблемым. Однако решение вопроса о местах в сенате поставлено в зависимость от мнения самих сенаторов и сейма; предоставление равного с католическим духовенством статуса и соответствующих прав и привилегий должно быть обсуждено между православной и католической иерархией прежде, чем будут приняты какие-либо решения; вопрос о включении двух православных епископов в трибунал также поставлен в зависимость от согласия католических иерархов; король готов запретить обращение церквей в костелы в своих владениях, но не во владениях шляхты. Бросается в глаза, что всё это противоречило данному буквально несколькими днями раньше обещанию полностью уравнять в „правах и вольностях” православное и католическое духовенство. Как мы видим, ответ Маласпины ни к чему не обязывал католическую сторону, ибо даже его суждения о предлагаемом решении догматических противоречий подано как мнение частного лица, одного из католиков. С другой стороны, ответ нунция должен был укрепить надежды православных на компромиссное, примирительно-экуменическое преодоление противостояния двух церквей, так как не закрывал ни одного из путей дальнейших дискуссий. Что касается Сигизмунда III, то он готов был поддержать внутрицерковную реформу в том духе, какой соответствовал интересам православного епископата, но – вопреки первоначальной декларации от 30 июля 1595 г. – не обещал твердо ничего из того, что касается укреплений сословных позиций духовенства и ограждения православных от возможного 23 24 Михаил Дмитриев распространения католицизма в восточных землях Речи Посполитой. В то же время, так же, как и письмо нунция, королевский ответ не мешал епископам надеяться на конструктивное и благожелательное восприятие их требований. Хотя уже летом 1595 г. стало очевидно, что подготовка унии породила острый кризис в Киевской митрополии и польское правительство одно время было готово отказаться от предпринятого, в сентябре посольство во главе с Потеем и Терлецким было отправлено в Рим, куда епископы и прибыли 15 ноября 1595 г. Миссия Потия и Терлецкого в Риме – одно из ключевых событий в истории Брестской церковной унии. О ней не раз писали историки21, и тем не менее по-прежнему далеко не всё ясно22. 17 ноября Потий и Терлецкий были приняты Климентом VIII, которому были вручены письма короля „и некоторых сенаторов”23. По словам Потия, папа принял их как „ласковый отец принимает своих детей – с такой же любовью и несказанной ласковостью”. Однако никаких переговоров не состоялось. Климент VIII отказался сразу же говорить о деле, посоветовав епископам отдохнуть с дороги. Такое течение событий, судя по всему, не удовлетворяло епископов. В последующие дни, судя по словам Потия, они „часто просили” об аудиенции и переговорах24. Судя по документам от 22 и 25 ноября состоялась их встреча с кардиналами25. Из римских донесений тоже видно, что они добивались переговоров об унии. Так, записка одного из секретарей курии (от 23 декабря) сообщает, что переговоры, 21 Cр.: A. G. Welykyj, Alle fonti del cattolicesimo ucraino, „Analecta OSBM”, 4 (10), 1963, fasc. 1-2, Miscellanea in honorem Cardinalis Isidori (1463-1963), p. 66-67; A. M. Ammann, Der Aufenthalt der ruthenischen Bischöfe Hypatius Pociej und Cyrillus Terlecki in Rom im Dezember und Januar 15951596, „Orientalia Christiana Periodica“, 11 (1945), p. 103-140; П. Н. Жукович, Сеймовая борьба православного западнорусского дворянства с церковной унией (до 1609 г.), Санкт Петербург 1901, c. 173-176; Макарий (Булгаков), митрополит, История Русской Церкви, кн. 5, Период разделения Русской Церкви на две митрополии. История Западнорусской, или Литовской, митрополии (1458-1596), ред. Б. Н. Флоря, Москва 1996, c. 338-347. 22 М. В. Дмитриев, Посольство Ипатия Потия и Кирилла Терлецкого в Рим в 1595-1596 гг., „Славяноведение”, 1996, № 2, c. 3-21. 23 DUB, № 149, p. 236. Согласно письму Потия и Терлецкого от 29 декабря, епископы были приняты даже дважды („bylismy u Jego Świętobliwości przywitani dwa kroć, listy J K Mości i chmościów Panów niektórych rad Jego Świętobliwości oddaliśmy”). 24 Ibidem. 25 Ibidem, № 126-127, p. 180-181. Брестская церковная уния 1595-96 гг. как конфликт двух экклезиологий cultural... на которых настаивала „та сторона”, не состоялись из-за приступа подагры у папы26. В итоге до переговоров дело так и не дошло, хотя специальная комиссия курии рассматривала предложения, содержавшиеся в артикулах. Но 23 декабря была организована торжественная церемония, которая справедливо рассматривается католическими историками как акт провозглашения унии двух церквей. Центральным моментом всей церемонии 23 декабря 1595 г. стало подписание Потием и Терлецким текста исповедания веры и декларации о подчинении Римским папам, подкрепленное присягой на Евангелии. Католическая сторона придавала этому факту решающее значение. Отметим, что документы были подготовлены не самими епископами, а для них и даже, судя по всему, без всякого их участия. Для подписи были предложены переводы, подготовленные, видимо, приехавшим в Рим с епископами их секретарем и переводчиком Лукой. Терлецкий, в отличие от образованного Потия, латыни не знал. Каково содержание подписанного документа27 и как оно соотносится с предшествовавшими поездке в Рим программными заявлениями православного духовенства и самих Потия и Терлецкого? Исповедание веры и декларация о подчинении Риму подписывались от имени всего духовенства и порученной ему паствы. В документе также было обещано, что идентичные декларации и исповедения будут подписаны митрополитом и другими епископами и скрепленные их печатями будут посланы в Рим. Символ веры, следующий за этой преамбулой, содержал Filioque. За ним следовало разъяснение о том, каков был компромисс в понимании Filioque, достигнутый на Флорентийском соборе. Равным образом признавали возможность употребления опресноков и квасного хлеба в причастии и учение о чистилище. Без каких бы то ни было оговорок признавался примат и полнота церковной власти папы как „викария Христа и главы всей церк- 26 Ibidem, № 138: „L’importuna podagra di Nostro Signore hа sospese le deliberationi che si dovevano accelarare secondo l’egigenza de negotij di coteste parti”. 27 Ibidem, № 143, p. 211-215. 25 26 Михаил Дмитриев ви”. Наконец, епископы объявляли о признании всего, что было постановлено Римской церковью на Тридентском соборе. Эта декларация конкретизировалась в ряде пунктов. Речь шла, в частности, о признании всех постановлений католической церкви, ее непреложного авторитета в толковании Священного Писания, учения о первородном грехе и оправдании в том толковании, какое дано Тридентским собором, об индульгенциях и чистилище. Документ содержит и заявление о принятии католических обрядов в свершении таинств. Все, что противоречило решениям Тридентского собора, отвергалось как схизма и ересь. Произошедшее 23 декабря было подтверждено и закреплено папской буллой „Mаgnus Dominus”28. Таким образом, ни о каком компромиссе, ни о какой унии в собственном смысле слова в документах, подписанных Потием и Терлецким 23 декабря 1595 г., речи не было. Равным образом был обойден молчанием и вопрос о „32 артикулах”. 3. Судьба „32 артикулов” Как отнеслись к артикулам в Ватикане? Это один из загадочных вопросов в предыстории Брестской унии. Известно, что в августе артикулы были переданы в Конгрегацию инквизиции. В ватиканской рукописи, содержавшей копию ответа нунция на артикулы (от 1 августа 1595), имеется запись, что артикулы переданы 30 августа кардиналом Альдобрандини в консисторию. В конце того же тома помещен латинский меморандум о важности унии и ее исторических корнях. Халецкий предполагает, что этот меморандум был прислан Маласпиной вместе с артикулами и копией его ответа на них29. Уже 16 сентября из Рима сообщалось нунцию, что артикулы рассмотрены, но члены конгрегации не выработали пока реше- 28 Ibidem, № 145, p. 217-226. 29 A. G. Welykyj, Alle fonti del cattolicesimo ucraino, p. 67; O. Halecki, From Florence to Brest, p. 301, note 46. Брестская церковная уния 1595-96 гг. как конфликт двух экклезиологий cultural... ния30. Позднее, вплоть до приезда Потия и Терлецкого в Рим, нет никаких следов дальнейшего обсуждения артикулов в Риме. В конце ноября 1595 г. рассмотрение „артикулов” начинается как бы по второму кругу, после того, как они были еще раз представлены Потием и Терлецким вниманию курии. Известно, что конгрегация по греческим делам во главе с кардиналом Санторо дважды, в конце ноября и в начале декабря 1595 г., рассматривала артикулы, что к экспертизе были привлечены некоторые теологи других конгрегаций (а это было делом необычным, „cоsa insolita a farsi”), но довести работу до конца не удалось, и окончательный ответ должен был подготовить кардинал Сфондрато31. Каков был этот ответ, осталось неизвестным. Правда, известны два других мнения, но и они дошли до нас не в оригинальном изложении, а в пересказе третьих лиц. О первом из них мы узнаем из письма, отправленного 16 декабря 1595 г. одним из сотрудников кардинала-секретаря Альдобрандини падуанскому епископу Пинелли, живо интересовавшемуся унией. В этом письме передано содержание отзыва доминиканского теолога Сарагосы на представленные в Рим „артикулы”. Второй отзыв – анонимен, принадлежит перу „некоего” теолога и был опубликован уже в 1613 г. Для понимания общего взгляда католической церковной элиты на унию очень важны оба эти отзыва на „32 артикула”32. Доминиканец Сарагоса прежде всего отверг самое возможность поставить унию в зависимость от каких-либо предварительных условий, ибо объединение с католической церковью есть дело, необходимое для спасения. Поэтому преследование каких-либо иных интересов и выгод должно быть исключено33. Тем не менее, Сарагоса был мнения, что некоторым просьбам можно уступить, другие – следует полностью отвергнуть, некоторые – исполнить в ограниченной мере34. Среди требований, 30 DUB, № 92-93. 31 Ibidem, № 131, 133-134. 32 Ряд мнений об этих отзывах см.: O. Halecki, From Florence to Brest, p. 322-324; G. Hoffman, Ruthenica, p. 130; A. G. Welykyj, Alle fonti del cattolicesimo ucraino, p. 72-73. 33 DUB, № 137, p. 194: „il venir nel gremio della Santa Chiesa [...] atto necessario alla salute; chi chiede per venirvi gratie, et conditioni, non par, che resti pienamente capace per questa necessitа, et procuri la riunione per interesse, e per altri commodi, e con speranze di conseguirli”. 34 Ibidem: „Nel primo, е necessario che si conformino omninemente con la determinatione della Chiesa Latina, e quanto alla sostanza, et quanto alla forma delle parole, non concernendo que- 27 28 Михаил Дмитриев которые следовало отвергнуть, было стоявшее под первым номером условие не принуждать православных к изменению взгляда на филиокве. По мнению Сарагосы, полное согласие с определением латинской церкви – как по сути, так и по форме выражения догмата – было совершенно необходимо для объединения, поскольку этот вопрос затрагивал именно существо вероучения. Не могло быть принято, с его точки зрения, и компромиссное решение вопроса о календаре (6-й арт.). Отвергались также 8 и 18 артикулы (о предпасхальных церемониях и о невмешательстве светских властей в распоряжение выморочными церковными имуществами). Артикулы 2, 3, 10, 12, 13, 19, 20-32 Сарагоса считал возможным принять. В 7-м артикуле (нежелание православных вводить процессии в день праздника Тела Христова) и в 9-м (брак священников) Сарагоса считал возможной лишь временную уступку, надеясь, что со временем униаты примут названный праздник и внимательнее отнесутся к каноническим предписаниям католиков относительно целибата. Говоря о 10-м артикуле (о порядке выбора и назначения новых епископов), Сарагоса считал нужным вести дело к тому, чтобы епископы признали впоследствии всю полноту власти папы в церкви. Экспертиза Сарагосы содержала также некоторые оговорки, касающиеся браков между католиками, предлагала в некоторых случаях ограничивать юрисдикцию епископов над монастырями и иные более мелкие уточнения. Отзываясь о требовании православных запретить после заключения унии греко-католикам переход в латинский обряд, Сарагоса не считал возможным принять его безоговорочно, но предлагал склонить епископов к поиску иных, промежуточных решений35. Таким образом, ответ на артикулы, подготовленный доминиканским теологом, хотя и выражает согласие с некоторыми из требований православной стороны, в целом исходит из совсем других принципов примирения двух церквей, заранее предусматривает возможность подвергнуть ревизии даже некоторые из тех пунктов, какие могут быть приняты в момент подписания sto punto riti o cerimonie, nelle quali sarebbe tolerabile qualche alteratione”. 35 Ibidem, p. 194-197. Брестская церковная уния 1595-96 гг. как конфликт двух экклезиологий cultural... унионного акта, и ставит под сомнение самое идею обусловить унию исполнением каких-либо предварительных требований. Рассмотрим и вторую пространную оценку артикулов католическим теологом, имя которого осталось неизвестно, но сам отзыв об артикулах был впервые опубликован уже в 1613 г.36 Большая часть этого отзыва посвящена вопросу о Filioque. В результате подробного и фундированного рассмотрения вопроса он приходит к выводу, что предложения авторов артикулов грешат против решений Флорентийского собора, Св. Писания, предания, принятых догматов. Они должны яснее сформулировать свои взгляды, привести их в соответствие с решениями Флорентийского собора с тем, чтобы не было риска возмущения со стороны католиков после заключения унии. Что касается песнопений, молитв, литургии, то нет оснований отказывать православным в употреблении сложившихся и разрешенных обрядов, но нужно проверить внимательно их книги на предмет имеющихся заблуждений, особенно те из книг, которые касаются совершения таинств, ибо некоторые из них требуют исправления. В том случае, если православные готовы принять католическое учение о чистилище, нет оснований колебаться в позитивном отклике на соответствующий пункт их требований. Вопрос о календаре невозможно оставить без риска скандала в стороне, ибо если православные не примут нового календаря, они неизбежно будут сильно расходиться с католиками в праздновании Пасхи. Поэтому должен быть рассмотрен вопрос, какие именно из их церемоний могут быть сохранены в неприкосновенности, а серия подвижных праздников должна быть приведена в соответствие с католическим календарем. Автор анонимного отзыва не считает возможным решить без предварительного рассмотрения ни вопрос о празднике Тела Христова, ни об обрядах пасхального богослужения, не соглашаясь, таким образом, с предложением православных сохранить в полной неприкосновенности православную обрядность. Равным образом не готов он принять институт брака священников, считая, что вопрос нужно тщательно изучить. Среди злоупотреблений в этой сфере он видит и само каноническое ус36 Thomas a Jesu, De procuranda salute omnium gentium, Antverpiae 1613, p. 334-345. 29 30 Михаил Дмитриев тановление православия о необходимости состоять в браке для положения в сан. С осторожностью автор подходит даже к вопросу о посещении больных и убогих с целью уделения им причастия, подозревая, что и здесь могут быть злоупотребления. В вопросах, касающихся управления монастырями и храмами, как и в вопросе об отлучении согрешивших от церкви, римский эксперт был готов согласиться с православными, при том, однако, условии, что юрисдикция папы римского ни в чем не будет здесь ущемлена. Только допустимость свободных браков католиков и православных не вызывает с его стороны никаких возражений. В целом мы видим, что позиция автора этого отзыва много более жесткая, чем у Сарагосы. Самое же главное, в ней не заключено никакой склонности к компромиссу, который хотя бы в некоторой степени присущ Сарагосе. Из документов, связанных с римской миссией Потия и Терлецкого не видно, чтобы отзыв Сарагосы и мнение анонимного теолога имели сколько-нибудь существенные последствий для хода унионных переговоров. Как это ни удивительно, но за все месяцы пребывания Потия и Терлецкого в Риме мы не встречаем никаких других откликов на „артикулы”. Равным образом в папских документах, посвященных унии37, в описаниях торжественной церемонии 23 декабря 1595 г. нет упоминаний о поставленных православными условиях. Трудно допустить, что римские архивы не содержат никаких иных следов обсуждения „32 артикулов”. Нужно надеяться, что они будут обнаружены. Но и молчание ватиканских источников весьма красноречиво, ибо оно указывает на характер восприятия унии и ее перспектив в Риме. Так или иначе, хорошо видно, что артикулы так и не стали основой для обсуждения вопроса об унии, поскольку само обсуж- 37 В конституции Климента VIII о заключении унии („Magnus Dominus”, DUB, № 145) упомянуто обращение епископов от 22 июня 1595 г., но не сказано ни слова об „артикулах”, подписанных 11 июня того же года (ibidem, p. 219). Равным образом в некоторых из бреве, подписанных 7 февраля 1596 г., упомянуты „litterae et mandata” (ibidem, № 175, p. 270), „litterae vestrae”, „petitiones et oblationes” (ibidem, № 181, p. 278-279), но нет ни единой обмолвки об „артикулах” даже в бреве, адресованном митрополиту Рагозе и православным епископам (ibidem). Брестская церковная уния 1595-96 гг. как конфликт двух экклезиологий cultural... дение не состоялось и, наверно, не могло состояться. В течение нескольких месяцев пребывания Потия и Терлецкого в Риме события развивались так, будто и не было никаких предварительно посланных и даже рассмотренных условий православной стороны. Постановка вопроса об унии римской стороной исходила, как выяснилось, из совершенно иных посылок, которые, в самом деле, исключали самую возможность предъявления Риму каких бы то ни было условий. Это видно и из того, как именно принимали епископов в Риме и в чем состояли церемонии, знаменовавшие переход православной церкви под юрисдикцию Рима. 4. Что подразумевала под унией католическая сторона? Официальные заявления католической церкви и польского правительства по поводу унии в годы ее подготовки (15901596) позволяли думать, что уния может быть осуществлена в том виде, в каком она задумывалась православной стороной. Без этого поездка Потия и Терлецкого в Рим вряд ли была бы предпринята. Но одно дело официальные документы, другое – внутренняя переписка деятелей католического лагеря друг с другом. Она позволяет понять, как понималась уния католическим лагерем и какова была мера готовности католиков к компромиссу с православной церковью. Предназначенные для „служебного пользования” документы хороши не только тем, что они достаточно адекватно передают саму манеру понимать унию, но и употребляют характерную терминологию, которая отражает самые устойчивые и глубинные католические представления о православных и унии с ними. Львовский архиепископ Соликовский сообщал Маласпине 17 февраля 1595 г., что предварительные переговоры об унии завершены и что Терлецкий вскоре прибудет в Краков с тем, чтобы, вооружившись письмами нунция и короля, отправиться дальше в Рим. Цель предстоящей поездки – провозглашение послушания папе Римскому, отказ от послушания патриарху и подчинение во 31 32 Михаил Дмитриев всем власти Рима38. Трудно допустить, что Соликовский искренно заблуждался относительно намерений православных; но как бы то ни было, он выразил то, что ожидалось от унии польской стороной. В письме к кардиналу Альдобрандини в Рим, сообщая о поездке Потия и Терлецкого в Рим, он называет ее единственной целью „выражение послушания” папскому престолу39. Аналогичное пренебрежение к условиям, выставляемым православными и убежденность в том, что уния не может быть ничем, кроме выражения безоговорочного послушания папе, видны из многих других высказываний католиков тех месяцев. Cтароста троцкий Радзивилл Cиротка, например, в сентябре 1595 г. в письме к папе уверял, что речь идет о намерении православных отдаться во власть Рима40. Из донесения нунция в Рим от 10 февраля 1595 ясно видно, что и у него, равно как и у высшего польского духовенства не было никаких иллюзий относительно намерений православных: он доносил в Рим, что православные в самом деле готовы объединиться с Римской церковью, но при этом желают быть непременно кооптированными в сенат и сохранить свою религию („conservati nella loro religione”), допуская изменения только по воле понтифика41. Готов ли был нунций, а вместе с ним и Рим всерьез отнестись к такой постановке вопроса? Чтение корреспонденции убеждает в обратном – в том числе и прочтение этого документа: нунций призывает действовать предельно осторожно (то есть не объявлять подлинных представлений курии о возможной унии), „так чтобы еретики, раскрываясь в своем легкомыслии, не обнаружили бы во мне излишней легковерности”42. Оба ключевых слова, употребленных нунцием – „еретики” (а не рутены, не греки, даже не схизматики!) и „легкомыслие” убеждают, что участники предунионных переговоров не отдавали себе отчета в глубине различий в православном и католическом понимании подготавливаемой унии. 38 Ibidem, № 27, p. 49: „obedientiae praestandae causa, se per omnia subdentes potestati suae Sanctitatis, et renunciantes suo patriarchae”. 39 Ibidem, № 94, p. 148. 40 Ibidem, № 89. 41 Ibidem, № 24. 42 Ibidem, p. 46. Брестская церковная уния 1595-96 гг. как конфликт двух экклезиологий cultural... С самого начала была выработана линия не на унию как таковую, а на фактическое поглощение украинско-белорусского православия римско-католической церковью. Эта установка нашла однозначное выражение в инструкции (11 марта 1595 г.), которой Ватикан ответил на сообщение нунция Маласпины о переговорах с Кириллом Терлецким: курия надеялась увидеть это предприятие „законченным таким образом, который в наибольшей степени желателен для единства и единообразия церкви”43. Слово „единообразие” здесь совершенно не случайно. Оно в большей степени, чем какие-либо другие понятия, выражает взгляд Рима и польского католического духовенства на приближающуюся унию. При получении сведений о грядущем прибытии православной делегации в Рим, в Ватикане не возникало сомнений, что цель православных – „во всем и полностью соединиться с римской церковью”44. Маласпина характеризовал позицию Терлецкого и Потия перед их путешествием в Рим: греческие епископы пишут, что в назначенное время явятся в Рим, „полные решимости делать то, что им будет предписано ради служения их душам и душам паствы, которая им препоручена”45. А в письме Маласпины, рекомендующем Потия и Терлецкого кардиналу Альдобрандини от 25 сентября 1595 г. говорится, что Бог просветил епископов, позволил им понять прежние заблуждения, в которых они пребывали столько лет, и побудил их обратиться к папе как единственному викарию на земле46, хотя на самом деле епископы ехали в Рим не для покаяния, а для переговоров. Характерно, что во внутренней переписке католиков не проявлялось ни малейшего беспокойства по поводу условий, которые предъявлялись или могли быть предъявлены православными. А ведь православные епископы с самого начала сопровождали свои декларации о готовности пойти на унию рядом предварительных условий, и об этом было хорошо известно и нунциям, и папским сотрудникам. Предыстория Брестского собора пока- 43 Ibidem, № 30, p. 51: „nel modo che piu si desidera per la unione et uniformitа della Chiesa”. 44 Ibidem, № 67, p. 119: „unirsi in tutto et per tutto con la chiesa romana”. 45 Ibidem, № 37, p. 59: „resignati di voler far cio, che li sara ordinato per servitio dell’anime loro, et del grege a loro commesso”. 46 Ibidem, № 99. 33 34 Михаил Дмитриев зывает, что и католики были прекрасно осведомлены о выдвигаемых православными условиях и об уверенности православных, что их требования встретят серьезное и уважительное отношение47. Этого не случилось. В течение нескольких месяцев пребывания Потия и Терлецкого в Риме присланные православной стороной требования, как мы видели, так и не стали ни разу предметом обсуждения с православными епископами. Равным образом польский двор и епископат, вопреки официальным декларациям, не придавали серьезного значения выдвинутым православными условиям. Это видно, в частности, из реляции нунция Маласпины о совещании высших государственных и церковных сановников в Кракове в сентябре 1595 г., когда решался вопрос – ехать или не ехать Потию и Терлецкому в Рим. Характер восприятия унии в Риме и католическими кругами отчетливо отражен в употреблявшихся авторами римской документации понятиях: заключение унии воспринимается как „возвращение к римской католической вере”48, как „примирение рутенских епископов с латинской церковью”49, как „подчинение римскому понтифику”50. Важно заметить, что мы имеем дело, судя по всему не с политическим лицемерием или какой-то нарочитой линией в отношениях с православными, а с определенной априорной установкой конфессионального мышления. Это видно хотя бы из того, что римская администрация, рассылая по городам следования в Рим Потия и Терлецкого соответствующие предуведомления, исходила из посылки, что православные епископы едут в Рим не для переговоров о возможной унии, а только для того, чтобы признать власть и ав- 47 Характерно, что в универсале о созыве собора в Бресте Сигизмунд III вынужден был пойти на открытую ложь, говоря о результатах визита Потия и Терлецкого в Рим: „Skąd nic nowego, i zbawieniu waszemu przeciwnego, a na koniec od ceremonii waszych cerkiewnych zwykłych nic różnego uprzejmościom i wiernościom waszym nie przynoszą. Ale według dawnej nauki Ojców świętych greckich, których imiona uprzejmości i wierności wasze wielbicie i dni święcicie i wszystko według świętych Soborów apostolskich wyroków wam cale zachowano”. Ibidem, № 214, p. 310-311. 48 Ibidem, № 264, p. 413 (25 января 1597 г.). 49 Ibidem, № 248, p. 388 (11 декабря 1596 г.): „la reconcilatione delli Vescovi Ruteni con la chiesa latina”. 50 Ibidem, № 247, p. 387: „soggetatione al Pontifice Romano”. Брестская церковная уния 1595-96 гг. как конфликт двух экклезиологий cultural... торитет Рима и выразить папе надлежащее повиновение51. Хотя сам термин уния тоже иногда употребляется – идея унии как таковой, то есть некоего хотя бы относительно равноправного союза двух церквей, совершенно чужда источникам католического происхождения. Уния не мыслится ими иначе как принятие именно католической религии, вхождение в состав католической церкви, подчинение без оговорок власти папского Рима. С абсолютной прозрачностью это показывает терминология 16 папских бреве, подписанных 7 февраля 1596 г. и обращенных к различным влиятельным лицам Речи Посполитой. В них объявлялось о заключенной унии и выражалась надежда, что папские адресаты поддержат украинско-белорусских епископов в их стремлении обеспечить прочные гарантии унии и, что особенно существенно, их желание занять кресла сенаторов Речи Посполитой наряду с католическими епископами. Что же касается того, как представлялась в этих документах провозглашенная уния, то три мотива пронизывают все шестнадцать документов: во-первых, епископы заявили о своем послушании папе римскому и признали без каких-либо ограничивающих условий его власть над униатской церковью; во-вторых, епископы от имени украинско-белорусской церкви признали католическое исповедание веры; в-третьих, они отреклись от прежних „заблуждений” и „ересей”, вернулись в лоно подлинной церкви. Особенно важно бреве, обращенное киевскому митрополиту Рагозе. Оно, в отличие об бреве, направленных католикам, не могло не содержать аллюзий, касающихся требований, привезенных в Рим Потием и Терлецким, и не быть несколько осторожнее в описании того статуса, который отныне украинско-белорусская церковь должна была занять в христианском мире. Но даже в этом тексте курия без сомнений употребила понятие „обращение”52, которое, строго говоря, приложимо к переходу в „истинную” веру или „еретиков” (например, протестантов), или язычников. И в этом отношении бреве было вполне последовательно: в нем заявля- 51 Ibidem, № 82, p. 129: „alcuni Vescovi Rhuteni giа scismatici vengono in Roma [...] a riconescere la Chiesa Apostolica et Romana, et rendere a Sua Beatitudine la debita obedienza”. 52 Ibidem, № 181, p. 278: „propter conversionem vestram ad hanc vestram matrem carissimam sanctam Romanam Ecclesiam”. Другие случаи употребления термина „conversio”: ibidem, p. 281 (бреве Рагозе); № 183, p. 284 (бреве Мацеевскому). 35 36 Михаил Дмитриев лось, что прибывшие в Рим епископы от имени всего духовенства признали католическое исповедание веры и отреклись от расколов, заблуждений и ересей, которые отделяли православие от Римской церкви53. Что же касается условий, выставленных православным духовенством перед заключением унии, то они поминаются очень глухо, а их содержание в одном случае передается неадекватно54, а в другом – просто замалчивается55. Уния, как и в других случаях, понимается как безоговорочное подчинение власти Рима, которому приносится присяга „вечного послушания”56, а местный собор православной церкви должен, по мысли и требованию бреве, присоединиться публично к католическому исповеданию веры и подтвердить все, что было провозглашено от имени православного духовенства в Риме57. C еще большей однозначностью та же самая позиция выражена в бреве, обращенных к королю и виднейшим сановникам Речи Посполитой: в них речь идет о том, что епископы заявили о „должном послушании” папе, признали католическое исповедание веры, отреклись от старых заблуждений и ересей58. Харак­терно при этом, что даже тогда, когда говорится не только о подчинении православной церкви Риму, но и об унии, то употребляется понятие „unitas”, то есть „единство”, а не „unio” („союз”, „объединение”)59. 53 Ibidem, p. 279: „iidem Episcopi duo catholicae fidei professionem de scripto fecerunt, tam suo quam vestro nomine omnesque haereses, et schismata, et errores detestati sunt, et eos praesertim, qui vos hactenus a Sancta Romana Catholica Ecclesia separarunt”. 54 Потий и Терлецкий: „litteras vestras nobis reddiderunt, quibus significatis, cupere vos vehementer corpori Christi, quod est Ecclesia Catholica, adglutinari, et ad nostram, et Romanae Eccle­siae communionem admitti, quemadmodum olim miores [так в публикации – М. Д.] vestri in sacra generali synodo Florentina admissi sunt”. Ibidem, p. 278-279. 55 Ibidem, p. 279: „Quare petitionibus, et oblationibus vestris consideratis, quas iidem Episcopi, et procuratores vestri detulerunt, et omnibus gravi, et prudenti consultatione examinatis, et deliberatis...statuimus vos, et clerum, populumque vestrum intra Ecclesiae Catholicae gremium recipere”. 56 Терлецкий и Потий: „sanctae huic Apostolicae Sedi perpetuam obedientiam praestiterunt”. Ibidem. 57 Ibidem, p. 280-281. 58 См., например: „omnes haereses, et schismata detestati sunt, et fidei catholicae professionem rite fecerunt, et nobis [...] veram obedientiam praestiterunt”. Ibidem, № 174, p. 269. См. аналогичные формулировки: ibidem, № 171, p. 265-266; № 172, p. 267; № 173, p. 268; № 175, p. 271; № 176, p. 271-272; № 178, p. 274 и т. д. 59 См., например, формулировку в бреве львовскому архиепископу Соликовскому: „ipsos praesentes, quam caeteros, a quibus missi sunt, absentes ad communionem et unitatem Ecc- Брестская церковная уния 1595-96 гг. как конфликт двух экклезиологий cultural... Отметим еще одну существенную деталь в том, как папство трактовало заключенную унию. Во всех обращениях папы к рождавшемуся униатскому духовенству тон и терминология дискурса об унии оказываются даже еще более жесткими, чем при обращении к польским иерархам и сановникам. Так, в бреве от 23 февраля 1596 г., в котором папы предоставляли униатским митрополитам право назначать епископов, не только снова упоминаются „ереси”, от которых отрекается перешедшая под власть папы церковь60, но и наряду с понятием „послушание” вводится понятие „подчинение”, которое отныне и навсегда связывает униатов с Римской курией61. Аналогичные формулы и настойчивое упоминание прежних ересей присутствуют в ряде других бреве, направленных Потию и Терлецкому62. Даже тогда, когда раскол православного общества Речи Посполитой стал необратимым, папа в письме к польским католическим епископам от 18 января 1597 г. утверждал, что бывшие православные епископы по сути обратились в католицизм, произнеся католическое исповедание веры и объявив о полном послушании папству63. Никакой грани между унией и католицизмом, как мы видим, не проводилось. В документах, изданных Сигизмундом III, мы не найдем столь же подробной и отчетливой терминологии, касающейся заключенной унии. Но по существу король совершенно солидарен с Римом в оценке совершенного. Сохранение православными своей обрядности представлено как единственное и сполна удовлетворенное папой требование православных64, а провозглашенная в Бресте уния расценивается как выражение подчинения папе и „слияния и соединения” с римской церковью65. 60 61 62 63 64 65 lesiae Catholicae admissimus”. Ibidem, № 182, p. 282; в бреве великому канцлеру Литовскому Сапеге: „Metropilitanum et Episcopos ruthenos, cum clero, et populo ad commuinionem nostram, et unitatem Ecclesiae Catholicae recepimus”. Ibidem, № 177, p. 273, и др. Ibidem, № 193, p. 292: „omnes suos et ipsorum errores, haereses et schismata damnaverint”. Ibidem: „nobisque et Apost. Sedi debitam obedientiam et subiectionem praesiterint et perpetuo praestare promiserint”. Ibidem, № 194-196, p. 295, 297-298. Ibidem, № 262: „fidei catholicae professionem fecisse” и „veram obedientiam detulisse”. Ibidem, № 214 (29 мая 1595 г.), № 215 (14 июля 1595 г.), p. 310-313. Ibidem, № 249-250 (15 декабря 1595 г.). 37 38 Михаил Дмитриев Не следует также забывать, что Брестская уния рассматривалась лишь как этап на пути дальнейшего распространения власти Рима в православном мире, хотя в историографии часто подчеркивается, что после визита Поссевино в Москву римская курия по его совету отставила планы „универсальной унии” и решила ограничиться вовлечением под власть пап только украинско-белорусской православной церкви. На самом деле локальная уния рассматривалась не как самоцель, но и как путь к возможному расширению унионного союза за счет привлечения в унию и России. Эта идея неоднократно высказывается в неофициальной и полуофициальной католической документации времен Брестского собора. Уже в ходе подготовки путешествия Терлецкого и Потия в Рим перспектива приобщения к унии России приобретает конкретные очертания в глазах католических лидеров. Маласпина в донесении от 23 февраля 1595 года писал, что, если план унии с украинско-белорусскими православными осуществится, есть надежда, что и „Московия последует их примеру ”66. 14 сентября того же года Николай Радзивилл, староста виленский и трокский, в послании папе выражал надежду, что подготавливаемая уния станет толчком к тому, что уже во время понтификата Климента VIII весь мир припадет к ногам преемников апостола Петра67. Надежда на то, что пример рутенов побудит и других православных „выйти из темноты” и присоединиться к унии, выражалась и в речи папского секретаря Антониани во время торжественной церемонии 23 декабря 1595 г. в Ватикане68. В послании Климента VIII Cигизмунду III от 30 декабря 1595 г. после описания церемонии 23 декабря выражалась надежда, что и другие православные последуют примеру украинско-белорусских епископов69. Миссия Комуловича предполагала, что вопрос „об унии Рутенов с Римом” будет поднят и в Москве70. По мне- 66 Ibidem, № 29, p. 51. 67 Ibidem, № 89, p. 141: „sub pontificatu Sanctitatis Vestrae totus orbis unanimiter ad pedes eiusdem provolvatur”. 68 Ibidem, № 153, p. 241: „l’esempio della loro fede fusse anco per provocare altri della salutare emulatione acciochи et essi, scacciatte le tenebre, cercassero la luce, seguitassero l’Unione e pace et fiat unum ovile et unus pastor”. 69 Ibidem, № 154, p. 243. 70 Ibidem, № 213 (донесение нунция из Варшавы в Рим от 27 мая 1596 г.). Другой пример идеи расширения унии на Россию, ibidem, № 216, p. 316. Брестская церковная уния 1595-96 гг. как конфликт двух экклезиологий cultural... нию польских иезуитов, уния в Белоруссии должна была проложить дорогу распространению унии и на Москву71. То, что все эти высказывания не были случайными обмолвками или беспочвенными мечтаниями видно из анонимного католического сочинения о русских и рутенах, написанного еще до Брестского собора, в 1595 г. Автор этого небольшого трактата рассуждает о возможности распространить унионное движение из „Рутении” на другие православные страны, прежде всего на Москву и „Грецию”, а греков, живущих в славянских странах использовать как агентов такого сближения72. Возвращаясь к поставленным в начале статьи вопросам, мы можем констатировать, что представления православной стороны о том, на каких условиях должна была быть заключена уния, не были взяты во внимание во время провозглашения унии в декабре 1595 г. Соответственно, судя по известным к сегодняшнему дню источникам, „32 артикула” никакого существенного влияния на характер провозглашенной унии не ока­зали. Представления об унии, зафиксированные в „32 артикулах”, остро­ противоречили тому, как уния понималась католической стороной. Видимо, именно поэтому артикулы не были приняты во внимание. В целом, как показывают наши источники, католики и православные смотрели на унию с двух кардинально разных точек зрения. Провозглашенная в 1595 г. в Риме уния не была результатом взаимопонимания двух сторон. Более того, ничто из того, что находим в сопровождавших подготовку унии источниках, не мешает увидеть в событиях 1595-1596 годов конфликт двух фундаментально различных экклезиологий73 и своего рода cultural misunderstanding. 71 Я. Н. Мараш, Идеологическая экспансия католической церкви в Белоруссии и Литве во второй половине XVI в., в: Актуальные вопросы научного атеизма и истории религии, Гродно 1985, c. 53-54. 72 DUB, № 160. 73 Схожее мнение высказывает о. В. Боровой (Protoprezb. W. Borowoj, Odrzucenie unii brzeskiej przez Prawosławie – przyczyny dogmatyczne i historyczne, в: Unia Brzeska z perspektywy czterech stuleci. Materiały międzynarodowego sympozjum naukowego Unia Brzeska po czterech stuleciach, Lublin 20-21 IX 1995 r., red. J. S. Gajek MIC, ks. S. Nabywaniec, Lublin 1998, s. 71-72). 39 Константин Ерусалимский Родословное древо или Пальма тирании: переоценки прошлого Русской земли в России и Речи Посполитой XVI века Genealogical Tree or the Palm of Tyranny: Redefinition of the Past of the Ruthenian Lands in Russia and the Commonwealth in the 16th Century The contest for the legacy of the Russian land between the Muscovite Russian state and the Polish-Lithuanian Commonwealth in the 16th century is described as restructuring and resematisation of terms of territorial demarcations in historical texts, diplomatic ceremonies and wars. In order to construct a “Russian land” the European, Muscovite, Polish and Lithuanian intellectuals sought to accommodate opinions on what it was and what it is. Their own opinions not only strongly diverged, but in many respects were mutually incompatible. The images of Russian land represent strategies of authoritative appropriation of East-European historical memory and its social and cultural uses. 1. Русская земля: Проблема ментальных демаркаций Наши знания об исторической культуре московского общества XVI в. расширились благодаря серии историко-историографических и источниковедческих исследований, посвященных, прежде всего, письменным памятникам. Вместе с тем нельзя Комплекс сочинений о „Третьем Риме” рассматривался в кн.: Н. В. Синицына, Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV-XVI вв.), Москва 1998. Тщательно 42 Константин Ерусалимский оставить без внимания как контексты формирования исторических представлений, так и контексты их бытования, а также значительно более сложный и слабо изученный вопрос о том, насколько сами эти контексты были историзированы и реформировались за счет проникновения в них интерпретаций прошлого. Это заставляет нас обратиться к конъюнктуре „средней длительности” – историографическим событиям, которые остаются за кадром в исследованиях отдельных памятников, но не сводятся к процессам „большой длительности”, таким как построение предыстории самодержавия, легитимация власти, контроль над „государевой отчиной”, доминирование над спорными землями, торжество московского православия над расколом, ересями и иными конфессиями. Более объемного понимания историографических процессов в России позволяет достичь их восприятие в Польско-Литовском государстве, где также обсуждалось прошлое Руси, Московского государства, коронных и литовских русских земель и были известны некоторые тексты, читавшиеся в России и влиявшие на самосознание московских „русских”. Если бы для создания империи в восточной Европе XVI в. было достаточно реформировать структуры исторической ментальности, Российское государство заняло бы место, отведенное в христианском мире того времени только для Священной Римской империи. Прежде всего, ресурсом для конструирования имперской идентичности в России были европейские модели. Впрочем, византийское имперское „наследство” было востребовано в Московском государстве лишь в той мере, в ко- и многосторонне изучалась Степенная книга: А. В. Сиренов, Степенная книга: история текста, Москва 2007; А. С. Усачев, Степенная книга и древнерусская книжность времени митрополита Макария, Москва–Санкт Петербург 2009; Степенная книга царского родословия по древнейшим спискам: Тексты и коммент., в 3 т., отв. ред. Н. Н. Покровский, Г. Д. Ленхофф, Москва 2007-2008, т. 1-2. Исследования о Лицевом летописном своде: А. А. Амосов, Лицевой летописный свод Ивана Грозного. Комплексное кодикологическое исследование, Москва 1998; В. В. Морозов, Лицевой свод в контексте отечественного летописания XVI века, Москва 2005. Новый летописец изучен в текстологическом ракурсе: В. Г. Вовина-Лебедева, Новый летописец: История текста, Санкт Петербург 2004. Дискуссия об общем и особенном в книжном „фонде” русских земель России и Речи Посполитой: „Белоруссия и Украина: История и культура. Ежегодник 2003”, Москва 2003, c. 7‑128. Родословное древо или Пальма тирании: переоценки прошлого Русской земли... торой государство себе это место обустраивало, западные соседи служили в его имперском строительстве подспорьем для обоснования более высокого положения России по сравнению с государствами с королевским и княжеским суверенитетом, а израильская линия не имела пересечений с „реальной политикой” и, главным образом, снабжала российское самосознание высокой книжной риторикой „монументального историзма” и утопической образностью „Града Небесного”. Татарская историческая культура и вовсе не была востребована, если не считать прагматической дипломатии и посольской документации, в которых, впрочем, исследователи подозревают преднамеренное damnatio memoriae – недопущение сюжетов, относящихся к внутренней истории и культуре ордынских государств. В многообразии источников имперского самосознания проявилась тенденция к абсорбированию локальных исторических традиций, облегчавшемуся благодаря идее о переносе земли или ее сакральных атрибутов. Переход от интеллектуального осво- Критический пересмотр византийских заимствований в российской культуре состоялся в различных исследовательских контекстах: В. И. Савва, Московские цари и византийские василевсы: К вопросу о влиянии Византии на образование идеи царской власти московских государей, Харьков 1901; I. Ševčenko, A Neglected Byzantine Source of Muscovite Political Ideology, в: idem, Byzantium and the Slavs in Letters and Culture, Cambridge, Mass 1991, p. 49‑87; Б. А. Успенский, Царь и патриарх: харизма власти в России (Византийская модель и ее русское переосмысление), Москва 1998. Продолжение Византийской империи в России, несмотря на популярность „Второго Константинополя” и „Третьего Рима”, прямо не декларировалось, великие князья Московские – по меньшей мере, Иван III и Иван IV – отказывались от предложений Рима признать преемственность Москвы от Царьграда в обмен на сближение с католицимом, а принятые за основу Сказания о князьях владимирских родство Владимира Святославича и Владимира Мономаха с византийскими императорами и легенда о передаче инсигний царской власти на Русь были рассчитаны на „внутреннее потребление” и не были признаны ни в Константинополе, ни в Риме в качестве аргументов в пользу translatio imperii. C. J. Halperin, Russia and the Golden Horde. The Mongol Impact on Medieval Russian History, Bloomington 1985. Никакого „общего прошлого” русских земель и татарских орд нет в крымских и нагайских книгах. Трудно сказать, насколько интересными были в этой связи книги посольских сношений с Астраханью и Казанью – от них ничего до наших дней не сохранилось. Исторические экскурсы летописных рассказов об отношениях России с Астраханским и Казанским ханствами открывают лишь перспективу „нашей” истории, временно сопряженной с пришлыми и чуждыми ей народами (А. Г. Бахтин, XV-XVI века в истории Марийского края, Йошкар-Ола 1998; И. В. Зайцев, Астраханское ханство, Москва 2004). „Забвение” в Москве прав Чингизидов на поволжские земли проявилось, например, в определении „болгарский”, включенном в титул великих князей московских (см. также статьи И. Гилязова и И. Таймасова в кн.: Die Geschichte Russlands im 16. und 17. Jahrhundert aus der Perspektive seiner Regionen, hrsg. A. Kappeler, Wiesbaden 2004). 43 44 Константин Ерусалимский ения к географическому подчинению соседних территорий не был явлен в открытом дискурсе российской власти, и все попытки дезавуировать подобные намерения встречались отрицанием с ее стороны. Принимая имперские эмблемы и инсигнии, социальные идеалы и представления об отношении власти и общества, невозможно было надеяться на подчинение России, например, османских владений или европейских территорий, признававших власть императора. С другой стороны, освоение имперских моделей происходило одновременно с фабрикацией сравнительно малых легенд, решавших практические задачи подчинения соседних территорий посредством исторической легитимации. Сложным феноменом восточноевропейской исторической культуры раннего нового времени была „Русская земля”, „Русь”, „Русия”, „Русиа”, „Руссия”, „Россия” и т. д. Этот образ оживлял в памяти польско-литовских и московских „русских” множество исторических сцен, героев и событий на „своих” территориях, даже если границы „своего” были далеки от определенности. И вместе с тем, на пути его восприятия возникали препятствия, как только требовалось увидеть это „свое” как единство ментального образа и его актуального политико-культурного и территориального наполнения. Для человека XVI в. преодоление подобных препятствий не было семантической задачей, и видимо, создавая непротиворечивую модель „Руси”, или обозначая противоречия как умопостижимое для другой культуры ее „семан­ тическое поле”, или указывая на ошибки рациональной либо претендующей на рациональность модели, мы должны были бы навязать модерную „интерпретацию” и постмодерную „деконструкцию” людям того времени. Между тем, в случае „Руси” мы сталкиваемся с крайне запутанной проблемой. Во-первых­, у нас Различия между этими понятиями требуют многостороннего анализа контекстов. Здесь мы исходим из предположения о том, что комплекс проблем, представленный нами ниже, в равной мере должен был затронуть семантику всех этих понятий, всего, что имело отношение к „русскому” в историческом континууме и в памяти людей. См. также статью и дискуссию: К. Ю. Ерусалимский, Понятия «народ», «Росиа», «Руская земля» и социальные дискурсы Московской Руси конца XV-XVII в., „Религиозные и этнические традиции в формировании национальных идентичностей в Европе. Средние века-Новое время”, Москва 2008, с. 137-179 (англ. версия этого текста: K. Erusalimsky, The Notion of People in Medieval and Early-Modern Russia, „Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne”, 2011/2, vol. 3, p. 9-34). Родословное древо или Пальма тирании: переоценки прошлого Русской земли... мало данных, чтобы понять, как именно люди XVI в. читали и понимали это понятие применительно к прошлым эпохам: в нашем распоряжении много списков древних летописных текстов, скопированных в XV-XVI вв., однако чрезвычайно мало следов их чтения. Во-вторых, те „прочтения”, которые свидетельствуют об освоении понятия „Русь”, дают мало для понимания того, как видели читатели древних текстов преемственность и в чем находили новизну своего понимания „Руси”. В-третьих, „Русская земля” определяется в границах сообществ, во многом реорганизованных по сравнению с древнерусскими землями, и нахождение ее на карте требует наложения представлений о древнерусских границах на представления о границах между современными землями, либо наоборот, перенесения актуального состояния „Руси” на реалии древних текстов. В-четвертых, сохраняется в полной мере проблема „кто говорящий”, кому принадлежит демаркация между Русью и не-Русью, в каких исторических обстоятельствах или контекстах и на основании каких доступных этому человеку текстов создано высказывание. И в‑пятых, на частные прочтения воздействуют подвижки в исторической культуре в целом и в историографических процессах „средней длительности”, а в том числе и то, что „Русская земля” все чаще встречается в общих контекстах с имперскими маркерами „Израиль”, „Рим” и т. п. Можно ожидать, что переосмысления „Русской земли” в российской историографии должны были отразить устройство местного исторического сознания и исторической памяти. По всей видимости, обращение к европейским историографическим новациям было в России XVI в. минимальным. Категории „искус­ства” (ars), „метода” (methodus), „пользы” (utilitas) истории не находят аналогов в российской исторической культуре, одновременной европейскому Возрождению. Это заметно также по ничтожности полемической энергии, что аномально для любой историографической традиции каждой из крупных европейских стран того времени. К примеру, редкая внутри московской исторической артели дискуссия – в рукописной традиции Сказания о князьях владимирских – о происхождении литовских князей была всего лишь уточнением генеалогической фабрикации в интересах вы A. F. Grabski, Dzieje historiografii, Poznań 2003, s. 190-191. 45 46 Константин Ерусалимский сшей власти с помощью другой фабрикации в интересах той же высшей власти. Дискуссия в ее европейском понимании по этим, явно спорным, вопросам не состоялась или никак не отразилась на нарративных памятниках. В российском контексте не возникло интереса к реинтерпретации этнического происхождении северо-восточных „русских” и окружающих их народов, прав знати перед лицом монархии и превосходства знати над простолюдинами, принципов монархического правления и форм властвования, соотношения чужеземного и отечественного в истории. Масштабные исторические тексты московского происхождения, такие как Русский хронограф, Никоновская летопись, Воскресенская летопись, Летописец начала царства и его продолжатели, Степенная книга, Лицевой летописный свод, Новый летописец, не отражают никакой озабоченности проблемами европейской ренессансной историографии. Более того, исследователя исторических экскурсов московской дипломатии, околодипломатических исторических сочинений и посланий Ивана Грозного всегда гложат сомнения, действительно ли киевская древность в этих памятниках – это историческое прошлое в том виде, как его представляли себе жители Российского государства, и при этом их искренние амбиции и заблуждения об „исконных” правах московских господарей на соседние земли или же это умелый дипломатический блеф, заставляющий врага ожидать удара со всех сторон – от Ливонии и Жмуди до Киева и Волыни. Образ Московского государства в европейских странах формировался лишь отчасти в связи с русскими историческими представлениями и, конечно, подпитывался не только страхом перед нашествием варваров и угрозами московской дипломатии. Европейцы XVI в. узнали о претензиях московитов на „Киевское наследство” благодаря М. Меховскому и С. Герберштейну, а благодаря сплаву библейской герменевтики, этнографии и картографии обнаружили в их лице своих близких родственников. Западнославянские историки развили идеи о происхождении московитов от младшего сына библейского Иафета, а также о братьях Чехе, Лехе и Русе, причем споры касались главным образом старшинства между братьями и этнической принадлежности их отца и деда, и как показывают колебания М. Стрый­ковского в этих вопросах, даже после Люблинской унии на этот счет было мало ясности. Московские версии общей „русской” истории все Родословное древо или Пальма тирании: переоценки прошлого Русской земли... еще претендовали на участие в становлении польско-литовских исторических концепций, а унитаристские построения общей польско-литовско-русской истории в польских хрониках наталкивались на литовские, волынские и киевские регионализмы. По многим причинам интеллектуальный диалог между Россией и Европой не открыл путей их историческим культурам к взаимному сближению и освоению. Причины взаимного неприятия обычно обнаруживались в культурных и ментальных барьерах. Исследования образов „Московии” и „Рутении” в европейской литературе XVI-XVII вв. выявили иную картину. По мнению М. По, иностранные современники Ивана III, Василия III и Ивана IV, характеризуя их правление, вынуждены были обходить „ловушки” трех основых типов. Во-первых, их окружало недоверие со стороны российской власти, дипломатов не допускали к государственным тайнам, а резидентов не выпускали из страны. Это препятствие преодолевалось ответным недоверием к дипломатическим инсценировкам, беседами с местными жителями, а нескольким по-долгу жившим в России резидентам удалось не только ее покинуть, но и составить ее описание. С другой стороны, из популярных рассказов о России европейские писатели заимствовали стереотипные характеристики, находя им новые подтверждения или просто перенося в свои сочинения. Особенно влиятельными были опубликованные впервые в 1549 г. Записки о Московии австрийского дипломата С. Герберштейна, в которых государственный строй московитов был представлен как великокняжеский абсолютизм, политический режим – как деспотичный, отношения граждан с властью – как рабские и квази-религиозные. Оценки Записок были приняты другими читаемыми в Европе авторами, в их числе М. Кромером, М. Бельским, М. Стрыйковским, А. Гваньини, А. Поссевино, Д. Флетчером, А. Олеарием. Авторитет предшественников и интеллектуальный „заказ”, впрочем, не препятствовал персональным наблюдениям, которые не вносили ничего принципиально нового в общую оценку московской власти, предложенную С. Герберштейном. M. T. Poe, „A People Born to Slavery”: Russia in Early Modern European Ethnography, 1476-1748, New York 2000, p. 117-144. Исключениями из этого правила служат сочинения о России пап- 47 48 Константин Ерусалимский Наконец, согласно М. По, препятствием для „объективного” восприятия российской жизни могли служить предубеждения европейской политической мысли. На этом акцентировали критики „записок иностранцев” как исторического источника, начиная с В. О. Ключевского. Европейцы преувеличивали бинарность оппозиций „свобода–рабство”, „справедливое правление–тирания”, „частная собственность–королевская собственность”. В России в рамках их бинарной логики постоянно обнаруживались три отрицательных стороны этих оппозиций. Вместе с тем, Россия была раннемодерной монархией, в которой социальные и политические институты, в целом, находили европейские соответствия, по крайней мере эти соответствия без труда находили сами европейцы, а следовательно, параллели между европейскими и российскими политическими институтами не были надуманными. Выводы о российском деспотизме открывают стороннее, принятое из аристотелианской перспективы, но достоверное в этой своей основе понимание московской политической культуры. ских дипломатов А. Кампензе, П. Джовио и И. Фабри (публиковавшихся еще до Записок Герберштейна), английских путешественников Э. Дженкинсона и Р. Ченслора, сирийского православного П. Алеппского и хорватского иезуита Ю. Крижанича. Исключения скорее подтверждают правило, поскольку Кампензе прямо не опроверг европейских стереотипов, а Джовио и Фабри получили сведения о России от великокняжеских послов и составили свои рассказы с их слов. Все трое создали нравоучения, нацеленные на унию Рима с Москвой и построенные на принципе контрастов, известном европейской культуре, по меньшей мере, со времен Тацита. Остальные авторы также не нарушали устоявшийся образ. Английские торговые агенты вряд ли штудировали Герберштейна, в своих дневниковых записях они характеризовали Россию как выгодного делового партнера, пошедшего на значительные льготы для английской торговли – их образ Московии во многом диктуется коммерческими интересами. Павлу Алеппскому не были известны сочинения Герберштейна и его традиции, при этом он хвалит российский деспотизм как раз за то, за что европейцы его критикуют. А Юрий Крижанич в своей Политике не признает, что тирания укоренена в российской политической традиции, и считает ее результатом поверхностного насаждения „сверху” (ibidem, p. 22-26, 135-137, 141-142). Ibidem, p. 196-226. Препятствием для принятия этого тезиса М. По могло бы служить распространенное в детерминистских концепциях культуры положение о непроницаемости ментальных границ и, как следствие, принципиальной невозможности выразить основания одной культуры „на языке” другой. Проблема, на мой взгляд, в том, что все концепты, направляющие и организующие детерминистскую интерпретацию, как правило, являются нарочито теоретичными и/или редуцированными. Среди них – „культура”, „язык”, „категория”, „дискурс”, воспринятые в подобных интерпретациях как инструмент для описания явлений непреложных и устойчивых в долгом времени, внутренне бесконфликтных и непротиворечивых, доминирующих и регулятивных по отношению к иным концептам и/или к самой жизни. Родословное древо или Пальма тирании: переоценки прошлого Русской земли... Несмотря на существенные различия между европейцами и московитами в основаниях исторического, русские мыслители как в России, так и за ее пределами были не в силах избежать встречи с историей в ее европейском облачении. Если на горизонте европейской историографии, по словам К.-Ж. Дюбуа, возникала „абсолютная монархия универсального разума”, то на российских историографических горизонтах „универсальный разум”, в каких бы формах он себя ни обнаружил, заметно отставал от „абсолютной монархии”. Монархия и принципы монархического правления неизменно были предметами средневекового историописания и затем были приняты в ренессансной „придворной историографии”10. Однако универсализм монархии историко-правовых и историко-политических исследований приобрел, по сравнению со средневековыми образцами, очертания рациональной утопии, а сами исследования все чаще напоминали полемические реплики в адрес идейных противников или собрания примеров и аргументов из прошлого в подтверждение монархических концепций. Ничего подобного не было в России. Ни в чем подобном российская монархия, опиравшаяся на молчаливо принятую доктрину „собирания земли” под властью „исконных самодержцев”, не нуждалась. Другие носители знания о прошлом были до первых лет Смуты отчасти подавлены и лишены голоса, отча­сти – попросту подвержены тому же damnatio memoriae, которым ранее были окутаны татарско-русские отношения. В этом смысле российская историческая культура развивала средневековые традиции в направлении „придворного общества”, минуя­ рационалистический поворот и открытие методов истории. Впрочем, преобразования исторического сознания в России конца XV‑первой половины XVI в. были весьма значительными по сравнению с местными историческими культурами предшествующего периода. По-новому расставлялись акценты в копируемых летописных текстах, появлялись новые понятия для описания давно известных событий, начали откры- C.-G. Dubois, La conception de l’histoire en France au XVIe siècle, Paris 1977. 10 В польской историографии данный процесс изучен: H. Barycz, Szlakami dziejopisarstwa staropolskiego. Studia nad historiografią w. XVI-XVIII, Wrocław–Warszawa 1981. 49 50 Константин Ерусалимский то обсуждаться сами задачи историописания. В долгосрочной перспективе исследователями отмечался постепенный переход от летописной формы изложения к хронографической и как следствие – включение русской истории в мировую; возникли дефиниции жанров историографии – прежде всего, „летописи”, „хронографа” и „истории”; московская власть снабдила свои тексты обоснованием превосходства своей династии над другими суверенами русских земель и возвела свое происхождение к историческим истокам Руси. На достижение последней цели были направлены многочисленные визуальные и ритуальные ресурсы – „свою” историю все чаще не только писали, но также изображали наряду с сакральными образами и исполняли на многолюдных церемониях. Институтом, в котором российская историография находила для себя почву и с которым органично срослась, была дипломатия. Тезис о ее внешнеполитическом прагматизме, ориентированности на дискурсы власти, войны, геополитики получает обоснование только в том случае, если иметь в виду, что эта „прагма” была по-своему историзирована. С точки зрения московского посольского ведомства, границы были очерчены сплошной линией лишь там, где их закрепил „вечный мир”. Это должно означать, что почти вся территория Российского государства на середину XVI в. имела лишь пунктирные границы, и государство должно было заботиться о том, чтобы войти в оснащенную картографированием и этнографией европейскую дипломатию с набором историй о подлинно „своих границах”. Парадокс историографической и дипломатической жизни заключался в том, что не имея и не признавая легитимных границ, российская власть нуждалась в их установлении, чтобы говорить на языке западных соседей, отчасти формирующих, отчасти регулирующих структуры легитимности. Для того, чтобы ответить, где именно пролегают пределы „своего”, следовало прочитать тексты прошлого и, исходя из дипломатической прагматики, интерпретировать их с максимальной пользой для исторического настоящего. Для этого не следовало изобретать новых границ Русской земли, достаточно было лишь показать, как ее князья в прошлом торжествовали над своими противниками, отождествить этих противников на современных землях и представить отступление земель про- Родословное древо или Пальма тирании: переоценки прошлого Русской земли... шлого от правителей настоящего как измену своим извечным господарям11. Становление исторической легитимации единства Руси под властью московских великих князей было постепенным процессом. На раннем этапе определяющая роль принадлежала московским митрополитам, приложившим усилия к тому, чтобы закрепить за московскими господарями образ борцов за православие и освободителей страны от неверных, еретиков, вероотступников и язычников. Церковная власть гарантировала, что в Москве проводились важнейшие церемонии „всего” православного народа, а следовательно, было осуществлено сакральное единство жителей всей Русской земли, всего правоверия и всей православной власти. „Собирание земель” началось с объединения в стенах Москвы духовной и светской власти, народа и святых под лозунгом „Русской земли”. Такое понимание было принято московской властью и выражено в знаменитых словах Ивана Грозного о том, что „Русская земля” держится самодержавными государями, Божьей милостью и молитвами всех святых12. Этот тезис мог не нравиться, но с ним не имело смысла спорить. Как правило, польско-литовские оппоненты его высмеивали как проявление московитской гордыни, однако его дискурсивные основания и военно-дипломатические импликации ни у кого не вызывали веселья и требовали вдумчивого опровержения с источниками в руках. Отказ московского историописания от обсуждения европейских историографических новаций – в ряде случаев благоприятных для развития российской имперской доктрины – был, на наш взгляд, вызван объединительной идеологией Москвы. Это был продуманный запрет на „импорт идей” с целью не допустить дискуссий по вопросу, единственно верное освещение которого звучало из стен Посольского приказа. „Отсчет” в определении истоков Московского государства начинался с событий 500-летней древности, как если бы не существовало ни та- 11 Концепций „переноса” России в Сибирь или другие регионы, подобных концепциям XVIIIXIX вв., в XVI в. не существовало. Ср.: Сибирь в составе Российской империи, Москва 2007, с. 51-75. 12 Об этом см.: J. Korpela, The Christian Saints and the Integration of Muscovy, в: Russia Takes Shape. Patterns of Integration from the Middle Ages to the Present, Saarijärvi 2005, p. 17-58. 51 52 Константин Ерусалимский таро-монгольского нашествия на русские земли, ни Ливонского Ордена, ни Великого княжества Литовского. Последовательное проведение подобной исторической программы гарантировало, что все граничащие с Россией в XVI в. государства были бы лишены права „исконности”. В этом смысле идентичность „Русская земля” обретала для московских господарей актуальность благодаря своей летописной старине. Ее воскрешение было обязано, прежде всего, территориальным конфликтам. А главной опорой исторических фабрикаций было полное отсутствие за пределами летописных памятников документации о размерах и пределах „Русской земли”13. В начале XVI в. предков московских господарей потребовалось вывести из Рима, чему не было никаких, даже косвенных, подтверждений в историях. Брат Цезаря Августа Прус и новозаветная по форме 14-поколенная связь между Прусом и Рюриком были созданы по европейским шаблонам и содержат косвенные отсылки на литовские прототипы – сказание о предке литовских князей римлянине Палемоне, повести о римлянине Прусе, основавшем столицу исторических предшественников крестоносцев на землях Королевской и Княжеской Пруссии, а также легенду о родном брате Атиллы по имени Буда, по имени которого якобы была названа столица Венгрии. Миф о брате, а не о сыне Августа позволял также при необходимости пересмотреть первенство братьев и исключал родословное доминирование Священной Римской империи над Россией14. Этот сюжет занял центральное место в историческом самосознании московского царства. Римское происхождение Рюрика было признано во всех крупнейших российских летописях и хронографах ко второй половине XVI в., было востребовано для воссоздания кремлевских 13 К. Ю. Ерусалимский, История на посольской службе: дипломатия и память в России XVI века, в: История и память: Историческая культура Европы до начала нового времени, Москва 2006, с. 664-731. 14 Сближение Москвы с Римом обостряло проблему конкуренции, требовало от книжников создания условий для идеи о „братстве” двух христианских императоров. Имперский источник московского двуглавого орла признан исследователями, хотя византийское происхождение этого символа московских великих князей также возможно. По предположению С. М. Каштанова, стремление Москвы к равенству с Империей дало о себе знать в титуле Василия III 1514 г., составлявшемся по образцу имперского и приближенном к нему по числу земель, включенных в объектную часть. Родословное древо или Пальма тирании: переоценки прошлого Русской земли... визуальных рядов после пожара 1547 г. и встречено согласием со стороны высшей знати, в том числе такого оппонента высшей власти, как А. М. Курбский. Польско-литовская историография, вступившая вместе с королем Сигизмундом II Августом, а затем Стефаном Баторием в войну против исторических построений Москвы, направила основной свой удар в эту точку, опровергая историчность и показывая имперско-завоевательную подоплеку „Пруса”. В Москве критика не вызвала значительных подвижек самосознания: и в Смуту, и после нее в ряду прямых предшественников и ближних родственников московских государей упоминался Август, а в XVIII в. отзвуком имперского мифа стали дискуссии вокруг „норманнского вопроса”15. Московские историки скрыто черпали свои историографические модели из прусской и польско-литовской интеллектуальных традиций. В начале XVI в. Гедиминовичи были объявлены в Москве незаконными правителями, происходившими от служебника подлинных местных князей. Переход на московскую службу северских князей не препятствовал ей, а возможно, наобо­рот, стимулировал московских придворных интеллектуалов подчеркивать приниженное положение всех Гедиминовичей перед лицом московского великого князя. Литовская легенда, положенная в основу Сказания о князьях владимирских, на наш взгляд, не могла возникнуть ранее первой миссии Герберштейна в Москву в 1517 г. В Записках, изданных впервые в 1549 г., содер­жится замечание о том, что князя Витеня, согласно польским летописям, убил его слуга Гедимин, после чего завладел его княжением и женой16. Однако в Записках есть и изложение иной версии господства Москвы над Великим княжеством Литовским, которую имперский посол услышал от Ю. Д. Траханиота и изложил как несусветную ересь, сославшись на всякий случай, что это лишь пересказ чужих слов. Будто бы нынешняя Югра – это потомки древних венгров, чей вождь Атилла некогда возглавил поход московских подданных на Европу. Траханиот, доказывая право 15 К. Ю. Ерусалимский, Прус и «Прусский вопрос» в дипломатических отношениях России и Речи Посполитой 1560-х-начала 1580-х гг., в: Хорошие дни: Памяти Александра Степановича Хорошева, Великий Новгород–Санкт Петербург–Москва 2009, с. 276-293. 16 С. Герберштейн, Записки о Московии, пер. с лат. и нем. А. И. Малеина и А. В. Назаренко, вступ. ст. А. Л. Хорошкевич, под ред. В. Л. Янина, Москва 1988, с. 83. 53 54 Константин Ерусалимский своего государя на Литву, Корону и т. д., представил венгров как подданных великого князя Московского, которые обитали при Меотийских болотах (в Приазовье), „затем переселились в Паннонию на Дунае”, заняли Моравию и Польшу, „а по имени брата Аттилы назвали город Буду”17. Герберштейн специально указывает, что эти слова прозвучали в его первый приезд в Москву, то есть не ранее апреля 1517 г. Менее претенциозная схема представлена в заметке о Витене и Гедимине, видимо, возникшей уже после второго приезда Герберштейна и отразившей состояние московских исторических фабрикаций на 1526 г., когда текст Сказания и литовской легенды уже, несом­ненно, сущест­вовал. Уточняя концепцию Р. П. Дмитриевой, можно было бы предположить, что ранняя версия Сказания возникла между концом 1517 г. и 1521 г.18 В Погодинском летописце XVI в., Воскресенской летописи 1530-х гг., Государеве Родословце 1555 г., а затем в переговорах с Польско-Литовским государством в 1562 г. правители Великого княжества Литовского были возведены к полоцким Рогволодовичам, подручным киевского Мстислава Владимировича Великого, которого, согласно принципу „лествичного” или „степенного” восхождения, в Москве считали предком московских господарей19. Полоцк, если следовать московской фабрикации, открывал право на все Великое княжество Литовское, и генеалогическая легенда была частью завоевательной политики Василия III и Ивана IV, закончившейся взятием города в 1563 г. Понятие „Русской земли” не страдало из-за двойственности По17 Ibidem, с. 163. Подробнее см.: R. Frötschner, Ugrier–Ungarn–Hunnen. Herberstein über ein Motiv der Moskauer politischen Mythologie, в: 450 Jahre Sigismund von Herbersteins Rerum Moscoviticarum Commentarii 1549-1999, Wiesbaden 2002, s. 203-213. 18 Р. П. Дмитриева (Сказание о князьях владимирских, Москва–Ленинград 1955, с. 73) датировала Послание Спиридона-Саввы, предположительно положенное в основу Сказания о князьях владимирских, периодом между 1511 и 1521 гг. 19 Дискуссия по поводу хронологии возникновения и развития текстов Сказания и легенды о полоцком происхождения Гедиминовичей см.: K. Chodynicki, Geneza dynastii Giedymina, „Kwartalnik Historyczny”, 1926, t. 40, z. 4, s. 541-566; M. E. Byczkowa, Legenda o pochodzeniu wielkich książąt litewskich. Redakcje moskiewskie z końca XV i XVI wieku, „Studia Źródłoznawcze”, 1976, t. 20, s. 182-199; Б. Н. Флоря, Родословие литовских князей в русской политической мысли XVI в., в: Восточная Европа в древности и средневековье, Москва 1978, с. 320-328; В. Ульяновський, Митрополит Київський Спиридон: Образ крiзь епоху, епоха крiзь образ, Київ 2004, с. 333-336; O. Łatyszonek, Od Rusinów białych do Białorusinów. U źródeł białoruskiej idei narodowej, Białystok 2006, s. 265-304. Родословное древо или Пальма тирании: переоценки прошлого Русской земли... лоцкой земли в московской ментальной географии, а наоборот, подпитывалось за счет размытости границ: Великое княжество Литовское сохраняло обособленность и полную принадлежность королям и великим князьям объединенного Польско-Литовского государства, однако легко исчезало с карты, если бы на смену польско-литовской территориальной модели „Двух Народов” пришла „Русская земля” в ее московском осмыслении и исполнении. Меньшей отточенностью отличались созданные в Москве региональные имперские легенды. Возможно, хронологически ранее других, еще в правление Ивана III, возникло стиравшее с карты Поволжья Казань, Астрахань – а в перспективе и Сибирь – предание о господстве русских князей над Булгаром, о его востребованности в годы правления Василия III и Ивана IV говорят объектное определение „болгарский” в великокняжеском титуле, вставки в летописях и развитие легенды в своде митрополита Даниила конца 1520-х гг.20 Самому Ивану IV в Летописце начала царства под 1554 г. была приписана речь о возникновении Астрахани на месте русской Тмутаракани. Впрочем, это оригинальное отождествление было выдающимся примером имперской идеи, оно породило особое сказание, но не привело к переписыванию древней истории. Последнее крупное изобретение московской исторической географии XVI в. – возведение в посольских посланиях и переговорах с 1558 г. ливонских владений Ордена к завоеваниям Ярослава Мудрого с центром в Юрьеве. Границы „своего” в территориальных легендах подкреплялись за счет создания, конструирования и модификаций в первой половине XVI в. этоса „измены” и „изменника”. Пересечение границы было способом ее обнаружения. В долгосрочной перспективе „изменой” представал отход „земли” – крупной территории, претендующей на независимость или новое подданство – от своих „исконных господарей”. Проблема, однако же, в том, что перебежчики из России в Речи Посполитой, поволжских ханствах, в Крыму и Швеции лишь в редких случаях открыва- 20 J. Pelenski, Russia and Kazan. Conquest and Imperial Ideology (1438-1560s), The Hague–Paris 1974. 55 56 Константин Ерусалимский ли и поддерживали идеалы „другой Руси”, а чаще встраивались в новые отношения подданства. В Москве не признавалось новое подданство изменника, однако подданнические отношения признавались неизбывными. Следовательно, для власти и для исторической книжности того времени невозможно было помыслить себе „другого русского”, перешедшего на службу другому суверену. В долгосрочной перспективе отношения „измены” и „подданства” закреплялись как долгосрочный фактор, определяющий отношения между Москвой и отдельными людьми, регионами, и обширными землями. В этом смысле ментальная демаркация географического и политического пространства подпитывалась за счет исторических демаркаций. 2. Становление „Московии”: от Герберштейна до Гваньини В построения „европейцев” постоянно, по меньшей мере начиная с записок С. Герберштейна, закрадывалась неясность в отношении границ „русской” terra incognita. Тексты, сконцентрированные на описании владений Москвы и Великого княжества Литовского, показывали воображению перспективы освоения и отчуждения непознанного пространства Русской земли. Дина­ мика признания России в границах владений великого князя московского была, в этом смысле, определяющей для „открытия” России в Европе. Однако далеко не все соглашались видеть „московское” как не-„татарское” или не-„русское”, далеко не все соглашались с тем, что Новгород, Псков, Смоленск, Тверь, Калуга или даже Можайск – это часть „Москвы”. Из популярных описаний Европы Энея Сильвия Пикколомини (1490) и Раффаэля Маффеи Волатеррануса (1506), читатели могли узнать о Руси и лишь об одном ее регионе – вечевой Новгородской республике21. 21 S. Mund, Orbis Russiarum. Genèse et développement de la représentation du monde „russe” en Occident à la Renaissance, Genève 2003, p. 172-173. Родословное древо или Пальма тирании: переоценки прошлого Русской земли... Родство между „русскими” и „московитами” отмечалось уже в первых подробных „хорографических” публикациях о славянских землях М. Меховского (1517), П. Джовио (1525) и И. Фабри (1526). Никакой древней „Русской земли” на месте владений московского великого князя европейцы начала XVI в. не находили, нет в их записках и убежденности в том, что московские суверены ведут борьбу за воссоздание исторической Руси. На месте одной Руси в сознании европейцев существовали московская, польская и литовская „Руссии”, впрочем, не разграниченные непроходимыми ментальными рубежами. По словам С. Мунда, итальянских, английских, имперских и польских путешественников в Россию XVI в. польско-литовская Рутения, в отличие от Московии, совершенно не интересовала, „поскольку она не являлась центром политической власти”. Не считая общего для всех русских православия, естественная среда обитания и быт московитов и польско-литовских русских вызывали у европейцев впечатление чего-то однообразного и даже целостного (суро­вый климат, лесистость и болотистые почвы, дерево как основной строительный материал, низкая плотность населения, необразованность, дикость нравов, склонность населения к пьянству). Вместе с тем культурные различия между „русскими” России и Польско-Литовского государства видны были в социальных иерархиях, уровне жизни населения, политической ментальности, элитарной культуре и т. п. (впрочем, в этих вопросах описания Рутении сильно уступали по полноте описаниям Московии или, как например, в отношении границ верховной власти, совсем отсутствовали)22. Впрочем, само понятие „московит”, как отмечает исследователь, было изобретено польскими интеллектуалами около 1500 г. с целью отличить польско-литовских „русских” от подданных великих князей московских, как реакция на возрастающие амбиции последних по объединению „всей Русии” под властью Москвы. Понятие было тем более удобным, что оно позволило связать восточного соседа со скифскими гамаксобами, задонскими модоками, колхидскими москами античной географии и представить их исконными варварами (из перспективы поля22 Ibidem, p. 108-170, 195-198, 221-229, 236-244, 260-288, 302-323. 57 58 Константин Ерусалимский ков и литвинов, чьи этнические и интеллектуальные истоки обнаруживались в республиканском Риме)23. На грани между дневником путешествия и ученым трактатом выполнено описание московской „Руссии” имперским дипломатом С. Герберштейном, дважды побывавшим в России в правление Василия III. Его Записки о Московии, а затем, во многом развивая Герберштейна, хроники М. Бельского, М. Кромера, А. Гваньини и М. Стрыйковского создают целостную и широко растиражированную в Европе картину воссоединения земель вокруг Москвы24. Популярность этих текстов во второй половине XVI в. была беспрецедентной по сравнению с другими текстами того же периода, посвященными восточным землям Европы. Не считая рефлексов у других авторов, Герберштейн был издан не менее 24 раз с 1549 по 1611 г.25 Описание Гваньини печаталось в период с 1578 по 1611 г. не менее 10 раз, причем в 1611 г. – в одной польскоязычной компиляции с Записками о Московии26. Хрони23 Ibidem, p. 311-315, 322-323, 333-334, 337-338. Как показывает С. Мунд, М. Меховский, П. Джовио и И. Фабри опираются на недавно возникшую дихотомию. Герберштейн специально отмечает, что в московской „Руссии” не принято называть себя „московитами”, для определения русского населения России, Короны Польской и Великого княжества Литовского он использует термин „Ruteni”, а термином „Russia” обозначает все три сопредельных территории (помимо самоназвания, их объединяют общее прошлое, язык и греческое вероисповедание). Связь данной проблемы с правами польско-литовских и московских суверенов на русские земли обсуждается в Польской хронике М. Кромера и Московии А. Поссевино, однако, несмотря на позднее происхождение этих источников, ничто не препятствует их использованию для осмысления генезиса русско-московской дихотомии. 24 Статистико-географическое исследование записок Герберштейна см.: Е. Е. Замысловский, Герберштейн и его историко-географические известия о России, Санкт Петербург 1884. Пересмотр новейшей литературы вопроса см.: А. В. Юрасов, Сигизмунд Герберштейн о русских городах, в: 450 Jahre, с. 77-92. 25 В. Ляйч насчитывает 20 изданий Записок между 1549 и 1600 гг.: 9 на латинском, 7 на немецком, 2 на итальянском и 2 на английском языке (W. Leitsch, Das erste Rußlandbuch im Westen – Sigismund Freiherr von Herberstein, в: Russen und Rußland aus deutscher Sicht 9.-17. Jahrhundert, München 1985, bd. 1, s. 120). До 1611 г., по меньшей мере, еще 2 издания вышли на чешском языке в 1590 г. и 1602 г. и 1 на голландском в 1605 г. (M. Poe, Herberstein and the Origin of the European Image of Muscovite Government, в: 450 Jahre, p. 145). С. Мунд насчитал 22 издания за 1549-1600 гг. Помимо того, исследователь обнаружил заимствования из Записок Герберштейна в публикациях „по меньшей мере” 25 авторов XVI в., не считая тех, кто передавал текст Герберштейна из вторых рук. К упомянутым 25 авторам необходимо прибавить М. Кромера, М. Бельского и М. Стрыйковского (S. Mund, Orbis, p. 358, 383-384, 410-412). 26 С. Мунд учитывает 9 изданий Описания Европейской Сарматии за 1578-1600 гг. и пишет также о „нескольких авторах” XVI в., ссылавшихся на Гваньини (ibidem, p. 358, 415-416, 424429, 435). Подробное исследование бытования мнений Герберштейна в европейской ученой книжности XVI-XVII вв. проведено М. По (M. T. Poe, „A People Born to Slavery”, passim). Родословное древо или Пальма тирании: переоценки прошлого Русской земли... ка Бельского с выписками из Герберштейна была опубликована всего раз – в 1564 г., но к тому времени ее автор был уже прославленным историком. Согласно подсчетам С. Мунда, Герберштейн и Гваньини – наиболее часто публикуемые исследователи восточнославянского региона в XVI в., не считая П. Джовио и А. Поссевино. Зависимость других авторов от Герберштейна в описании Московии гарантирует ему первенство по числу изданий перед всеми конкурентами. С. Мунд насчитал 22 издания за 1549-1600 гг. Помимо того, исследователь обнаружил заимствования из Записок Герберштейна в публикациях „по меньшей мере” 25 авторов XVI в., не считая тех, кто передавал текст Герберштейна из вторых рук27. Не отмечены при этом, по меньшей мере, один читатель и одно латиноязычное издание: в Истории А. М. Курбского 1570-х-начала 1580-х гг. приведены суждения „нарочитого мужа цесарского” о князе С. Ф. Курбском и упомянуто неизвестное ныне миланское издание Записок28. К упомянутым в работе Мунда 25 авторам необходимо прибавить польско-литовских читателей Герберштейна, о которых здесь хотелось бы сказать специально. Прежде всего, зависимость польско-литовских хронистов от Герберштейна в описании Московии уже служила предметом исследований, и круг историков-читателей Записок о Московии, в целом, установлен. Это – М. Кромер, М. Бельский, М. Стрыйковский и А. Гваньини, князь А. М. Курбский, П. Одерборн, Р. Гейденштейн, М. Литвин, то есть по сути все крупнейшие историки Короны Польской и Великого княжества Литовского второй половины XVI-начала XVII в., обращавшиеся к истории Руси и России29. В хрониках Бельского и Гваньини заимствования из Герберштейна настоль- 27 S. Mund, Orbis, p. 358, 383-384, 410-412. 28 К. Ю. Ерусалимский, Сборник Курбского: Исследование книжной культуры, Москва 2009, т. 2, с. 8 (л. 2 об.). По-другому можно было бы истолковать фразу „в кроинице своеи [...] юже латинским языком в Медиоляне [...] написал”, предположив, что Курбский неверно осведомлен о работе Герберштейна над Записками в Милане или получил свой экземпляр (или только выписку из полного текста) из Милана. 29 H. Grala, Die Rezeption der „Rerum Moscoviticarum Commentarii” des Sigismund von Herberstein in Polen-Litauen in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts, в: 450 Jahre, s. 317-326, здесь s. 321-324; Д. В. Карнаухов, История русских земель в польской хронографии конца XV-начала XVII в., Новосибирск 2009, с. 72, 77-78, 104, 112-115, 132, 141, 147-148, 150, 152, 172-173, 196. И. Граля обнаружил в дворовых табелях Королевской Казны Сигизмунда II Августа упоминание выплат, относящихся приблизительно к 1560 г. Среди получивших денежную поддержку М. Кро- 59 60 Константин Ерусалимский ко обширны, что впору говорить об особых редакциях Записок о Московии в составе их хроник. Имперский дипломат рассчитывал на прочтение своего сочинения в Польско-Литовском государстве и отреагировал вторым изданием Записок в 1551 г., после того, как подданные Сигизмунда II Августа высказали недовольство недостаточной критикой московитов в первом издании. Наиболее развернутые переложения Герберштейна в польско-литовских хрониках обнаруживаются в кн. IX третьего издания польскоязычной Хроники всего света Бельского (1564)30 и в Описании Европейской Сарматии Гваньини (1578)31. Общим для российского и европейского осмысления того места, где жили „русские”, было понятие „северной” страны. Для Ивана IV и его подданных – в том числе позднее покинувших Россию – Север представлялся подвластной территорией, был мер (300 зл.), А. Фрыч Моджевский (200 зл.), Л. Гурницкий (100 зл.), С. Герберштейн (100 зл.). См.: H. Grala, Die Rezeption, s. 320. 30 M. Bielski, Kronika wszytkyego świata na sześć wieków i na czwory księgi takież Monarchie rozdzielona, Kraków 1554, idem, Kronika, to jest Historyja świata na sześć wieków i na cztery Monarchie rozdzielona, Kraków 1564 (далее только на это издание следуют ссылки). Это предпоследний раздел основного текста хроники. Он открывается заставкой, в которой декларируется авторство Герберштейна, что не отменяет факта многочисленных редакторских вторже­ ний Бельского в текст переведенного им для своей хроники источника: „Księgi Dziewiąthe Kroniki wszytkiego świata o narodzie Moskiewskim albo Ruskim według wypisania Zygmunta Herberstyna ktory tam trzykroć iezdził w poselstwie od Cesarzow krześciyańskich”. M. Bielski, Kronika, ark. 426-440. Перевод выполнялся отчасти, возможно, с немецкого изда­ния Записок, поскольку в части текста до описания „провинций” Московии те сюжеты, ко­торые Герберштейн сокращал при подготовке немецкой версии по сравнению с ла­тинской, в Хронике всего света также не обнаруживаются. Однако это невозможно в рассказе о Доне, где близко к ранней версии текста Герберштейна переданы его слова „Танаис же сперва [...] которые зовутся Меотийскими” (С. Герберштейн, Записки, c. 137; M. Bielski, Kronika, ark. 431), о Смоленское, где только ранний латинский текст Герберштейна поддерживает чтение „из-за измены одного чеха” (С. Герберштейн, Записки, c. 142; M. Bielski, Kronika, ark. 431v), о Пскове в словах „каждая из которых заключена в своих стенах” (С. Герберштейн, Записки, c. 151; M. Bielski, Kronika, ark. 432v). 31 Описание Московии в издании 1578 г. составляет особый раздел с особой фолиацией, основные источники (Герберштейн и Шлихтинг) прямо автором – или авторами – не названы (Omnium Regionum Moschoviae Monarchae subjectarum, Tartarorumque campestrium arcium civitatum praecipuarum, illarum denique gentis, religionis et consuetudinis vitae sufficiens et vera descriptio..., Cracoviae 1578. f. 1-47). С. Мунд называет географический раздел Описания Московии Гваньини „плагиатом”, а также „обширным и детализированным резюме” книги Герберштейна (S. Mund, Orbis, p. 179-180, 230-232, 312, 316, 400-401, 421-422, 435-436). С такой оценкой можно согласиться, если она не помешает признать самостоятельность Гваньини-Стрыйковского в редактировании текста Записок (ср. оценку трактата Д. Принца: ibidem, p. 422; см. также: J. Jurkiewicz, Czy tylko plagiat? Uwagi w kwestii autorstwa Sarmatiae Europeae descriptio (1578), в: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltiniai. Faktas. Kontekstas. Interpretacija, Vilnius 2007, s. 87, 89-90). Родословное древо или Пальма тирании: переоценки прошлого Русской земли... в 1555 г. включен в государев титул и оставался его частью до 1917 г. Для европейцев же московский „Север” имел климатическое измерение. Герберштейн знает легенду о голодных медведях, нападающих зимой на московитов и выгоняющих их из домов на холодную смерть. Более „высокие” контексты обычно объединяли библейский „удел” Иафета и не вполне определенное пространство, занятое в античной географии Скифией, а в трудах М. Меховского Сарматиями. Впрочем, и Скифия, и Сарматия для Герберштейна – прежде всего, книжные маркеры, показатели авторской начитанности. Вряд ли он придавал им особое организующее или, тем более, концептуальное значение. „Север”, согласно С. Герберштейну, наделен библейской составляющей лишь в летописной памяти самих „русских”. Под Московией Герберштейн понимает одну из трех Руссий, находящуюся под властью „московитов”, две другие – под властью короля польского и великого князя литовского. При этом русские проживают не только на „русских” территориях. Примеры поселения русских за границами Руссии – Литва, Жмудь32. Бельский дополняет картину книжной версией о происхождении московитов от Мезеха, младшего сына Иафета, и в его версии московиты могли быть восприняты не только как преемники и носители имени прародителя всех славян, но и как властвующие над ними. В Хронике всего света, и в том числе в издании 1564 г., вышедшем в обстановке польско-литовской мобилизации против московского неприятеля, лестно для противника звучали слова о том, что от сына Иафета по имени Мезех произошли „Москва и все Cлавяне”33. В поэмах Гонец добродетели и О началах Стрыйковского сохранилась этногенетическая модель старшинства московитов, однако она была сглажена критикой в адрес московских легенд, внесенной в черновой текст при подготовке Хроники к изданию34. Текст Описания Гваньини также не оставляет места для книжной „северной” версии Герберштейна – он упоминает власть великого князя московского над „севером” в пейоративном контексте первых 32 С. Герберштейн, Записки, c. 56, 59, 83. 33 M. Bielski, Kronika, ark. 7 („Mesech od ktorego Moskwa y wszyscy Słowacy”). 34 К. Ю. Ерусалимский, Идеология истории Ивана Грозного: Взгляд из Речи Посполитой, в: Диалоги со временем: Память о прошлом в контексте истории, Москва 2008, c. 625‑633. 61 62 Константин Ерусалимский слов главы О тирании описания Московии, где высмеивается титул Ивана IV. Герберштейн признает, что Московия главенствует над Руссией, однако в своих записках он показывает, что причины и условия московского доминирования не отвечают представлениям его читателей о легитимном господстве. Московиты послужили опытным народом для развития европейской концепции популярной тирании, и многим эта концепция обязана Запискам Герберштейна. В польско-литовской историографии нашли воплощение два несходных, и противоположных в оттенках (даже у одних и тех же авторов) прочтения Записок о Московии. Первое из них, нравоучительное, обнаруживается в Хронике всего света. Кратко пересказав впечатления имперского посла о всевластии московского монарха, Бельский остановился перед выводом, оставляющим окончательный приговор во власти читателя: „Трудно понять, то ли народ по своей грубости нуждается в государе-тиране, то ли от тирании государя сам народ становится таким грубым, бесчувственным и жестоким”35. Хронист отказался переводить этот отрывок и на его месте разместил поучение и восхищение самодержавием: „Такое­ послушание у них, что когда господарь кому приказывает перерезать себе горло, тот сразу это делает. Когда какая-нибудь мелочь пропадает, они говорят, и им находят. Народ настолько самолюбивый и хвастливый, что если даже их совершенно разгромили, они говорят, что разгромлен противник”36. Этот образ, меняющий логику Герберштейна до неузнаваемости, укладывается в общую схему Бельского. Появление Московии в мире после главы о Короне Польской и перед главой о Новом Свете открывало читателям могущественную и строго дисциплинированную страну, которой правил продолжатель Василия III и которая в любой момент могла прийти к читателю с востока в одеянии „московского воина”37. 35 С. Герберштейн, Записки, c. 74. 36 M. Bielski, Kronika, ark. 429: „Posłuszeństwo takie u nich gdy komu Hospodar każe sobie gardło urznąć uczyni to wneth. Gdy co namnieyszego zginie powiedzą y wroci sie. Lud taki życzliwy sobie a chełpliwy by ie nabarziey kto poraził rzeką iż oni porazili”. 37 Портрет Ивана IV, которым открывается в Хронике раздел о Москвоии, был скопирован с портетра Василия III Записок о Московии, выполненного А. Хиршфогелем, но с новым Родословное древо или Пальма тирании: переоценки прошлого Русской земли... Обратимся теперь к отрывку Записок, послужившему и Бельскому, и Гваньини подспорьем для демонизации московитов. Герберштейн пишет: „Народ в Москве, говорят, гораздо хитрее и лукавее всех прочих, и особенно вероломен при исполнении обязательств; они и сами прекрасно знают об этом обстоятельстве, а потому всякий раз, когда об­щаются с иноземцами, притворяются, будто они не московиты, а пришельцы, желая тем внушить к себе большее доверие”38. Прочие народы никак не обозначены Герберштейном, но ясно, что это „народы”, населяющие прочие „провинции” московской Руссии. Много ли регионов, которыми могли прикрыться московиты при заключении торговой сделки, сказать трудно, в Записках оппозицией московитов с этой точки зрения выступают только новгородцы и псковичи. Бельский ухватился за торговую нить: „Московские люди предательски лживы в торговле, хитры, недоверчивы и слова не держат. Шкурки сони-полчка они натирают мелом, чтобы те казались белыми. Новгородец также: соболя не покажет, разве что выдался пасмурный день. Шкурку бобра подправит кожурой грецких орехов. И так торгуют любым меховым товаром – тут же обманут. Поэтому их купцы никому не называют себя москвитинами, но только пришельцами”39. Новгород и Москва Бельского мало отличаются друг от друга в том главном, что отличает московита от остальных русских. Купцы обоих городов принадлежат к Московии. С этим все еще соглашались далеко не все польско-литовские историки. Гваньи­ни, в отличие от Бельского, незначительно переиначивает текст стихом, составленным на польском на основе текста Герберштейна и посланий подлинного Ивана IV. Раздел заканчивается изображением московской амуниции, с которой современники третьего издания Хроники всего света были уже знакомы: оно было опубликовано в базельском издании Записок Герберштейна 1556 г. Тревожные изображения перекликаются с датой завершения работы над хроникой Бельского – годом взятия московитами Полоцка. 38 С. Герберштейн, Записки, c. 133. См. также: W. Leitsch, Bemerkungen zum Nachleben der Moscovia Herbersteins, в: От Древней Руси к России нового времени. Сборник статей к 70-летию Анны Леонидовны Хорошкевич, Москва 2003, s. 474-477. 39 M. Bielski, Kronika, ark. 430: „Lud Moskiewski na kupiectwo iest zdradliwy, chytry, wiary ani słowa nie dzierżą. Popielice kretą nacieraią aby sie białe zdały. Nowogrodek thakież, sobola nie ukaże, aż kiedy chmurny dzień. Bobru każdego poprawi skorupami zwierzchnimi włoskich orzechow y wszytkim kosmatym towarem wnet okłamaią. Przeto sie ich kupcy nie powiedzą nikomu by był Moskwicin, iedno gościem”. 63 64 Константин Ерусалимский Герберштейна, расставляя все точки над „i”: „Это племя московитское хитрее, пронырливее и лживее всех прочих русских. И если они когда-нибудь ведут торговлю с иностранцами, то для поддержания большего доверия не называют себя московитами, но пришельцами, то есть новгородцами или псковичами”40. Московский „народ” более отчетливо противопоставлен у Гваньини другим „русским” народам, а приведенные им примеры, возможно, заимствованные из предыдущего абзаца того же Герберштейна – где названы приезжие в Москву во время эпидемий жители Новгорода, Смоленска и Пскова41, – обращают внимание читателя на два подвластных Москве региона, связь которых с Великим княжеством Литовским была весьма живой и востребованной в польско-литовской словесности и дипломатии как в эпоху Сигизмунда I Старого, так в годы правления Стефана Батория. Описание провинций Руссии-Московии в Записках Герберштейна и Хронике Гваньини причудливо соединяет московские исторические схемы, европейский этнографический стандарт беспристрастного стороннего взгляда и вдумчивое, пытливое и недоверчивое комментирование. Рассказ о том, из чего складывается Руссия, и был исследованием ее ментальных границ. Такое „хорографическое” описание русских земель незадолго до Герберштейна осуществил М. Меховский в Трактате о двух Сарматиях. Помимо Польши, Литвы, Руси в состав европейской Сарматии он включил Московию, а ее в свою очередь раз- 40 А. Гваньини, Описание Московии, пер. с лат., ввод. ст., коммент. Г. Г. Козловой, Москва 1997, c. 18-19: „Haec gens Moscovitica, caeteris omnibus Ruthenis, astutior, callidior et fallacior est. Si autem cum externis aliquando commercia habent, tunc se non Moscovitas quo maiorem fidem obtineant, sed advenas, id est, Novogardenses, vel Plescovienses esse simulant” (уточняем перевод Г. Г. Козловой). 41 Все три города, жители которых приезжают в Москву во время эпидемии, у Меховского включены в состав Литвы. „Зараза” в данном случае понимается буквально, тогда как в характеристике нравов псковичей и новгородцев в Записках о Московии приходящая от московитов „зараза” (pestis) говорит об эпидемии другого рода (об этом см. ниже). Семантическая игра, заложенная в слове „зараза” и списке чужих для Москвы городов, наводит на мысль о том, что в прочтении Гваньини заложена возможность прочтения текста Герберштейна образованным европейцем XVI в. Противоположный смысл вложил в этот отрывок Записок о Московии в трактате 1573 г. Описание Польского королевства (B. de Vigenère, La Description du royaume de Poloigne, Paris 1573) Б. де Виженер отметивший, что в Москве прекрасный воздух, и приехавшие в нее из пограничных с Литвой Новгорода, Пскова и Смоленска быстро выздоравливают (об этом см.: S. Mund, Orbis, p. 433). Родословное древо или Пальма тирании: переоценки прошлого Русской земли... делил на ядро и прилегающие земли – Скифию, Пермь, Башкирию, Югру и Карелию. Бельский и Гваньини, как правило, сокращают Герберштейна, в некоторых случаях указывая изменения, произошедшие в Московии с 1550-х гг. К первой группе относятся те регионы, о присоединении которых Герберштейн и его читатели передают без критики московские легенды42. Так, в духе Софийской I и Ермолинской летописей, Московского летописного свода 1479 г. и т. д. город Владимир назван ими столицей Руссии со времен его основателя, будто бы Владимира-Василия Святославича и до Ивана Даниловича43. Владимир-на-Клязьме изображен Герберштейном как столица, „метрополия” Руссии, а Москва – как прямая наследница древнерусской власти в правление Ивана Калиты44. Суздаль занимает второе место в тот период, когда главенствует в Руссии Владимир, и главенствует над „прочими прилегающими городами”. Когда же столица перенесена из Владимира в Москву, Суздальское княжество было оставлено „второрожденным детям государей”, предкам Шуйских, потерявшим эту территорию в правление Ивана III45. „Вторыми” Герберштейн в других случаях называет удельных князей, ближайших родс42 Об этом см.: B. G. Maniscalco, The Image of Muscovite Political Power in Sigismund von Herberstein’s „Rerum Moscoviticarum Commentarii”, в: 450 Jahre, p. 173-185. 43 Бельский сокращает отрывок о Владимире и устраняет из него слова об основании города, его правителях до Ивана Даниловича и бывшем столичном статусе (M. Bielski, Kronika, ark. 430v). 44 Киев неоднократно назван Герберштейном древней столицей Руссии, однако противоречия в суждениях Герберштейна нет, если главенство Киева предшествовало главенству Владимира-на-Клязьме, и в таком случае главенство Киева в Руссии должно было закончиться, самое позднее, в начале XII в. (С. Герберштейн, Записки, c. 59, 61-64, 185). Прямая параллель Владимира и Киева необходима в формулировке Гваньини „totius Russiae metropolis”, в которой содержится как смысл, вложенный в определение Киева „матерью градом русским” князем Олегом, согласно Повести временных лет, так и, возможно, непродолжительный статус Владимира как церковного центра всей Руссии (А. Гваньини, Описание, c. 20-21). Религиозный аспект переноса столицы подчеркнут в описании религии московитов, правда, на сей раз со ссылкой на первенство Киева: „Их митрополит имел некогда местопребывание в Киеве, потом во Владимире, а ныне – в Москве” (С. Герберштейн, Записки, c. 88; A. Гваньини, Описание, c. 58-59). Признание московского митрополита „Киевским” было новшеством для европейской „хорографии”, учитывая, что еще М. Меховский ничего не сообщал о двух митрополитах киевских и видел в церковной власти митрополита киевского Константинопольского патриархата православных Рутении, Молдавии, Валахии и Московии (S. Mund, Orbis, p. 311-312). 45 С. Герберштейн, Записки, c. 161-162; M. Bielski, Kronika, ark. 434. 65 66 Константин Ерусалимский твенников великого князя – так, брат великого князя Георгий Иванович правил Дмитровом46, „вторые сыновья русских великих князей” некогда правили в Ростове и Ярославле47. Дополнение о присоединении Суздаля у Гваньини: потомки суздальских князей „изгнаны и ограблены” (eo expulsi et spoliati sunt) Иваном III Васильевичем48. Заметим попутно, что суздальские версии происхождения великого княжения в Московии, озвученные позднее в Речи Посполитой А. М. Курбским и Я. Замойским, а в 1606 г. в самой России Василием Ивановичем Шуйским, не известны ни Герберштейну, ни Гваньини. Вторую группу составляют земли, вызвавшие минимальные комментарии в плане их политической принадлежности и охарактеризованные с географической, климатической и ресурсной точки зрения. Впрочем, как показывают Ориентализм Э. Саида или Воображая Восточную Европу Л. Вульфа, этот взгляд достаточен, чтобы охватить регион этнографической мифологией и навязать ему воображаемый статус как части территориального целого или в качестве самостоятельного региона. Изобретение „Руссии” было сопряжено с назначением границ Европы в пределах Волги и „Танаиса”, а потому разрушительный удар, нанесенный Меховским и Герберштейном Рифейским и Гиперборейским горам и жертвенникам Александра и Цезаря, был одновременно обновлением античного географического мировоззрения, устанавливающего границы „своего” мира49. Руссия, вследствие этой драматичной реинтерпретации, потеряла вместе с Рифейскими горами на востоке (впрочем, их подобие было обнаружено на севере) свои европейские очертания, а благодаря сибирским каменным „бабам” или умирающим и возрождающимся „лягушкам и пиявкам” вписалась в миф Двух Сарматий Меховского, который был прочитан Герберштейном и был воспринят Гваньини–Стрыйковским как беспрекословное руко46 С. Герберштейн, Записки, c. 152. Бельский устраняет рассказ о князе Георгии в своем конспекте Герберштейна (M. Bielski, Kronika, ark. 433). Сюжета о Дмитрове нет у Гваньини. 47 С. Герберштейн, Записки, c. 154; M. Bielski, Kronika, ark. 433; A. Гваньини, Описание, c. 42-43. 48 Ibidem. 49 Новый образ „Востока” был результатом осмысления М. Меховским географической концепции двух регионов Европы, представленной на картах Птолемея. См.: Л. Багров, История русской картографии, Москва 2005, c. 82-84, 103-106; S. Mund, Orbis, p. 62, 169-170, 222, 288-289, 322, 333, 409-410. Родословное древо или Пальма тирании: переоценки прошлого Русской земли... водство. Помимо территории Сарматий (европейская – между Вислой и Доном, азиатская – между Доном и Волгой), московская Руссия заняла части исконной Азии. Граница между Европой и Азией предписывалась не только линиями рек, памятниками на ландшафте и чудесными существами, но и религиозной принадлежностью жителей. „Восточная граница христианской религии” была проведена между Нижним Новгородом и крепостью Сура в черемисской земле по реке Суре, между Муромом и мордвой по реке Мокша. Восточное пограничье христианского мира наполнилось благодаря Герберштейну и картографическими очертаниями, и удивительными существами. Среди них – касимовские магометанки с черными ногтями, непокрытой головой и распущенными волосами. Бельский отвел им последние строки в параграфе о Нижнем Новгороде, а Гваньини поместил в описании мордвы, ориентируясь на то, что у Герберштейна в этом отрывке говорится о притоке Оки Мокше и мордве, населяющей ее восточные и южные пределы50. Ресурсно-географический подход господствует в описаниях Коломны51, Мценска52, Чернигова53, Дмитрова на р. Угре54, Ржевы Димитриевой и Ржевы Пустой55, Великих Лук56, Торопца57, Дмитрова на р. Яхроме58, Белоозера59, Углича60, Переяславля61, Костромы62, Галича63. Некоторые земли когда-то принадлежа- 50 С. Герберштейн, Записки, c. 134; M. Bielski, Kronika, ark. 430v; A. Гваньини, Описание, c. 56-57. 51 С. Герберштейн, Записки, c. 136; A. Гваньини, Описание, c. 22-23. У Бельского о Коломне нет. 52 С. Герберштейн, Записки, c. 138; M. Bielski, Kronika, ark. 431-431v; A. Гваньини, Описание, c. 22‑23. 53 С. Герберштейн, Записки, c. 141; M. Bielski, Kronika, ark. 431; A. Гваньини, Описание, c. 26-27. 54 С. Герберштейн, Записки, c. 142; M. Bielski, Kronika, ark. 431v. У Гваньини не упомянут. 55 С. Герберштейн, Записки, c. 144. Бельский (Kronika, ark. 431v-432) здесь дополняет рассказ Герберштейна, указав на поток товаров по Волге из Астрахани, Татарии, Турции и Индии. Гваньини (Описание, c. 30-33) также упоминает местности по течению Волги – Казань, Дикое Поле, Астрахань. 56 C. Герберштейн, Записки, c. 145; M. Bielski, Kronika, ark. 432; A. Гваньини, Описание, c. 30-31. 57 С. Герберштейн, Записки, c. 147; M. Bielski, Kronika, ark. 432. Гваньини уточняет Герберштейна. См. ниже. 58 С. Герберштейн, Записки, c. 152; M. Bielski, Kronika, ark. 433. У Гваньини не упомянут. 59 С. Герберштейн, Записки, c. 152-153; M. Bielski, Kronika, ark. 433; A. Гваньини, Описание, c. 40‑41. 60 С. Герберштейн, Записки, c. 153; M. Bielski, Kronika, ark. 433; A. Гваньини, Описание, c. 42-43. 61 С. Герберштейн, Записки, c. 153; M. Bielski, Kronika, ark. 433; A. Гваньини, Описание, c. 42-43. 62 С. Герберштейн, Записки, c. 162; A. Гваньини, Описание, c. 44-45. У Бельского этот город не упомянут. 63 С. Герберштейн, Записки, c. 162; M. Bielski, Kronika, ark. 434; A. Гваньини, Описание, c. 44-45. 67 68 Константин Ерусалимский ли татарам, как Вятская область за Камой и Сибирь, или еще не вполне расстались с язычеством, как Пермия64. В данной группе Гваньини дважды расширяет заметки Герберштейна, отметив, что в Новгороде Северском „был некогда престол князей Северских”65, а Торопец, Дорогобуж, Белая и Брянск принадлежали до правления Александру Казимировичу, однако „отдались под власть” Ивана III66. Нейтральность описания все же относительна, если принять во внимание, что все эти города притягиваются к более самостоятельным центрам благодаря административному старшинству, территориальной близости и указанию расстояний „от Новгорода”, „от Твери”, „от Полоцка” и т. д.: Коломна к Рязани, все южные и западные города – к Новгород-Северску или прямо к Литве, все северные и северо-восточные – к Новгороду Великому и Пскову. К третьей группе регионов московской Руссии, упоминаемых Герберштейном и Гваньини, можно отнести территории, о присоединении которых к Московии говорится в эксплицитно негативных определениях. Обычно рассказ об их вхождении под власть Москвы сопровождается ремарками об их прежней независимости, а также о том, как московские великие князья их захватили силой или хитростью. Так, в Записках Герберштейна некогда самостоятельным признан остров Струб на Оке вблизи Рязани (говорится даже о его самостоятельном „великом княжении”)67. Рязань завоевана благодаря хитрости и депортациям (ее последний князь бежал в Литву из московского заточения)68. Тула еще в правление Василия III имела „собственного государя”69. Истории захвата и гибели правителей Каширы и Серпухова смешаны у Герберштейна в едином драматичном повест- 64 С. Герберштейн, Записки, c. 162-164; M. Bielski, Kronika, ark. 434; A. Гваньини, Описание, c. 44‑47. 65 A. Гваньини, Описание, c. 26-27. 66 Ibidem, c. 32-33. 67 С. Герберштейн, Записки, c. 136; A. Гваньини, Описание, c. 22-23. Бельский этот сюжет не приводит. 68 С. Герберштейн, Записки, c. 136. Бельский (Kronika, ark. 430v) не включил в хронику историю подчинения Рязани, однако отмечает, что Рязанское княжество было ранее „великим” и перешло к Московскому из-за несогласия между братьями. Гваньини (Описание, c. 22-23) опускает подробности завоевания и не говорит о рязанских князьях. 69 С. Герберштейн, Записки, c. 136-137; A. Гваньини, Описание, c. 22-23. Предложение о „собственном государе” Тулы не прошло в хронику Бельского. Родословное древо или Пальма тирании: переоценки прошлого Русской земли... вовании о „безбожном злодействе” Василия III70. Последний независимый князь Воротынска после нашествия МухаммедГирея в 1521 г. был взят под стражу и по ложному обвинению лишен своего княжества71. Северское княжество было „великим” и независимым, пока Василий Шемячич не изгнал Василия Стародубского, а Василий III коварно не лишил Дмитрия Путивльского, а затем и самого же Шемячича их владений72. За Смоленск более столетия длилась война между литовскими и московскими великими князьями, и последние сцены этой войны закончились трагическим бегством из Литвы воспитанника имперского двора кн. М. Л. Глинского, занятием города при его помощи московитами, а затем заточением в Москве „герцога Михаила Глинского”73. Литов­ским князьям принадлежали в прошлом, поми­мо Смоленска, Дорогобуж, Вязьма, Белая74. Тверь была независимым великим княжеством, но Иван III женился на дочери тамошнего великого князя Марии Борисовне лишил великого 70 С. Герберштейн, Записки, c. 138-140. Бельский говорит кратко только о Кашире (см. ниже). У Гваньини (Описание, c. 22-23) рассказ о Кашире сокращен до слов о ее „некогда независимом господине” и нынешнем подчинении Москве, в том числе устранена и история Серпухова. 71 С. Герберштейн, Записки, c. 140. У Гваньини данного рассказа нет. 72 Ibidem, С. 140-142. Бельский (Kronika, ark. 431) сокращает рассказ о северских князьях до слов: „Одних из этих князей великий князь Василий Московский перебил, других отравил, третьих уморил в тюрьме, а их государства Воротынское, Каширское, Северское, Бельское и много других забрал”. У Гваньини (Описание, c. 26-27) данного рассказа нет. Говорится лишь обобщенно о самостоятельности северских князей, а затем описываются территории „Великого Северского княжества”. 73 С. Герберштейн, Записки, c. 68-69, 78, 87, 142, 188-192; M. Bielski, Kronika, ark. 431v; A. Гваньини, Описание, c. 26-29. С. Герберштейн пополнял сведения о М. Л. Глинском в переизданиях Записок. Общим источником дополнений немецкого издания Записок 1557 г. и Хроники на то время неопубликованной хроники Б. Ваповского, как показал М. М. Кром, послужили пришедшие из Москвы в Польско-Литовское государство слухи о регентском совете Елены. Об этом см.: М. М. Кром, «Записки» С. Герберштейна и польские известия о регентстве Елены Глинской, „Вспомогательные исторические дисциплины”, Санкт Петербург 1994, Вып. 25, c. 77-86. 74 С. Герберштейн, Записки, c. 142-144; Бельский (Kronika, ark. 431v) в пересказ Герберштейна вносит существенную поправку: остановившись на словах о московском браке князя Ф. И. Бельского (его Гербрештейн и вслед за ним польско-литовские хронисты ошибочно именуют Василием), он вместо слов о его трех сыновьях ограничивается информацией, что у князя был „сын от московки, который потом, уже в наше время, приехал в Польшу, а потом рыцерствовал, так как у него было отобрано в Москве княжение”. Гваньини не судит о принадлежности Дорогобужа и Вязьмы и оставляет только их краткое описание в разделе „Княжество Смоленское”. В то же время слова о самостоятельности Бельска он оставляет без изменений (A. Гваньини, Описание, c. 28-31). 69 70 Константин Ерусалимский княжения ее брата Михаила, который умер в Литве75. Некогда могущественный Ростов, второй по древности в Руссии после Новгорода Великого, пользовался самостоятельностью, но его удельные князья „совсем недавно были изгнаны оттуда” „и лишены области” Иваном III76. Похожая участь ждала Ярославль, где и во время Герберштейна сохранялась память о былом княжеском могуществе, впрочем, вызвавшая сомнения имперского дипломата77. Торжок принадлежал не Москве, а Новгороду и Твери, тогда как Новгород и Псков, как и Тверь, долгое время пользовались полной независимостью78. Никаких сомнений в тирании московитов не должно было оставаться у читателей разделов, посвященных Новгороду и Пскову. Народы в этих республиках до последнего времени разительно отличались от московитов. Герберштейн следует в русле построений Меховского, относившего Смоленск, Новгород и Псков к территории Литвы79. Граница между Москвой и Новгородско-Псковским регионом разделяет в Записках о Московии две цивилизации. Новгородцы всегда были „обходительными и честными”, а испортились только из‑за „заезжих московитов”, занесших к ним „московскую заразу”80. От новгородцев не отставали псковичи, отличавшиеся „просвещенными и даже утонченными обычаями”, а в торговых слелках „честностью, искренностью и простодушием” (рекламируя товар, они не лгали, а произносили только само название товара). В тот момент, когда Руссию увидел Герберштейн, они еще носили прически „не по русскому, а по польскому обычаю 75 С. Герберштейн, Записки, c. 147; M. Bielski, Kronika, ark. 432. Гваньини (Описание, c. 32-33) сокращает рассказ о подчинении Твери до слов: „Впоследствии это Тверское княжество было захвачено государем Московии Иоанном Васильевичем, дедом нынешнего князя”. 76 С. Герберштейн, Записки, c. 154; A. Гваньини, Описание, c. 42-43, 98-101. Гваньини, опираясь на записку Шлихтинга, дополняет Герберштейна сведениями о недавних казнях князей Ростовских и развивает эту тему в параграфе Об убиении ростовского князя главы V О тирании великого князя Московии Иоанна Васильевича. 77 С. Герберштейн, Записки, c. 154. Отчасти сомнения Герберштейна переданы и у Гваньини в ремарке о том, что ярославские князья получают „малую долю доходов в области” (А. Гваньини, Описание, c. 42-43). 78 С. Герберштейн, Записки, c. 147-151, 153; M. Bielski, Kronika, ark. 432-432v; A. Гваньини, Описание, c. 32-33. 79 S. Mund, Orbis, p. 319-320. 80 С. Герберштейн, Записки, c. 150. Теме „московской заразы” Герберштейна посвятил специальное исследование Ф. Кемпфер. Родословное древо или Пальма тирании: переоценки прошлого Русской земли... на пробор”81. Этими словами новгородцы и псковичи выведены за культурные границы московской Руссии. Европейский облик тех и других, их включенность в „процесс цивилизации” доказывает, что территории Новгорода и Пскова являются незаконным завоеванием Москвы. Недвусмысленным подтверждением той же мысли служат резкие оценки политики Ивана III и Василия III. Первый из них „напал” на новгородцев, семь лет „вел с ними жестокую войну”, разгромил на реке Шелони, дал им своего наместника, но затем под лживым предлогом удержания местных жителей от „латинства” „занял Новгород и обратил его в рабство”, ограбил город и вывез из него архиепископа, а также „богатых и влиятельных лиц”82. Похожим образом поступил Василий III, захвативший Псков „вследствие измены некоторых священников”: он обратил город „в рабство” и вывез из него колокол, по звону которого в республике „собирался сенат”83. Местности и города, расположенные вблизи Новгорода или с указанием расстояния от него – Холопий городок, Водская волость, Руса, Ивангород, Ям, Копорье, Орешек, Корела, Соловки, а также Вологда, Устюг, Двинская земля с Холмогорами и отчасти Дмитров, Белоозеро, Углич могли восприниматься читателем как часть новгородско-псковского пространства84. 81 Ibidem, c. 151. Бельский изменил список торговых связей Новгорода, включив в него Германию, Турцию, Татарию, Польшу, Литву и Русь (ср. у Герберштейна: Литва, Швеция, Дания, Германия). Бельский не переводит слова о „московской заразе” и сокращает тот сюжет о псковичах, где говорится об их просвещенности, утонченности и прическах. Однако концепция „московской заразы” нашла отклик в его хронике в словах о новгородцах: „Люди там раньше отличались шляхетными купеческими обычаями, держали каждое слово, но теперь погрубели, приняв московские обычаи”, а также в двусмысленной формулировке о псковичах: „С того времени они сохранили людские обычаи, когда приняли непристойные московские обычаи” (M. Bielski, Kronika, ark. 432-432v: „Ludzie tam byli pierwey slachetnych obyczaiow kupieckich, słowo dzierżąc każde, ale dziś zgrubieli, gdy obyczaie Moskiewskie przyieli” [...] „Sthądże pozosthali obyczaiow ludzkich, gdy przyieli sprosne obyczaie Moskiewskie”). Характеристики новгородцев и псковичей, составленные Герберштейном, Гваньини не включил в свою Хронику, но, как уже говорилось, констатируя хитрость и пронырливость московитов, он вслед за Герберштейном противопоставил их новгородцам и псковичам. 82 С. Герберштейн, Записки, c. 148; A. Гваньини, Описание, c. 34-35. 83 С. Герберштейн, Записки, c. 151. Гваньини (Описание, c. 32-33, 118-119) пересказывает Герберштейна, но обходится без сюжета о вывозе колокола. Зато в главе V Описания Московии повесть об опричных реквизициях в Пскове заканчивается снятием колоколов „со всех церквей” города. 84 С. Герберштейн, Записки, c. 150-152, 154-156. Бельский (Kronika, ark. 432v-434v) опускает почти все подробности, касающиеся новгородских владений и ограничивается только опи- 71 72 Константин Ерусалимский Особое значение в польско-литовской исторической памяти принадлежит Можайску. Согласно Герберштейну, а вслед за ним Бельскому, там великие князья охотились на „разноцветных зайцев” (очевидно, не пестрые, а различных цветов шерсти – по Бельскому, „zaięcy dosyć rozmaitey barwy”). Гваньини заимствует этот рассказ, но говорит только о „белых” зайцах. Возможно, хрониста впечатлил рассказ Герберштейна о чудесной смене масти из любого цвета в белую у животных, привезенных в более северную Водскую область85. Пригодные для охоты зайцы водятся лесах, простирающихся между Можайском, Тверью и Волоком. Как и ловля „московской рыбы”, охота на „можайских зайцев” является образцом ресурсного „контроля” великих князей над своими „провинциями”. В противовес красочным сценам охоты, Герберштейн и вслед за ним польско-литовские хронисты вспоминают, что во времена Витовта Кейстутовича московские владения простирались не далее, чем „на пятьшесть миль за Можайск”. Характерно, что в немецком издании Герберштейна 1557 г. владения московитов заметно ограничены по сравнению с изданием 1549 г., поскольку сказано, что они „на шесть миль не доходили до Можайска”86. Этот город был опорным пунктом, крайним востоком литовской экспансии на московском направлении. Требование вернуть Литве Можайск прозвучало в Трактате о двух Сарматиях Меховского, выдвигалось литовскими послами в ходе переговоров с Иваном Грозным в 1566 г.87 Позднее Стрыйковский настаивал, что граница за Можайском в 28 или 18 милях от Москвы возникла еще до Витовта, в княжение Ольгерда88. Гваньини в данном случае поддерживает Стрыйковского и говорит о владениях Ольгерда и Витовта „в шести милях дальше Можайска”89. 85 86 87 88 89 санием озера Ильмень и реки Нарвы. Затем совсем конспективно перечисляет другие упоминаемые Герберштейном северные и сибирские земли. Гваньини (Описание, c. 36-57) дополняет рассказ о Новгородском регионе краткой справкой о захвате Нарвы московитами, в остальном также следует своему источнику, сокращая его. С. Герберштейн, Записки, c. 151-152; M. Bielski, Kronika, ark. 432v; A. Гваньини, Описание, c. 36‑37. С. Герберштейн, Записки, c. 144, прим. щ-щ. Б. Н. Флоря, Русско-польские отношения и политическое развитие Восточной Европы во второй половине XVI-начале XVII в., Mосква 1978, c. 23. К. Ю. Ерусалимский, Идеология, c. 597-598. A. Гваньини, Описание, c. 30-31. Родословное древо или Пальма тирании: переоценки прошлого Русской земли... Как можно видеть, С. Герберштейном была создана матрица восприятия территории Руссии, воспроизведенная с уточнениями, в целом, незначительно меняющими источник, в хрониках М. Бельского и М. Стрыйковского-А. Гваньини90. Москва на ментальной карте Герберштейна окружена землями, в недавнем прошлом составлявшими особые княжества, независимые города и республики, многие из которых на юге, западе и севере сближались с Великим княжеством Литовским, а на востоке граничили со сказочными странами и народами, мусульманскими ордами и язычниками. Россия, согласно этому описанию, вышла за пределы Европы и расположилась в Европе и Азии, заняв книжные территории Скифии и Сарматии или Двух Сарматий. При этом почти все европейские провинции Московии описаны как завоеванные, захваченные, отнятые хитростью и вероломством великих князей и духовенства91. География Герберштейна лишала Московское государство на большей части его владений легитимности и представляла великих князей, митрополитов и простых московитов опасными захватчиками, некультурными, вероломными и беспринципными в борьбе за имперскую власть. Московиты захватывали все вокруг себя и вытравливали своей „заразой” европейские традиции, просвещение, благородство нравов и благопристойность манер. Сеть рек, животных, городов, народов, чудесных существ опутала восточные пределы Европы и угрожающе окружила владения Ягеллонов, на время Герберштейна – союзников Священной Римской империи. Читатель должен был осознать подлинные размеры опасности, поняв, что восточные пределы Европы были окружены географическими мифами, за которыми таилась и росла подлинная угроза. Эффект от Записок о Московии усиливался за счет хладнокровного изложения в них доктрины перехода верховной власти в Руссии из Киева в Москву. Власть 90 К иному выводу приходит С. Мунд (Orbis, p. 452), рассмотрев заимствования из Записок о Московии у европейских авторов XVI в.: „Так, книга Герберштейна не играет решающей роли в описании местности, природных ресурсов, городов и сельской местности Московии, мультиэтничной и многоконфессиональной социальной структуры этой страны и физического портрета славян-московитов”. 91 Об отношениях церкви и государства в Руссии, согласно запискам С. Герберштейна, см.: А. Л. Хорошкевич, Церковь и государство в «Записках о Московии» Сигизмунда Герберштейна, в: Церковь, общество и государство в феодальной России, Москва 1990, c. 168-186. 73 74 Константин Ерусалимский Москвы видела себя прямой наследницей императора Августа и главной воспреемницей Киевского и Владимиро-Суздальского великих княжений, а своим географическим охватом, приемами собирания земель, культурой и силой – продолжательницей татарской Орды. Тезису о „переносе” столицы из Киева во Владимир и Москву имплицитно в концепции Герберштейна и его польско-литовских последователей противоречил высокий статус некогда европейского города Новгорода Великого, где Рюрик основал русскую „империю” и где, можно предположить, и были сосредоточены права на главенство над русскими землями. Польско-литовские хронисты видели в Записках Герберштейна ценнейший источник по истории Московии, а вместе с тем находили приемлемыми взгляды их автора на ее политический режим и имперскую политику. Краткий пересказ хорографического раздела Записок прозвучал в Польской хронике Кромера: „Владимирцы, новгородцы, ярославцы, тверичи, можай­цы, суздальцы, псковичи (некоторые их называют плесковичами), рязанцы, северцы и другие русские народы, гораздо более благородные и могущественные, чем московиты, приняли имя московитов после того, как были присоединены к Московской империи, хотя все они до сих пор еще сохраняют и признают имя ‘русские’”92. Бельский на заре войны Польско-Литовского государства с Москвой за Ливонию воспользовался концепцией Герберштейна. Географическое описание „Московии-Руссии” в его хро92 Martini Cromeri de origine et rebus gestis Polonorum libri XXX. Tertium ab autore diligenter recogniti..., Basileae 1568, p. 10: „Vuladimirienses quoque, Novogrodenses, Iaroslavienses, Thwerenses, Mozaiscenses, Susdali, Pscovienses (quos nonnulli Plescovienses appellant), Rezanenses, Severienses, & alii Russorum populi Moschis longe nobiliores atque potentiores, ut quique ad imperium adiecti sunt, in Moschorum nomen transiere [глосса: Russorum Septentrionalium populi qui Moschorum principi pareant] sic tamen, ut cunctipariter Russorum nomen etiamnum retineant, & libenter agnoscant”. Далее Кромер уточняет, что московский великий князь претендует на титул короля или императора всей Руссии и высокомерно перечисляет все названные земли, начиная с Москвы. С. Мунд (ср.: Orbis, p. 337-338) не обращает внимания на прямые параллели этого рассуждения с Записками Герберштейна. Кромер был близко знаком с Герберштейном и как раз в процитированной здесь третьей редакции своей хроники, вышедшей после смерти автора Записок, Кромер сослался на свою дружбу с ним и на его положение „советника и главного казначея Австрии” при дворе императора Фердинанда (об этом см.: Д. В. Карнаухов, История русских земель, passim). Родословное древо или Пальма тирании: переоценки прошлого Русской земли... нике мало чем отличается от источника. Вектор интерпретации московской имперской доктрины усилен Бельским за счет удаления слов о переходе власти из Владимира в Москву. Московиты и новгородцы, по его словам, одинаково двуличны и лживы в торговле, так что отличия новгородцев и псковичей от остальных московитов отступают в прошлое, выступая в Хронике всего света в виде нарративного рудимента Записок о Московии. Бывшие друзья уже заражены московскими нравами, изменились в своих внутренних качествах и переоблачились внешне во враждебных московитов. Последние события, упомянутые в конце девятой книги третьего издания Хроники, задают пророческую перспективу для повествования Герберштейна: в Ливонском ордене убит королевский посол, Сигизмунд II Август стремится покарать бывшего союзника, но московиты опережают короля, берут в плен магистра, а следом вторгаются во владения самого Сигизмунда и уже захватили Полоцк93. Редакторская манера Гваньини проявляется в том, что он сокращает свой источник, устраняет из Герберштейна рассказы, посвященные политической борьбе, заговорам, интригам, подозрениям московских князей и т. п. Исчезают намеки на рафинированность новгородцев и польские прически псковичей до „московской заразы”. Можно понять эту работу неодно­ значно. Автор избегает устаревших и забытых подробностей. В то же время облик России у Гваньини более унифицированный, и культурные различия между ее окраинами не должны вызывать у читателей ностальгических чувств. Все подданные Московии в Хронике Гваньини – московиты, а те из них, которые попадают под подозрение в симпатиях к польскому королю, проживают не на западных окраинах страны, а в ее центре, и за свои воображаемые симпатии расплачиваются жизнью. Пиком в изложении хрониста, самым подробным сюжетом в московском разделе Хроники, как и в записке Шлихтинга, является казнь И. М. Висковатого. Перед экзекуцией ему было прочитано обвинение из трех пунктов: во-первых, попытка сдать Сигизмунду II Новгород Великий; во-вторых, отправление письма турецкому султану, чтобы он занял „царства Скифское, Казанское 93 M. Bielski, Kronika, ark. 437v. 75 76 Константин Ерусалимский и Астраханское”; в-третьих, приглашение „царя скифов”, то есть крымских татар, вторгнуться в Московию94. Все страхи царя и обвинения в адрес верных слуг напрасны, что подтверждает ту мысль, будто все московиты раболепны перед царем, а следовательно, далеки от самостоятельности новгородцев и псковичей Герберштейна. Еще одно объяснение редакторской стратегии Гваньини можно видеть в том, что географическое описание он приводит в качестве преамбулы к подробному изложению террора, начавшегося в России в годы опричнины, и региональные зарисовки дополняются гораздо более чудовищными и кровавыми сценами, чем в Записках Герберштейна. Посвященная этим событиям глава V Хроники основана на записке А. Шлихтинга 1570 г., дополненной и литературно обработанной Стрыйковским. Гваньини иногда возвращается к Герберштейну, чтобы связать рассказ о терроре с географическим разделом. В разделе Об убиении ростовского князя он повторяет общие слова Герберштейна о ростовских князьях и подчинении Ростова, после чего обращается к макабричному повествованию об убийстве нижегородского воеводы „Петра Ростовского”. Коломна появляется вновь в качестве владения Ивана Петровича Федорова в сюжете о его заговоре и смерти. Своеобразную конкуренцию Герберштейну составляют разделы Хроники, озаглавленные О жестоком тиранстве великого князя московского, которое он совершил в 1569 году по Рождестве Христовом в Новгороде Великом, Пскове, Твери и Нарве и Что случилось с епископом новгородским. Для Герберштейна болезненная проблема в том, чтобы читатель не увидел в дипломатии его покровителя ошибку, из-за которой московиты утвердились в убеждении, что их правитель – царь, равный императору, а его царский титул соответствует европейскому imperator или Kessar95. Гваньини углубляет критическое звучание своего источника тем, что регулярно добавляет к пересказу ремарку о том, что московский государь присваивает себе титул или пользуется титулом данной территории96. 94 А. Гваньини, Описание, c. 142-143. 95 С. Герберштейн, Записки, c. 74-78. Ср.: M. Bielski, Kronika, ark. 429-429v. 96 Обратим внимание на глаголы, выделенные далее нами курсивом: владимирский, бельский и ярославский титулы великий князь Московский „себе приписывает” – „cuius ti- Родословное древо или Пальма тирании: переоценки прошлого Русской земли... Сам прием комментария к титулу также уже известен Герберштейну, но у того подобные акценты появляются лишь в редких случаях – когда он обсуждает „присвоение” Василием III бельского, ржевского, волоцкого титулов97. Кроме того, нейтрально звучащие у Герберштейна сюжеты о подчинении соседних княжеств Москве в ряде случаев дополнены резкими оценочными фразами, которые не меняют информационную основу источника (Суздаль, Новгород Северский). В начале главы V Гваньини приводит титул, которым к тому времени пользовался Иван IV, включая недавно присоединенные определения „Ливонский” (1558) и „Полоцкий” (1563)98. Эти определения официально в Речи Посполитой не признавались, и сам зачин рассказа О тирании, видимо, служил предлогом для конфронтации и ее выразительным символом. На этом фоне вставки Гваньини в главе I Об области Московия и о знаменитом граде с тем же названием с комментариями о титульных претензиях московских великих князей показывают, что московиты незаконно присваивают себе земли и нарушают дипломатический обычай, которым они будто бы пользовались со времен Рюрика и до Василия III, употребляя только один титул – „Владимирский”, „Новгородский”, „Московский”. В обстановке Московских походов, когда готовилось к печати Описание Европейской Сарматии, выпады Гваньини против титула московских господарей и против политики их предков служили подспорьем идеологической программы короля. tulum Princeps Moscoviae sibi vendicat” (А. Гваньини, Описание, c. 20-21), „hunc Ducatum Moscoviae Dux titulo suo adscribsit, et se Ducem Byelski appellat” (ibidem, c. 30-31), „ipse enim Dux Moscoviae et titulum et Ducatum sibi vendicat” (ibidem, c. 42-43); нижегородским, северским, ростовским и кондинским „пользуется” – „huius Ducatus Novogrodiae inferioris Princeps Moscoviae titulo utitur” (ibidem, C. 22-23), „hujus Ducatus titulo Magnus Dux Moscoviae utitur” (ibidem, C. 26-27), „hujus Ducatus titulo Moscoviae Dux utitur” (ibidem, C. 42-43), „hujus titulo Moscorum Dux (Ducem se appellans Condoriae) utitur” (ibidem, C. 50-51); рязанским „высится” – „Ducatus Rhezanensis titulum magni Moscoviae Ducis auget” (ibidem, C. 22-23); ржевский и псковский „узурпирует” – „ab hocque Dux Moscoviae titulum sibi usurpat, et Ducem Rschoviae se appellat” (ibidem, c. 30-31), „ejusque titulum sibi usurpat” (ibidem, c. 32-33). 97 С. Герберштейн, Записки, c. 144-145. 98 A. Гваньини, Описание, c. 90-91. 77 78 Константин Ерусалимский 3. Образы Русской земли Немало исследовательских усилий было потрачено на то, чтобы ответить на вопрос, чем была „Русская земля” для московских русских XVI в. или хотя бы для их книжников, интеллектуалов, церковных и государственных элит. Затруднения, испытываемые учеными XX-XXI вв. при идентификации границ „Русской земли” в различные исторические периоды, должны были, по‑видимому, преодолеваться с немалыми усилиями подданными великих князей московских и самими великими князьями, считавшими себя господарями всей „Русской земли”. Великие князья литовские знали об амбициях великих князей московских и признавали за ними титул „господаря всея Русии”. Однако все попытки Москвы охватить своей „всей Русью” территории Великого княжества Литовского вели к войне. Обычно для идентификации границ „Русской земли” используются российские дипломатические и военные демарши двух типов. Одни приводили к включению в объектную часть титула московского господаря новых территорий (Смоленск, Рязань, Полоцк и т. д.). Другие создавали прецедент, направленный на присоединение новых территорий, но не отражались на великокняжеском и царском титуле (Киев, Галич, Львов, Вильно и т. д.). На наш взгляд, границы „Русской земли” не были в демаршах обоих типов заранее известны. Они устанавливались ad hoc, наделение „Русской земли” новым смыслом было частью военных акций. Не следовало бы обманываться, что литовские господари не понимали опасности, исходящей для их владений из титула „всея Руси”. Их „русские”, или „рутенские”, владения не могли охватывать даже всей „Руси” Польско-Литовского государства, поскольку часть „русских земель” находилась под польской королевской властью. Расширение „русского” титула на восток от актуальных великокняжеских владений Литвы было оправдано, по меньшей мере, историческими построениями польских хронистов. Наибо­ лее удобная возможность воспользоваться нечеткой границей „Руси” представилась Речи Посполитой в годы побед Батория. Лишь косвенные данные позволяют предположить, что сам король такой возможностью воспользовался, по меньшей мере, для превентивного удара по титулу Ивана IV. Таким ударом был Родословное древо или Пальма тирании: переоценки прошлого Русской земли... нарушающий дипломатический этикет титул Ивана IV „господарь своея Руси” в послании Стефана Батория, дезавуирующий опасную для государственной целостности Речи Посполитой безграничность московской „Русской земли”99. Ключевые понятия, относящиеся к суверенитету и территориальной идентичности, испытали в России сложную динамику. Неоднократно был переосмыслен титул верховного правителя, в связи с чем менялись идеологические ресурсы исторических сочинений. Своим весом обладали и „жанры” исторического письма, которыми диктовались отбор фактов и частные опыты их истолкования, а также способы перенесения, осуществления и воплощения истории как знания о мире на мир как таковой. Ранним этапом можно считать период до 1510-х гг. В правление Ивана III московское летописание обосновало право великих князей на „все” русские земли, их сувереном представило единственного великого князя – московского, а его власть в отношениях с другими русскими великими князьями и князьями возвысило за счет „теории” translatio imperii. Обоснованием для переноса имперских инсигний служили также интерпретации пророчеств о наследовании греческой власти, принятие имперской символики и византийского чина венчания, матримониальное родство великого князя московского с последним византийским императором, реорганизация великокняжеского двора по византийскому образцу, подготовка Хронографа с заключительными разделами из истории Русской земли и Великого княжества Московского. В польской историографии московские памятники историописания были известны скорее опосредованно. Свое отношение к имперским проектам Москвы выразил Я. Длугош в Польской хронике, завершенной в первый год после присоединения Новгорода к Москве. Длугош настороженно относился и к московитам, и к литвинам, считая предназначением последних служить русинам. Исходя из религиозного тяготения Новгорода, Пскова и литовских земель к Москве, он обосновал неизбежность вступления Новгорода под власть Москвы. Это было предостережение, а не пораженчество, однако политико-географи99 К. Ю. Ерусалимский, История, c. 718-719. 79 80 Константин Ерусалимский ческие импликации хроники Длугоша вызвали долгосрочный конфликт в исторической памяти Великого княжества Литовского и Короны Польской. Призыв отдать православных Москве был тревожным сигналом для власти, и он вызвал, прежде всего, конфликт между концепцией Длугоша и обязательством королей и великих князей, согласно договоренностям Кревской унии, соблюдать в неприкосновенности территориальную целостность Литвы100. Младшие современники Длугоша способствовали формированию топоса „Москвы”, возглавляемой тираничной властью, еретиками-схизматиками и населенной варварским народом. Раздоры Москвы с Орденом из-за Ливонии и с королем Сигизмундом I за „Русскую землю” вызвали появление Прекрасной истории К. Бомховера (Кельн, 1508), письма Сигизмунда I в Рим (Базель, 1515), послания папского легата Я. Пизо (Базель, 1515), Трактата о Двух Сарматиях краковского профессора М. Меховского (Краков, 1517), его же Польской хроники (Краков, 1519), отчета папского легата Ф. Да Колло, одного из первых читателей Меховского и собеседника посетивших Москву имперских дипломатов С. Герберштейна и его племянника И. фон Турна (1518), Вандалии А. Кранца (Кельн, 1519). Мнения сходились в том, что московиты – азиаты, подвластные деспоту варвары, которые, как и турки, сильно вооружены и опасны для христианства (исклю­чение составляли Исторические рапсодии Маркантонио Коччо Сабеллико 1504 г.)101. Между тем, московские историки поспевали за „собиранием” земель и создавали в пустотах русской исторической карты структуры легитимации, а вместе с ними – язык для перечитывания прошлого. В 1510-е-начале 1520-х гг. Сказание о князьях владимирских и Родство великих князей литовских решали комплекс задач. В условиях, когда Василий III получил титул „цесаря” от императора Священной Римской империи, Сказание показывало второстепенное, транзитное отношение Византии к легитимности царской власти в России. Права Ягеллонов 100 Б. Н. Флоря, Русь и «русские» в историко-политической концепции Яна Длугоша, в: Славяне и их соседи. Этнопсихологические стереотипы в средние века, Москва 1990, c. 16-28. 101 M. T. Poe, „A People Born to Slavery”, p. 18-22; S. Mund, Orbis, p. 45, 62-63, 325-336. Родословное древо или Пальма тирании: переоценки прошлого Русской земли... не только на русские земли, но и на все Великое княжество Литовское подвергались сомнению, и тем самым обострялось противостояние Москвы с Вильно из-за православного населения Польско-Литовского государства. И наконец – получал московское развитие миф Пруса, облегчавший проходившее в конце 1510-х гг. обсуждение раздела Польско-Литовского государства между Русским государством и Орденом. Свод митрополита Даниила конца 1520-х гг., а также Воскресенская летопись и ряд других современных им памятников отразили последствия проникновения Сказания в московский исторический кругозор. Свод митрополита Даниила своими генеалогическими „древами” был призван подтвердить преемственность верховной власти в Русской земле от первых князей, правивших в Новгороде и Киеве. Это лишь доказывало, что самостоятельность Новгорода от Москвы и власть Литвы над Киевом – временны и неправомерны. Частная переписка 1520-х гг., в том числе послания старца псковского Елеазарова монастыря Филофея, свидетельствует о том, что опасения за падение московской монархии, возможно, вызванные отсутствием у великого князя наследника, были навеяны имперской хронографической риторикой. Польское историописание начала XVI в. солидарно с Ягеллонами противодействовало имперским амбициям Москвы. После Оршинской битвы Сигизмунд I распространил в Европе антимосковскую реляцию, уравнивающую московского великого князя с турецким султаном. Польско-литовская дипломатия была главной мишенью Москвы в ходе переговоров с Орденом и Священной Римской империей, что отразилось на Сказании о князьях владимирских. Ответом было противодействие Сигизмунда I попыткам Василия III уравнять свой дипломатический статус с имперским. Это противодействие дало результаты. Казус титулования великого князя императором в грамоте 1514 г. не получил продолжения в дипломатической документации Империи и был пересмотрен после Венского конгресса 1515 г. Вскоре М. Меховский и Б. Ваповский создали образ варварской России, возглавляемой тиранической властью. Русская земля Польско-Литовского государства была отчетливо отграничена от Московии и признана подлинной наследницей древней Руси. Ни Новгород, ни Псков, ни захваченные Москвой русские 81 82 Константин Ерусалимский земли не признавались легитимно принадлежащими московитам. Попытки пересмотреть территориальной статус Новгорода и Пскова шли вразрез с титуальными притязаниями великих князей литовских. Впрочем, образы двух северо-восточных республик служили предметом полемики и взаимных упреков литвинов и поляков в годы Люблинской унии и закрепления ее результатов. Втягивание Литвы в унию с Короной было травмой для территориальной идентичности Великого княжества, что выражалось, прежде всего, в нарушении обязательства господарей сохранять и расширять целостность своей земли, а косвенно – в их отказе бороться за утраченные земли102. Соседняя Россия, между тем, расширяла свои исторические горизонты при помощи однотипных легенд и подкрепляла их посольскими exempla. Они возникали в дипломатической борьбе и военной экспансии, и их интеллектуальные истоки вряд ли выходили далеко за пределы великокняжеской канцелярии и Посольского приказа. Служащий в ведомстве, причастном к написанию истории, должен был искать в текстах о прошлом, и прежде всего – в русских летописях, аргументы в пользу территориального права, то есть мыслить древнерусские тексты в тех гео-правовых категориях, которые были древнерусским летописцам несвойственны. С этой точки зрения, когда великий князь брал с собой в поход против Новгорода дьяка, умевшего толковать летописи, а московские наместники с летописями в руках убеждали псковичей признать право великого князя на их землю, они закладывали основы для той манеры интерпретации прошлого, которая получит наивысшее воплощение в посольских дискуссиях об исконности и изначальности государств на землях. Воссоздание права московского государя было, на мой 102 Пионерской работой в данной области была книга Я. Пеленского: idem, The Contest for the Legacy of Kievan Rus’, New York 1998, p. 151-187. В исследовании К. Мазура ничего не говорится о том, как отразилось осуществление Люблинской унии на исторической памяти украинских земель: K. Mazur, W stronę integracji z Koroną: Sejmiki Wołynia i Ukrainy w latach 1569-1648, Warszawa 2006. Фундаментальное исследование восточноевропейских идентичностей С. Плохия акцентирует разрыв между московскими и рутенскими (белорусскоукраинскими) идентичностями раннего нового времени: S. Plokhy, The Origins of the Slavic Nations. Premodern Identities in Russia, Ukraine, and Belarus, New York 2006. Родословное древо или Пальма тирании: переоценки прошлого Русской земли... взгляд, глубинным переустройством памяти под прикрытием ее возрождения. Соединение под одним переплетом текстов Филофея с чином царского венчания и Сказанием стало специфической чертой следующего этапа, открывающегося во второй половине 1540‑х гг. Новый кризис легитимности власти привел к идее коронации и наделения великого князя царским титулом. В науке нет убедительных аргументов в пользу того, что отец и дед Ивана IV стремились включить в свой титул субъектное определение „царь”. Реформы „начала царства” показывают, что власть первое время также подчеркивала рубежный, эпохальный характер принятия царского титула. Посольское дело лишь после захвата Казани, осмысленного в Москве как свидетельство Божьей милости к царству, отразило перемены в отношении к прошлому: один за другим предки царя получают в текстах посольского ведомства, начиная с 1553-1554 гг., царский титул. Кремлевское пространство, как будто специально очищенное пожаром 1547 г. от предшествующих визуальных историй, было заполнено репликами новой имперской идеи. Ее отразили росписи Сеней и Золотой Палаты, царский трон, Царское место и икона „Благословенно воинство Небесного Царя” Успенского собора и т. д.103 Неудача в попытках организовать в Риме признание царского титула привела к возрождению византийской модели и обращению к константинопольскому патриарху, закончившемуся присылкой в Москву нового чина венчания и частичной мистификацией постановления патриарха в 1561 г. в Москве. Полу­ чив греческий оригинал постановления и сделав его перевод, в нужном Москве русле, можно было приняться за обоснование полной церковной автокефалии, чему должен был, вероятно, послужить ранее известный текст Сказания о белом клобуке, помещенный однако же в летописи лишь под 1563 г. Нет ясных 103 Новизна росписей в приемных палатах Кремля доказывается вспыхнувшим вскоре после завершения работы процессом И. М. Висковатого, который – вероятно, при чьей-то еще более авторитетной поддержке – выступил с протестом против образного ряда росписей. Шатровый стиль Царского места имел только одну параллель в Москве того времени – храм Вознесения в Коломенском. Позднее в правление Ивана IV он становится образцом для культовых строений, инициированных царем и его ближайшим окружением. Одновременно он служит образцом для создания других „царских мест” на территории России. 83 84 Константин Ерусалимский данных, считался ли Иван IV с Константинополем, смещая­ митрополитов после смерти Макария, однако велика вероятность, что этого не происходило, а организованное 25 лет спустя окончательное отделение церковной иерархии от константинопольского патриархата следовало бы рассматривать как очередное сближение с греками. Летописец начала царства и Степенная книга были созданы в условиях легитимизации царского титула и служили, наряду с Судебником, Стоглавом, Государевым Родословцем, Государевым Разрядом, Тысячной Книгой, Дворовой Тетрадью, средством обоснования царского статуса верховного суверена104. Образ московитов в польско-литовской культуре был к середине XVI в. наполнен негативными коннотациями. Московиты дики, хитры, агрессивны, они не остановятся перед вторжением, чтобы заполучить владения великого князя литовского. Этот образ прослеживается во втором Литовском Статуте, переписке литовских магнатов, стихотворных и историко-этнографических сочинениях того времени. После венчания Ивана IV на царство его подкрепили рассмотренные нами выше Записки о Московии С. Герберштейна и опирающиеся на них польско-литовские хроники. В середине XVI в. М. Литвин в трактате О нравах татар, литовцев и москвитян создал предысторию восточноевропейских народов, согласно которой часть римлян из легионов Юлия Цезаря во время похода на Британию была прибита бурей к берегам Жмуди, откуда они подчинили себе прежде подчинявшихся заволжским татарам роксолан-русинов и московитов. Господство литвинов-италийцев над народами Великого княжества Литовского и Московского государства изображено, таким образом, как результат освободительной 104 Степень воздействия государственной документации на историческое сознание невозможно переоценить. Эти памятники были предназначены прежде всего государственным служащим, дворянству и духовенству для ознакомления, правового применения и копирования. Показательно, что именно эти памятники были первыми в России государственными сводами постановлений и информации, сохранившимися во многих частных списках. Государев Родословец содержит краткую версию Сказания о князьях владимирских и легенды о происхождении московской и литовской знати. Государев Разряд создавал преемственность между военной службой в правление Дмитрия Донского и современностью. Другие документы, в меньшей степени апеллировавшие к прошлому, со временем сами становились овеществленной памятью, закладывающей основу для формирования исторических идентичностей. Родословное древо или Пальма тирании: переоценки прошлого Русской земли... войны римлян против татар, а пиком независимости объявлена коронация Миндовга в Риме105. На рубеже 1540-х-1550-х гг. польско-литовская дипломатия вновь приложила немалые усилия, чтобы пресечь переговоры в Риме о признании царского титула Ивана IV. Немецкое издание Записок Герберштейна, осуществленное после начала Ливонской войны, отразило опасения польско-литовского общества перед угрозой вторжения московитов на прусские земли. Листовки и летучие листки в начале 1560-х гг. распространили по всей Европе неприглядный образ московского агрессора, жестоко расправляющегося со своими противниками как внутри страны, так и за ее пределами. В Польско-Литовском государстве под воздействием московской угрозы усилились унийные процессы, причем при обсуждении перспектив инкорпорации части литовских земель в состав Короны Польской со стороны литвинов звучали упреки в адрес Сигизмунда II и его предшественников, будто бы бросивших на произвол судьбы свои восточные владения еще в XV в. Поворот в церемониальной культуре России середины XVI в. не прошел бесследно для осмысления предшествующих памятников историографии. Переработка „прошлого” требовала напряженной работы, цели которой были сформулированы после утверждения царского титула. Повесть о смерти Василия III была одним из памятников обращения к прошлому из новой перспективы. Василий III, согласно Повести, перед смертью благословил сына на царство, держа в руках коронационные инсигнии. Еще более радикальным образом прошлое было подвергнуто ревизии в Лицевом летописном своде последних лет правления Ивана IV. Этот масштабный церемониальный хронограф, первоначально предназначенный, вероятно, для демонстрации заграничным послам миниатюр со сценами из мировой и российской истории, составляет особый этап в историографическом процессе XVI в. До нас не дошли листы с миниатюрами за древнерусский период, однако более поздние сюжеты свидетельствуют 105 Впрочем, трактат издан впервые в 1615 г., и нет сведений о его более раннем хождении в рукописной форме: М. Литвин, О нравах татар, литовцев и москвитян, перев. В. И. Матузова, под ред. А. Л. Хорошкевич, Москва 1994; S. Mund, Orbis, p. 180; O. Łatyszonek, Od Rusinów białych, s. 289-290. 85 86 Константин Ерусалимский о привлечении к работе над иллюстрированным хронографом не только так называемой Никоновской летописи (летописного свода митрополита Даниила с дополнениями), но и текстов южнорусского летописания, а также Степенной книги. Редактирование последних томов так и не было завершено. Пометы на полях в Синодальном томе и Царственной книге, созда­нные, вероятно, при участии царя, отражают то напряжение в придворной жизни, которое известно и по другим источникам. Еще более интересны исправления самих миниатюр: образ Ивана IV до его коронации первоначально был передан в Своде в великокняжеской шапке и лишь в ходе редакторской переработки его указано было заменять на образ в царском венце. К этому же периоду следует отнести большинство авторских сочинений Ивана IV, вплоть до последнего года его жизни воплощавшие исторические знания и оценки российской власти. Для этих сочинений характерна ориентация на памятники исторической письменности, входившие в круг чтения власти и аристократии со времени Ивана III. Прежде всего, царь Иван был внимательным читателем хронографа, причем, судя по отдельным его пересказам русских событий XII в., в последние годы жизни он пользовался текстом, сходным с Лицевым летописным сводом. Истоки своей власти царь находил в Израиле, Риме и Византии, доказывая своим примером абсолютную симбиотичность идей Нового Израиля и Третьего Рима106. Царь отстаивает свое царское достоинство, превосходство над своими холопами и правителями низшего статуса, считая равными себе лишь султана и императора. Убеждение в том, что свою власть он наследует напрямую от Августа и его брата Пруса, только в последние годы его жизни натолкнулось на демистификацию, но, несмотря на это, так и не было им переосмыслено. Власть 106 Й. Раба выдвинул тезис, принятый рядом других исследователей, о том, что в России идея Нового Израиля старше идеи Третьего Рима. J. Raba, Moscow – The Third Rome or the New Jerusalem?, „Forschungen zur osteuropäischen Geschichte“, Berlin 1995, bd. 50, p. 297-307; D. B. Rowland, Moscow − The Third Rome or the New Israel?, „Russian Review”, 1996, vol. 55, no 4, p. 591-614. С конца XV в. эти идеи, как нам представляется, развиваются параллельно, имея различные источники и образно-метафорические основы. В эпоху создания кремлевских Сеней и Золотой Палаты расхождения между этими идеями, если они до того и мыслились в оппозиции друг другу, должны были уступить место метафорическому и историческому параллелизму. Родословное древо или Пальма тирании: переоценки прошлого Русской земли... для Ивана IV не является продуктом договора, ею невозможно поделиться, а можно лишь поступиться, она дана Богом и ответ за нее правитель несет только перед Ним. В связи с этим послания московского царя лишены исторических примеров, которые бы представляли жестоких и несправедливых правителей. В его сознании нет деформированной власти, есть лишь неудачливые правители, которых Бог наказывает за их грехи. Примеры тиранов, которые приводили ему польско-литовские дипломаты, его не убеждали. Он не видел ничего плохого в том, чтобы быть фараоном или тираном, и отвечал на подобные упреки замечаниями, вроде: „называешь меня фараоном, а фараоны никому дани не оплачивали”. Для него в прошлом независимого государства возможно было лишь самодержавие или смута, а все действия, которые приводили к предотвращению или прекращению смуты, были оправданы, если были эффективны107. Восхищение у Ивана IV вызывали удачные приемы в борьбе с изменой. Прошлое, по его мнению, было наполнено примерами, подтверждающими один из его излюбленных трюизмов: „изменников казнят во всех государствах”. Своим польско-литовским противникам он посылал упрек, что они, как и их предшественники, казнят своих изменников, а его собственную борьбу с изменой не признают. Приводимые Иваном IV и его посольскими служащими примеры из истории, впрочем, были весьма двусмысленными108. Измена была для царя всякий раз глубоко личной темой, мало связанной с иноземными реалиями и правовыми традициями. Глубоко личным был также страх, в кото107 В этом смысле не удивительно, что Ивана возмущает Варфоломеевская ночь во Франции. Здесь возможны две интерпретации. Более прагматичная – царь был против кандидатуры Генриха Валуа, одного из участников резни в Париже, на польский королевский престол. Более связанная с идеологией истории царя Ивана – убийство тысяч людей не были оправданы соразмерными угрозами. 108 Борьба великих князей Сигизмунда и Свидригайло была по сути противостоянием двух самостоятельных правителей. В свете этой истории царь Иван выставлял свою борьбу с Владимиром Старицким, который, разумеется, представал при этом в облике обособившегося от Москвы политического соперника. Еще два примера из литовской истории, которые встречаем в его сочинениях, это изменники в его же пользу Ян Викторин и Григорий Остик. В отношениях с Швецией Иван также рассуждает об измене, однако при этом называет изменниками противников Эрика XIV, которые были не меньше изменниками самого царя, поскольку нарушили его планы заполучения Катерины Ягеллонки, ставшие катализатором государственного переворота в Швеции и прихода к власти Юхана III. Остальные его изменники в современной истории были его собственными „холопами”. 87 88 Константин Ерусалимский ром принято видеть первые мемуарные признания московской власти. Царь вспоминает свое детство и находит в нем угрозы со стороны „изменных” и „мятежных” людей, которые откровенно унижают его и не считаются с его великокняжеским достоинством. В этой self-history трудно отличить воспоминания детства от оценок и страхов 33-летнего царя. Курбский принял признания царя за мелочную болтовню о „шубах и телогреях”. Царь в послании подданному судился с ним и ему подобными, как мог бы судиться сам Курбский с кем-нибудь из своих московских или волынских соседей. И все же, помимо детских психических травм в послании Ивана IV присутствовал и сугубо историографический ориентир, который, вероятно, он использовал первым из российских историков. Им был Хронограф, в котором можно было обнаружить истории жизни византийских императоров и государственных переворотов, столь же подробно изображающих повседневные реалии и бытовые детали. После возвращения из Москвы в 1570 г. польско-литовского посольства Я. Кротоского образ Москвы приобрел еще более зловещие очертания. Записки А. Шлихтинга и Г. Штадена стали известны в Европе несколько позднее. В Речи Посполитой важнейшими источниками о Московии были реляции шпионов и показания пленных. Знатоком „московских дел” считался князь А. М. Курбский, который в начале 1570-х гг. был близок к Радзивиллам и Острожским и был вовлечен в унийные про­екты. Его История о князя великого московского делех была завершена позже, вероятно, в начале 1580-х гг., когда печатный рынок уже пополнился хрониками А. Гваньини и М. Стрыйковского. Однако прямое влияние информации А. Шлихтинга-М. Стрыйковского в его Истории не прослеживается. Таким образом, в конце 1570-х-начале 1580-х гг. почти одномоментно историография Речи Посполитой пополнилась тремя историческими текстами о московской тирании. Только в печатной хронике Гваньини и рукописной Истории Курбского тиран был изображен как виновник гибели многих тысяч московитов. Мрачные подробности расправ в Москве были призваны доказать, что российское общество не настроено агрессивно против королевских владений, а само страдает из-за тиранического правления. В этих условиях походы Стефана Батория получали обоснование как война за освобождение родственного народа. Родословное древо или Пальма тирании: переоценки прошлого Русской земли... Стрыйковский, в своей неопубликованной версии хроники еще в середине 1570-х гг. выступивший в поддержку объединительных амбиций царя, снял все подобные соображения вместе со ссылками на исторические памятники московского происхождения в подготовленной для печати версии своего текста. Одновременно велась также переписка короля и его окружения с Иваном Грозным, в которой на историческую аргументацию царя звучали подробные ответы. Память о московских событиях и образы Московии сохранились также в публикуемых реляциях о победах над московитами, записках и корреспонденции придворных, дневниках шляхты и гербовниках Бартоша Папроцкого. Показательны суждения о прошлом и настоящем Руси князя А. М. Курбского. Само по себе то, что князь взялся за историческое сочинение и переводческую деятельность характеризуют его как мыслителя, тяготеющего к мультикультуральности. Иной раз истоки понятий, которыми он пользуется, невозможно обнаружить в российских источниках. Московское происхождение заявлено им в идентификации „нашего”. Это „наше” отличается от того, что описывается, как находящееся в европейском „здесь”. Свое происхождение князь также считает должным представить с целым рядом подробностей, касающихся родовых предков, рода ярославских князей, родства с царем и царицей. Показательно, что Курбский оценивает проблемы российской церкви как специфически российские: противостояние иосифлян и нестяжателей, в конструировании которого сам Курбский принял деятельное участие, отличает московское православие его времени, а занятие активной позиции в этом споре свидетельствует о мере причастности автора к покинутому отечеству. Как никто другой в свое время князь чуток к языковым различиям. Его язык уже определялся как избыточный, макаронический. Однако из интересующей нас перспективы удивительно как раз то, что помимо польско-литовского русского языка в текстах Курбского постоянно встречаются московизмы, обычно в сопровождении переводов на другие языки, более знакомые его читателям. Не менее удивительна агрессия князя в отношении приезжих, нерусских великих княгинь на московском троне, эти выпады мало похожи на обобщение европейской, в том числе 89 90 Константин Ерусалимский польской, матримониальной практики; если оставить в стороне биографические коннотации, остается предположить, что князь находил в уроженках страны гарантию ее духовного благополучия. Отчасти он отражал мнение своего польско-литовского окружения, для которого первая жена Ивана III великая княгиня Мария, дочь великого князя тверского, была символом мирных отношений Москвы с Литвой, тогда как Софья Палеолог была разжигательницей и символом затяжной войны. В то же время Елена Глинская – не только чужеземка в Москве, но и дочь изменника из литовской перспективы. Она принесла на свет нарушителя неустойчивого мира между русскими землями и разрушителя Святорусского царства. Труднее всего понять, как устроена идентичность самого Курбского. Вопрос о соотношении в ней московского и польсколитовского, который уже приходилось специально рассматривать его биографам, видимо, не решается в пользу отслаивания одного от другого. К примеру, те религиозные преобразования, которые испытывали русские земли во второй половине XVI в., были осмыслены князем с позиций православного догматика, близких к католической контрреформации. Многими исследователями отмечалась склонность Курбского к религиозной нетерпимости и крестоносной идее. В то же время его не обошел стороной принцип cuius regio eius religio Аугсбургского исповедания, нигде им прямо не заявленный (впрочем, как и крестоносный идеал), но присутствующий в подтексте его оценок. Чтобы понять, насколько самобытны и связаны с контекстами были взгляды князя, достаточно обратиться к понятию „Русская земля”. Русская земля, по мнению Курбского, состоит из двух частей – здешней и тамошней. Как целое, это единство характеризуется общей религиозностью. Православие и неотделимая от него кириллическая книжность, по его мнению, являются формирующим принципом для русских. Отступление от „своей” веры, хотя и необязательно единственно правильной и единственно возможной для других земель, может привести к катастрофе. Религиозное рвение, крестоносная идея и прозелитизм Курбского не распространяются далее тех земель, которые он считал исконно русскими, тогда как вселенская миссия Руси Курбским не обсуждается, в отличие от его московских современников. Единствен- Родословное древо или Пальма тирании: переоценки прошлого Русской земли... ный раз он говорит в Истории о том, что царь мог владеть почти всей вселенной, и это, возможно, отсылает к Сказанию о князьях владимирских и к тем настроениям, которые господствовали в окружении московского царя в период эйфории от военных успехов. Комментарием к взглядам князя на связь религиозности и государственности могла бы служить речь ландмаршалла Филиппа фон Белла, которая, как и ее произнесший, у автора Истории вызывает восторг. Речь ландмаршалла сводится к тезису о том, что католицизм был подлинной религией Ливонии, и если бы удалось его сохранить и не впадать в „люторскую ересь”, Бог не наказал бы Орден нашествием иноверцев. Ничего подобного не обнаруживается в отношении Курбского к мусульманским государствам, но он не скрывает и того, что задача уничтожения мусульманской угрозы ложится на плечи всех христиан. Похоже, в подтексте при этом не столько экуменическая идея, сколько подозрение относительно перспектив роста и территориальных амбиций ислама. По крайней мере, нет оснований подозревать в Курбском идеолога уничтожения всех мусульманских государств и самой этой конфессии. Преемственность власти понималась Курбским весьма своеобразно. По его мнению, Рюрик пришел на Русь из Империи. Эта идея перекликается с мотивами официального московского летописания и Сказания о князьях владимирских. Великой Русь была в правление двух „Владимиров Великих”, в которых можно узнать киевских князей Владимира Святославича и Владимира Мономаха. Единство „двух Владимиров” также отличает официальное московское историописание XVI в., в некоторых случаях их даже путавшее. В какой-то момент власть перешла в руки суздальских князей. Одного из них Курбский называет – это князь Андрей Суздальский. Трудно сказать, кто именно скрывается под этим именем: Андрей Боголюбский, Андрей Ярославич, Андрей Александрович? Этому князю Андрею и другим „Суздальским” принадлежала, по словам Курбского, „старшая власть” на Руси. И все окончательно запутывается в этом рассказе, когда История отмечает возможное происхождение великих князей тверских от Андрея Суздальского. Пожалуй, похожую интерпретацию перехода верховной власти на Руси можно обнаружить только одного современника и, возможно, знакомого Курбского – коронного канцлера Яна Замойского. В правление 91 92 Константин Ерусалимский татар великие князья русских земель были соратниками в общем деле освобождения страны и, по мнению Курбского, составляли единство родичей, соратников и собратьев. В борьбе за изгнание татар было то „общее дело”, которое приближало Русь к идеалу христианской республики, тогда как равенство князей перед лицом общей опасности закладывало перспективу совместного правления, избрания царя из рядов всего княжащего рода и образования единой русской империи. „Святорусское царство” – это для эпохи Курбского гапакс, встречающийся у него и в еще более необычном виде: „Святорусская империя”. Семантика обоих этих словосочетаний одинаковая. Появление из сакрального лексикона „свято-„ и из политического „царство” в одной формуле требует подробного комментария. „Империя” занимает место традиционной „земли” и имеет сопоставимые политические коннотации. В Истории Курбского удается проследить регулярность при употреблении понятий „земля” и „царство/империя”. Первое маркирует лишь суверенный статус государства, тогда как второе – единство церкви и государства, получающее воплощение в каноническом венчании монарха. В связи с этим показательно, что Курбский применяет понятие „империя” только к тому периоду истории Руси, когда такое единство, по его мнению, существовало. Поиски источников этого понятия проводил А. В. Соловьев, на наш взгляд, безуспешно109. Причины неудач выявил М. Чернявский, указавший на сходство данной формулы с названием западнохристианской империи – „Священная Римская империя”110. Курбскому могло быть известно также понятие „Святой Речи Посполитой”. Политическая святость была открытием западнохристианской ментальности. Перенос этой модели осуществился в Московской Руси лишь в начале XVII в. и, в лучшем случае, никак не ранее жизни Курбского. Влияние польской ренессансной историографии на эту схему до сих пор не изучалось. В хрониках Кромера и Стрыйковского-А. Гваньини принято представление о Руси как об империи. Обе могли быть известны Курбскому, хотя 109 A. V. Soloviev, Helles Russland – Heiliges Russland, в: Festschrift für Dmytro Čyževskii zum 60. Geburtstag. Veröffentlichungen der Abteilung für slavische Sprachen und Literatur des Osteuropa-Instituts (Slavisches Seminar) an der Freien Universität Berlin, Berlin 1954, bd. 6, s. 283-285. 110 M. Cherniavsky, Tsar and People. Studies in Russian Myths, New York 1969, p. 102-104. Родословное древо или Пальма тирании: переоценки прошлого Русской земли... однозначных доказательств его знакомства с этими текстами не обнаружено. Не вызывает сомнений, что Курбский по сравнению с этими авторами расширяет интерпретацию. Однако­ мы вновь оказываемся перед парадоксом, признав, что его „Русская земля” радикально заостряет сходство православного царства с католическим. И ответом на этот парадокс должен стать еще один: его „Русская земля” не идентична тому царству, которым правит царь Иван IV. Курбский осознает разницу между русским и московским. Результатом этого стали его языковые экскурсы, как в глоссах, так и в основном тексте Истории. При этом языковой пуризм Курбского – конструкт историографического происхождения. В переписке с князем К. К. Острожским он отказывается от предложения переводить священные тексты „на польщизну”, разуме­ется, не потому, что считает этот язык варварским. Его отношение к Короне Польской было подданническим. Речь в переписке идет лишь о священных текстах. Нельзя исключать, что и само предложение Острожского было шуткой. Он возглавил работу, которая увенчалась изданием именно русской Библии, причем тот русский язык, на который она переведена, родственен не только славянскому, но и русскому языку, на который переведены в волынском „кружке” Курбского Иоанн Златоуст, Иоанн Дамаскин, Симеон Метафраст и Евсевий Памфил. При этом само слово „язык” Курбский использует еще и как маркер, относящийся к христианской общности, что является, как отмечал М. В. Дмитриев, аномальным для современных Курбскому российских форм самоидентификации. Понятия, связанные с Русской землей, носят отнюдь не метафорический характер и не относятся к общности, которая, как например, иудеи, придерживается единой религиозности, но не имеет территории. Русская земля в воображении Курбского – конфедерация, как и католические королевства. При этом, будучи свидетелями и участниками проектов расширения Речи Посполитой, и сам князь, и другие эмигранты могли питать надежды на политическое объединение этих земель в единое целое. Эта перспектива понималась эмигрантами, конечно, неоднообразно. Если А. М. Курбский и, возможно, В. С. Заболоцкий уже в первое бескоролевье принимали участие в переговорах князя Ю. Ю. Слуцкого с католическим „избирательным бло- 93 94 Константин Ерусалимский ком” М. Ю. Радзивилла и Я. И. Ходкевича, представляя интересы весьма далеких от Москвы православных сил на выборах, то 15 лет спустя, уже в год третьего бескоролевья, А. В. Сарыхозин и Т. И. Тетерин ведут тайные переговоры с Москвой и подписываются на универсале литовской элиты, выступившей в поддержку московской кандидатуры (впрочем, о политических идеалах того и другого ничего не известно, а их сецессионизм может объясняться и иначе). Воссоединение русских земель под властью польско-литовских суверенов казалось современникам Стефана Батория и московской Смуты реализуемым политическим проектом. Когда в начале 1599 г. в Речи Посполитой распространились слухи о смерти Бориса Годунова, канцлер Ян Замойский писал королю, чтобы он поспешил создать себе поддержку для занятия московского престола, поскольку его могут опередить татары: „...в их собственных хрониках говорится, что когда пришел Батый и татары в Крым, они повоевали ту Русскую землю, и потом в течение долгого времени им татарский царь назначал великих князей, как Турок господарей в Мультаны или Валахию. И сам предок князя Московского сдвинул Суздальского с того великого княжества подкупом у царя. И только вот недавно они от этого освободились”111. Москва была на грани очередного династического кризиса. Замойский не видел для России путей его преодоления, иначе как в подчинении внешнему суверену, который мог бы там назначать великих князей, как ранее это делали татары. Более того, их хроники содержали сюжет смещения великого князя суздальского с великокняжеского престола и получения московским князем ярлыка подкупом. Ориентируясь на русские летописи, канцлер предложил прочитать русское прошлое так, как если бы появление в нем великих князей московских было случайной ошибкой. Шесть лет спустя Замойский выступил на сейме против аферы новоявленного московского царевича Дмитрия Ивановича и – еще при живом Борисе Годунове – назвал претендентов на московский трон в рядах московской же знати: „Законными наследниками этого княжества был род владимирских князей, по прекращении которого права 111 Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk, rękopis 289, s. 45 (13 января 1599 г.). Родословное древо или Пальма тирании: переоценки прошлого Русской земли... наследства переходят на род князей Шуйских, что легко можно видеть из русских летописей”112. Эта интерпретация открывала перспективу смещения „незаконных наследников” с российского престола, а также дальнейших переосмыслений российского престолонаследования и его правил. 4. Заключительные ремарки: Собирание земель или уния? Была ли готова польско-литовская историография принять Московское государство в состав Речи Посполитой Обоих Народов? И если да, то в каком качестве? Отвечая на этот вопрос, нам предстоит учесть не только пересечения тематических полей двух зрелых и самостоятельных исторических культур, но и ментальные процессы, которые историография усвоила, отражала, воплощала и формировала лишь частично. Вернемся к тому, что говорилось в самом начале данной работы об отличии российского историописания от польско-литовского. Было ли это расхождение преодолимым? Для историографии, кажется, ответ был бы отрицательным: чтобы польско-литовская историческая культура стала понятной в России, следовало, по меньшей мере, осуществить перевод на московский русский язык ключевых категорий и привить российской историографии неизвестные ей способы интерпретации прошлого. Трудности, которые бы возникли при переводе московских категорий и интерпретаций на языки польско-литовской учености, были бы, кажется, не меньшими. С этими задачами пытались справиться Курбский и Стрыйковский, Иван Грозный и Стефан Баторий. У нас нет сведений о том, как прочитал Иван IV присланные ему от польского короля в 1581 г. трактаты о московской тирании. Но можно подозревать, что царь, как и ранее, счел эти тексты плодами наговоров своих изменников и недоброжелателей. В свою очередь король Стефан, канцлер Замойский и их приближенные не ви- 112 Русская Историческая Библиотека, Санкт Петербург 1872, т. 1, стб. 16-17; цит. в: В. Козляков, Василий Шуйский, Москва 2007, c. 75. 95 96 Константин Ерусалимский дели в сочинениях царя никаких исторических представлений, а лишь „фалш” и „басни бахорев”. Курбский и Стрыйковский многое сделали, чтобы Русская земля, за которую вели спор суверены, вновь стала единым субъектом истории. При этом Курбский никак не комментировал знания о Русской земле, содержащиеся в трудах польско-литовских историков, а Стрыйковский просто вычеркнул из окончательного текста Хроники все те немногие отрывки, которые могли служить доказательством его знакомства с историческими сочинениями московитов. На всем протяжении XVI в. московские великие князья и цари питали надежды на раздел Польско-Литовского государства и присоединение русских земель к Москве. В польсколитовской республике политики и близкие к ним интеллектуалы думали в том же направлении, рассчитывая на вхождение России в состав объединения народов под властью Ягеллонов и их продолжателей. Воображение историков сопредельных государств поддерживало и развивало один и тот же риторический конструкт „Русская земля” в различных его модификациях, захва­тывая с его помощью земли и их жителей. Московские историки устанавливали соответствия между географическими ориентирами древности и „последних времен”, в то время как европейские соседи направляли свои усилия на то, чтобы показать, как „Русская земля” теряет былые свободы, попадая под власть Москвы. Тщательно подготовленный предшествующим развитием историописания в русских землях прием damnatio memoriae, отточенный в изложении русско-ордынских отношений, был распространен в Москве Ивана III и его наследников на европейских соседей. Генеалогические и географические фабрикации воссоздали „Россию” не как преемницу „Русской земли”, а как саму древнюю „Русскую землю” в том понимании ее территории, которое вычеркивало на европейской карте Великое княжество Литовское, Ливонский орден, ордынские государства и обращало все эти земли в их актуальных границах в предмет притязаний московских господарей. В то же время европейские читатели все больше привыкали к мысли о том, что на востоке от Речи Посполитой образовалась политическая сила, унаследовавшая татарские приемы завоевания, их деспотизм и концепцию рабского подданства. Исторические фабрикации Москвы вызывали тревогу и неоднократно Родословное древо или Пальма тирании: переоценки прошлого Русской земли... встречали разоблачения, в том числе в их ключевых позициях, провозглашающих происхождение русских господарей от Пруса, преемственность власти от Киева к Москве, а также наследование Иваном IV царского титула христианских и мусульманских императоров. Интеллектуальные утопии несли угрозу объединительным усилиям великих князей московских в силу того, что формировали альтернативные образы „собирания земель”. „Руссия” Герберштейна из записок ученого путешественника, благодаря ее переосмыслению в хрониках Кромера, Бельского, Стрыйковского и Гваньини, превратилась в действенное оружие пропаганды мобилизованной против Ивана IV Речи Посполитой. „Святорусская империя” Курбского наделяла русские земли статусом европейской конфедерации, возглавляемой избираемым по его дарам царем, первым среди равных в роду потомков Рюрика – выходца из империи Святоримской. Память о древней Руси не была „живой традицией”, а возникала в результате реинтерпретации летописных и хронографических текстов, в значительно меньшей мере – актовых источников. Общий запас информации о домонгольской истории, а также отчасти о периоде зависимости русских земель от ордынцев составлял своеобразный common stock истории „Русской земли” в XV-начале XVII в. Интерпретации „общего древа” насыщали прошлое прочтениями, реорганизовали нарративные памятники о Руси, вносили новые смыслы в уже известные термины и под видом преемственности создавали разрыв в общей культурной традиции. 97 Дмитрий Степанов К вопросу о формировании протонационального самосознания украинской элиты в середине-второй половине XVII века Question of the Formation of Protonational Self-Identification of the Ukrainian Elite in the Second Half of the 17th Century This article focuses on the question of protonational consciousness of the Ukrainian elite in the second half of the 17th century. In the light of the contemporary sources one may assume that the consciousness consisted of two senses – of belonging to the overall Ruthenian world, comprising also the Orthodox citizens of the Duchy of Muscovy, and to the developing “Little Russian” community, limited to the Orthodox citizens of the Ruthenian lands of the Crown. 1. Введение Тема возникновения и развития этнического (протонационального) в позднее Средневековье-Раннее Новое время сейчас относится к „модным”, иначе говоря, научно актуальным проблемам. Процесс формирования этнического и религиозного самосознания украинской элиты в середине-второй половине XVII в. тем интересно, что мы имеем дело с населением, проживающим на культурном пограничье. С одной стороны, шляхта, казачья старшина и „духовная интеллигенция” были не чужды западным тенденциям в осмыслении собственной идентичности (хотя бы 100 Дмитрий Степанов через влияние польского сарматизма). С другой стороны, большое значение имели православные византийские традиции, сохра­нившиеся и осознанные через древнерусское (общерусское) наследие. В качестве наиболее иллюстративного метода хотелось бы воспользоваться работой Бенедикта Андерсона Воображаемые сообщества. Именно такими словами автор называет все сообщества, члены которых не знают и заведомо не могут знать лично или даже „понаслышке” большинства других его членов, однако имеют представление о таком сообществе, его образ. Самосознание является, условно выражаясь, структурой многослойной. Человек может одновременно причислять себя к разным воображаемым сообществам и в зависимости от ряда внешних факторов одни сообщества будут более актуальны, чем другие. В качестве хронологических рамок представленного выступления хотелось бы обозначить 1648 – год начала восстания Б. Хмельницкого и 1674 г. – время издания в Киево-Печерском монастыре первого учебника по „русской” истории – Синопсиса. Выбор не случаен. Начало крестьянско-казацкой войны против легитимного монарха, затем Переяславская рада и принятие „со всем Войском Запорожским и со всеми городами” подданства московского царя требовало от старшины и части шляхты, участвовавших в войне „узаконения” собственных действий. А это не могло не вызвать определенный этап осмысления собственной идентичности. С другой стороны, в таком источнике как Синопсис этот этап не мог не найти своего оформления, изменения… В этой статье хотелось бы затронуть в общих чертах все, что связано с „русским” воображаемым сообществом в сознании казачьей старшины и украинской шляхты, оказавшейся после 1654 г. на стороне Москвы. „Русь”, „народ руський (руский)”, „русские люди” – это наиболее часто употребляемые в среде малороссийской элиты термины, которые сейчас соблазнительно назвать этнонимами. Но чтобы более точно очертить предмет нашего исследования, поставим следующие вопросы: каковы религиозные границы „народа русского” в сознании гетманов и их Б. Андерсон, Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма, перев. В. Николаев, Москва 2001. К вопросу о формировании протонационального самосознания украинской элиты... окружения? Были ли униаты частью „Руси”? Имела ли „Русь” „историческое изменение” и можно ли говорить о единой исторической памяти (этногенетическом мифе)? Важно отметить, что в то время на территории Восточной Европы проживал еще один народ, претендовавший на „русскость”. Речь идёт о населении Московского государства. В связи с этим зададимся вопросом: как „русские люди”, проживающие на украинских землях и в Московском государстве, смотрели друг на друга? Считали ли они себя разными народами или признавали причастность друг друга к одному воображаемому сообществу „Русь”? Специфика источников, которые будут представлены, заклю­ чается в их разнородности. С одной стороны, мы имеем дело с эго-документами – в первую очередь, перепиской, затем с политическим трактатом – Перестрогой Украины 1669 г., с историческим сочинением – Синопсисом с проповедями такого представителя высшего православного духовенства как Лазарь Баранович. То есть нас интересует все то, что хоть в какой‑то мере может дать нам понятие о формировании идентичности в малороссийской элите в указанный период. Все вышеперечисленные вопросы уже неоднократно поднимались в историографии, но это не дает нам основания говорить, что тема исчерпана. Даже более того, на данный момент сложно сказать о каком-либо концептуальном перевороте при разработке названных проблем. Впервые об этом стал писать М. С. Грушевский более ста лет назад. После этого вышло несколько статей, посвященных проблеме формирования протонационального самосознания украинской элиты. На современном этапе можно обозначить, с одной стороны, Ф. Сысина и С. Н. Плохия, в чьих исследованиях последовательно представлена концепция „русского” как украинского или „не-московского” и концепция Б. Н. Флории, О. Б. Неменского и М. В. Дмитриева об „общерусском” понимании термина „руський”. F. E. Sysyn, Ukrainian-Polish Relations in the Seventeenth Century: The Role of National Consciousness and National Conflict in the Khmelnytsky Movement, в: Poland and Ukraine. Past and Present, ed. by P. J. Potichnyj, Edmonton–Toronto 1980, p. 58-82; С. Плохій, Наливайкова віра: Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні, пер. С. Грачова, Київ 2005. В. Т. Пашуто, Б. Н. Флоря, А. Л. Хорошкевич, Древнерусское наследие и исторические судьбы восточного славянства, Москва 1982; Б. Н. Флоря, О некоторых особенностях развития 101 102 Дмитрий Степанов 2. Отношение малороссийской элиты к московскому царю Оговоримся, что речь пойдет об официальных документах, содер­жащих изрядную долю своего рода пафоса и даже панегирики. Уже неоднократно упоминалось, что казаки вполне ощущали договорной характер своих взаимоотношений с властью. В самом утрированном варианте это отношение можно выразить как „лояльность в обмен на привилегии”. Нарушение казацких вольностей давало таким образом идеологическое обоснование „поискать себе другого пана”. Во время переяславско-московских переговоров 1654 г. Хмельницкий и его окружение, желая закрепить свои „вольности” в юридической форме, потребовали от царского посла В. В. Бутурлина, чтобы тот „веру учинил за государя”, то есть присягнул от имени Алексея Михайловича. Аргументом для этого послужил тот факт, что так поступали польские короли по отношению к своим подданным. Естественно, такая просьба удивила московских представителей, которые отказались её удовлетворить, назвав прошение казаков „непристойными речами”. Важно отметить, что переход под власть Алексея Михайловича был легитимизирован на двух уровнях. На первом, очень важном, но не для этой статьи, царь – это православный монарх, чьим священным долгом было освобождение единоверных народов из-под „иноверческого ига”. этнического самосознания восточных славян в эпоху Средневековья-раннего Нового времени, в: Россия–Украина: история взаимоотношений, Москва 1997, с. 9-29; О. Н. Неменский, Воображаемые сообщества в «Палинодии» Захарии Копыстенского и «Обороне унии» Льва Кревзы, „Белоруссия и Украина. История и культура. Ежегодник 2005/2006”, Москва 2008, с. 41-78; idem, Русская идентичность в Речи Посполитой в конце XVI-первой половине XVII в. (по материалам полемической литературы), в: Религиозные и этнические традиции в формировании национальных идентичностей в Европе. Средние века-Новое время, ред. М. В. Дмитриев, Москва 2008, с. 180-197; idem, Об этноконфессиональном самосознании православного и униатского населения Речи Посполитой после Брестской унии, в: Между Москвой, Варшавой и Киевом. К 50-летию проф. М. В. Дмитриева. Научное издание, ред. idem, Москва 2008. В одном из писем королю, Хмельницкий писал: „Bo jeżeli w tym nie było łaski Jego Królewskiej Mości Pana Naszego Miłościwego i wszytkiej Rzeczypospolitej, nieomylnie stron obodwoich krwie chrześciańskiej rozlanie, a ziemie Jego Królewskiej Mości zniszczenie być by musiało, a my postradawszy wszytkiego, inszego szukaliśby sobie postronnego musielibyśmy pana”. Документи Богдана Хмельницького (далее – ДБХ), Київ 1961, с. 268. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России (далее – АЮЗР), т. 10, Санкт Петербург 1878, с. 226. К вопросу о формировании протонационального самосознания украинской элиты... С другой стороны, Алексей Михайлович представал наследником Владимира Крестителя и „благочестивых князей российских”. Так, Богдан Хмельницкий называл Алексея Михайловича светилом русским. В других документах он предстает как „царь православный российский”. В марте 1654 г. киевский митрополит Сильвестр Коссов отправил Алексею Михайловичу послание, где выражал радость по случаю рождения наследника, который „многовожделенный всему яфеторосийскому племени нашему”, так как „новорожденного деля и боговенчанного вашего царского величества сына, нашего же российского роду, по Божьей воли, храброго защитника и ужасного от всех противных заступника и покровителя”. Более того, царевич Алексей Алексеевич, по словам Сильвестра, родился „в наследие православного скифетра яфето­росийского и во ужас всем христоненавистным варваром и прегордым иноплеменником”. Эти слова, в свою очередь, генетически связаны с той традицией, которую мы можем встретить в полемических произведениях украинских книжников первой четверти XVII в. Захарья Копыстенский, Иов Борецкий и другие возводили генеалогию „рода росского” к сыну Ноя Иафету (Афету). Таким образом, Сильвестр как бы подчеркивал, что и он и царь в его понимании относятся к одному „российскому поколению”. Подобные мотивы мы встречаем еще несколько раз. В 1660 г. казацкие послы во главе с полковником В. Золотаренко присутствовали на польско-русских переговорах. На доводы польской стороны, что до этого Войско Запорожское всегда было в составе Польско-Литовского государства, казаки ответили двумя пространными письмами. В одном из них, обосновывая Переяславско-московские соглашения, казаки писали: „Понеж войско запорожское для тяжких и неистерпимых обид давную веру христианскую, волности казацкие и весь малоросийский народ и через несколко сот лет обходящих отступив за помощью Божьею от коруны полские, а к належащему госуда- Ibidem, с. 321. Ibidem, с. 322. Ibidem. 103 104 Дмитрий Степанов рю и самодержавно владетеля русскому православному из веков прилежащему государству одинова приклоня…”. 3. Русь, российский род, российское поколение Вопрос о том, что подразумевали в Киеве или Чигирине, когда использовали эти термины, остается в высшей степени интригующим и отчасти заангажированным. Сразу оговоримся, что уже было неоднократно отмечено в литературе, для Хмельницкого и большей части его окружение эти предполагаемые этнонимы были в высшей степени связаны с конфессиональной принадлежностью. Так из ряда документов, исходящих из канцелярии гетмана можно понять, что к унии относились как к „ляшской” вере, а к униатам – как к ляхам. Не существовало понятий „униатская церковь” – говорили костел, не было термина „русский униат” – для того времени это было взаимоисключающим. Комментируя Зборовский договор 1649 г., Хмельницкий сказал: „И ныне де их Бог помиловал, от их проклятые веры освободил… и в тех городех лятцким костёлом и ляхом и жидом впредь николи не быть, а быть де в тех городех одним королевским урядником, и то православным же христианом, а не ляхом”10. Таким образом, гетман комментировал 3-й (Уния, как неустанная причина притеснений и трудностей Речи Посполитой должна быть уничтожена как в Короне Польской, так и в Великом княжестве Литовском) и 10-й (Всякие земские, гродские должности во всех воеводствах и королевских городах, светских и духовных, начиная от Киева и до Белой Церкви и до татарской границы в Заднепровье, в воеводстве Черниговском, должны отдаваться не римской религии, а греческой) пункты Российский государственный архив древних актов (далее – РГАДА), ф. 79, oп. 1, 1660 г., № 4, л. 39. 10 Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех томах, (далее – ВУР), т. 2, Москва 1953, с. 269. К вопросу о формировании протонационального самосознания украинской элиты... договора11. Царскому посланнику Василию Унковскому, гетман в ноябре 1649 г. говорил: „не токмо што де нас, православных християн в порабощенье учинили, и святые Божия церкви мало не все разорили и учинили свою еретическую проклятую латынскую веру”12. Из данной цитаты видно, что для Хмельницкого уния – это вера „их (поляков)”, „латынская”, то есть католическая. Можно отметить, что в данном случае „руський (русский) человек” – это человек, родившийся на „русской земле” и исповедующий православие. Но считали ли казаки население Московского государства „русским”? – по всей видимости, да. Во-первых, вернемся к „территориальному” признаку. Несмотря на то, что Московское государство чаще всего называлось просто „Москвой”, никто из официальных лиц в Гетманщине никогда не противопоставлял Москву собственно Руси. Безусловно, центром русской земли считался Киев (что в Москве, кстати, не оспаривали). В качестве примера приведем письмо Хмельницкого, писавшего воеводе Плещееву, что не допустит набегов крымских татар на украинные царские города, потому что „Того не маш i не будет, штоб они мiли, царики татарские, побратавшися з нами, православную русь i вiру нашу воеват, тое не мошно…”13. В наследии гетмана часто можно встретить оборот „мир российский христианский” или „род российский”. Перея­славские соглашения трактовались как „воссоединение” двух частей одного рода: „И ныне Бог всеведущий и вседаровитый неизреченными судбами божественными, единое двое се сотворил – и ляхом врагом гордыя выя их смирил… и о народе российском благочестиво-христианском умилосердился…”14. Следует отметить, что в казачьей переписке того времени, несмотря на то, что для обозначения населения Московского государства преобладали термины „москали” или „москва”, можно 11 ДБХ, с. 128-129: 3) „Unia, jako ustawiczna narodu ruskiego ucisków i Rzeczypospolitej trudności przyczyna, zniesiona być ma, tak w Koronie, jako i w Wielkim księstwie Litewskim”; 10) „Urzędy wszelakie po wszytkich wojewódstwach ziemskie, grodzkie i miejskie w miastach królewskich, świeckich i duchownych, począwszy od Kijowa po Białą Cerkiew, po granicę tatarską, na Zadnieprzu, w województwie Czernihowskim, nie rzymskiej religiej, ale greckiej od Jego Królewskiej Mości podawane być mają”. 12 ВУР, т. 2, с. 429. 13 ДБХ, с. 143. 14 АЮЗР, т. 10, с. 432-433. 105 106 Дмитрий Степанов встретить и название выходцев из подконтрольных царю территорий как „русских” людей. Так, в январе 1657 г. полковник Иван Нечай писал царю: „а для лутчей веры руского человека, имянем Ивана Свиридова сына, с Тулы города, которой служил в полку Рипцова…”15. „Руськими” или „русскими” называли выходцев из Московского государства и представители более широких слоёв казачества16. Здесь, по-видимому, следует отметить, что в Посольском приказе жителей украинских земель чаще всего называли „литовскими людьми” или „белорусцами”, при этом время от времени относились к ним как к „русским”. Так, в статейном списке Ф. Бутурлина за 1657 г. было сказано: „а договоренося де у гетмана у Богдана Хмельницкого с Ракоциею Венгерским на том: городы по Вислу реку, и в которых жили руские люди благочестивые и церкви были, и тем быти к городом его царского величества Войска Запорожского”17. Но наиболее яркое свидетельство этого мы находим в 3-й статье Андрусовского перемирия: „однакож тем всем, всякого чину жителем, которые в стороне Его Царского Величества, в местах через сии договоры до подлинного времени уступленных, останут, вольное имеют быть во всех тех местех употребление веры святой католической, без всякого в отправовании богомолья, а взаим тем всем всякого чина русским людем, которые в сторону его Королевского 15 Ibidem, т. 3, Санкт Петербург 1861, с. 590. 16 В челобитной сотников Левка Мишкина, Андрея Павлова и атамана Никиты Яковлева за 1659 г. говорится: „вели, государь нам, холопем твоим дать в твой государев город Грунь руского начального человека” (речь идёт о стрелецком начальном человеке). Ibidem, т. 7, Санкт Петербург 1872, с. 285. В челобитной сотников И. Андреева и И. Чорнишова говорится: „и с ними (воровскими черкасами – Д. С.) бились про твоё государево многолетнее здоровье не щадя голов своих и с нами было руских людей десять человек”. Ibidem, с. 285. Полтавский полковник М. Пушкарь, возглавивший движение казаков левобережных полков против И. Выговского, писал в Москву о планах гетмана: „как Запорожья под себя возьмет и его полковника изведёт, и ему де Выговскому с ними идти на Киев и государевых людей высечь и ляхов и шведских людей в Киеве посадить, и учиняя то все, идти хочет на государевы руские городы”. Ibidem, т. 15, Санкт Петербург 1892, с. 27. В 1665 г. гетман И. Брюховецкий в инструкции к послу Лазарю Горленко писал: „Для прислания на митрополию Киевскою власти руское с Москвы имеет просити, чтоб чин духовный киевский к лядским митрополитом не шетався, и чтоб Русь Малая, услышав о присланию руского на митрополию строителя, утвержалась и под высокою его царского пресветлого величества рукою укреплялась... ибо для неимения духовной власти с Москвы руского, в воинстве теперя и в державе государской шкода чинится и впредь будет…”. Ibidem, т. 5, Санкт Петербург 1867, с. 282. 17 Ibidem, с. 557. К вопросу о формировании протонационального самосознания украинской элиты... Величества в местах через сии договоры уступлены оставают, вольное имеет быть употребление веры Греческой, без всякого в отправовании службы Божией затруднения…”18. В качестве промежуточного вывода следует отметить, что, по всей видимости, в сознании обоих народов представление друг о друге были сопряжены с причастностью к одному, нечетко очерченному воображаемому сообществу „руси”. В своём сочинении Трубы на дни нарочитыя праздников (1674) черниговский архиепископ Лазарь Баранович обращался ко всем „всероссийским сынам”. Кого он подразумевал под ними – нетрудно догадаться, учитывая его желание распространить свое произведение в великороссийских монастырях. Интересно, что „основание Российской земли” восходит к Крещению Владимира, а столпами „русской земли” названы благочестивые князья Борис и Глеб, которые являются покровителями всех князей и царей. В день почитания Владимира, согласно тексту проповедей, следует произносить молитву за царя: „Святый Владимире, церкви, яже ты сам создал еси, и яже твоя чада создах, в запустение придоша, ово самым временем, ово различными бранми: воздвигни паки, отроди Россию в первую красоту, Царю и Великий Княже Росский, умоли Бога, да умножи лета Царя и Великого князя Имярек: ради умножения хвалы своея, Владимире, владей миром…”19. Все вышесказанное, однако, не исключает того, что в представлении казаков, шляхты и высшего православного духовенства внутри „русского рода” не выкристаллизовывалось представление о другом народе, отличном от великороссов. „Род русский” был как бы выше по иерархии и состоял из двух частей – малороссийского народа и великороссийского. Можно привести несколько примеров. В уже приведенной речи П. Тетери 18 Полное собрание законов Российской империи, т. 1, Санкт Петербург 1830, с. 659. Впоследствии при заключении Глуховских статей с гетманом Д. Многогрешным, царские представители напомнили об этом пункте Андрусовского перемирия словами: „а в Андрусовских договрных статьях постановлено и укреплено: руским всякого чина людем, которые в сторону Королевского величества в местех, чрез те договоры достаются, вольное имеет бытии употребление вере греческаго закона, безо всякого в отправлении службы Божии затруднения…”. Ibidem, с. 810. Вполне очевидно, что при заключении перемирия российские дипломаты называли „русскими людьми” православное население Правобережья и белорусских земель. 19 Л. Баранович, Трубы на дни нарочитыя праздников, Киев 1674, л. 246. 107 108 Дмитрий Степанов 1657 г. прозвучали слова: „Егда отторженную многими леты, нестроения ради и междуусобия промежду князи росийскими ветвь приличную и свойственную, глаголю, Малую Росию, под долговременным игом работы ляцкой и литовской обремененную убо вещи народ наш приобрете под высокою и крепкою рукою вашего царского величества, многия воистину приобрете род наш славу: понеже, по Приточнику, царь праведный возвышает землю, приобрете род наш славу…”20. Вернемся к переписке Василия Золотаренко и других казацких посланников, присутствовавших на русско-польских переговорах в мае 1660 г. Казаки писали, что все „Войско Запорожское и народ малороссийский” после того, как перешли на сторону московского царя „со всем народом соединяся”. Как и в речи Тетери, переход украинских земель под власть царя трактовалось как присоединение: „А то для ради единой правоверной веры и для ради того, что и преж сего Малая и Белая Русь при Великой Росии под самодержцам русскими пребывали…”21. В центре повествования, написанного в 1674 г. киево-печерским архимандритом Иннокентием Гизелем Синопсиса, лежало повествование о „народе росском”22. Однако, Гизель не говорит о „россах” как о гомогенном сообществе. Недаром он часто использовал термин „российские народы”. Несколько раз он упоминает отдельный „московский народ” и даже более того, географически он четко разделял Россию на собственно Русь и Москву. Несмотря на то, что автор всего пару раз употребил обороты „Всероссийское царствие” по отношению к Московскому государству и „Малая Русь” по отношению к украинским землям, в Синопсисе мы находим уже проявление этнонациональной схемы, согласно которой единый „российский народ” не является чем-то цельным: внутри его есть разделения. Таким образом, Синопсис отразил те протонациональные тенденции, которые тогда формировались в верхах украинского общества23. 20 АЮЗР, т. 5, с. 710. 21 РГАДА, ф. 79, оп. 1, 1660 г., № 4, л. 230-231. 22 Иннокентий (Гизель), Синопсис или краткое собрание от ранних летописцев о начале Сла­ вено-российского народа, Киев 1674. 23 Подробнее о Синопсисе см.: „Труды Киевской духовной академии”, Киев 1865, т. 2; И. П. Еремин, К истории общественной мысли на Украине второй половины XVII в., в: Труды отдела К вопросу о формировании протонационального самосознания украинской элиты... Хотя отношение к Синопсису как историческому сочинению со временем становилось все более критическим, те элементы его схемы, которые относятся к единству Великой и Малой Руси, можно найти у всех авторов Историй России – от Н. М. Карамзина до С. М. Соловьева и В. О. Ключевского. Безусловно, то, что Синопсис лежит у истоков Русского Исторического Нарратива, отрицать нельзя24. 4. Москали, москва, народ московский Здесь мы сталкиваемся с очень интересной тенденцией, корни которой, по всей видимости, следует искать в польской историографии. Именно в ней появляется термин „москва” для обозначения населения Русского государства. По-видимому, из польских произведений это термин „перекочевал” в украинскую книжность. В качестве примера приведем такой пассаж из Густынской летописи, написанной в первой половине XVII в.: „…аки бо Русь и ляны; Русь, Москва, Ляхи, Славяне, Болгаре, Сербы. Се сии все единого суть народа и языка, си есть словянского”25. Еще одним важным моментом, который следует подчеркнуть – что никто из авторов летописей или хроник не противопоставлял „москву” Руси и даже подчеркивал, что „московский народ” – это часть Руси. Следует отметить два характерных момента. Во-первых, термин „москва” используется зачастую как синоним выражений „московские люди”, „народ московский”, „москали”. Приведем такой пример из Черниговской летописи: „Того ж року Бруховецкий оженился на москве”26. древнерусской литературы, т. 10, Москва–Ленинград 1954; с. 212-222; С. Л. Пештич, «Синопсис» как историческое произведение, в: ibidem, t. 15, Москва–Ленинград 1958, с. 284‑298. 24 А. И. Миллер, «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX в.), Санкт Петербург 2000, с. 32. 25 Полное Собрание Русских Летописей, т. 40, Густынская летопись, Санкт Петербург 2003, с. 12. 26 Ibidem, с. 31. 109 110 Дмитрий Степанов В свете обозначенных тенденций в процессе формирования собственной идентичности ярким иллюстративным примером может служить пока единственный известный нам общественно-политический трактат того времени – Перестрога Украины. С одной стороны, автор рассматривал Переяславскую раду как акт „воссоединения” Руси: „А такого зъедноченя Руси боятся барзо вшелякие народы: турки, немъци, орда и поляце”27. Таким образом, мы можем предположить, что в самосознании украинской элиты середины-второй половины XVII в. можно условно выделить, по крайней мере два уровня: „общерусский” и „малороссийский”. Изученные материалы дают возможность трактовать „общерусский” уровень самосознания представителей малороссийской элиты в самом широком смысле – как определенное древнерусское наследие, опирающиеся на представление о Руси как о всей территории расселения восточных славян. Однако долгое разделение „русских людей” государственными границами не могло не отразиться на формировании идентичности православного населения Речи Посполитой. Разница в социальной структуре и политическом строе наталкивали на ощущение обособленности населения украинских земель от „москвы”, что выразилось в формировании „малороссийского” уровня самосознания. Однако следует поставить вопрос о формировании именно этнического в содержании „общерусского” и „малороссийского” дискурсах. 27 Ю. А. Мицик, Перший український історико-політичний трактат, „Український історичний журнал”, 1991, № 5, с. 134-135. Andrzej Gil Państwowość tatarska na Syberii Zachodniej do podboju rosyjskiego Tatar Statehood in Western Siberia till the Russian Conquest The article presents the process of shaping and stabilising of the natives’ statehood, of Tatars in particular, in the territory of Western Siberia at the turn of the Middle Ages and the modern period. As a result of these processes a state of Siberian Tatars was created, which was part of a greater Tatar and partly Islamic ecumene. The state formation processes also encompassed other ethnoses, for example Ostiaks and Voguls (Khants and Manses), who made greater supratribal political associations but under the Tatar control. The states of Western Siberian tribal nations collapsed due to the conquest made by Russia. Russian imperial policy aimed to eliminate the sense of the existence of a Tatar state before the Muscovite conquest, successfully attempting to Russify the lands, also in the cultural context. Zachodnia Syberia – o powierzchni około 2,8 mln km2 – to obszar leżący w dorzeczu rzeki Ob (wraz z Irtyszem i Tobołem), ograniczony od zachodu górami Ural, od południa stepami Kazachstanu i stokami Ałtaju, od północy wybrzeżem Morza Karskiego i od wschodu wododziałem Obu i Jeniseju. Region ten jest niezwykle istotny dla współczesnej Rosji, przede wszystkim ze względu na swój potencjał ekonomiczno-gospodarczy, wynikający ze znajdujących się tam bogactw naturalnych i zasobów energetycznych – zwłaszcza ropy naftowej i gazu. Za Uralem zlokalizowanych jest wiele kluczowych dla gospodarki tego państwa przedsiębiorstw wydobywczych i przetwórczych, a z racji na swe położenie – bezpośrednio na wschód od europejskiej części Rosji – Zachodnia Syberia jest też stosunkowo dobrze – jak na miejscowe warunki – rozwinięta infrastrukturalnie 112 Andrzej Gil i cywilizacyjnie. Należy zauważyć, że w znacznej mierze w oparciu o potencjał tego właśnie regionu budowana jest międzynarodowa pozycja Federacji Rosyjskiej. Zachodnia Syberia traktowana jest powszechnie jako integralna część przestrzeni rosyjskiej (wielkoruskiej). Około 90% jej obecnych mieszkańców to etniczni Rosjanie. Jest to skutek bezprzykładnej rusyfikacji, trwającej kilka stuleci, będącej wynikiem przynależności tego regionu do państwa carów. Procesy rusyfikacyjne przejawiały się nie tylko w kolonizacji elementem wielkoruskim (i w dużo mniejszym stopniu mało- i białoruskim), ale także w dążeniu do zmniejszenia liczebności miejscowej populacji i jej faktycznego upośledzenia prawnego i politycznego, również w zmianach zastanych stosunków społecznych, kulturowych i własnościowych, co dokonywane było przez rugowanie tubylców z ich dawnych siedzib. Aby zatrzeć pamięć o przedrosyjskiej przeszłości Syberii Zachodniej, doprowadzono do zmian nazewnictwa punktów topograficznych oraz nazw miast i wsi na czysto rosyjskie, najlepiej powiązane z panującą dynastią bądź pospolite w przestrzeni wielkoruskiej. Zmitologizowano także przeszłość historyczną regionu poprzez oficjalne uznanie Syberii za ziemię praktycznie pustą, niezasiedloną, czekającą dopiero na tych, którzy zechcą skorzystać z jej zasobów. Tworzenie wizji czysto rosyjskiej Syberii (w tym także jej części zachodniej) stało się oficjalnym zadaniem państwa, realizowanym przez jego wszystkie możliwe agendy, łącznie z wykorzystaniem świata kultury i nauki. Taki sposób ujęcia przeszłości Syberii Zachodniej przeniknął do szerokiej świadomości społecznej i stał się częścią współczesnej rosyjskiej tożsamości. Poniekąd akceptowany jest on także poza Rosją, również w kręgach naukowych. Wszechrosyjski mit „podboju” Э. М. Раковская, М. И. Давыдова, Физическая география России. В двух частях, ч. 2, Азиатская часть, Кавказ и Урал, Москва 2001, s. 70-122 (rozdział: Западная Сибирь); L. Bazylow, Syberia, Warszawa 1975, s. 177-271 (rozdział: Syberia Zachodnia); Z. Szot, Geografia Rosji, w: Rosjoznawstwo. Wprowadzenie do studiów nad Rosją, red. L. Suchanek, Kraków 2004, s. 11-40. М. К. Любавский, Обзор истории русской колонизации с древнейших времен и до XX века, Москва 1996, s. 428-488 (rozdział: Занятие и заселение русскими людьми Приуралья, Сибири и Дальнего Востока). Zob. np.: N. V. Riasnovsky, M. D. Steinberg, Historia Rosji, przeł. A. Bernaczyk, T. Tesznar, Kraków 2009, s. 157 (w półstronicowym passusie zawarte są tu wszystkie toposy związane z rosyjskim widzeniem podboju Syberii Zachodniej: „tak zwany podbój Syberii”, „dzikie okolice górnego biegu Kamy”, gdzie „sprowadzano osadników”, „opór lokalnych plemion” i ich „nominalny władca”, „szaleńcza wprost odwaga” Rosjan itp.). Państwowość tatarska na Syberii Zachodniej do podboju rosyjskiego („покорения”) Syberii nie zakłada więc jakiejś długotrwałej walki zbrojnej o tę krainę, ale raczej „pokonanie” jej poprzez zmaganie się nowo przybyłych z warunkami geograficznymi, klimatycznymi i przyrodniczymi. Jest to więc kolejna odsłona obecnego skądinąd w wielu narodowych narracjach przekazu o „chłopskim pługu”, zdobywającym ciężką pracą nową przestrzeń dla swego narodu. Przedstawiciele syberyjskiej ludności tubylczej są w takim przekazie (jeżeli w ogóle) postrzegani jako element miejscowego folkloru, czy wręcz świata przyrody, jako interesująca osobliwość, ale w żadnym wypadku nie jako prawowici gospodarze ziemi i jej zasobów. Są to ludzie bez historii, egzystujący nie na granicy, ale poza ówczesnym światem. Cywilizacja na Syberii ma mieć zatem jednoznacznie rosyjskie oblicze. *** W czasach historycznych Syberia Zachodnia pod względem rozwoju społecznego oraz struktury etnicznej nie była regionem jednolitym. Spowodowane było to napływem na jej tereny kolejnych fal osadniczych o zróżnicowanym charakterze narodowościowym i językowym, w wyniku których powstała prawdziwa mozaika etnosów, początkowo o charakterze tak europoidalnym, jak i mongoloidalnym (na południową część Syberii Zachodniej wpływ wywarły zwłaszcza plemiona scytyjskie i sarmackie). Pierwszą większą migracją, której charakter etniczny da się określić dosyć precyzyjnie, był napływ ludności ugrofińskiej, przenikającej z południa w pierwszej połowie pierwszego tysiąclecia n.e. w rejon stepowo-leśny i leśny Zachodniej Syberii, zapewne pod naciskiem Hunów, i mieszającej się tu z zastanymi już przedstawicielami starszych etnosów. W wyniku tej migracji utworzyły się dwie gałęzie ludności ugrofińskiej – Ostiacy i Woguło А. Ремнев, Империя расширяется на восток: «топонимический национализм» в символическом пространстве азиатской России XIX-начала XX века, w: Ofiary imperium. Imperia jako ofiary. 44 spojrzenia, red. A. Nowak, Warszawa 2010, s. 153-167; Сибирь в составе Российской империи, ред. Л. М. Дамешек, А. В. Ремнев, Москва 2007, s. 63-75 (rozdział: Национальные аспекты колонизационной политики Российской империи в Сибири: «проект большой русской нации» и сибирская региональная идентичность); J. Forsyth, The Siberian Native Peoples before and after the Russians Conquest, w: The History of Siberia: From Russian Conquest to Revolution, edited and introduced by A. Wood, London 1991, s. 69-88. 113 114 Andrzej Gil wie (Chantowie i Mansowie), określani w źródłach ruskich mianem Jugry (niekiedy traktowanej jako odrębne plemię). Z kolei do strefy tundry około dziesiątego wieku n.e. napłynęły ludy noszące później miano Samojedów (m.in. dzisiejsi Nieńcy, Nganasanie, Eńcy, a także po części Selkupowie i Ketowie), przeważnie myśliwi i łowcy, o rodowej strukturze społecznej. Na wielkich przestrzeniach tej części Syberii dochodziło tak do mieszania się różnych etnosów, jak i do wytwarzania się między nimi pewnych osobliwości regionalnych. Ponadto wraz z upływem czasu i oddziaływaniem innych ośrodków cywilizacyjnych (zwłaszcza świata tatarskiego) wśród miejscowych populacji rozpoczął się proces dyferencjacji społecznej, prowadzący do wytworzenia się, zwłaszcza wśród ludności ugrofińskiej, instytucji zapowiadających powstanie w nieodległej przyszłości bardziej złożonych organizmów protopaństwowych. Proces rozkładu wspólnoty rodowej u Ostiaków i Wogułów był na przełomie XIV i XV wieku dosyć zaawansowany, tak że zasadne jest określanie powstałych w wyniku jego załamania organizmów mianem plemiennych księstw. Pozycja polityczna władcy takiego księstwa wynikała tak z jego osobistego bogactwa, jak i z trafności podejmowanych przez niego, a istotnych dla całej wspólnoty decyzji. Księstwa takie miały zazwyczaj jedno centrum (rodzaj gródka), będące jednocześnie swego rodzaju stolicą i punktem zbioru podatku, zwanego powszechnie jasakiem. Liczba takich księstw wynikała z aktualnego rozkładu sił, ale możliwe, że było ich jednocześnie kilka, a może nawet kilkanaście. Niektóre mogły tworzyć rodzaj konfederacji o szerszym znaczeniu, jak na przykład tzw. „Pełymska orda”. W południowej i centralnej strefie regionu swą obecność bardzo wyraźnie zaznaczała ludność tureckojęzyczna, tworząca szereg społeczności określanych niekiedy wspólnym mianem Tatarów syberyjskich. Geneza osadnictwa tatarskiego na Syberii jest przedmiotem З. Я. Бояршинова, Население Западной Сибири до начала русской колонизации (Виды хозяйственной деятельности и общественный строй местного населения), Томск 1960, s. 19-70; J. Forsyth, A History of the Peoples of Siberia: Russia’s North Asian Colony (1581-1990), Cambridge 1992, s. 10-21. С. В. Бахрушин, Остяцкие и вогульские княжества в XVI-XVII веках, Ленинград 1935, s. 33-85. Dobrą charakterystykę zróżnicowania ludności tureckiej (w tym i tatarskiej) na Syberii Zachodniej zawiera praca: Н. А. Томилов, Этническая история тюркоязычного населения Западноcибирской равнины конца XVI-начала XX в., Новосибирск 1992, s. 30-67. Autor przedstawia problematykę związaną z osadnictwem tureckojęzycznym w odniesieniu do ogólnego stanu Państwowość tatarska na Syberii Zachodniej do podboju rosyjskiego naukowych sporów, ale niewątpliwie sięga ono czasów na długo sprzed inwazji mongolskiej i utworzenia imperium Czyngis-chana, czemu zresztą rzeczywiście towarzyszyły ogromne ruchy migracyjne. Według jednego z wiodących badaczy dziejów dawnych Turków, Gabdelbara Fajzrachmanowa, genezy osadnictwa tej ludności na Syberii Zachodniej należy upatrywać już w okresie tworzenia się imperium huńskiego. Od tego momentu Turcy mieli się stać trwałym komponentem etnicznym wielkich połaci Eurazji, a północną granicę ich obecności wyznaczali właśnie syberyjscy Tatarzy. W zasięgu wszystkich imperiów koczowniczych, poczynając od Hunów i dalej przez kaganaty turecki, ujgurski i kimacki, znajdowały się południowe regiony Syberii Zachodniej. Każda zaś władza polityczna zostawiała po sobie napływową ludność, w tym także i tę, która odgrywała w całości struktury rolę wiodącą. W tym zapewne należy upatrywać pojawienia się na Syberii Zachodniej etnosu tureckojęzycznego, z racji na jego uprzywilejowaną pozycję w stepowych imperiach w wyraźny sposób odstającego wyższą kulturą polityczną od reszty miejscowej, syberyjskiej populacji. Niewątpliwie silnym bodźcem do zintensyfikowania procesów państwotwórczych Tatarów zachodniosyberyjskich były wydarzenia związane z powstaniem imperium mongolskiego oraz z jego wewnętrznymi rozgraniczeniami na szerokim pograniczu eurazjatyckim10. W skład państwa Czyngis-chana wchodziła południowa część Zachodniej Syberii (tzw. „ludy leśne”), która składała się na tereny zajęte przez jego syna Dżocziego w trakcie kampanii wojennej w roku 120711. Zgodnie z wolą ojca Dżoczi przejął kontrolę nad zachodnią 10 11 zaludnienia tego regionu, ponadto analizuje zmiany demograficzne, konstatując ciągły spadek procentowego udziału ludności pochodzenia tureckiego w populacji Zachodniej Syberii, do śladowego wręcz procentu. Ibidem, s. 107-128. Zob. także: idem, Сибирские татары – кто они?, w: От Урала до Енисея (народы Западной и Средней Сибири), кн. 1, Томск 1995, s. 23-35. З. Я. Бояршинова, Население Западной Сибири, s. 100-101. Г. Файзрахманов, Древние тюрки в Сибири и Центральной Азии, Казань 2000, s. 39-174; Л. П. Потапов, Очерки по истории алтайцев, Москва–Ленинград 1953, s. 79-110; Z. Łukawski, Historia Syberii, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1981, s. 21-26. Podstawowe fakty co do powstania i rozwoju mongolskiego imperium w jego początkowej fazie w pracach: P. D. Buell, Historical Dictionary of the Mongol World Empire, Lanham (MD) 2003, s. 17-52 (rozdział: Mongol Empire 1206-1260); Z. Kałużyński, Dawni Mongołowie, Warszawa 1983, s. 190-208 (podrozdział: Powstanie i rozwój państwa mongolskiego) oraz mapa: Podboje mongolskie i rozwój imperium Mongołów w XIII w. T. May, Najazdy Mongołów, przeł. J. Matys, Warszawa 2010, s. 29. 115 116 Andrzej Gil częścią państwa (tzw. „ułus Dżocziego), czyli także nad owymi zachodniosyberyjskimi „leśnymi ludami”12. Po śmierci Dżocziego (1227) władzę nad tym obszarem przejął z kolei jego syn (a wnuk zmarłego pół roku później Czyngis-chana) Batu-chan, co było podstawą do wyodrębnienia i powstania w niedalekiej przyszłości państwa sukcesyjnego, czyli późniejszej Złotej Ordy. Proces rozkładu imperium mongolskiego był już na tyle zaawansowany, że w działaniach Batu-chana można dostrzec chęć uzyskania pełnej niezależności od wielkich chanów (następców Czyngis-chana na tronie w Karakorum). Od panowania brata Batu-chana, Berke (chan w latach 1257-1267), można mówić o istnieniu niezależnego państwa postimperialnego – Złotej Ordy, stanowiącej w końcu XIII i w XIV wieku prawdziwy pomost między Azją a Europą13. Dla narodów Zachodniej Syberii, wchodzących w skład Złotej Ordy, istotne były mające miejsce w tym okresie dwa procesy: tataryzacji części miejscowej populacji oraz jej, początkowo dosyć powierzchownej, islamizacji. Zjawiska te rozpoczęły się już za panowania Berke i związane były z jego osobistym zaangażowaniem, zwłaszcza w dziedzinie religijnej. Aczkolwiek ziemie syberyjskie leżały na peryferiach jego państwa, to jednak i tu dotarły idące od Azji Średniej muzułmańskie wpływy o różnym, także represyjnym charakterze14. 12 Tajna historia Mongołów. Anonimowa kronika mongolska z XIII wieku, z mongolskiego przeł., wstępem i komentarzami opatrzył S. Kałużyński, Warszawa 2005, s. 142-143. Ułus Dżocziego tworzyły ziemie na zachód od Irtysza i Chorezm. Zob. mapy i tekst: The Mongol Conquest oraz The Mongol Uluses in the 13th century, w: An Historical Atlas of Central Asia, by Y. Bregel, Leiden– Boston 2003, s. 36-39. 13 А. Ю. Якубовский, Образование и развитие Золотой Орды в XIII-XIV вв., w: Б. Д. Греков, А. Ю. Якубовский, Золотая Орда и ее падение, Москва–Ленинград 1959, s. 17-178; Г. Хафизов, Распад монгольской империи и образование улуса Джучи, Казань 2000, s. 63-88; В. В. Трепавлов, Золотая Орда в XIV столетии, Москва 2010, s. 16-50; Ch. J. Halperin, Russia and the Golden Horde. The Mongol Impact on Medieval Russian History, Bloomington 1985, s. 21-32 (rozdział: The Mongol Empire and the Golden Horde); Э. Д. Филлипс, Монголы. Основатели империи великих ханов, пер. О. И. Перфильев, Москва 2003, s. 141-156 (podrozdział: Золотая Орда в западных степях); Е. П. Мыськов, Политическая история Золотой Орды (1236-1313 гг.), Волгоград 2003, s. 74-111. O Złotej Ordzie w kontekście źródłoznawczym zob. pracę: Источниковедение истории Улуса Джучи (Золотой Орды). От Калки до Астрахани 1223-1556, Казань 2001 (tu spośród wielu przede wszystkim artykuł: И. Л. Измайлов, Формирование этнополитического самосознания населения Улуса Джучи: некотрые элементы и тенденции развития тюрко-татарской исторической традиции, ibidem, s. 244-262). 14 М. Г. Сафаргалиев, Распад Золотой Орды, Саранск 1960, s. 47-48; Ислам на краю света. История ислама в Западной Сибири в 3 томах, т. 1, Источники и историография, ред. А. П. Ярков, Тюмень 2007, s. 16-103. Na aspekt represywny kontaktów świata muzułmańskiego z mieszkańcami Syberii Zachodniej zwraca uwagę Igor Bielicz w swoim interesującym artykule: Państwowość tatarska na Syberii Zachodniej do podboju rosyjskiego Jak każde państwo stepowe, tak i Złota Orda nie stanowiła monolitu politycznego, społecznego i religijnego. Od samego początku jej istnienia z jednej strony łączyła ją wola panującego i prestiż jego pochodzenia z rodu Czyngisydów, a także zdolności militarne i polityczne kolejnych chanów, z drugiej zaś rozbijały ją siły odśrodkowe będące pochodną wspomnianych różnorodności. Podział Ordy na dwie części – zachodnią i wschodnią (przyjęła ona miano Białej Ordy) – był tylko preludium do jej dalszego rozdrabniania. Panowanie w Złotej Ordzie chana Dżanibeka (1341/1342-1357) było ostatnim okresem wielkości i potęgi tej części „ułusu Dżocziego”. Jego syn i następca, Berdibek (1357-1359), wkrótce zginął i państwo to ogarnął silny kryzys15. Próba przedłużenia istnienia Złotej Ordy jako całości, podjęta przez beglerbeka Mamaja (nie należał do Czyngisydów i dlatego zadowolił się tylko takim tytułem), nie była skuteczna. Jego starania o ponowne realne uzależnienie Rusi (której­ liderem stawało się Wielkie Księstwo Moskiewskie) od Ordy zakończyły się niepowodzeniem na polu kulikowskiej bitwy (8 września 1380)16. Konsekwencją tej klęski było przejęcie władzy w Ordzie przez pochodzącego z rodu Dżocziego Tochtamysza (sam beglerbek Mamaj został zgładzony w genueńskiej Kaffie). Rządy Tochtamysza w dziejach Złotej Ordy zapisały się jako ostatni okres jej względnej jedności. Nowy chan prowadził początkowo uwieńczoną sukcesami politykę zagraniczną, utrzymując dobre relacje z władcami azjatyckimi (tu zwłaszcza z Tamerlanem) i europejskimi (przede wszystkim z Jagiełłą i Witoldem). Podjął także szereg działań na rzecz reformy wewnętrznej swego państwa. Jednakże jego И. Белич, О религиозных войнах учеников шейха Багауддина против инородцев Западной Сибири, w: Проблемы истории Казани: современный взгляд, ред. И. К. Загудуллин и др., Казань 2004, s. 480-502. 15 Т. И. Султанов, Чингиз-хан и Чингизиды. Судьба и власть, Москва 2006, s. 217-235; В. В. Трепавлов, Золотая Орда, s. 49-50. 16 Zob. m.in.: А. Н. Насонов, Монголы и Русь (История татарской политики на Руси), Москва 1940, s. 117-135; В. В. Каргалов, Конец ордынского ига, Москва 1984, s. 43-59. Beglerbek Mamaj nie władał całością Złotej Ordy, a jedynie jej zachodnimi, zawołżańskimi ułusami (dlatego często określa się jego państwo jako Ordę Mamaja). Wschodnią częścią Ordy rządziło w tym czasie kilku chanów, a najdłużej Urus Chan. Należy wspomnieć, że niektórzy badacze nie upatrują w tych organizmach oddzielnych państw, a skłaniają się ku opinii o politycznej jedności Złotej Ordy w latach 60. i 70. XIV wieku i traktują Mamaja jak uzurpatora. И. М. Мигралеев, Политическая история Золотой Орды периода правления Токтамыш-хана, Казань 2003, s. 29. 117 118 Andrzej Gil błędem było rozpoczęcie działań militarnych skierowanych w stronę Azerbejdżanu, będącego częścią strefy wpływów imperium Tamerlana. Kilka wypraw Tochtamysza w tym kierunku, przedsięwziętych w drugiej połowie lat 80. XIV wieku, zakończyło się pozornym sukcesem militarnym, ale nie pozwoliło na trwalsze powiązanie najeżdżanych obszarów ze Złotą Ordą. Wielka wyprawa wojenna Tamerlana na Ordę, podjęta w 1391 roku, ujawniła brak zdolności wojennych Tochtamysza. Klęska wojsk ordyńskich w bitwie pod Kunduzczą (18 czerwca 1391) nie wstrzymała jednakże militarnych zapędów chana, dążącego z kolei do opanowania Kaukazu. Odpowiedzią na te dążenia była kolejna wyprawa Tamerlana (1395), w czasie której doszedł on aż pod Jelec na Rusi. Spowodowała ona potworne zniszczenia w samej Ordzie, co przypieczętowało upadek władzy Tochtamysza (zbiegłego wówczas na Litwę) i przejęcie kontroli nad Ordą przez Czyngisydę Temur-Kutługa oraz emira Edygeja, pochodzącego z plemienia Mangitów (będących głównym plemieniem Ordy Nogajskiej) – rywali dotychczasowego chana i protegowanych Tamerlana17. Bitwa nad Worsklą (sierpień 1399), w której zmierzyły się wojska litewskie (pod dowództwem Witolda) i ordyńskie (dowodzone przez Edygeja), stanowiła dla Tochtamysza podzwonne dla jego starań o odzyskanie tronu w Ordzie. Klęska wojsk litewskich oznaczała nie tylko przegraną pretendenta, ale i koniec aktywnej polityki wschodniej Witolda18. Chociaż Tochtamysz (który zbiegł tym razem na Syberię) nie zaprzestał starań o powrót na tron Złotej Ordy, rzeczywistym suwerenem stał się tu Edygej19. Rządził on Ordą do roku 1411, kiedy to z pretensjami do tronu ordyńskiego wystąpili synowie nieżyjącego już od sześciu lat Tochtamysza. Edygej zbiegł do Chorezmu, a Ordą wstrząsnął potężny konflikt wewnętrzny, który wkrótce spowodował jej całkowity upadek i powstanie na jej gruzach szeregu państw 17 M. Małowist, Tamerlan i jego czasy, Warszawa 1991, s. 50-56; А. Ю. Якубовский, Падение Золотой Орды, w: Б. Д. Греков, А. Ю. Якубовский, Золотая Орда, s. 336-373; И. М. Мигралеев, Политическая история Золотой Орды, s. 109-135; J. Marozzi, Tamerlan. Miecz islamu, zdobywca świata, przeł. A. Weseli, Warszawa 2006, s. 110-137; B. Gafurow, Dzieje i kultura ludów Azji Centralnej. Prehistoria. Starożytność. Średniowiecze, przeł. S. Michalski, Warszawa 1978, s. 505-506. 18 A. Prochaska, Dzieje Witolda wielkiego księcia Litwy, Kraków 2008, s. 77-80; H. Łowmiański, Poli­ tyka Jagiellonów, do druku przygotował K. Pietkiewicz, Poznań 2006, s. 167-170; G. Błaszczyk, Dzieje stosunków polsko-litewskich, t. 2, Od Krewa do Lublina, cz. 1, Poznań 2007, s. 177-183. 19 Z. Łukawski, Dzieje Azji Środkowej, Kraków 1996, s. 145-146. O karierze Edygeja i jego roli we wczesnej historii Ordy Nogajskiej zob. pracę: В. В. Трепавлов, История Ногайской Орды, Мос­ ква 2002, s. 62-89. Państwowość tatarska na Syberii Zachodniej do podboju rosyjskiego sukcesyjnych – chanatów: kazańskiego, astrachańskiego, krymskiego oraz Wielkiej i Nogajskiej Ordy, a także pomniejszych organizmów, do których zaliczany jest niekiedy także Chanat Tiumeński20, chociaż zaznaczyć należy, że wydzielenie się samodzielnego władztwa tatarskiego na Syberii Zachodniej nastąpiło znacznie wcześniej. Problem państwowości tatarskiej na północnych peryferiach „ułusu Dżocziego” – czyli na terytorium, które w Tajnej historii Mongołów nazwane zostało od miana „leśnych ludzi”, a później określane było jako Kok (Błękitna) Orda – jest do dzisiaj przedmiotem sporów w światowej historiografii. Można jednak zarysować pewne fazy i nurty rozwoju tej państwowości, będące świadectwem z jednej strony aktywności politycznej miejscowej ludności, z drugiej zaś ulegania przez nią wpływom płynącym z bardziej rozwiniętych ośrodków Azji Średniej, tak tatarskich, jak i innych narodów. Wspominany już badacz Gabdelbar Fajzrachmanow początki państwowości tatarskiej na Syberii Zachodniej umiejscawia na przełomie XI i XII wieku wokół gródka Kyzył Tura nad rzeką Iszym (stąd jego propozycja, by twór ten nazywać Iszymskim Chanatem). To właśnie ten Chanat miał paść ofiarą najazdu Dżocziego w 1207 roku i to na jego gruzach miało powstać kolejne już państwo syberyjskich Tatarów – Chanat Tiumeński ze stolicą w miejscowości Czymgi Tura (późniejszy Tiumeń), nad rzeką Tura, rządzone przez miejscową dynastię Tajbugidów (Tajbuginów)21. Jej rywalem był czyngisydzki klan Szejbanidów (Szybanidów)22. Walka tych dwóch rodów odcisnęła wyraźne piętno na dalszych dziejach Zachodniej Syberii23. 20 М. Г. Сафаргалиев, Распад Золотой Орды, s. 172-272; Z. Łukawski, Dzieje Azji Środkowej, s. 169170. 21 Г. Файзрахманов, Тайбугины и шибаниды в Западной Сибири. Из взаимоотношений Казанского, Тюменского ханств и Ногайской Орды в XV веке, w: Проблемы истории Казани, s. 126127. Archeologiczne aspekty pierwszej fazy państwowości tatarskiej na Syberii Zachodniej, uwiarygodniające tezy Fajzrachmanowa, w pracy: В. И. Соболев, История сибирских ханств (по археологическим материалам). Автореферат на соискание ученой степени доктора исторических наук, Новосибирск 1994. Zob. także uwagi w pracy: А. Г. Нестеров, Искерское княжество Тайбугидов (XV-XVI вв.), w: Сибирские татары. Монография, ред. С. В. Суслова, Казань 2002, s. 17-18 (historyk ten nazywa państwo syberyjskich Tatarów „Chanat Iskerski”, od miejscowości Isker, od której zapewne pochodzi późniejsza nazwa „Syberia”). 22 O Szejbanidach (i innych Czyngisydach-Dżuczydach) zob. pracę: Л. Войтович, Нащадки Чингіз‑хана: вступ до генеалогії чингізидів-джучидів, Львів 2004 (Szejbanidzi – s. 171-184). 23 Historiografia tego zagadnienia przedstawiona jest w pracy: Е. Ю. Коблова, Государственные образования Шибанидов и Тайбугидов Западной Сибири в отечественной историографии 119 120 Andrzej Gil Jak większość konstrukcji chronologicznych, odnoszących się do wczesnej historii tego regionu, powyższa propozycja jest bardzo dyskusyjna, niemniej jednak praktycznie wszyscy badacze zajmujący się tą problematyką przyjmują istnienie Chanatu Tiumeńskiego za pewnik. Istotne jest, że region ten dysponował pewną formą autonomii (a niekiedy całkowitej niezależności) od Złotej Ordy, a jej rozpad zintensyfikował zachodzące tam procesy państwotwórcze24. Wyrazem wzrostu roli Zachodniej Syberii w tatarsko-muzułmańskiej ekumenie początków XV wieku było objęcie władztwa w Czymgi Turze przez Tochtamysza, traktującego swą nową dziedzinę jako rodzaj ekwiwalentu za utraconą ojcowiznę. Jego tragiczna śmierć z ręki poplecznika emira Edygeja (1406) doprowadziła do zmiany na tronie chańskim i podporządkowania Chanatu władcy Złotej Ordy. Upadek Edygeja i rozpad jego państwa spowodowały z kolei konflikt, z którego zwycięsko wyszli Szejbanidzi, rządzący Chanatem Tiumeńskim przez następnych kilkanaście lat (ostatni – chan Hadżi Muhammad, 1420/21-1428)25. Problem zależności Chanatu Tiumeńskiego od Chanatu Uzbeckiego (zwanego w historiografii także „państwem koczowniczych Uzbeków”26) jest przedmiotem ożywionej dyskusji. Niemniej jednak wydaje się, że w latach 1428-1468 rejon Zachodniej Syberii wchodził w skład państwa koczowników uzbeckich, którego władca Abulchajr uczynił okresowo z Czymgi Tury (Tiumenia) swoją stolicę (w 1446 roku swą główną siedzibę przeniósł do miasta Sygnak nad Syr-darią). Być może posiadłości syberyjskie Abulchajra cieszyły się pewną formą autonomii (wspominany jest w źródłach „wilajet Czymgi Tura”, zarządzany przez jego namiestników zbierających jasak)27. 24 25 26 27 (середина XVIII-начало XXI вв.). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук, Тюмень 2009. Zob.: В. В. Похлёбкин, Татары и Русь. 360 лет отношений Руси с татарскими государ­ ства­ми в XIII-XVI вв. 1238-1598 гг. (От битвы на р. Сить до покорения Сибири). Справочник, Москва 2000, s. 150-151. З. Я. Бояршинова, Население Западной Сибири, s. 104. Zob. m.in.: П. П. Иванов, Очерки по истории Средней Азии (XVI-середина XIX в.), Москва 1953, s. 46-64 (rozdział: Шейбани-хан и его завоевания); История народов Узбекистана, т. 2, От образования государства Шейбанидов до Великой октябрьской социалистической революции, ред. С. В. Бахрушин и др., Ташкент 1947, s. 21-41; Б. А. Ахмедов, Государство коче­ вых узбеков, Москва 1965. Д. Исхаков, Введение в историю Сибирского Ханства, Казань 2006, s. 131-132; А. Г. Нестеров, Государства Шейбанидов и Тайбугидов в Западной Сибири в XIV-XVII вв.: археология и исто­ Państwowość tatarska na Syberii Zachodniej do podboju rosyjskiego Od lat 60. XV wieku Chanatem Tiumeńskim władał Ibak, Szejbanida, potomek Hadżi Muhammada (najprawdopodobniej jego wnuk). Chan Ibak przeniósł swą stolicę z Tiumenia do Kaszłyku (Sibiru­), gródka położonego u zbiegu rzek Sybirki i Irtysza (stąd paralelna nazwa jego państwa – Chanat Syberyjski). Jego pozycja jako władcy niezależnego wzrosła po pokonaniu chana Wielkiej Ordy, Achmata, w bitwie nad Dońcem w 1381 roku28. W tym też okresie Ibak nawiązał stosunki z Moskwą, której książę, Iwan III Wasiljewicz, wykazywał wielką aktywność w kierunku wschodnim (m.in. za jego panowania wojska moskiewskie kilkakrotnie przekroczyły Ural). Dwa poselstwa tatarskie (w latach 1489 i 1493) odwiedziły Moskwę. Syberyjski władca dążył do uwolnienia z rąk moskiewskich Ali Chana, byłego chana Kazania, wziętego do niewoli po zdobyciu tego miasta w 1487 roku. Możliwe, że wojska Chanatu Syberyjskiego (w ramach kontyngentu nogajskiego) brały udział w walkach z Moskwą podczas oblężenia Kazania, i stąd starania Ibaka o uwolnienie swego sojusznika29. Na przełomie 1494/1495 roku roku chan Ibak padł ofiarą zamachu, dokonanego przez pochodzącego z rodu Tajbugidów beka Muhammada, któremu jednakże nie udało się objąć na trwałe władzy w Chanacie, a Tajbugidzi władali dalej swym udziałem, położonym w dorzeczu Iszymu30. Następcą Ibaka został Mamuk-chan, także Szejbanida, zaangażowany w walki o tron kazański. W 1499 roku wyprawił on na Kazań armię pod dowództwem swego brata Agałaka, jednakże chan kazański Abdallatif, korzystający z pomocy Moskwy, obronił рия. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исто­рических наук, Москва 1998, s. 7-13. Inaczej losy Abulchajra interpretuje Magamet Safargalijew, który twierdzi, że władca ten utracił Tiumeń już w 1431 roku i musiał ujść na południe. Władzę w Chanacie Tiumeńskim przejąć mieli synowie chana Hadżi Muhammada – Mahmud i Ahmed. М. Г. Сафаргалиев, Распад Золотой Орды, s. 207-212. Z kolei Damir Ischakow dopuszcza możliwość istnienia w ramach państwa Abulchajra domeny rządzonej przez potomków Hadżi Muhammada. Z niej właśnie mieli pochodzić, korzystający z pomocy nogajskiej, przyszli niezależni od Abulchajra chanowie tiumeńscy. Д. Исхаков, Тюрко-татарские государства XV-XVI вв. Научно-методическое пособие, Казань 2004, s. 19. Możliwe też jest, że tron w Tiumeniu odzyskał syn Hadżi Muhammada, Mahmud (zwany inaczej Mahmudek). Л. Войтович, Нащадки Чингіз-хана, s. 178-179. 28 Р. Ю. Почекаев, Цари ордынские. Биографии ханов и правителей Золотой Орды, Санкт-Петербург 2010, s. 226-227. 29 С. Х. Алишев, Казань и Москва: междугосударственные отношения в XV-XVI вв., Казань 1995, s. 39-42. 30 А. Г. Нестеров, Искерское княжество Тайбугидов, s. 19-20. 121 122 Andrzej Gil swą niezależność. W niewyjaśnionych okolicznościach Mamuk-chan utracił władzę w Chanacie Syberyjskim, w którym tron objął kolejny przedstawiciel panującego rodu, Kutłuk. Chan ten przedsięwziął w 1505 roku wyprawę za Ural, na ziemie nad Kamą, będące pod kontrolą Moskwy. W odwecie wojska moskiewskie oblegały i zniszczyły stolicę Chanatu, Czymgi Turę. Na skutek ogarniającego Chanat kryzysu władza w tym państwie przeszła znowu w ręce Tajbugidów31. Syberyjscy Szejbanidzi po utracie panowania udali się do Buchary, gdzie oczekiwali na bardziej sprzyjające okoliczności militarno-polityczne, angażując się czasowo, w porozumieniu z Ordą Nogajską, w walki o chanat kazański (prawdopodobnie przy tej okazji na teren Zachodniej Syberii przekoczowała część Nogajców). W państwie Tatarów syberyjskich, rządzonym przez Tajbugidów, pano­wało co najmniej trzech władców – Muhammad, później jego syn Kazi i następnie dwóch synów Kaziego, Edygier i Bekbułat. Dopiero o dwóch ostatnich mamy pewniejsze informacje. Wiadomo, że chan Edygier na początku 1555 roku przysłał posłów do Iwana IV Groźnego z prośbą o objęcie ich carską protekcją w zamian za jasak (w tym przypadku dań futrzaną)32. Krok ten podyktowany był zasadniczymi zmianami w sytuacji spadkobierców Złotej Ordy. Pod ciosami państwa moskiewskiego padł Chanat Kazański (1552), a los Astrachańskiego był już w zasadzie rozstrzygnięty (padł w 1556 roku)33. Ponadto wielki kryzys głodowy ogarnął Ordę Nogajską, na skutek czego jej władcy weszli w układy z Iwanem IV, co przyniosło Moskwie chwilowe uspokojenie na kierunku wschodnim. W ten sposób Tajbugidzi utracili łączność z Chanatem Krymskim, a za jego pośrednictwem z imperium osmańskim. Ponadto, co było dla nich najważniejsze, wraz 31 Idem, Формирование государственности у тюркских народов Урала и Западной Сибири в XIV-XVI вв., w: Дешт-и Кипчак и Золотая Орда в становлении культуры евразийских народов. Материалы международной научно-практической конференции 10-11 апреля 2003 г., ред. Д. М. Насилов, Москва 2003, s. 116. Możliwe, że wypraw Tatarów syberyjskich na Nadkamie było więcej, i stąd taka zdecydowana reakcja moskiewska. Г. Файзрахманов, Тайбугины и шибаниды, s. 139. 32 Д. Исхаков, Введение в историю Сибирского Ханства, s. 173-174; В. В. Трепавлов, История Но­гайской Орды, s. 137-139. 33 Zob. m.in.: М. Худяков, Очерки по истории Казанского ханства, Казань 1923, s. 117-165; А. Каппелер, Росія як поліетнічна імперія. Виникнення. Історія. Розпад, Львів 2005, s. 22-26; С. Х. Алишев, Казань и Москва, s. 82-156; И. В. Зайцев, Астраханское ханство, Москва 2006, s. 147-177: A. Gil, Na drodze do imperium. Kształtowanie się Rosji do połowy XVII wieku, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 8 (2010), z. 3, Rosja w poszukiwaniu tożsamości, s. 68‑71. Państwowość tatarska na Syberii Zachodniej do podboju rosyjskiego z upadkiem Kazania zakończyło się poparcie ze strony jego władców, mające wyraźnie antyszejbanidzki wydźwięk34. Okoliczności te sprawiły, że bardzo szybko o swe prawa do Syberii upomnieli się także Szejbanidzi pod wodzą Kuczuma, wnuka chana Ibaka. Rozpoczął on działania zbrojne, zakończone w 1563 roku pozornym sukcesem. Isker, stolica państwa Tajbugidów, została zdo­ byta, a Edygier oraz jego brat Bekbułat ponieśli śmierć35. Wydarzenia te, wbrew oczekiwaniom nowego chana, okazały się początkiem końca niezależnej państwowości tamtejszych Tatarów. Chanat Syberyjski stał się bowiem obiektem działań politycznych i militarnych państwa moskiewskiego, dążącego niejako do skonsumowania swojej (i swoich poprzedników) aktywności, wykazywanej na terenach zauralskich już od wielu dziesiątków lat. Moskwa dziedziczyła tu dokonania Wielkiego Nowogrodu, wytrwale od XI wieku prącego na wschód w poszukiwaniu futer i skór, gwarantujących mu obecność na rynkach azjatyckich i europejskich. Największe zdobycze terytorialne w rejonie Uralu Nowogród osiągnął w XV wieku, kiedy to stworzone zostało prawdziwe północnoruskie imperium36. Upadek republiki i włączenie jej posiadłości w skład Wielkiego Księstwa Moskiewskiego oznaczały nie tylko poszerzenie granic tego państwa, ale i wzrost zainteresowania terenami położonymi zarówno po zachodniej, jak i wschodniej stronie Uralu. Dochody osiągane przez Moskwę z handlu ze Wschodem (w tym z posiadłościami Tatarów syberyjskich) skłaniały ją do podejmowania coraz bardziej zdecydowanych działań w celu objęcia kontrolą bogatych w zwierzęta futerkowe obszarów Zachodniej 34 А. Г. Нестеров, Искерское княжество Тайбугидов, s. 21-22. W imperium Osmanów istniała świadomość egzystencji na peryferiach świata islamu państwa Tatarów syberyjskich. Ponadto sułtan turecki był, przynajmniej formalnie, protektorem wszystkich muzułmanów, co niejako zobowiązywało go do znajomości geografii państw islamskich lub takich, gdzie islam miał jakiekolwiek wpływy. Zob. m.in.: И. Зайцев, Описание Сибирского ханства в космографии дефтердара Сейфи Челеби (вторая половина XVI в.), w: tegoż, Между Москвой и Стамбулом. Джучидские государства, Москва и Османская империя (нач. XV-пер. пол. XVI вв.). Очерки, Москва 2004, s. 174-180; И. М. Миргалеев, И. Х. Камалов, К вопросу о взаимоотношениях Золотой Орды и Осман­ской империи, „Золотоордынская цивилизация. Сборник статей”, вип. 1, Казань 2008, s. 87-94. 35 Z. Łukawski, Historia Syberii, s. 46. 36 Zob.: А. В. Куза, Новгородская земля, w: Древнерусские княжества X-XIII вв., ред. Л. Г. Бескровный и др., Москва 1975, s. 144-201; В. Н. Бернадский, Новгород и новгородская земля в XV веке, Москва 1961, s. 112-147. 123 124 Andrzej Gil Syberii37. Konkretnym przejawem tego nowego ukierunkowania było zezwolenie na działalność gospodarczą (i będącą jej pochodną – osiedleńczą, a co za tym idzie i militarno-polityczną) na terenach nad Kamą i Wyczegdą udzielone rodzinie Stroganowów, którzy – z woli panującego – budowali w tym rejonie od drugiej połowy XV wieku prawdziwie prywatne (chciałoby się rzec – feudalne) władztwo, oparte przede wszystkim na warzelniach soli oraz handlu futrami i skórami. Ród ten doszedł do wielkiego znaczenia w czasach Iwana IV Groźnego, realizując pod przywództwem swego lidera, Aniki Fiedorowicza Stroganowa, carską politykę na wschodnich kresach państwa. Oczywiste jest, że w systemie władzy, funkcjonującym w czasach Groźnego, niemożliwa była jakakolwiek realna samodzielność. Stąd, dozwalając Stroganowom na dojście do ogromnego rodowego majątku, jednocześnie wprzągł ich w system zarządzania i kontroli wschodniego kresu swego państwa, korzystając z ich zasobów wszędzie tam, gdzie uznał to za korzystne38. W pierwszej fazie swych rządów, dążąc nie tylko do ugruntowania władzy, ale i rozszerzenia jej na terytoria, które traktował jako historyczne dziedzictwo Szejbanidów (tereny między Uralem a Irtyszem), Kuczum uznawał formalną zależność od Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Jednakże wieści dochodzące z samej Moskwy (najazd Dewlet Gireja i spalenie miasta), a także z frontu wojny liwońskiej spowodowały usztywnienie stanowiska syberyjskiego chana. W 1573 roku Kuczum dokonał najazdu na moskiewskie posiadłości po zachodniej stronie Uralu, w większości należące do Stroganowów, a zaludnione wówczas w dużej części przez pokrewne Syberyjczykom plemiona i rody. Za swoim przywódcą podobnych działań dokonali w tymże roku i pomniejsi wodzowie, także ugrofińscy. Ponowiono ataki w roku 1580, w znacznie jednak większej skali. Dla strony rosyjskiej stało się jasne, że państwo Kuczuma ulega wewnętrznej konso- 37 Na ten temat zob. prace: М. В. Фехнер, Торговля русского государства со странами Востока в XVI веке, Москва 1956; Л. В. Черепнин, Образование русского централизованного государства в XIV-XVI веках. Очерки социально-экономической и политической истории Руси, Москва 1960, s. 842-873. 38 Н. Устриаловъ, Именитые люди Строгановы, Санктпетербургъ 1842, s. 1-19; А. А. Введенский, Дом Строгановых в XVI-XVII веках, Москва 1962, s. 15-111; И. В. Купцов, Род Строгановых, Челябинск 2005, s. 11-15. O Rosji czasów Iwana IV Groźnego zob. m.in.: А. А. Зимин, А. Л. Хорошкевич, Россия времени Ивана Грозного, Москва 1982; J. Martin, Medieval Russia 980-1584, Cambridge (Mass.) 1995, s. 327-371. Państwowość tatarska na Syberii Zachodniej do podboju rosyjskiego lidacji i może stanowić coraz większe zagrożenie nie tylko dla planów ekspansji na Syberię, ale i dla moskiewskiego panowania na terenach Przyurala, a może i Powołża39. Wobec kryzysu, jaki ogarnął Rosję na skutek klęsk wojennych i fiaska polityki opartej na „opriczninie”, ciężar walki z Kuczumem musiał wziąć na siebie ród Stroganowów, który czynił to jednak w pełnej zależności od woli i dyspozycji cara Iwana IV. To właśnie Stroganowowie zorganizowali i wyposażyli oddział kozacki pod dowództwem Jermaka Timofiejewicza, który w toku kampanii z lat 1581-1585 dokonał podboju Chanatu Syberyjskiego40. Co prawda sam Jermak zginął w bitwie u ujścia Wagaju do Irtysza (6 sierpnia 1585), a wojska moskiewskie wycofały się z Zachodniej Syberii, ale po dwóch latach strona rosyjska odzyskała inicjatywę i ponownie zajęła ten region, tym razem już na stałe. Kuczum prowadził swą wojnę jeszcze przez kilkanaście kolejnych lat, aż po przegranej bitwie nad Obem (20 sierpnia 1598) ostatecznie opuścił swoje dawne władztwo i udał się do Nogajów, gdzie dwa lata później został zamordowany (koniec 1600 lub początek 1601 roku). Walki Tatarów syberyjskich z Moskwą trwały jeszcze przez pół wieku, aż do ich ostatecznej pacyfikacji41. 39 М. Абдиров, Хан Кучум: известный и неизвестный, Алматы 1996, s. 42-63. W skład państwa Kuczuma wchodziła ludność zależna (tzw. „czarni ludzie”), opodatkowana jasakiem, oraz panująca elita, obdarzona swego rodzaju immunitetem ziemskim, stanowiąca zaplecze polityczne i militarne chana. Obie kategorie ludności miały różne pochodzenie etniczne, przeważnie tatarskie i ugrofińskie, chociaż występował też element napływowy (na przykład Kazachowie czy Nogajcy). Zorganizowane ono było na wzór innych państw koczowniczych – jak chociażby Orda Kazachska czy Nogajska. Istniał więc jego zasadniczy trzon, w pełni kontrolowany przez chana, oraz peryferie, poddane władzy miejscowej elity politycznej. Decyzje podejmowane były kolektywnie przez radę (dywan), a władca posiadał swego doradcę (wezyra). Rozległą przestrzenią zarządzał poprzez swych urzędników (darugowie, esaułowie), przeznaczonych przede wszystkim do poboru jasaku. Sądownictwem zajmowali się specjalni sędziowie (kazi). Taki aparat wystarczał, by stworzyć podstawy istnienia zupełnie sprawnie funkcjonującego organizmu państwowego, włączonego ponadto dosyć intensywnie w regionalny i ponadregionalny system handlowy. 40 Zob.: П. Небольсин, Покореніе Сибири. Историческое изследованіе, Санктпетербургъ 1849, s. 12-146; Г. Ф. Миллер, История Сибири, Москва–Ленинград 1937, s. 202-271. O Stroganowach i Jermaku zob. m.in.: А. Дмитріевъ, Роль Строгановых въ покореніи Сибири (новый пресмотръ сибирскаго вопроса), С.-Петерсбургъ 1894; Е. К. Ромодановская, Строгановы и Ермак, w: tejże, Избранные труды. Сибирь и лимература. XVII век, Новосибирск 2002, s. 244-264; Р. Скринников, Ермак, Москва 2008. Źródła do dziejów podboju zebrane zostały w pracy: Сибирские летописи, ч. 1, Группа Есиповской летописи, ред. А. П. Окладников и др., Москва 1987 [=Полное собрание русских летописей, т. 36]; В. Г. Мирзоев, Присоединение и освоение Сибири в исторической литературе XVII века, Москва 1960. 41 М. Абдиров, Хан Кучум, s. 98-142. 125 126 Andrzej Gil Upadek państwowości tatarskiej na Syberii Zachodniej otworzył Moskwie drogę na Wschód. W ciągu następnego półwiecza w rosyjskiej strefie wpływów znalazła się cała Syberia. Na Dalekim Wschodzie doszło do zetknięcia się z obszarem podlegającym władzy mandżurskiej dynastii Qing, rządzącej Chinami od 1644 roku. Z różnych przyczyn spotkanie dwóch imperiów nie przerodziło się w konflikt, lecz zakończyło się stosunkowo trwałym porozumieniem politycznym, owocującym wyznaczeniem stabilnej granicy na mocy traktatów w Nerczyńsku (1689) i Kiachcie (1727), naruszonej dopiero pod koniec XIX wieku42. Kolejny etap rosyjskiej ekspansji dotyczył zachodniego wybrzeża Ameryki Północnej (od Alaski po Kalifornię), które stopniowo, poprzez rosyjskie osadnictwo i szerzenie prawosławia, włączano z dużymi sukcesami w carski system zarządzania43. Dopiero tu Rosja napotkała godnego siebie przeciwnika pod postacią innej, wtedy jeszcze regionalnej potęgi – Stanów Zjednoczonych Ameryki. W wyniku układu o sprzedaży Cesarstwo Rosyjskie scedowało w 1867 roku na ich rzecz swoje posiadłości amerykańskie, zamy­ kając się w ten sposób ostatecznie w obrębie dwóch kontynentów – Europy i Azji. *** Podbój przez Moskwę Zachodniej Syberii w procesie budowania globalnego imperium przez państwo carów jawi się jako wydarzenie z pozoru marginalne. Fakt ten przyjmowany jest jako kolejny, potrzebny wręcz etap na drodze Rosji do wielkości – budowy naj- 42 Сборникъ договоровъ Россіи съ Китаемъ. 1689-1881 гг., Санктпетербургъ 1889, s. 1-6 (traktat nerczyński, wersja rosyjska), s. 50-60 (traktat kiachteński, wersja rosyjska i łacińska); T. Dmochowski, Rosyjsko-chińskie stosunki polityczne (XVII-XIX w.), Gdańsk 2001, s. 97-268; В. С. Мяс­ ников, Н. В. Шепелева, Империя Цин и Россия в XVII-начале XX в., w: Китай и соседи в новое и новейшее время, ред. С. Л. Тихвинский, Москва 1982, s. 34-88; С.-Г. Чанґ, Російські зазіхання на Далекому Сході, w: Російський імперіалізм, упор. Т. Гунчак, Київ 2010, s. 270-289. 43 А. И. Алексеев, Судьба русской Америки, Магадан 1975, s. 61-208; С. Г. Федорова, Русское население Аляски и Калифорнии. Конец XVIII века-1867 г., Москва 1971 (wbrew tytułowi, praca ta omawia osadnictwo rosyjskie w Ameryce Północnej kompleksowo, zwracając przy tym uwagę na kolonizację Syberii jako etap pośredni w dalszej ekspansji transkontynentalnej, ibidem, s. 97-100); В. Н. Бурлак, Русская Америка, Москва 2009 (praca ukazuje zasadnicze etapy rosyjskiej obecności na kontynencie północnoamerykańskim); А. Каппелер, Росія як поліетнічна імперія, s. 156-160. Państwowość tatarska na Syberii Zachodniej do podboju rosyjskiego większego państwa świata. Problem istnienia na terenie Zachodniej Syberii miejscowej, tatarskiej państwowości – mającej jak na warunki geograficzno-przyrodnicze dosyć rozwiniętą strukturę i stosunkowo długą tradycję istnienia i funkcjonowania – nie jest przy tym zauważany i doceniany, nie tylko w Rosji, ale i w skali globalnej. Jednakże w dobie zasadniczych przemian, dokonujących się obecnie w Federacji Rosyjskiej na tle zachodzącego tam kryzysu demograficznego i wynikających z niego zmian struktury konfesyjno-etnicznej tego państwa, należy liczyć się z możliwością narodzenia się ideologii nawiązującej do tatarsko-muzułmańskiego okresu w historii Syberii Zachodniej, której tłem będzie nie tylko problem stosunku do przeszłości, ale i konflikt o zasoby mineralne i surowce energetyczne. 127 Hubert Łaszkiewicz Wędrówka na Wschód Carstwa Moskiewskiego: wieki XVI i XVII. Jakim kosztem i z jakim skutkiem? Journey to the East of the Tsardom of Muscovy: The 16th and 17th Centuries. At What Cost and with What Result? The following work presents the role of the East in the formation of the Russian statehood both in the historical and modern context. Taking over by Russia of vast areas of Siberia and the Far East exerted a great influence on this country, which now had a sense of exceptionality on a global scale (slogan: Russia, the biggest state of the world). The conquests completed in the 16th‑19th centuries made modern-day Russia a power, particularly in the field of resources and energy, even despite the collapse of the USSR and the loss of the majority of the peripheral territories. 1. Wprowadzenie W historii Rosji, a wcześniej Carstwa Moskiewskiego, zagadnienie przestrzeni odgrywało rolę znacznie większą niż w przypadku innych wielkich państw europejskich. Ekspansja terytorialna Carstwa, a potem Imperium, ogarnęła tereny, których obszar stanowił poważną część całego globu. Aby się o tym przekonać, wystarczy nie tyle spojrzeć na mapę, co odbyć podróż samolotem z Polski do Japonii lub Chin – co pozwoli odczuć ogrom terytorialny współczesnej Rosji, która i tak jest mniejsza niż Imperium Rosyjskie i później Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Nic więc dziwnego, 130 Hubert Łaszkiewicz że refleksja nad przestrzenią – jako jednym z czynników kształtujących wyzwania polityczne – jest przedmiotem studiów i nauczania przyszłych urzędników państwowych w Rosyjskiej Akademii Służby Państwowej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej (Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации). Geopolityka – jako narzędzie analizy zjawisk politycznych świata (wraz z powiązanymi z nimi zjawiskami gospodarczymi i cywilizacyjnymi) – jest w Rosji traktowana poważnie. Pisze się więc w podręczniku do geopolityki o narodzinach tej dyscypliny jako nauki, a więc jako wiedzy pewnej. W ramach tej dyscypliny, jako nauki właśnie, rozpatrywane są wyzwania związane z miejscem Rosji we współczesnym świecie – miejscem, które w znacznym stopniu zależy od „obiektywnych” i „subiektywnych” praw rządzących geopolityką. I chociaż pojawia się refleksja na temat sposobów panowania nad terytorium, to sprawa opłacalności bezpośredniego panowania (zaboru czy też zajęcia, przyłączenia, „воссоединения” – by użyć często występującego w języku rosyjskim sformułowania) nad nierosyjskimi (etnicznie, historycznie i cywilizacyjnie) terytoriami nie jest podnoszona jako ważny czynnik mający kształtować przyszłą politykę. Tymczasem, patrząc z perspektywy ostatnich czterech wieków, warto właśnie to zagadnienie podnieść jako przedmiot dyskusji, ponieważ zmiany terytorialne, którym uległo terytorium dawnego ZSRR po 1991 roku, niejako „cofnęły” granice Rosji (a dokładniej Federacji Rosyjskiej) do stanu z pierwszej połowy XVII wieku w części europejskiej, a w części azjatyckiej mniej więcej do stanu z końca tegoż wieku. Kontekst geopolityczny i gospodarczy, w ramach którego Federacja Rosyjska buduje swój status wobec Unii Europejskiej i świata, opiera się na kilku przesłankach: na posiadaniu surowców energetycznych i w ogóle surowców, których znaczenie polityczne trudno przecenić, oraz na pozycji geograficznej i potencjale militarnym, który jest niezwykle istotny, jeśli chodzi o budowanie polityki globalnego bezpieczeństwa, polegającej na skutecznym utrzymywaniu równowagi strategicznej w przestrzeni euroazjatyckiej. Natomiast z perspektywy historycznej problem bogactw naturalnych – w tym Геополитика: учебник, под общ. ред. В. А. Михайлова, Москва 2010, s. 11-30. Ibidem, s. 135-156. R. Biesiada, T. Lenczowski, L. Ratajski, Słownik geografii ZSRR, red. nauk. B. Rychłowski, Warszawa 1974; P. E. Lydolph, Geography of the U.S.S.R. Topical Analysis, Elkhart Lake (WI) 1979. Wędrówka na Wschód Carstwa Moskiewskiego: wieki XVI i XVII... tak dzisiaj istotnego gazu ziemnego – Federacji Rosyjskiej zasługuje na dokładniejszą analizę, ponieważ terytoria, które są bogate w zasoby naturalne, zostały opanowane w XVI-XVII wieku dużo mniejszym kosztem, niejako przy okazji, niż obszary na terenie Europy, czy potem w XVIII-XIX wieku w Azji Środkowej. Ponadto tereny te okazały się też zdobyczami dużo trwalszymi, do dzisiaj są bowiem częścią Federacji Rosyjskiej. Kwestia przestrzeni państwa rosyjskiego (jaka jest, a jaka być powinna) ma też znaczenie dla budowania tożsamości Rosji – ustalania jej granic „naturalnych”, bo o narodowych w wypadku Federacji Rosyjskiej nie może być mowy z racji właśnie na federacyjny i wielonarodowy oraz wieloreligijny charakter tego państwa. W świetle dyskusji toczącej się w Rosji nad jej obecnością w świecie, rolą obecną i przyszłą, kierunkami zmian cywilizacyjnych, warto poruszyć sprawę ekspansji, sposobów panowania nad terytorium i oceny opłacalności podejmowanych wyborów w ciągu ostatnich czterech wieków. 2. Zdobycze землепроходцов Zdobycze terytorialne Rosji osiągnięte od końca XVI wieku do końca wieku XVII okazały się z perspektywy dzisiejszej, to jest pierwszej dekady XXI wieku, najtrwalsze. Jednocześnie z porównania wysiłku włożonego przez państwo rosyjskie: najpierw Wielkie Księstwo Moskiewskie a następnie Carstwo Moskiewskie, w opanowanie Syberii, Północy i Dalekiego Wschodu wynika, że był on niewspółmiernie mały (da się to wyliczyć zarówno w wydatkach skarbu, jak też w liczbie poległych żołnierzy) w stosunku do rywalizacji z Królestwem M. Kaczmarski, Rosyjski rewizjonizm wobec Zachodu, „Prace OSW”, nr 33, 2009; J. Rogoża, „Władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy”. Rosyjska elita władzy wobec sukcesji i kryzysu gospodarczego, „Punkt widzenia [OSW]”, nr 10, 2009; K. Pełczyńska-Nałęcz, Dokąd sięgają granice Zachodu? Rosyjsko-polskie konflikty strategiczne 1990-2010, „Raport OSW”, nr 3, 2010. Kwestia granic skądinąd nie rysuje się wcale łatwiej z perspektywy Unii Europejskiej. O ile większość krajów europejskich „czuje” się dobrze w swoich granicach i nie występuje z postulatami zmian, o tyle granice Europy, a co za tym idzie w pewnym sensie Unii Europejskiej, stanowią przedmiot sporu. Por. R. Brague, Y. Lacoste, J.-Ch. Victor, R. Rémond, S. Zourabichvili, H. Soans, L’Europe, quelles frontières?, „Culturesfrance. Centre d’analyse et de prévision”, avril 2007. 131 132 Hubert Łaszkiewicz Szwecji, Wielkim Księstwem Litewskim, a potem całą Rzeczpospolitą, czy wreszcie z Imperium Ottomańskim. Wyprawa kozaka Jermaka, rozpoczęta w 1581 roku, nie miała charakteru wyprawy zbrojnej wojsk carskich, ale wyprawy łupieżczej, częściowo finansowanej przez poddanych cara. Zgoda monarchy, cara Iwana IV Groźnego, na tę wyprawę nie dawała żadnych korzyści w postaci regularnych oddziałów wojskowych czy znacznych środków finansowych. Także­ kolejne etapy eksploracji Syberii aż po Bajkał, a potem Kraj Zabajkalski, aż po Kamczatkę i wybrzeże Oceanu Spokojnego, Wyspy Kurylskie (wyprawa Władimira Atłasowa w końcu XVII wieku) nie były dziełem państwa, ale raczej inwestycjami wielkich rodzin kupieckich, kozaków i chłopów rosyjskich. W wieku XVIII kolonizacja i eksploracja rosyjska sięgnęła Alaski i – wzdłuż wybrzeży Pacyfiku – dzisiejszej Kalifornii, co z pewnością niepokoiło władającą tą częścią Ameryki Koronę Hiszpańską. Kiedy w 1689 roku toczyły się w Nerczyńsku negocjacje pomiędzy Rosją a Cesarstwem Chińskim, które miały na długi czas ustalić granicę pomiędzy tymi państwami, główny wysiłek militarny, finansowy i dyplomatyczny Carstwa Moskiewskiego skupił się na wyprawach krymskich dowodzonych przez faworyta regentki Zofii Aleksiejewny, Wasyla Golicyna, który bezskutecznie w czasie dwóch kosztownych kampanii (1687, 1689) usiłował opanować Krym. Przykłady można mnożyć, ale są one dobrze znane i nie jest to potrzebne. Ważniejsze jest określenie konsekwencji, jakie miała ta ekspansja dla samej Rosji. O bogactwach naturalnych, w tym o gazie, była już mowa. Konsekwencji tych jest jednak więcej. Tereny na wschód od Uralu dały Rosji i Rosjanom jakąś część ich tożsamości, także tym, którzy tam nigdy nie byli. Przywołam tylko znaki, ponieważ zagadnienie jest bardzo rozległe i trudne do wyczerpującego omówienia. Tymi znakami niech będą pieśni ludowe, które na trwałe weszły do repertuaru ogólnonarodowego, takie jak Славное море – священный Байкал, Степь да степь кругом i Бродяга. Wymieniam tylko te, których popularność sięgnęła daleko poza granice Rosji. Następnym znakiem niech będzie obraz Syberii jako matecznika rosyjskości, ziemi czystej i nieskażonej, przechowującej prawdziwą wiejską tradycję, co znalazło odzwierciedlenie w prozie rosyjskiej, w sztuce filmowej, w autostereotypach Rosjan na swój własny temat. Stało się po prostu częścią mitologii narodowej (jak na przykład w Pożegnaniu z Matiorą Walentina Rasputina). Syberia to wreszcie matecznik najdzielniejszych „synów Ojczyzny”, Wędrówka na Wschód Carstwa Moskiewskiego: wieki XVI i XVII... najodporniejszych i niezawodnych w najtrudniejszych momentach dziejowych Rosji (legenda roli odegranej przez „pułki syberyjskie” w obronie Moskwy zimą 1941 roku). Odchodząc od mitu narodowego i kulturowego, można sięgnąć do mniej wzniosłych, ale może nie mniej kulturotwórczych zjawisk: rozmów i dowcipów należących do przejawów życia codziennego, a więc dowcipów o Czukczach. Bez Syberii i Dalekiego Wschodu wszystkie te zjawiska zaistnieć by nie mogły, a więc nie zostałyby włączone w krąg swojskości kultury rosyjskiej. Szybkość i względnie niskie koszty ekspansji na Wschód, która się dokonała w XVI i XVII wieku, budzą do dzisiaj podziw. Równie szybko rosło tylko imperium kolonialne Korony Hiszpańskiej, z tą jednak różnicą, że tego imperium już dzisiaj nie ma. W ciągu niespełna stu lat po przekroczeniu Uralu kozacy i chłopi rosyjscy osiągnęli wybrzeże Oceanu Spokojnego, a w ciągu nieco ponad stu lat rozpoczęto eksplorację Ameryki Północnej: najpierw Alaski, a potem wybrzeży Pacyfiku, aż po Zatokę Kalifornijską. Eksploracja w XVI i w XVII wieku na nowych terytoriach opanowywanych przez państwo rosyjskie miała początkowo charakter zdobywania symbolicznego raczej panowania nad jakimś terytorium, następnie eksploracji myśliwskiej i handlowej, aby przechodzić także w opanowywanie rolnicze. Do wielkich reform administracyjnych terytoriów Syberii i Dalekiego Wschodu z pierwszej połowy XIX wieku wszystkie te sposoby opanowywania współistniały ze sobą. Eksploatacja rolnicza, a następnie także wydobywanie kopalin, produkcja przemysłowa z nimi związana zaczynają dominować w XIX i oczywiście w XX wieku. Wielkie i legendarne bogactwo Syberii i Dalekiego Wschodu, skóry i futra, w tym futra sobolowe, nie tracąc na atrakcyjności, przestają być dominującą częścią dochodów czerpanych z tych ogromnych obszarów. 3. Autorzy sukcesu: państwo czy jego mieszkańcy? Ekspansja na Wschód, w świetle powyższych uwag, była sukcesem: dokonała się szybko, przy małym wysiłku skarbu, przynosiła znaczne dochody i w dalszej perspektywie (XX i XXI wieku) dała państwu rosyjskiemu panowanie nad strategicznymi zasobami surowców, 133 134 Hubert Łaszkiewicz których­ znacznie na razie ciągle rośnie. Zadajmy więc pytanie, kto był jego autorem: państwo – władze centralne (car i jego otoczenie), czy też sami mieszkańcy Rosji? Otóż przez wiek XVI i XVII eksploracja Syberii i Dalekiego Wschodu należy raczej do inicjatywy poddanych cara niż do władcy i jego najbliższego otoczenia. Ze względów komunikacyjnych Carstwo Moskiewskie nie było w stanie prowadzić zakrojonej na szeroką skalę akcji militarnej czy osadniczej na tych terenach. Obecność struktur administracyjnych (w tym cerkiewnych) była słaba. Opanowywanie przestrzeni, akcja kolonizacyjna spoczywały na barkach ludności: przedsiębiorców i kupców w rodzaju rodziny Stroganowów, chłopów, kozaków. Od ich talentów, uporu, przedsiębiorczości i waleczności zależały losy rosyjskiego panowania na Syberii i Dalekim Wschodzie. Jeżeli porówna się koszty poniesione przez skarb Carstwa Moskiewskiego na prowadzenie polityki, w tym akcji militarnych, na Zachodzie z tym, co wydawano na opanowywanie Wschodu, rachunek zysków (liczonych z perspektywy wielu wieków i tylko z punktu widzenia posiadania określonych terenów) jest zdecydowanie po stronie Wschodu. Eksploracja Wschodu przyniosła też bardzo ciekawe doświadczenia natury administracyjnej, politycznej i niejako międzykulturowej. Otóż Rosjanie napotykali na Syberii i na Dalekim Wschodzie zarówno rozbudowane i dojrzałe struktury państwowe o równej im lub nawet znacznie starszej metryce, jak Dżungarię czy Cesarstwo Chińskie, ale także ludność żyjącą w strukturach rodowych i plemiennych, bardzo mobilną, której opanowanie nie było możliwe w formie tradycyjnej dominacji terytorialnej. Tym bardziej że siła zobowiązań politycznych podjętych przez przywódców tej ludności zwykle była bardzo nietrwała: wygasała wraz ze zmianą stosunków sił lub też po prostu ze śmiercią tych przywódców. Wszystkie te czynniki wymuszały na przedstawicielach cara dużą elastyczność i po prostu kreatywność. Trudno było oczekiwać dokładnych instrukcji z Moskwy, skoro podróż tam i z powrotem mogła trwać nawet rok. Bardzo wiele zależało więc od władz lokalnych. Tak było w czasie negocjacji z przedstawicielami Cesarstwa Chińskiego w 1689 roku w Nerczyńsku. Strona rosyjska nie dysponowała ani znaczącą siłą zbrojną, ani możliwościami ustalania w rozsądnym czasie warunków negocjowanego porozumienia z władzami w Moskwie. A mimo to, przy rzecz jasna słabszej pozycji negocjacyjnej, zawarty traktat nie eliminował rosyjskiej obecności na Dalekim Wschodzie. Co prawda porozumienie zredukowało obec- Wędrówka na Wschód Carstwa Moskiewskiego: wieki XVI i XVII... ność Rosjan nad Amurem i odsunęło ich od jego doliny na ponad sto lat, ale zostało zawarte na niemal równych prawach z Cesarstwem (car rosyjski nie był „wasalem” Syna Nieba) i stało się istotnym dyplomatycznym precedensem kształtującym wyjątkowość relacji dyplomatycznych Rosji z Chinami na następne wieki. 4. Struktury panowania nad ludźmi i nad terytorium Doświadczenie w opanowywaniu przestrzeni i utrzymywaniu jej (a dokładniej zamieszkującej ją ludności) w zależności i poddaństwie było – jak sądzę – cennym nabytkiem w zakresie wiedzy i umiejętności politycznych dla administracji i warstwy urzędniczej Carstwa Moskiewskiego, ale także dla – powiedzmy to tak – szeregowych Rosjan. Wiązało się to z umiejętnościami samoorganizacji, która łączyła działalność wojskową (ekspansję i samoobronę) z pracą nad własnym przeżyciem i zarobkowaniem. Panowanie na nowych terenach nie było – co już zostało powiedziane – łatwe. Pomijam już kontakt i rywalizację z tak potężnymi państwami, jak Cesarstwo Chińskie i inne państwa plemion mongolskich czy tureckojęzycznych leżących w jego sąsiedztwie. Wiele umiejętności i kompetencji wymagało opanowanie i utrzymanie tego panowania na ziemiach zamieszkanych przez ludy o organizacji przed- czy też protopaństwowej. W takich wypadkach panowanie nad terytorium opierało się na zależnościach tworzonych przez kombinację działalności militarnej i dyplomatycznej, sięgającej do gestów symbolicznych, które obie strony mogły traktować w podobny sposób. Kłopot oczywiście polegał na tym, że Rosjanie nie do końca, przynajmniej na początku ekspansji, byli w stanie w pełni zrozumieć symboliczny język polityki swoich nowych sojuszników i poddanych. Opanowywanie nowych terytoriów było więc kombinacją dwóch nieco odmiennych procesów: z jednej strony poboru symbolicznego podatku w futrach zwierzęcych, głównie sobolowych, tak zwanego jasaku, z drugiej zaś intensyfikowania Por. V. S. Miasnikov, The Ch’ing Empire and the Russian State in the 17th Century, translated by V. Schneierson, Moscow 1985, szczególnie s. 232-290. 135 136 Hubert Łaszkiewicz osadnictwa myśliwskiego i rolniczego, zakładania faktorii kupieckich i organizacji przemysłu – początkowo bardzo prymitywnego. Udział Cerkwi prawosławnej patriarchatu moskiewskiego w „oswajaniu” nowych terenów nie jest zbyt dobrze opracowany. Wydaje się jednak, że jej obecność, przynajmniej na niektórych terenach, nie była zbyt znacząca. Bez nowych badań i prób syntezy sprawy tej na razie nie można rozstrzygnąć. Z jednej strony mamy świadectwa udanych misji wśród niektórych ludów syberyjskich (na przykład części Buriatów), z drugiej strony jeszcze w drugiej połowie XIX wieku urzędnicy rosyjscy zauważają, że jakaś część rosyjskich osadników na Syberii zasymilowała się z autochtonami nie tylko w sensie więzów rodzinnych i przyjęcia lokalnego języka, ale także w sensie religijnym, a więc porzucenia prawosławia. Przeglądając relacje z misji poselskich odbywanych wśród ludów Syberii przez Rosjan, odnosi się wrażenie, że spisywane przez Rosjan opowieści-sprawozdania z misji były raczej ich punktem widzenia, czasami daleko odbiegającym od rzeczywistych relacji z „jasacznymi ludźmi”. Niemniej jednak – bez względu na to, ile w tych relacjach jest projekcji własnych przekonań, a ile rzetelnej sprawozdawczości – należy podkreślić, że elastyczny, dostosowujący się do okoliczności sposób zarządzania okazał się w dłuższej perspektywie czasowej bardzo skuteczny. Temu służyły powtarzane w instrukcjach dla wojewodów zalecenia, aby jasaku nie pobierać nadmiernie i nie wywoływać tym samym buntu ludności. 5. Nowe doświadczenia – polityczne i dyplomatyczne – kontakty z Chinami Panowanie nad „ludami jasacznymi” zgodne było z wcześniejszymi doświadczeniami Moskwy z terenów europejskich. Zdecydowanie inny charakter miało natomiast zetknięcie się z Chinami (1618-1689), tak militarne w czasie walk o dolinę Amuru, jak i dyplomatyczne. Spotkanie z potężnym państwem o ustalonych procedurach dyplomatycznych, rozbudowanej administracji, potencjale militarnym i intelektualnym, co najmniej równym rosyjskiemu, zaowocowało zdecydowanym poszerzeniem horyzontów dyplomacji moskiewskiej. Początki tego spotkania były trudne, a nawet zabawne. Nieznajomość języka, czy też brak wspólnego języka komunikacji, sprawiała Wędrówka na Wschód Carstwa Moskiewskiego: wieki XVI i XVII... obydwu stronom sporo kłopotu. Pierwsze wymienione dokumenty dyplomatyczne nie były tłumaczone przez długi czas. Ani Rosjanie nie posiadali tłumaczy z chińskiego, ani Chińczycy z rosyjskiego. Począt­kowo oba państwa miały o sobie wzajemnie mylne wyobrażenie: każde z nich sądziło, że ta druga strona jest jakby kolejnym „ludem jasacznym”. Wpływało to na sposób formułowania pism dyplomatycznych, w których widoczne było poczucie własnej wyższości i które zawierały propozycje dla tej drugiej strony, aby uznała suwerenność tej pierwszej i zgodziła się płacić jej zwyczajowy trybut. Przekład ustny, kiedy już dochodziło do spotkania przedstawicieli obu stron, przechodził przez kilka filtrów językowych, co musiało wpływać na jego precyzyjność, zdecydowanie w sposób negatywny. Liczba języków pośrednich mogła być bardzo duża. Początkowo były to: rosyjski – tatarski (język z rodziny języków tureckich) – mongolski – chiński, i z powrotem. Potem, kiedy w kontaktach dyplomatycznych z Chinami pojawili się dyplomaci z Grecji na służbie carskiej, obok rosyjskiego i chińskiego jako języka wspólnego zaczęto używać łaciny. Nie bez znaczenia była obecność misjonarzy jezuickich na dworze cesarskim, którzy czasami świadczyli też usługi dyplomatom rosyjskim. To był już etap następny, kiedy negocjacje prowadzili dyplomaci z Poselskiego Prikazu, a nie kozacy i kupcy futer. Mimo że w końcu XVII wieku rosyjskie ciążenie w stronę doliny Amuru zostało powstrzymane, to ostatecznie jednak państwo rosyjskie osiągnęło dolinę tej rzeki i ta zmiana granicy okazała się nad wyraz trwała – Rosja osiadła na stałe na Dalekim Wschodzie. 6. Podsumowanie: marginalność przedsięwzięcia imperialnego czy długoterminowa inwestycja? Powracając do myśli kilkakrotnie już wyrażonej w tym tekście, należy stwierdzić, że nakłady Rosji na wędrówkę na Wschód były znacznie mniejsze niż te, które zainwestowano w porównywalnym czasie w rywalizację na terenie europejskim. Tradycyjny obraz wzrostu wielkości i znaczenia Rosji opiera się na podkreślaniu zwycięstw na Ibidem, s. 63 i nn. 137 138 Hubert Łaszkiewicz europejskim obszarze działań. Najpierw nastąpiło „powtórne zjednoczenie” z częścią Ukrainy (rada perejasławska, 1653), potem realizacja planu Piotra I, Europa i Rosja, a następnie (już w XVIII wieku) próba realizacji planu „greckiego” Katarzyny II – której największym sukcesem na południu było zniesienie Chanatu Krymskiego, a na zachodzie opanowanie znacznej części Rzeczypospolitej. Z tej perspektywy wędrówka Carstwa na Wschód wydaje się marginesem polityki imperialnej, inwestycją, w którą nie angażowano wielkich środków skarbu państwa. Przekroczenie Cieśniny Beringa, eksploracja Alaski i wybrzeży Pacyfiku Ameryki Północnej nigdy nie rozpaliły w XVII i XVIII wieku aż tak wyobraźni polityków w Moskwie, a potem w Petersburgu, aby poświęcili im więcej uwagi. Ekspansja na Wschód w całym omawianym okresie była marginalna w porównaniu z zaangażowaniem europejskim. A jednak postępowała, i to z ogromną szybkością. Przynosiła nie tylko korzyści mierzone w dziesiątkach tysięcy kilometrów rocznego przyrostu – co zresztą początkowo było raczej iluzoryczne, ze względu na brak dostatecznej wiedzy, jaki właściwie teren został opanowany. Ekspansja ta i połączona z nią eksploracja skutkowały niezwykłym poszerzeniem horyzontów i umiejętności dyplomatycznych, administracyjnych, gospodarczych. Znaczący był też późniejszy wpływ zdobytego Wschodu na Rosjan obraz własny, o czym była już mowa wcześniej w tym tekście. Z perspektywy XXI wieku można powiedzieć, że marginalna inwestycja imperialna okazała się najtrwalszym osiągnięciem państwa rosyjskiego. Powstanie niepodległej Białorusi i Ukrainy, odzyskanie niepodległości przez Estonię, Łotwę i Litwę, uzyskanie niepodległości przez wiele państw na Kaukazie i w Azji Środkowej cofnęły granicę Rosji dalej, niż miało to miejsce kiedykolwiek w jej historii. Stawia to pod znakiem zapytania pewne powszechnie przyjęte kiedyś sądy historiozoficzne nadające sens dziejom Rosji, wskazujące na „konieczności” w jej rozwoju historycznym. Otwiera to też możliwość podjęcia rozważań takich alternatywnych wariantów historii, w których ekspansja na Wschód uzyskałaby znaczące wsparcie ze strony władz centralnych w Moskwie, a potem w Petersburgu. Wtedy ciężar państwa niewątpliwie przeniósłby się zdecydowanie na Wschód, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Niektóre z takich hipotetycznych skutków warto wymienić. Pierwszą konsekwencją byłoby wzmocnienie obecności rosyjskiej w Ameryce Północnej. Gdyby osady rosyjskie po osiągnięciu Kalifornii, co stało się już w XVIII wieku, pozostały Wędrówka na Wschód Carstwa Moskiewskiego: wieki XVI i XVII... tam dłużej, wtedy być może telewizyjny Zorro mówiłby po rosyjsku, a opowieści o gorączce złota na Alasce dotyczyłyby fragmentu historii społecznej i gospodarczej Rosji, a nie USA. Pomimo tego, że aż tak rozległe zmiany nie nastąpiły, trzeba szczególnie mocno zaakcentować, że pozornie marginalna inwestycja imperialna przyniosła trwałe rezultaty, istotne we wszystkich wymiarach życia społecznego, gospodarczego i politycznego Rosji. Warto pamiętać, że autorem tych osiągnięć było przez cały XVI i XVII wiek raczej społeczeństwo Carstwa Rosyjskiego niż polityka władz centralnych. Trwałość osiągnięć terytorialnych z czasów ekspansji w XVI i XVII wieku wskazuje także na to, że podboje imperialne, oparte na całkowitym podporządkowaniu terytorium i jego ludności, nie zawsze przynosiły Rosji z punktu widzenia długiej perspektywy czasowej oczekiwany sukces. To oczywiście jest jedna z możliwości odczytań przeszłości. Istnieją inne. Stabilizacja personalna władzy w Federacji Rosyjskiej, która ukształtowała się w czasie ostatniej dekady i trwać będzie prawdopodobnie przez następną, skłania do pytania, jaka opcja rozwoju Rosji – w tym stosunku do przestrzeni i struktur zarządzania nią – zostanie wybrana: czy zagospodarowanie ogromnego państwa z wykorzystaniem inicjatywy (wspieranej przez centrum) własnych obywateli, czy też klasyczne, imperialne, opanowanie nowych terytoriów i wzmacnianie struktur dominacji na terenach, które kiedyś należały do różnych form państwa rosyjskiego i ZSRR. 139 W numerze piszą: Michaił Dmitriew, prof. dr hab., Moskiewski Państwowy Uniwersytet im. M. W. Łomonosowa; Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk Andrzej Gil, dr hab., prof., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Insty­ tut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie Konstantyn Jerusalimskij, dr, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny, Moskwa Hubert Łaszkiewicz, dr hab., prof., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dmitrij Stiepanow, dr, Moskiewski Państwowy Uniwersytet im. M. W. Łomonosowa