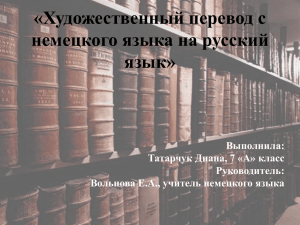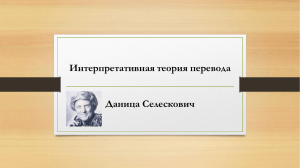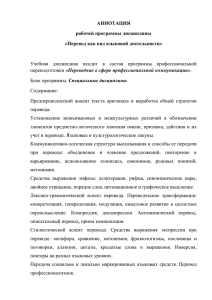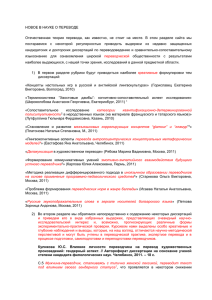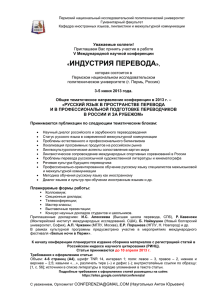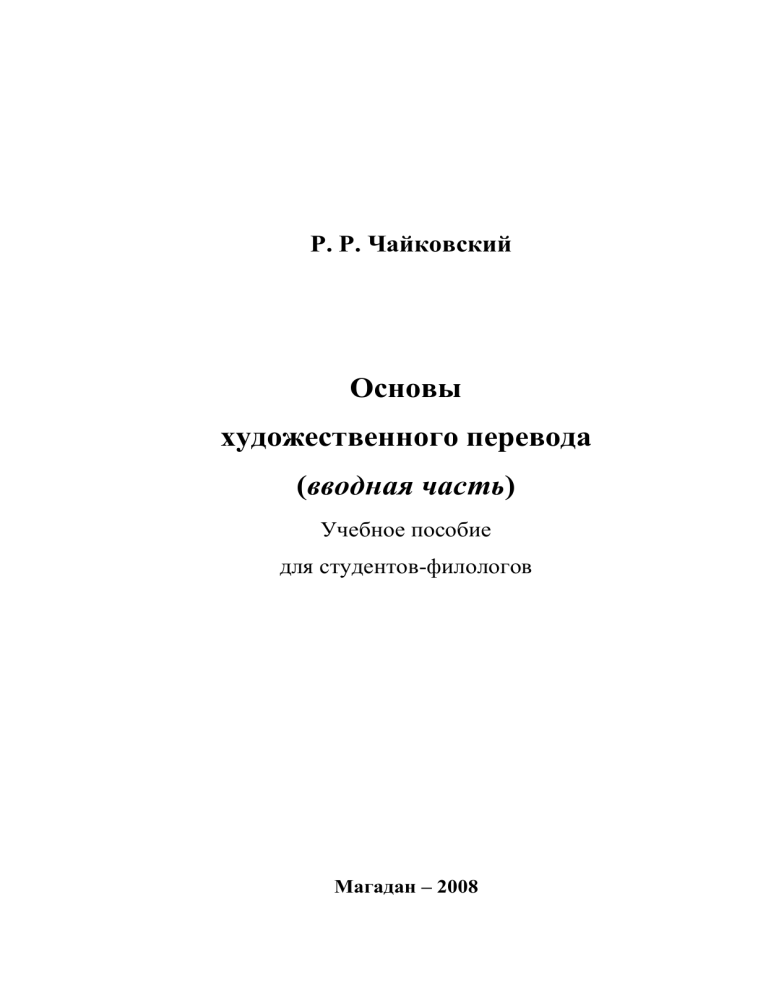
Р. Р. Чайковский Основы художественного перевода (вводная часть) Учебное пособие для студентов-филологов Магадан – 2008 2 Рецензенты: З. Т. Прошина, доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой теории и практики перевода Института иностранных языков ДальнеВосточного государственного университета (г. Владивосток) Г. Т. Хухуни, доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой теории языка и англистики Московского государственного областного университета (г. Москва) 3 Введение Художественный перевод – один из наиболее притягательных видов перевода. Возможно, именно по этой причине переводить поэзию, художественную прозу, драматургию пробуют многие. Однако в большинстве случаев начинающие переводчики терпят неудачу (хотя часто они даже не догадываются об этом, поскольку неподготовленный человек не в состоянии, как правило, объективно оценить результаты своего труда). Это происходит потому, что художественный перевод – это и один из наиболее сложных видов перевода. Сложность художественного перевода как типа речевой деятельности объясняется прежде всего тем, что он представляет собой уникальный сплав науки и творчества, а именно науки о слове (т. е. всех лингвистических и литературоведческих дисциплин) и искусства слова (художественного словесного творчества). Опыт многих столетий свидетельствует о том, что только в тех случаях, когда эти два вида творчества: научное и художественное – сливаются воедино, возникает высокохудожественный адекватный перевод стихотворения, романа или пьесы. Поэтому художественному переводу как единственному в своем роде синтезу научного и словесно-художественного творчества научить трудно. Художественному переводу, как и иностранным языкам, можно только научиться. Но эта переводческая автодидактика будет успешной только при условии, что начинающий переводчик в совершенстве овладеет языком подлинника и языком перевода, что он усвоит те знания, которые уже накоплены в сфере теории и практики художественного перевода, что он выработает в себе навык критического сопоставления оригинала и его имеющихся переводов, что он уяснит для себя истину, в соответствии с которой всякий перевод – это только один из возможных путей к оригиналу. Задача же предлагаемого пособия весьма скромная – ознакомить студентов-филологов с главными категориями теории художественного перевода, с ее основными идеями и проблемами и на примерах из мировой перевод- 4 ной литературы показать, что несмотря на обилие плохих переводов, переводов, девальвирующих оригинал, адекватный перевод иноязычной поэзии, прозы и драматургии возможен. Еще одна цель этой книги – дать студенту импульс для размышлений о природе художественного перевода, убедить его в необходимости всякий перевод воспринимать критически, с опорой на оригинал и выносить оценки переводному произведению лишь на основе многоуровневого сопоставительного анализа исходного текста и текста перевода. Такой анализ будет беспристрастным, объективным и, следовательно, профессиональным. Вводная часть этого учебного пособия включает 6 глав. В I главе предлагаемой книги последовательно рассматриваются такие категории, как литературно-художественное произведение, художественная речь, художественный текст, характеризуются исходный и переводной тексты, кратко излагаются методы теории художественного перевода, дается обоснование художественного перевода как вида искусства слова, описываются некоторые законы теории художественного перевода и определяется статус переводной литературы. Во II главе дается ретроспектива отечественных работ по теории художественного перевода с начала XX века, отмечаются ее достижения и критически обсуждаются некоторые спорные взгляды ученых и практиков перевода. III глава посвящена основному вопросу онтологии теории перевода вообще и теории художественного перевода в частности – проблеме переводимости/непереводимости. В ней предпринята попытка оспорить некоторые постулаты, получившие широкое распространение в учебных пособиях по переводу. Глава IV знакомит студентов с проблемой сопротивления оригинала переводу на уровне лексики, морфологии, синтаксиса, звукописи, стиля и поискам путей его преодоления. 5 В V главе рассматривается категория переводной множественности как подтверждение идеи относительной адекватности любого перевода. В VI главе описываются основные этапы работы переводчика. Основополагающие работы по теории художественного перевода и примыкающим к ней областям филологии приводятся в конце пособия в Списке использованной и рекомендуемой литературы. Ссылки на них в тексте пособия даются в квадратных скобках. Ссылки на книги и статьи, не относящиеся к обязательной литературе, но цитируемые в соответствующих главах, даются в тексте в круглых скобках. При повторном обращении к такой публикации в круглых скобках указывается только фамилия автора (или название книги) и страница. Автор несет ответственность за аутентичность всех цитируемых примеров на разных языках. В текст пособия включены также многие афоризмы, максимы и высказывания о переводе известных теоретиков и практиков художественного перевода, которые дополняют или подтверждают идеи автора книги. Они, несомненно, дадут студентам повод для дальнейших размышлений и могут послужить предметом обсуждения на практических занятиях. Роман Чайковский 6 Глава I. Предмет, объект и важнейшие понятия теории художественного перевода Задачи, предмет и объект теории художественного перевода Основные задачи теории художественного перевода сводятся к следующему: исследование природы художественного перевода как вида искусства слова, изучение категорий переводимости/непереводимости, определение на основе анализа достижений переводческой практики оптимальных путей воссоздания исходного текста, проблемы взаимоотношения исходного текста и переводного текста, исследование характера сопротивления оригинала переводу, выявление действия общих законов перевода в сфере художественного перевода, изучение эволюции принципов художественного перевода, определение статуса переводной литературы, анализ особенностей национальных школ и направлений художественного перевода, выработка критериев объективной оценки и принципов научной критики художественного перевода, разработка типологии художественного перевода и т. д. В нашем пособии мы осветим лишь некоторые из перечисленных задач. Исходными положениями теории художественного перевода являются признание принципа переводимости художественного текста, рассмотрение художественного перевода как формы искусства слова, осознание примата содержания и содержательной формы иноязычного литературнохудожественного произведения в их единстве, утверждение особого онтологического статуса переводной литературы, констатирование ведущей роли эстетической функции художественного перевода. Предметом теории художественного перевода является акт преобразования переводчиком исходного художественного текста в переводной художественный текст, а ее объектами – исходный художественный текст, созданный на его основе переводной художественный текст и взаимосвязи между ними. 7 Таким образом, предмет теории художественного перевода включает в себя трансформирующую деятельность переводчика [Гарбовский, 219], направленную на восприятие исходного художественного текста, его переводческий анализ и создание аналога исходного художественного текста средствами языка перевода. В основе деятельности переводчика лежит операция перекодирования текста, т. е. замена кода исходного языка кодом языка перевода. Деятельность переводчика, представляя собой уникальный психический процесс перевыражения исходного художественного текста, является при этом вторичной по своей сути, так как она запрограммирована, задана исходным художественным текстом. Поэтому труд переводчика художественной литературы является творчеством лишь условно. Перевод художественного текста, как и любого другого текста, представляет собой преобразование одной знаковой системы в другую. Для осуществления перевода при преобразовании исходного художественного текста в переводной художественный текст должен быть сохранен инвариант исходного художественного текста, т. е. основная часть его смыслового содержания. При переводе, однако, в определенной мере неизбежно происходит изменение смысла исходного художественного текста. Степень сохранения инварианта оригинального текста и мера смысловых потерь при преобразовании исходного художественного текста являются показателем уровня адекватности перевода, т. е. критерием соответствия переводного художественного текста исходному художественному тексту. Процесс преобразования исходного художественного текста в переводной художественный текст представляет собой сложную языковую трансформацию, которая может приводить к различным результатам на выходе: от максимально приближенного к исходному художественному тексту варианта до значительного искажения, деформации оригинала, которая в конечном итоге может не позволить рассматривать полученный вариант как перевод. Вслед за Н. К. Гарбовским, переводную трансформацию исходного художественного текста можно считать положительным воплощением оригинала, а перевод- 8 ную деформацию исходного художественного текста – отрицательным преобразованием, искажающим представление об исходном художественном тексте Гарбовский: 360. Перевод – синтез: литературоведения (интерпретация), лингвистики (знание языка, чтение текста на языке) и самостоятельного творчества (художественное воспроизведение подлинника). Л. В. Гинзбург Важно помнить, что преобразование исходного художественного текста, о котором здесь говорится, носит условный характер, так как сам исходный художественный текст никаких трансформаций не претерпевает. Исходный художественный текст остается при переводе неизменным, незыблемым, но на его основе путем преобразования его системы знаков создается в иной системе знаков новый текст, замещающий исходный в другой семиотической среде. При переводе всегда происходит полная трансформация знаков и частичная трансформация смыслов (ср.: Гарбовский: 364. Таким образом, переводческое преобразование исходного художественного текста – это перевыражение его смысла и пересоздание его формы. Для обеспечения подобного преобразования переводчик должен владеть навыком переключения [Миньяр-Белоручев: 101 и след.]. Объект теории художественного перевода включает, следовательно, следующие составляющие: 1. исходный художественный текст (в виде литературно- художественного произведения); 2. пути его перевыражения средствами языка перевода; 3. переводной художественный текст; 9 4. формы взаимосвязи между исходным художественным текстом и переводным художественным текстом. 1. Литературно-художественное произведение Объектом, на который направлена деятельность переводчика, является литературно-художественное произведение, поэтому мы сначала в общих чертах рассмотрим его суть. Литературно-художественное произведение поразному трактуется учеными. Известный немецкий филолог О. Вальцель обоснованно утверждал, что «вопрос о том, как слово следует за словом, как слова образуют предложение, какого характера эти предложения, соединяются ли они в обширные периоды или нет – все это имеет решающее значение и помогает определить в сфере произведений словесного искусства типические отличия художественного облика…» (Вальцель О. Сущность поэтического произведения // Проблемы литературной формы. – Л.: ACADEMIA, 1928. – С. 6). Из слов Вальцеля следует, что литературнохудожественные произведения представляют собой отличающиеся друг от друга явления словесного искусства. Прозаик М. Пришвин, много размышлявший над проблемами художественного творчества, полагал, что «всякое произведение искусства рождается из встречи мгновения текущей жизни земли с вечностью: произведение искусства – памятник по умершему мгновению жизни» (Пришвин М. Записи о творчестве // Контекст – 1974. Лит.-науч. иссл. – М.: Наука, 1975. – С. 323). Литературно-художественное произведение, таким образом, это средство фиксации ускользающего времени, это слепок какого-то события или переживания во времени и пространстве. И хотя литературнохудожественное произведение, как подметил Р. Барт, связано с отражаемой им реальностью лишь опосредованно и поэтому фактически «всегда нереалистично» [Барт: 135], оно тем не менее представляет собой особую художественную реальность, которая занимает то или иное место в национальной и мировой литературе. 10 По утверждению классика немецкого литературоведения В. Кайзера, словесно-художестенное произведение содержит в себе свой собственный смысл, свое собственное содержание. Оно является, по Кайзеру, «выражением» его создателя, т. е. автора, прообразом его творческого духа, и вместе с тем, всякое художественное произведение представляет собой исторический документ Kayser, 22. Если обратиться к работам специалистов в области стилистики художественной речи, то можно увидеть, что природу литературнохудожественного произведения они освещают по-разному. М. П. Брандес, например, понимает под словесным произведением всякий отграниченный макрообъект, которому в результате целенаправленной коммуникативноречевой и языковой деятельности придана определенная конструктивная организованность, внутренняя и внешняя форма. По ее мнению, литературно-художественное произведение «представляет собой языково-духовную целостность, результат познания и осмысления действительности, результат целесообразности практического или художественного переосмысления материала жизни в содержании произведения» [Брандес, 2004, 48]. По мнению А. Н. Васильевой, литературно-художественное произведение отличается органическим синтезом образно-отражательной, жизненно-познавательной, эстетической, идейно-воспитательной функций и их своеобразным «равновесием» при «огромной содержательной глубине и совершенстве стилистического воплощения». Художественное произведение – это всегда речь (словесная, живописная, музыкальная, танцевальная и т. д.) – речь, обращенная к публике. Как и всякая речь, она включает в себя ту информацию, которую субъект намеревается сообщить адресату, и то волевое намерение, которое он при этом стремится реализовать [Васильева: 6, 18]. Этих двух определений достаточно для того, чтобы на их основе продолжить рассмотрение категорий литературно-художественного произведения. Прежде всего отметим, что в литературно-художественном произ- 11 ведении его автором разрабатывается та или иная тема. Тема – это основной вопрос, который автор освещает в своем произведении на том или ином жизненном материале в соответствии со своими мировоззренческими позициями. По словам Джеймса Н. Фрея, тема – это предмет, к которому постоянно возвращается повествование или предмет повествования (Фрей, Джеймс Н. Как написать гениальный роман – 2. – СПб.: Амфора. ТИД Амфора, 2007. – С. 96). Проще говоря, тема – это то, что изображается в произведении, о чем оно написано. Тема литературно-художественного произведения тесно связана с его идеей, представляющей собой основную мысль об изображаемых в произведении событиях, которая пронизывает все произведение. Как пишет Дж. Н. Фрей, идея произведения – это краткое изложение его содержания. Это истина писателя, его видение мира (там же: 90). Дж. Н. Фрей обоснованно подчеркивает, что идея вынуждает автора строго придерживаться темы: «…идея – это кратчайший способ описать развитие сюжета, который ведет персонажей через конфликт к развязке» (там же: 104). Тема и идея произведения составляют его идейно-тематическую основу. Для литературно-художественного произведения характерен также тот или иной пафос, под которым понимают эмоциональное одушевление, страсть, пронизывающую произведение и придающую ему единое дыхание. Различают героический пафос, трагический пафос, пафос драматизма, романтический пафос, сатирический пафос, пафос сентиментализма и т. п. Пафос литературно-художественного произведения находит свое отражение в отборе соответствующих речевых средств и стилистических приемов. В целом структура литературно-художественного произведения состоит из нескольких основных компонентов: идейно-тематического содержания, образной системы, композиции (и сюжета), языка (речевого стиля), родовой и видовой (жанровой) формы, а также нашедшего отражение в данном произведении художественного метода (Соколов А. Н. Теория стиля. – М.: Искусство, 1968. – С. 62). Структура литературно- 12 художественного произведения определяется творческими законами, установленными его автором. Художественный метод – это тип подхода писателя к действительности, это устойчиво повторяющееся единство творческих принципов писателя (Словарь литературных терминов. – М.: Просвещение, 1974. – С. 213, 214, 264). Идеальным духовным содержанием литературно-художественного произведения является поэтический, художественный мир. А художественный текст рассматривается в качестве единственно возможной формы существования этого содержания [Гиршман: 12]. Художественность же литературного произведения заключается в многообразном сочетании эстетических качеств и свойств, определяющих принадлежность данного произведения к области искусства слова. Художественность обеспечивает речевому произведению его переход в сферу творчества и поднимает его статус до уровня произведения искусства. Здесь важно подчеркнуть, что «произведение художественной литературы, как пишет известный польский философ Р. Ингарден, не является, строго говоря, конкретным (или почти конкретным) объектом эстетического восприятия. Оно, взятое само по себе, представляет собой лишь как бы костяк, который в ряде отношений дополняется или восполняется читателем, а в некоторых случаях подвергается также изменениям или искажениям» [Ингарден, 1999: 72]. Наглядная конкретизация литературно- художественного произведения происходит в результате взаимодействия самого произведения и его читателя в процессе чтения. Чтение при этом носит характер воссоздающей, творческой деятельности [Ингарден, 1999: 73]. То есть литературно-художественное произведение живет лишь благодаря его восприятию читателем. Сказанное имеет непосредственное отношение к переводчику как читателю литературно-художественного произведения. Для правильного понимания литературно-художественного произведения важен, кроме того, весь комплекс вопросов, связанных со временем 13 его создания, его идейными источниками, его местом и ролью в литературном процессе и т. п. Именно поэтому многие исследователи подчеркивают открытость литературно-художественного произведения, его впаянность в социальный контекст жизни. Академик Д. С. Лихачев имел все основания утверждать, что литературное произведение распространяется за пределы текста [Лихачев, 1984: 4]. Развивая мысли своих предшественников (П. Н. Медведева, Х. Ортеги-и-Гассета), Ю. Л. Оболенская предложила такое определение произведения литературы: «Художественное произведение – это его текст и обстоятельства его создания и восприятия» [Оболенская: 100]. В этом же ключе сформулирована и дефиниция М. М. Гиршмана, по которому литературно-художественный произведение – это «воплотившаяся концепция мира и человека в их единстве» (Гиршман М. М. Целостность литературного произведения // Проблемы художественной формы социалистического реализма. В 2 т. Т. . Внутренняя логика литературного произведения и художественная форма. – М.: Наука, 1971. – С. 51). Однако с течением времени статус литературно-художественного произведения может меняться – его творческий потенциал может возрастать или уменьшаться. Иногда это касается не всего литературно- художественного произведения, а лишь каких-либо его составляющих, например, языка или системы образов, подтем, сопутствующих главной теме, идеи произведения. Поэтому, дополняя мысль В. В. Виноградова, можно сказать, что литературно-художественное произведение – это образносемантический контекст, в котором функционируют, устанавливаются и дифференцируются все другие основные единицы художественного выражения (Виноградов В. В. О теории художественной речи. – М.: Высш. шк., 1971. – C. 11). Литературно-художественное произведение – продукт творческой деятельности писателя, в котором в той или иной форме отражена реальная или виртуальная действительность. Описываемые в литературно- 14 художественном произведении люди, события, идеи предстают как единое целое, воплощающее в себе разнообразные стороны жизни. Литературно-художественное произведение – это органическое сочетание содержания и формы, это целостный организм, законченный в себе особый образный мир, это завершенная эстетическая ценность. Литературно-художественное произведение – это наименьшая единица той или иной национальной литературы. Оно может быть реализовано в одной из множества жанровых форм – от стихотворной миниатюры до многотомного романа. Всякое литературно-художественное произведение отличается своей особой структурой. Эта структура определяется творческими законами, установленными автором произведения. Литературнохудожественное произведение – форма существования литературы как искусства слова. Литературно-художественное произведение – это непосредственный объект общения автора и читателя и элемент художественного бытия человека, тесно вплетенного в контекст его жизни. 2. Художественная речь Художественная речь – это речь, которой написано литературнохудожественное произведение. Она выступает его языковой основой. Тем самым художественная речь также относится к категории словесного искусства и требует иного – по сравнению с другими формами речи – подхода. Исследованием художественной речи занимались многие видные отечественные и зарубежные лингвисты и литературоведы – М. М. Бахтин, В. В. Виноградов, Г. О. Винокур, А. И. Ефимов, М. Н. Кожина, Ю. М. Лотман, В. Кайзер, Я. Мукаржовский, Р. Якобсон и др. Г. О. Винокур, например, усматривал отличие художественной речи от обычной речи в том, что первая представляет собой внутреннюю форму, то есть «нечто само по себе, внутри себя обладающее некоторой содержательной ценностью». Винокур называл художественную речь особым модусом языковой действительности [Винокур: 51, 62]. 15 Оригинальную концепцию художественной речи выдвинула в середине 60-х годов прошлого века М. Н. Кожина. По ее мнению, специфическое свойство художественной речи заключается в художественно-образной конкретизации. Она проявляется в такой намеренно созданной по законам искусства организации языковых средств в речевой ткани художественного произведения, благодаря которой слово-понятие «переводится» в художественный слово-образ, становится выражением новых, созданных творческим воображением индивидуально-неповторимых, как бы видимых внутренним зрением целостных художественных образов (и их элементов – «микрообразов»), пропущенных через эстетическую оценку писателя (Кожина М. Н. О специфике художественной и научной речи в аспекте функ- циональной стилистики. – Пермь: Изд-во ПГУ им. А. М. Горького, 1966. – С. 91–92, 156). С весьма экстравагантной теорией художественной речи выступил в середине 60-х годов прошлого века В. В. Кожинов. Он утверждал, в частности, что слово в литературном произведении не является словом как таковым и речи не принадлежит. Слово в литературном произведении, по мысли Кожинова, недопустимо рассматривать в соотношении с реальной, практической речью (Кожинов В. В. Об изучении «художественной речи» // Контекст – 1974. Литературно–теоретические исследования. – М.: Наука, 1975. – С. 256, 261). Кожинов писал: «художественная речь – это явление искусства, а не языка, феномен художественной, а не речевой деятельности» (Кожинов В. В. Художественная речь как форма искусства слова // Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Стиль. Произведение. Литературное развитие. – М.: Наука, 1965. – С. 247). Отголоски этой теории можно обнаружить в монографии А. Н. Васильевой, которая, вслед за В. В. Кожиновым, усматривает в художественной речи сходство с танцевальным искусством (ср.: (Кожинов В. В. Художественная речь как форма искусства слова // Теория литературы. Основные 16 проблемы в историческом освещении. Стиль. Произведение. Литературное развитие. – М.: Наука, 1965. – С. 240), [Васильева: 18]. Взгляды В. В. Кожинова на природу художественной речи подверглись критике со стороны ряда литературоведов и стилистов. Так, М. Б. Храпченко иронически писал о процессе «бессловесной», если следовать Кожинову, передачи мыслей писателя (Храпченко М. Б. Язык художественной литературы // Контекст – 1984. Литературно-теоретические исследования. – М.: Наука, 1986. – С. 20). В упомянутой монографии А. Н. Васильевой художественная речь рассматривается как системно-речевой и одновременно уникальный комплекс языковых средств, функционально единонаправленный на воплощение идейно-эстетического замысла писателя. В художественном произведении слово в первую очередь приобретает чувственно-образную аспектизацию, сохраняя при этом и свое понятийное значение. Единство обобщеннопонятийного и конкретно-образного – общая функциональная черта слова, как и других языковых единиц в художественной речи [Васильева: 3, 33]. В приведенных нами характеристиках художественной речи, предложенных В. В. Кожиной и А. Н. Васильевой, равно как и в работах большинства других специалистов по языку художественной литературы, упоминается категория эстетического как некое неотъемлемое качество художественной речи. Это качество проявляется в эстетической функции художественной речи, которая в этом типе речи выдвигается на первый план, оттесняя тем самым на второй план главную функцию всех других видов речи – коммуникативную. Основываясь на коммуникативной функции речи, эстетическая функция в сфере словесного творчества становится ведущей, господствующей. Некоторые авторы утверждают, что художественная речь – это категория языково-эстетическая, с которой «связано представление о красоте, прекрасном, о совершенстве и изяществе словесной формы... Совершенство 17 словесно-художественного творчества достигается тогда, когда языковые средства выражают совершенство его идейного содержания» [Ефимов: 15]. Между тем понятие эстетической функции слова связано не столько с «совершенством и изяществом» литературно-художественного произведения, не столько с направленностью языковых средств на выражение безукоризненности его идейно-тематической основы, сколько с характером отражения действительности, а именно с образным отражением жизни. Литературно-художественное произведение – это выражение образного освоения мира, поэтому эстетическая функция художественной речи – это образнохудожественная функция. При этом имеются в виду как «общая образность», которая обусловлена самой природой литературно-художественного произведения как произведения искусства, так и языковая образность (словообразы), играющая важную роль в художественно-речевой ткани произведения. Следовательно, художественная речь – это особая форма реализации литературного языка, в которой все элементы подчинены общему эстетическому заданию, в результате чего между ними возникают новые смысловые связи, обогащающие содержание произведения. О новых смысловых связях, возникающих в контексте художественной речи между словами, очень образно написал в своей знаменитой книге «Алхимия слова» известный польский писатель Я. Парандовский: «Самые обыкновенные, самые знакомые слова, как лица, которые видишь каждый день, внезапно открывают новое, неожиданное значение и ослепляют блеском затаенной в них жизни. Из глубоких пластов выбивается на поверхность то, чего языку до сих пор не удавалось выразить. Как это происходит, может показать анализ хорошего стихотворения или страницы хорошей прозы. Под пером писателя назначают друг другу свидание слова, дотоле никогда между собой не встречавшиеся, глаголы начинают обслуживать им до той поры неизвестные действия, расширяют свои владения существительные» [Парандовский: 206]. 18 Таким образом, художественная речь – это речь дополнительных смыслов. Она предназначена, по мысли Г. О. Винокура, для передачи смысла особого рода, а именно смысла произведения словесного искусства (Ср.: [Винокур: 51]). Возникает закономерный вопрос: откуда берутся эти дополнительные смыслы? Объяснить подобное обогащение художественной речи можно следующим образом. Писатель как сильная и творческая языковая личность обладает над языком большей властью по сравнению с другими людьми и поэтому в состоянии использовать его так, как это не дано обычным носителям языка. В системе языка словá имеют свои относительно четко очерченные семантические пределы. Именно в этих пределах слова используются в обыденной речи. В сфере же художественной речи происходит своеобразная эманация заложенных в словах сил. Слова выходят за установленные им языковой системой границы и творческой волей писателя порождают новый, художественный мир, мир литературно-художественного произведения. Художественная речь является результатом действия вскрытых писателем творческих сил слова. Слово в художественной речи – освобожденное и, благодаря этому, обогащенное слово. Уникально-авторским использованием обогащенных слов языка создается стилистико-смысловое богатство художественного текста. Именно поэтому художественная речь отличается своей силой, сочностью, сгущенностью, своей смысловой глубиной и стилистическим изяществом, своей особой ритмикой и мелодичностью. Слова в художественной речи, оставаясь в основе своей словами языка, приобретают в совокупности целый комплекс качеств, которые позволяют литературно-художественному произведению воздействовать одновременно на интеллектуальную и эмоциональную сферы человека и вызывать у него эстетическую реакцию, которая заключается в эстетическом сопереживании и проявляется в возникновении тех или иных эстетических эмоций и психических состояний читателя (радость, счастье, восторг, рас- 19 троганность, печаль, грусть, страх), тех или иных настроений или ощущений (например, наслаждение звуками речи или зарождение у читателя сомнения, некоего порыва, чувства волнующего драматизма и т. п.). Эстетическая функция художественной речи состоит в том, что благодаря воздействию художественной речи у читателя возникает эмоционально-эстетическая реакция на прочитанное, возникает художественное переживание. При этом важно помнить, что в сфере художественного творчества мысль и чувство, интеллект и эмоции идут вместе, накладываются друг на друга, переплетаются, усиливают друг друга. Художественная речь обладает большой импрессивной силой, так как воздействует на человека через многие каналы восприятия. Большую роль в эстетическом переживании, вызываемом литературно- художественным произведением, играют также воображение читателя, его слух (в том числе внутренний). Однако восприятие литературно-художественного произведения разными читателями может существенно отличаться. У одних читателей при этом могут доминировать образные представления, на других в большей степени будут воздействовать мелодико-ритмические стороны речи, для третьих наиболее важными могут оказаться отраженные в произведении психические состояния и т. д. [Арнаудов: 605]. Тем не менее у большинства читателей литературно-художественного произведения в той или иной форме происходит «вчувствование» в описываемое автором и возникает эстетическая реакция на прочитанное. Таким образом, художественная речь – это речь, способная вызвать у читателя эстетическое сопереживание. Сопереживание, вызванное литературно-художественным произведением, будучи сугубо личным отношениям читателя к прочитанному, соединяет его незримо с другими читателями, с той особой социальной средой и с тем особым миром, которые создаются художественной литературой как творческой формой общественного сознания. Можно также утверждать, что художественная речь – это высшая фор- 20 ма использования языка, создаваемая творческим вдохновением и талантом писателя. Художественной речи свойственны смысловая многоплановость и способность интегрировать в себя элементы всех функциональных стилей языка и элементы всех других художественно-литературных стилей – индивидуального стиля, стиля произведения, стиля литературного направления, литературной эпохи. Именно поэтому художественная речь по своей природе многогранна и многообразна, именно поэтому она способна дифференцироваться по эстетическим целям, по стилям, жанрам, историческим периодам. Именно поэтому художественная речь – это постоянно развивающийся организм. Художественная речь помогает обезопасить национальные языки от обеднения, оскудения и одновременно представляет собой одну из важнейших форм его обогащения и развития. Подытоживая сказанное, следует еще раз подчеркнуть, что художественная речь – результат художественного претворения речевого материала. Она – результат творческой деятельности человека. Художественная речь – это речь, поднятая на уровень искусства. Художественная речь реализуется в художественном тексте. 3. Художественный текст Художественный текст – это один из многих видов текста. А текст, по словам М. М. Бахтина, – «первичная данность (реальность) и исходная точка всякой гуманитарной дисциплины» [Бахтин: 292]. Следовательно, художественный текст – основная категория теории художественного перевода. Именно текст – исходный и переводной – является одним из важнейших объектов переводоведения, поскольку, как верно подметил все тот же Бахтин, «где нет текста, там нет и объекта для исследования и мышления» [Бахтин: 281]. 21 Проблематике художественного текста как филологической категории посвящено большое количество работ, в которых можно обнаружить многочисленные дефиниции этого феномена. Как пишут М. И. Гореликова и Д. М. Магомедова, «художественный текст отвечает всем общетекстовым дефинициям: он обладает структурно-смысловым единством, упорядоченностью, коммуникативной целенаправленностью. Однако, в отличие от любого нехудожественного, художественный текст выполняет особую функцию – эстетическую, которая выступает в сложном взаимодействии с коммуникативной и является определяющим моментом в его особой организации» [Гореликова, Магомедова: 5]. В зависимости от научного направления, в рамках которого изучается художественный текст, выделяют его разные параметры. Часть параметров художественного текста носит универсальный характер. К отличительным чертам художественного текста относят связность, завершенность, креативную природу внутритекстовой действительности, его системный характер, «рефлексию на слово», цельность текста, взаимосвязанность всех его элементов, адресованность читателю [Николина: 11–21] (более подробно с природой художественного текста студент может ознакомиться по имеющимся авторитетным научным работам и учебным пособиям Ю. М. Лотмана, Л. Г. Бабенко и Ю. В. Казарина, М. И. Гореликовой и Д. М. Магомедовой, К. А. Долинина, В. А. Кухаренко, Л. А. Новикова, Ю. А. Сорокина и др.). Кроме того, к обязательным параметрам художественного текста необходимо отнести образность и эстетическую ценность, поскольку в основе художественного текста лежит чувственное отражение действительности при помощи образного восприятия и образных представлений. Художественный образ – это, следовательно, особый вид познания и отражения действительности. Эстетические же качества художественного текста создаются за счет своеобразия речевых средств и уникальных приемов их использования. 22 В данном пособии за основу берется определение художественного текста, предложенное В. Г. Адмони: «Художественный текст – это возникающее из специфического (эгоцентрического) внутреннего состояния художника душевное чувственно-понятийное постижение мира в форме речевого высказывания» [Адмони, 1994: 120]. Приведенная дефиниция позволяет использовать стратегию интерпретации текста, предложенную А. А. Брудным. По Брудному, текст можно рассматривать в следующих отношениях: 1) в отношении действительности, которая отражена в тексте (ис- тинное или ложное содержание текста, точность передачи фактов и т. д.); 2) в отношении к людям, которым текст адресован (форма выра- жения мысли автора); 3) в отношении к автору текста (каковы были его интенции, как они реализованы и т. д.); 4) в отношении его связи с предшествующими и последующими текстами; 5) в отношении локального плана (какова конкретная обстановка, в которой был создан и воспринят текст) [Брудный: 185–187]. Если применить перечисленные аспекты к определению художественного текста В. Г. Адмони, то нетрудно увидеть, что в первом случае имеется в виду художественное воссоздание внутреннего мира писателя, во втором – художественная форма текста, в третьем – художественное мастерство автора текста, в четвертом – вписанность его текста в национальный или мировой литературный контекст, в пятом – история создания и бытования текста. С точки зрения теории художественного перевода ценным представляется также определение текста, данное А. А. Брудным: «Текст образован сочетанием знаков и представляет собой адресованное, компактное и воспроизводимое выражение некоторого содержания, развернутое по стреле времени (то есть имеющее начало и конец) и обладающее смыслом, в принципе доступным пониманию» [Брудный, 185]. 23 Для нас в этой дефиниции важен тезис о воспроизводимости текста (в том числе и на другом языке), а также мысль о том, что всякий текст в принципе доступен пониманию (в нашем случае – переводчиком), поскольку та или иная часть содержания текста априори находится в сознании читателя (переводчика). Художественный текст, следовательно, требует комплексного подхода, поскольку он представляет собой синтез качеств, обеспечивающий ему минимальную меру художественности, которая и позволяет отнести данное речевое высказывание к художественным. Поэтому иногда тексты, не претендующие на статус художественных, таковыми становятся помимо воли их автора (фольклор, детское творчество). Сходство между художественным текстом и обычным высказыванием примерно такое же, как между драгоценным металлом и железом или как между благородным камнем и булыжником, ибо «для автора художественного текста характерна высшая степень свободы языкового употребления» [Гореликова, Магомедова: 6]. Вместе с тем важно не упускать из виду то обстоятельство, что «…стоит нам определить текст как художественный, чтобы вступила в строй презумпция об осмысленности всех имеющихся в нем упорядоченностей» [Лотман: 135]. В дополнение к вычленению сущностных характеристик художественного текста необходимо сказать, что для теории и практики художественного перевода важное значение имеют разнообразные типологические классификации художественных текстов. Типология художественных текстов помогает переводчику выработать оптимальную стратегию работы с исходным текстом. Одной из таких классификаций является психолингвистическая типология художественных текстов, в основе которой лежит личностное отношение автора произведения к описываемому. При таком подходе в массиве художественных текстов выделяются определенные смысловые, тема- 24 тические и оценочные доминанты, которые позволяют диагностировать тексты как простые, усложненные, красивые, печальные, светлые, жесткие и т. п. [Белянин: 43–88]. Так, к светлым текстам относят те, идейнотематическое содержание которых утверждает мысль об уникальности и неповторимости всего живого, авторы (и/или герои) которых осознают самоценность всего живого и стремятся передать такое светлое понимание жизни другим. В. П. Белянин относит к светлым текстам среди прочих повесть-притчу Р. Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» [Белянин: 50–52]. Вместе с тем нельзя не признать, что вывод, сделанный В. П. Беляниным еще в 1988 г. о том, что общей теории художественного текста еще не создано [Белянин: 4], верен и сегодня. Художественный текст все еще остается «загадочной сущностью». Художественный текст являет собой речевую манифестацию литературно-художественного произведения. Художественный текст – это результат реализации писателем креативных возможностей художественной речи. Художественный текст – это цельное, завершенное, относительно отграниченное речевое образование, несущее эстетическую информацию, отличающееся креативностью, характеризующееся специфической адресованностью на эстетическое восприятие и представляющее собой произведение словесного искусства. Совершенно очевидно, что теория художественного перевода не может быть никакой иной наукой кроме как наукой, ориентированной на текст, т. е. текстоцентричной. Попытки так называемой детронизации исходного текста (т. е. его ниспровержения), предпринимаемые некоторыми зарубежными переводоведами, свидетельствуют, с одной стороны, о непонимании ими природы художественного текста, а с другой стороны, ставят процесс перевода с ног на голову, поскольку при таком подходе главенствующим признается не авторский текст, а желание заказчика перевода видеть этот текст в удобоприемлемом для него виде вне зависимости от того, что авторский текст в себе несет (см. об этом: Snell-Hornby M.: Transla- 25 tion Studies. An integrated approach. Revised edition. – Amsterdam/Philadelphia: John Benjamin’s Publishing Company, 1988/1995. – P. 111, Reiß K., Vermeer H. J. Grundlegung einer allgemeinen Translationsteorie. 2. Aufl. – Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1991. – S. 122–123). Подчинение перехода от исходного текста к переводному тексту идее или цели переводного текста, а не цели исходного текста низводит перевод до положения сферы обслуживания с его принципом: «Чего изволите?» или «Клиент всегда прав». Переводоведческая теория цели (скопос-теория), из недр которой вышли столь контрпродуктивные идеи, уже получила весьма негативную оценку в работах ряда специалистов (см., например: [Kelletat]). По обоснованному мнению А. Келлетата, подобные теории призваны оправдать переводческий произвол по отношению к исходному тексту. Думается, однако, что скопос-теория порождает не только произвол переводчика. Она к тому же служит и хорошим прикрытием непрофессионализма переводчика: все свои ошибки он может теперь оправдать некими эфемерными целями. 4. Оригинал и перевод Теория художественного перевода имеет дело с двумя текстами: исходным и переводным, т. е. оригиналом и переводом. Природа этих текстов разнородна. Ниже мы приведем их основные характеристики, демонстрирующие существенные различия между этими двумя типами текста. Исходный текст – это, как правило, текст на иностранном языке. Исходный текст имеет статус оригинала (или подлинника). Исходный текст – это текст, на основе которого был создан, может быть создан, создается или будет создан переводной текст. Исходный текст поэтому – это или переведенный, или переводимый текст, или текст, требующий перевода, подлежащий переводу. Исходный текст представляет собой текст-источник (source-text), который является, с одной стороны, потенциально переводимым, а с другой – он сам по себе выступает генератором перевода. 26 Однако исходный текст не только генерирует перевод, но и «сопротивляется» переводу. Сопротивление исходного текста переводу объясняется его смысловой и языковой уникальностью. Исходный текст таит в себе некое множество его иноязычных воплощений, что находит свое отражение в так называемой переводной множественности. Исходный текст – это независимый и незыблемый текст, который, как правило, идентично воспроизводится при всех возможных формах его рецепции (чтении, размножении, заучивании и т. п.). В нем нельзя ничего изменить, «исправить», так как он представляет собой раз и навсегда утвердившуюся данность. Исходный текст – это текст, у которого традиционно один (реже два или более авторов), с чьими именами он навсегда связан. Исходный текст – это текст исходной национальной литературы, охраняющийся авторским правом или в связи с истечением установленного срока правонаследования ставший всеобщим достоянием. Исходный текст – это первичный текст, текст, предшествующий переводу. Исходный текст – это текст, сильно воздействующий на перевод. Исходный текст – текст, написанный и существующий на одном (исходном) языке в заданном виде (например, в том или ином жанре). Исходный текст – текст, инициирующий психофизическую деятельность переводчика, и текст, испытывающий его компетентность. Исходный текст – текст-загадка, текст-вызов. Выяснив характеристики исходного текста, перейдем к выявлению отличительных признаков переводного текста. Перевод – это высшая степень литературного бескорыстия, высшая форма понимания чужого языка, чужой жизни. Л. В. Гинзбург 27 Переводной текст – это текст на ином, нежели исходный текст, языке – на языке перевода. Он имеет статус перевода, замещающего исходный текст в иной языковой и социокультурной среде. Переводной текст – это текст-заместитель. Переводной текст – это текст, созданный на основе исходного текста. Это текст перевода, или так называемый целевой текст (target text, Zieltext) (данные термины, использующиеся в переводоведческих работах, представляются нам неудачными – Р. Ч.). Переводной текст – это текст, возникший в результате преодоления «сопротивления» исходного текста. Переводной текст – одна из многих возможных или одна из многих реально существующих иноязычных реализаций исходного текста. У каждого из этих переводческих вариантов свой автор. Следовательно, количество авторов перевода одного и того же исходного текста может быть сколько угодно большим. Переводной текст – текст зависимый, текст, который может подвергаться последующим модификациям. Он представляет собой текстовую данность, открытую для творческой доработки или переработки. Переводной текст – текст, который может существовать в иных жанровых формах и в ином виде (перепев, переложение, подражание, реминисценция и т. п. ). Переводной текст – это не текст национальной литературы языка перевода, как часто утверждается, а текст переводной литературы на языке перевода. С исходной национальной литературой он связан своим смысловым содержанием, с литературой языка перевода – своим языковым оформлением. Переводной текст – это вторичный текст и текст, следующий по времени за исходным текстом (последующий текст). Он может создаваться как непосредственно вслед за возникновением исходного текста, так и по прошествии сотен лет с момента написания оригинала. 28 Переводной текст – текст, охраняемый авторским правом переводчика. Переводной текст – текст, слабо воздействующий на исходный текст. Переводной текст – результат психофизической деятельности переводчика. Это текст, демонстрирующий уровень профессиональной компетентности или некомпетентности переводчика. Переводной текст – это текст, предназначенный к внедрению или уже внедренный в иную словесно-литературную и социокультурную среду. Переводной текст – приблизительный иноязычный аналог исходного текста, полностью отличающийся от последнего по языку и частично по смыслу. Переводной текст, если он адекватен оригиналу, представляет собой текст-разгадку, текст-ответ. Важно отметить и тот факт, что исходный художественный текст обладает всеми основными признаками, свойственными художественному тексту как таковому, в то время как переводной текст должен обладать признаками художественного текста. На деле иноязычный аналог исходного художественного текста может не являться художественным текстом и в таком случае не может считаться переводом исходного художественного текста. 5. Методы теории художественного перевода В сфере теории художественного перевода понятие метода предстает в весьма широком виде и покрывает, по меньшей мере, пять основных групп: 1) методы анализа процесса художественного перевода; 2) методы реализации художественного перевода; 3) методы сопоставительного анализа оригинала и перевода; 4) методы оценки качества перевода; 5) методы критики художественного перевода. 29 Первая группа методов включает, в частности, метод анализа вариантов перевода (то есть поиска, перебора, отбрасывания вариантов и принятия окончательного переводческого решения); метод фиксации «мышления вслух», то есть запись самоанализа действий переводчика; метод анкетирования и т. д. Во вторую группу методов входят метод сегментации исходного текста, метод вычленения минимальных сегментов перевода, метод целостного воссоздания исходного текста, метод учета стилевых доминант оригинала и др. К третьей группе методов относятся метод предпереводческого анализа текста, метод компаративного поуровневого анализа исходного текста и переводного текста, комплексный метод лингвостилистического анализа оригинала и перевода, метод лексических и синтаксических матриц, статистический метод, типологический метод, метод сопоставления психостилистических полей оригинала и перевода, социологический метод и т. д. Методы, относящиеся к четвертой и пятой группам, носят не столько исследовательский, сколько аксиологический характер, и поэтому они традиционно описываются на завершающем этапе рассмотрения всей проблематики теории и практики художественного перевода. В данном пособии методам оценки и критики художественного перевода также посвящен отдельный раздел. Следует, однако, заметить, что ряд асксиологических методов, с одной стороны, в немалой степени совпадают по своей сути с исследовательскими методами, а с другой стороны, они опираются, как правило, на результаты исследовательских методов. Кроме того, методы теории художественного перевода подразделяются традиционно на литературоведческие и лингвистические. В литературоведческой теории художественного перевода используются преимущественно методы истории и теории художественной литературы, среди которых метод объяснения явлений и процессов, имеющих место при переводо- 30 ориентированном взаимодействии национальных литератур, метод компаративного анализа литератур и определения границ заимствований мотивов, образов и сюжетов, метод формального сопоставления произведений исходной и переводной литератур, метод проникновения в так называемую затекстовую действительность, структурный метод и др. В теории художественного перевода, ориентированной на лингвистику, доминируют методы, используемые при анализе языка. Лингвистические методы соотносятся с основными разделами науки о языке – лексикологией, грамматикой, стилистикой, а также такими науками, как психолингвистика, социолингвистика, этнолингвистика, прагмалингвистика. Среди лингвистических методов, практикуемых при изучении художественного перевода, можно назвать трансформационный метод, метод изоморфизма, метод сопоставления информативного объема слов в языках-партнерах, метод контекстуальных замен (например, антонимический перевод), метод описательного перевода и т. д. Очевидно, однако, что, пользуясь одновременно литературоведческими и лингвистическими методами, теория художественного перевода должна интегрировать их в свои собственные методы, соответствующие специфике этого вида искусства слова. Наряду с интеграцией методов литературоведения и языкознания в сфере теории художественного перевода должна обеспечиваться дифференциация методов по родам художественной литературы: проза, поэзия, драматургия. Так, для исследования прозаических переводов эффективен метод наложения друг на друга синтаксических структур оригинала и перевода, позволяющий определить степень воссоздания значимых элементов формы исходного художественного текста (например, объем предложения, доминирующий тип синтаксической связи (сочинение или подчинение) и т. п.). При изучении поэтических переводов к достаточно достоверным результатам приводит комплексный анализ воссоздания всех аспектов содержания и формы оригинала (так называемый метод Брюсова-Эткинда-Гончаренко). 31 Для определения уровня адекватности переводов драматургических текстов важным может оказаться метод определения степени удобопроизносимости реплик перевода по сравнению с репликами оригинала. Для целей курса теории и практики художественного перевода наибольший интерес представляют имеющиеся методы сравнительносопоставительного анализа оригинала и перевода. К ним, наряду с другими, относятся матричный и типологический методы. Метод лексических и синтаксических матриц состоит в сведéнии лексического наполнения исходного текста и переводного текста и форм их синтаксической организации в параллельные множества (подборки), которые дают наглядное представление, например, о степени адекватности воссоздания предметного мира исходного текста, об учете семантики синтаксических форм и т. д. Типологический метод предусматривает определение текстовых форм реализации оригинала. Так, при переводе поэзии переводной текст может представлять собой одну из многих типологических форм. Это может быть адекватный перевод, вольный перевод, стихотворение на мотив оригинала, подражание, перевод-реминисценция, перевод-девальвация, перевод-адаптация, подстрочный перевод, прозаический перевод. 6. Художественный перевод как вид искусства слова Художественный перевод – специфическая форма творчества, не имеющая аналогов в других видах искусства. Широко известное сравнение художественного перевода с исполнительским творчеством*, на наш взгляд, неправомерно, так как в сфере исполнительства смены языка искусства не происходит. Например, музыка, созданная великим австрийцем Моцартом звучит одинаково и в Австрии, и в России, и в Японии. Музыкальные ноты Еще полвека назад известный переводчик В. Левик писал: «Я думаю, что искусство переводчика действительно имеет много общего со всяким исполнительским искусством…» (См.: Левик В. О точности и верности // Мастерство перевода. – М.: Сов. писатель, 1957. – С. 257). Впоследствии эта мысль неоднократно повторялась разными авторами. * 32 – язык всеобщий, музыка не требует перевода; речь здесь может идти лишь о вариантах ее интерпретации. Специфика художественного перевода как вида искусства заключается в том, что он представляет собой вид вторичного языкового творчества. Вторичность художественного перевода как формы искусства слова определяется тем, что художественный перевод направлен на создание иноязычных аналогов уже существующих оригинальных литературных художественных переводов. Художественный перевод – это творчество в заданном исходным художественным текстом смысловом поле, в предопределенной художественной форме, в заранее заданных жанре и стиле, в строго предначертанном объеме. Из всех видов художественного творчества перевод, вероятно, более других требует сознательно-научной основы. Е. Эткинд Несмотря на вторичный характер своей природы, художественный перевод – это вид словесного искусства, это форма художественного творчества. Отнесение художественного перевода к искусству обусловливается целым рядом факторов. Художественный перевод – это форма искусства слова, так как исходным в процессе художественного перевода является литературный художественный текст, то есть произведение искусства (в нашем случае – произведение художественной литературы). Мы относим художественный перевод к искусству слова, поскольку в основе деятельности переводчика лежит стремление создать литературный художественный перевод, то есть он ставит своей целью сделать свой перевод произведением словесного искусства (о том, всегда ли и в какой мере это ему удается, мы будем говорить в других местах книги). Художественный перевод следует 33 рассматривать как вид искусства слова, потому что переводчик в своей работе преодолевает сопротивление исходного художественного текста и в виде созданного им перевода внедряет его (в преобразованной языковой форме) в литературно-художественную среду другого народа. Следовательно, художественный перевод – это форма возрождения оригинала, являющегося произведением словесного искусства, в другой языково- литературной среде. Отнести художественный перевод к искусству слова позволяет нам и тот факт, что творчество переводчика происходит в сфере художественной речи. Переводчик, подобно автору оригинала, извлекает из слов языка перевода дополнительные смыслы, обогащает их, создавая в итоге новый художественный текст, также имеющий черты уникальности. Художественный перевод можно с полным основанием причислить к одному из видов искусства слова также и на том основании, что в итоге происходит воссоздание образного мира исходного литературно-художественого произведения. Более того, художественный перевод зачастую создает и открывает читателю новый художественный мир (ср. открытие в XIX в. в переводах на европейские языки художественного мира Достоевского или подобное же открытие в XX в. художественного мира Окуджавы). Мне открылась вдруг сполна тяжесть каторжного труда переводчика, подвиг его, ничем практически не вознаграждаемый, мало кем ценимый, потаенный. Подобно Адаму, он вынужден вновь и вновь давать имена вещам, предметам, понятиям чужого, тайно и буйно цветущего за оградой сада. Т. Толстая Помимо этого в пользу отнесения художественного перевода к искусству слова говорит и то обстоятельство, что результатом деятельности 34 переводчика оказывается способность созданного им переводного произведения выполнять эстетическую функцию и вызывать у читателя эстетическое переживание. Важным фактором включения художественного перевода в сферу литературного творчества является возможность создания посредством перевода новых жанровых форм (ср. распространение через переводы формы сонета, зародившейся в Италии). Еще одним доводом, дающим основание рассматривать художественный перевод как вид художественного творчества, могут служить случаи творческого озарения, сопровождающие работу переводчика художественной литературы. В целом же художественный перевод – одна из важных форм духовной практики общества. 7. Законы теории художественного перевода Всякая теория, стремящаяся приобрести статус науки, должна располагать своими основополагающими законами. Законы науки – это объективно существующие, повторяющиеся значимые связи явлений и процессов, характерных для соответствующей области знания. Они могут быть сформулированы лишь на материале анализа характерных для соответствующей области науки понятий, категорий, явлений и процессов. Поэтому для становления законов конкретной области знания требуется относительно длительное время сбора, изучения и обобщения эмпирических фактов. История и теория как общего, так и художественного перевода накопили достаточный объем данных для того, чтобы вывести ведущие законы переводоведения как высшей формы знания в этой области филологической науки. Реальное выявление законов теории перевода, в том числе художественного, началось лишь недавно, в первые годы текущего века. Однако вопрос о законах в сфере перевода был поднят еще в первой половине XIX в. В. Г. Белинским, который, рассуждая именно о переводе, писал, что всякий предмет человеческого зна- 35 ния имеет свою теорию, которая есть сознание законов, по которым он существует [Русские писатели о переводе: 196]. Первым попытку осознания законов теории перевода предпринял в своей книге «Теория перевода» Н. К. Гарбовский, который опирался на приведенную выше мысль Белинского [Гарбовский: 170]. Важной в этом плане представляется и статья Е. Л. Лысенковой «О законе переводной дисперсии», в которой эта идея была экземплифицирована на материале принципа лексического рассеивания в случае переводной множественности (Лысенкова Е. Л. О законе переводной дисперсии // Вестник Московского ун-та. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2006. – № 1. – С. 111–118). Названные авторы обоснованно полагают, что в науке о переводе действует целый ряд основных законов, которые нуждаются в описании и категоризации. Если определять законы теории перевода как суждения о регулярностях, которые наблюдаются в переводах, то вполне правомерно относить к ним закон потенциальной переводимости всякого текста, закон текстовой реализации перевода, закон потенциальной и реальной переводной множественности, закон отсутствия тождества между оригиналом и переводом, закон примата содержания исходного текста и примата правил языка перевода, а также закон переводной дисперсии, который постулирует модификацию языковых единиц оригинала в переводе. Названными законами свод положений о регулярностях, наблюдаемых в переводе, не исчерпывается. В теории художественного перевода действуют, кроме того, закон непревзойденности, абсолютного превосходства оригинала над всеми его модификациями (т. е. перевод не может быть «лучше» оригинала), закон неравномерного старения оригинала и перевода, закон жанровой устойчивости перевода, закон типологического многообразия переводов, закон лексической аттракции между словами исходного текста и текста перевода, закон потенциальной заряженности оригинала на перевод, закон переводного обогащения языков и литератур и др. 36 В рамках учебного пособия нет возможности сколько-нибудь подробно рассмотреть все перечисленные выше законы теории художественного перевода. Поэтому мы кратко остановимся лишь на некоторых из них. Анализ немногочисленных пока работ, в которых обосновываются законы теории художественного перевода, показывает, что даже те законы, которые уже стали предметом исследовательского интереса, изучены лишь в первом приближении. Так, закон переводной дисперсии рассматривается Е. Л. Лысенковой лишь на уровне лексики. Между тем очевидно, что он распространяется на все языковые уровни, поэтому его реализация нуждается в более широком истолковании. Закон переводной дисперсии предполагает неизбежность «рассеивания» языковых единиц оригинала в переводе, т. е. появление в переводных текстах целого набора соответствий тех или иных элементов исходного текста. Действие этого закона объясняется расхождениями языковых систем исходного языка и языка перевода, т. е. их алломорфностью. Он реализуется на всех уровнях языка. Степень его реализации на том или ином уровне зависит от своеобразия фонетической, лексико-грамматической и стилистической природы исходящего текста и возможностей языка перевода. В качестве примера приведем зачин стихотворения немецкого писателя В. Борхерта (1921–1947) «Regen» и 18 переводов этого двустишия на русский язык: Der Regen geht als eine alte Frau mit stiller Trauer durch das Land. Дождь обложной в обличье ведьмы старой, над крышами висит тоска. (Перевод Б. Бойко) Дождь в обличье слепой седой старухи по лужам медленно идет. (Перевод В. Васильева) 37 Дождь идет похожий на старуху в одежде мокрой средь домов… (Перевод Е. Вторушина) Как старуха по земле плетется, В непонятной злобе трепеща. (Перевод И. Грицковой) А дождь идет походкой старой стервы, струится медленной тоской… (Перевод А. Егина) Дождь семенит старухою по лужам, Она промокла с головы до пят… (Перевод Р. Ефимова) Дождь затяжной подобен старой фрау, Бредущей обреченно через тьму. (Перевод И. Ивановой) Дожди похожи на старух – в печали, В плаще из тьмы, бредущих по полям…(Перевод Н. Кан) Дождь скучный, ты подобен старой бабе. Торчат седые мокрые клока… (Перевод А. Каплана) А дождь идет, как женщина, чей взор мудр и печален, по земле. (Перевод Г. Киселева) А дождь идет, как грустная старуха, истерзанна, уже полумертва… (Перевод В. Куприянова) Дождь по миру бредет, как старуха в тихой печали. (Перевод Л. Лудянской) 38 Дождь бредет старухой одинокой, Серое пальто, безумный взгляд. ( Перевод Г. Мельника) Вон дождь идет, как ветхая старуха, с печалью тихой по полям… (Перевод А. Сыщикова) Дождь как старуха медленно бредет с печалью тихой по земле. (Перевод Р. Чайковского) Старуху этот дождь напоминает: И не в себе, и космы столь мокры… (Перевод Б. Чулкова) Дождь идет, словно фрау старая В тихом трауре по земле. (Перевод И. Ращектаева) Дождь плетется как старуха, Со спокойной печалью по стране… (Перевод Д. Сляднева) Как видим, на лексическом уровне коэффициент дисперсии лексики исходного текста различен. Слово Regen имеет всего два соответствия: дождь, дожди и один нулевой перевод (опущение), слово geht – пять вариантов (идет, плетется, семенит, бредет, напоминает) и два нулевых перевода, а слово Frau дает шесть соответствий: ведьма, старуха, стерва, фрау, баба, женщина. Кроме того, глагол geht представлен двумя морфологическими вариантами (бредет – бредущая (бредущие). На синтаксическом уровне простое повествовательное предложение Der Regen geht als eine alte Frau реализуется в переводе как бытийное предложение, как предложение с деепричастным оборотом, как предложение с однородными сказуемыми и как безглагольное предложение. 39 Выявленная степень разброса соответствий исходным единицам оригинала показывает, что в результате действия переводной дисперсии вынужденно изменяются горизонты читательских ожиданий (зачин стихотворения, в котором говорится о старой стерве, вынуждает читателя воспринимать последующий текст иначе, нежели начало стихотворения, в котором речь идет о женщине «чей взор мудр и печален») и создается иная текстовая среда перевода. Реальное проявление дисперсии наглядно демонстрирует степень прочности смысловой и лингвостилистической связи между оригиналом и переводом и дает возможность объективно оценить уровень адекватности каждого отдельного перевода. Еще одним законом теории художественного перевода является постулат, который мы называем законом изоквалитативности оригинала и перевода (изоквалитативность: от греч. isos – равный, подобный и лат. quālitās – качество). В соответствии с этим законом перевод не может быть лучше оригинала. Как уже отмечалось выше, оригинал – это незыблемая литературнохудожественная данность. Мера этой ценности у текстов всегда различна. Существуют, как известно, литературно-художественные шедевры и существуют беллетристические произведения не самого высокого художественного уровня. В сферу другого языка оригинал должен переноситься именно с той мерой художественной ценности, которая присуща ему в исходной литературе. Из этого следует, что выдающееся литературно-художественное произведение должно предстать перед иноязычным читателем тем же шедевром, а далекий от идеала текст, допустим, начинающего автора должен быть воссоздан со всеми его недостатками – длиннотами, провалами стилистического вкуса и т. п. Об этом более полтора века назад сказал В. Белинский: «В художественном переводе не позволяется ни выпусков, ни прибавок, ни изменений. Если в произведении есть недостатки – и их должно передать верно. Цель таких переводов есть – заменить по возможности подлинник для тех, которым он недоступен по незнанию языка, и дать им средство и возможность наслаждаться им и судить о нем» Русские писатели о переводе: 197. 40 Между тем, это однозначное правило с трудом воспринимается прежде всего некоторыми переводчиками. Широко цитируется, например, утверждение Н. Заболоцкого, в соответствии с которым лермонтовские «Горные вершины» лучше гетевского оригинала. И даже оговорка известного поэта и переводчика о том, что это исключение никогда не станет правилом, ничего в его установке не меняет, поскольку в стихотворении Лермонтова на мотив гетевского оригинала он видит перевод (подробнее об этом см.: Чайковский, 1997: 29–50). О том, что Заболоцкий не одинок не только в подобной оценке стихотворения Лермонтова, коэффициент лексического соответствия которого миниатюре Гете составляет менее 24%, но и в признании возможности превосходства перевода над оригиналом, говорит и высказывание литовского поэта и переводчика А. Хургинаса все о тех же «Горных вершинах»: «Я большой поклонник Гете, но русское стихотворение кажется мне более глубоким и поэтичным, чем немецкое» (Хургинас А. Тяжкий труд, требующий самозабвенности и самопожертвования // Художественный перевод: проблемы и суждения. – М.: Известия, 1986. – С. 297). Обратим внимание на терминологию: Хургинас пишет о некоем «русском стихотворении». Но при чем здесь Гете? Он, как известно, русским поэтом не был, по-русски не писал, следовательно, создать «русское стихотворение» не мог. Стихотворение, о котором Н. Заболоцкий и А. Хургинас ведут речь, принадлежит Лермонтову, позаимствовавшему у великого немца мотив его маленького поэтического шедевра. О том, что это стихотворение не перевод из Гете, убедительно говорили такие признанные писатели и филологи, как А. Фет, В. Жирмунский, А. Федоров и др. Наиболее точную характеристику стихотворения «Горные вершины» дал, пожалуй, У. Уинтер, признававший его как перевод неудачей (a failure) и рассматривавший этот текст именно «как русское стихотворение» (Russian poem) Winter: 112]. Разумеется, что Лермонтову плохую услугу оказали издатели, историки литературы и литературоведы, которые стали рассматривать «Горные вершины» как пере- 41 вод, несмотря на то, что Лермонтов снабдил свой вариант обозначением «Из Гете». Закон изоквалитативности оригинала и перевода предполагает, что перевод никогда не может превзойти оригинал, поскольку, если даже такое происходит, то мы имеем дело не с переводом как таковым, а с текстом иного типа (стихотворением на мотив оригинала, переводом-реминисценцией, подражанием, если речь идет о поэтическом переводе). Следовательно, названный закон основывается на типологии текстов, источником которых был тот или иной оригинал. Закон изоквалитативности дает возможность типологически классифицировать тексты как переводные и квазипереводные. Попытки «улучшения» оригинала имеют место, как правило, в тех случаях, когда автор перевода сам является выдающимся писателем (например, Жуковский, Лермонтов, Бальмонт, Пастернак) или когда оригинал представляет собой произведение невысокого художественного уровня (ср., к примеру, многочисленные переводы на русский язык ранних стихотворений Рильке). Такие попытки необоснованны, так как никто, по выражению украинского поэта и переводчика П. Мовчана, не имеет права опережать автора, никто не имеет права на дорабатывание, доредактировние оригинала, кроме самого автора произведения (Мовчан П. Хвала канону! // Художественный перевод. Проблемы и суждения. – М.: Известия, 1986. – С. 526). Стремление нарушить закон изоквалитативности влечет за собой искажение оригинала и образа автора оригинала в восприятии иноязычных читателей. Мы рассмотрели только два из большого количества законов теории художественного перевода. Несомненно, что каждый из названных в начале этого раздела законов заслуживает детального рассмотрения. Мы предлагаем студентам поразмышлять над законами теории художественного перевода и дать свои обоснования некоторым из них. В завершение этого раздела следует подчеркнуть, что знание законов теории художественного перевода позволяет переводчику, исследователю и 42 критику перевода строить свою работу не по наитию, а на основе конкретных и объективных принципов, предоставляет им возможность предвидеть появление в переводе тех или иных текстовых категорий и адекватно объяснять их генезис. 8. Статус переводной литературы Проблема статуса переводной художественной литературы относится к актуальным вопросам теории художественного перевода, потому что изначально при ее рассмотрении исходили из малопродуктивной, на наш взгляд, идеи В. Г. Белинского, по которому переводы на русский язык принадлежат к русской литературе (см.: (Лейтес А. Художественный перевод как явление родной литературы // Вопросы художественного перевода. – М.: Сов. писатель, 1955. – С. 98). Затем эта мысль в той или иной форме высказывалась Н. Г. Чернышевским, писавшим, что Шиллер «стал наш поэт» [Перевод – средство…: 66], Ф. М. Достоевским, утверждавшим, «что всякий европейский поэт… кроме земли своей, из всего мира наиболее и наироднее бывает понят и принят всегда в России» [Перевод – средство…: 69]. В докладе на втором Всесоюзном съезде писателей говорилось, что «Гренадеры» Гейне «прочно вошли в золотой фонд русской поэзии » (Антокольский П., Ауэзов М., Рыльский М. Художественные переводы литератур народов СССР // Вопросы художественного перевода. – М.: Сов. писатель, 1955. – С. 41). Н. Заболоцкий доказывал, что «если перевод с иностранного языка не читается как хорошее русское произведение, – это перевод или посредственный или неудачный» [Перевод – средство…: 427]. В. Россельс считал «Будденброки» Т. Манна в переводе Н. Ман «русской прозой» [Россельс, 1972: 16]. Весьма показательны рассуждения украинского переводоведа А. Л. Кундзича. Он утверждал, что для читателей, владеющих языком оригинала, перевод всегда больше, чем оригинал. «Для россиянина, – писал он, – который читает в оригинале Гете и Гейне, лермонтовские «Горные вершины» и «Сосна»… всегда больше, нежели соответствующие оригинальные стихо- 43 творения, так как это произведения русской поэзии, они захватывают читателя специфически языковыми ассоциациями родного слова, а от языковых – и ассоциациями, связанными с русской литературой, с русской жизнью (Кундзiч О. Творчi проблеми перекладу. – Киïв: Днiпро, 1973. – С. 194). Подобных высказываний можно привести множество, однако это не прояснит ситуацию, а только подтвердит характерную для значительной части отечественных писателей, переводчиков и специалистов по теории перевода установку на восприятие творения иноязычной литературы, переведенного на русский язык, как на произведение, являющееся частью русской литературы. Благодаря переводу мы узнаем, что наши соседи говорят и думают не так, как мы. О. Пас Результатом такой установки явились многочисленные вольные переводы иноязычных оригиналов, переводы, «опускающие» переводного автора до вкусов читателя, а не «подтягивающие» читающего до высот оригинала. Кроме того, такое этноцентричное, «присваивающее» отношение к переводам с иностранного языка на родной привело к тому, что из поля зрения филологов выпали вопросы онтологического статуса переводной литературы. Ее отождествление с литературой принимающего языка, с одной стороны, затушевывает многие ее особенности, а с другой – направляет деятельность переводчиков в одно русло – в русло так называемой доместикации переводов, т. е. их «одомашнивания». Между тем, более двухсот лет назад И. В. Гете выдвинул идею всемирной литературы, исходя из которой вопрос о статусе переводной литературы может быть решен в соответствии с ее подлинной онтологической природой. Как мы уже отмечали в одной из наших работ, с возникновением художественного перевода начинают существовать три литературы: нацио- 44 нальная литература исходного языка, переводная литература и литература принимающего языка (т. е. вторая национальная литература). Переводная литература, следовательно, предстает в виде некоей третьей литературы. Каждый перевод связан с первой литературой авторством, исходным языком, этнокультурными особенностями, национальным менталитетом и т. д., со второй же, принимающей литературой, переводная литература связана только языком перевода. Разумеется, что этого одного параметра явно недостаточно для того, чтобы относить переводное произведение к творениям литературы языка перевода. Перевод не входит ни в одну из национальных литератур. Его место в промежутке между двумя национальными литературами: национальной и литературой языка перевода. Словосочетание «третья литература» – не оценочный термин. Социокультурная роль третьей литературы различна. Так, можно утверждать, что немецкая поэзия на русском языке представляет собой более значимый для русской культуры феномен, нежели русская поэзия на немецком языке в культуре Германии. Иначе обстоит дело с русской классической прозой XIX в., которая, как можно предполагать, в отдельных случаях превосходила «первые литературы» по силе воздействия на умы читателей [Чайковский, 1997: 9–10]. Современные переводоведы уже начинают нащупывать истинную суть переводной литературы. Так, Г. Тури считает, что ни один переводной текст не может быть полностью воспринят принимающей культурой ровно так же, как он не может полностью соответствовать исходному тексту (см. об этом: [Gentzler: 131]). Г. В. Денисова также пишет о некоем третьем пространстве, которое порождается переводным текстом [Денисова: 263]. Переводная литература не может принадлежать к литературе языка перевода еще и потому, что она по своему объему во много раз превышает так называемую принимающую литературу и могла бы погрести под собой любую национальную литературу. Даже такая мощная литература, как русская, оказалась бы под завалом переводной американской, английской, греческой, еврейской, итальянской, китайской, латинской, немецкой, японской и 45 сотен других переводных литератур. Этого, к счастью, не происходит, поскольку эти виды литератур не интегрируются одна в другую, а сосуществуют в качестве звеньев мировой литературы. Литература обязана оставаться литературой, даже если она переводная. Э. Уилсон Разумеется, что роль переводной литературы в становлении и развитии национальной литературы огромна. Как пишет М. Ю. Коренева, «именно через переводную литературу русский читатель познакомился с такими жанрами, как fantasy, заново открыл для себя любовный роман, эротический роман, детектив, фантастику и пр. Появление новых жанров поставило переводчиков снова (как когда-то в XVIII в.) в сложное положение: из-за отсутствия собственных, национальных «образцов» того или иного жанра всякий переводчик оказывался «творцом» нового стиля, что при отсутствии «языковых ориентиров» привело к необычайной языковой пестроте текстов переводов» (Коренева М. Ю. История переводной литературы сквозь призму русского литературного языка // RES TRADUCTORICA. Перевод и сравнительное изучение литератур. К 80-летию Ю. Д. Левина. – СПб.: Наука, 2000. – С. 37). Подобные явления имели место в развитии многих других литератур. Достаточно напомнить о том, что, как мы уже писали выше, форма сонета зародилась в Италии и с течением времени оказалась востребованной литературами многих народов – от английской до индонезийской. Итак, оригинал принадлежит исходной национальной литературе. Перевод занимает промежуточное положение между двумя национальными литературами – литературой исходного языка и литературой языка перевода. Произведения, переведенные на язык «принимающей» литературы, образуют переводную литературу. Эта переводная литература включает переводы произведений различных национальных литератур на данный язык. Все национальные литературы мира существуют и как переводные литературы на 46 множестве языков. Перевод, следовательно, – форма иноязычного бытия национальной литературы. 47 Глава II. Теория художественного перевода в отечественном переводоведении XX – начале XXI вв. 1. 20–40-е годы ХХ века Проблемы перевода художественной литературы с одного языка на другой занимали умы людей с той поры, как зародилось искусство слова. Художественный перевод как вид словесного творчества существует более двух тысячелетий (подробнее см.: [Нелюбин, Хухуни, 2006: 22–28]). За этот период развития человечества осуществлено не поддающееся учету количество переводов в столь же бесчисленных комбинациях языков. Все переводчики (и те, чьи имена забылись, и те, чьи имена история сберегла) во все времена размышляли над своим ремеслом, стремясь понять его природу, пытаясь разъяснить себе и другим мучившие их вопросы. Сохранилось немало свидетельств этих переводческих рефлексий. Достаточно напомнить о дошедших до нас словах Цицерона, Иеронима и других основателей искусства перевода [Нелюбин, Хухуни, 2006: 31–32, 41–42]. Впоследствии раздумья о переводческом труде, о принципах и трудностях перевода все чаще фиксировались переводчиками и так или иначе становились известными широким кругам читательской публики. Наиболее авторитетным собранием высказываний российских авторов о художественном переводе начиная с XVIII века продолжает оставаться хрестоматия, составленная Ю. Д. Левиным и А. В. Федоровым «Русские писатели о переводе XVIII–XX вв.», изданная в 1960 г. [Русские писатели о переводе]. Начальные попытки научного осмысления природы художественного перевода приходятся на двадцатые годы прошлого столетия. Первым отечественным изданием по теории и практике художественного перевода стала книга «Принципы художественного перевода», вышедшая двумя изданиями в 1919 и 1920 годах [Принципы…]. Есть все основания утверждать, что эта небольшая книга явилась блестящим прологом отечественной науки о художественном переводе, где были сформулированы многие ее идеи и положе- 48 ния, которые остаются незыблемыми по сей день, несмотря на многочисленные потуги их ревизовать (подробнее об одной из таких попыток см., например: (Чайковский Р. Р., Лысенкова Е. Л. Невзгоды перевода (или переводческая компетентность) // Перевод и переводческая компетенция. – Курск: РОСИ, 2003. – С. 94–99). В статьях Ф. Д. Батюшкова, Н. С. Гумилева и К. И. Чуковского в зародыше предвосхищены многие концепции теории художественного перевода последующих десятилетий. Так, в статье Ф. Батюшкова «Задачи художественных переводов» выдвинуто очень неудобное для амбициозных переводчиков советского периода требование безусловного «подчинения индивидуальности переводчика автору переводимого произведения» [Принципы…: 9]. «Он (переводчик – Р. Ч.) должен воспроизвести то, что дано» [Принципы…: 15], поскольку переводчик «познает познанное». Тем самым Ф. Батюшков заложил основы закона вторичности переводческой деятельности как таковой. Этот же автор вывел и основной принцип создания художественного перевода, а именно стремление к адекватности. Основную часть книги составляют статьи Корнея Чуковского (1892– 1969) «Переводы прозаические» и Николая Гумилева (1886–1921) «Переводы поэтические». В статье К. Чуковского впервые в качестве рабочего приема анализа художественно-прозаических переводов предложен уровневый принцип. Автор последовательно рассматривает уровень фоники (фонетики и ритмики), уровни лексики (словарь) и синтаксиса, а также проблемы стиля вообще и текстуальной точности в частности. При этом в самом начале своей работы К. Чуковский подчеркивает необходимость осознания переводчиком основ теории художественного перевода. К. Чуковский пишет: «Он (переводчик – Р. Ч.) должен теоретически установить для себя принципы своего искусства» [Принципы…: 25]. Сегодня эта мысль классика отечественного переводоведения находит свое подтверждение в так называемой эксплицит- 49 ной теории перевода, которая представляет собой индивидуальную теорию переводчика (подробнее см.: [Лысенкова, 2007: 383–410]). Так же, как и Ф. Батюшков, К. Чуковский требует от переводчика «обуздывать в себе стремление к личному творчеству, чтобы стать верным и честным рабом, а не беспардонным хозяином переводимого текста» и ратует за научную, объективно-определимую точность, отвергая приблизительные переводы как «беззаконие» [Принципы…: 35, 52]. Статья К. И. Чуковского стала той основой, на которую впоследствии была создана его знаменитая книга «Высокое искусство», неоднократно перепечатывавшаяся. Если К. Чуковскому суждено было заниматься вопросами художественного перевода да конца его долгой жизни, то автор статьи «Переводы стихотворные» Н. С. Гумилев был расстрелян большевиками через год после выхода в свет второго издания названной книги. Поэтому названная статья оказалась единственной работой о переводе, вышедшей из-под пера этого известного русского поэта. Сегодня мы можем только предполагать, в какой мере мог развиться талант Гумилева-переводоведа. Его эссе «Переводы стихотворные» позволяет утверждать, что в его лице отечественная наука о художественном переводе потеряла глубокого и самобытного исследователя. Н. Гумилев написал свою статью в форме рекомендаций переводчику поэзии. Каждый свой совет он подкрепляет весомыми аргументами. Так, требуя от переводчика соблюдения характера образности оригинала, Гумилев в качестве убедительного довода приводит как пример эволюцию образа «роза» в истории поэзии разных народов и у разных поэтов, доказывая необходимость учета специфики образности в текстах конкретного переводимого поэта. Рекомендуя переводчику (с учетом конкретных пар языков) строго соблюдать метр и размер исходного поэтического текста, Н. Гумилев, предвосхищая ставшие в конце XX в. общепринятыми идеи М. Л. Гаспарова о семантическом ореоле метра, пишет следующее: «У каждого метра есть 50 своя душа, свои особенности и задачи: ямб, как бы спускающийся по ступеням (ударяемый слог по тону ниже неударяемого), свободен, ясен, тверд и прекрасно передает человеческую речь, напряженность человеческой воли. Хорей, поднимающийся, окрыленный, всегда взволнован и то растроган, то смешлив; его область – пение. Дактиль, опираясь на первый ударяемый слог и качая два неударяемые, как пальма свою верхушку, мощен, торжественен, говорит о стихиях в их покое, о деяниях богов и героев. Анапест, его противоположность, стремителен, порывист, это стихии в движеньи, напряженье нечеловеческой страсти. И амфибрахий, их синтез, баюкающий и прозрачный, говорит о покое божественно-легкого и мудрого бытия» [Принципы…: 58]. Статья завершается девятью заповедями для переводчика поэзии, который, по мысли Н. Гумилева, должен соблюдать: «1) число строк, 2) метр и размер, 3) чередование рифм; 4) характер enjambement; 5) характер рифм; 6) характер словаря; 7) тип сравнений; 8) особые приемы; 9) переходы тона» [Принципы…: 59]. Работа Н. Гумилева не стала руководством для переводчиков, потому что они не имели возможности к ней обращаться: книги неугодных советской власти авторов изымались из библиотек. Статья была переиздана лишь через почти пять десятилетий, в течение которых советские поэтыпереводчики в своем подавляющем большинстве пользовались иными «заповедями». Для перевода мало сохранить смысл и соблюсти правильность и чистоту языка: для него нужна жизнь, которою проникнут подлинник. Н. Добролюбов Следующим важным изданием по теории и практике художественного перевода стала книга К. Чуковского и А. Федорова «Искусство перево- 51 да», вышедшая в 1930 г. Часть, написанная К. Чуковским и озаглавленная «Принципы художественного перевода», составляет 80 страниц. Принадлежащая перу А. Федорова вторая часть этой книги названа «Приемы и задачи художественного перевода». По объему она почти в два раза больше работы К. Чуковского. Первая часть представляет собой значительно расширенный и переработанный вариант статьи К. Чуковского из книги 1920 г. «Принципы художественного перевода». В ней появились разделы, посвященные проблемам личности переводчика, его социальной природы, взаимоотношениям между переводчиком и автором и др. Чуковский выступает в этой книге ярым защитником переводимого автора и исходного текста, но уже в этой ранней работе местами проявляется гипертрофированная субъективность критика, которая затем стала отличительной особенностью всех последующих изданий «Высокого искусства». Например, подвергая уничижительной и зачастую справедливой критике переводы К. Бальмонта из У. Уитмена, К. Чуковский в ряде случаев приходит к не совсем справедливым выводам. Так, он пишет: «Уот Уитмэн, например, возбужденно кричит: Beat! Beat! drums! – Blow, bugles, blow! А Бальмонт переводит уныло: Громче ударь, барабан! – Трубы, трубите, трубите! Характерна эта унылость его перевода» [Чуковский, Федоров: 20]. На наш взгляд, предубежденное отношение Чуковского к переводам Бальмонта лишает его анализ объективности. Вряд ли строки Уитмена можно назвать криком – это всего лишь экспрессивная поэтическая фраза, а перевод Бальмонта вовсе не уныл, как это видится Чуковскому, а почти столь же выразителен. К тому же Бальмонт достаточно удачно компенсирует звукопись оригинала. Единственное, в чем переводчика можно упрекнуть – это в излишнем удлинении строки, которую вполне можно было приблизить к объему исходной фразы. В переводе самого К. Чуковского фактически дан отредактированный вариант строки Бальмонта: «Бей! Бей! Барабан! – труби! труба! труби!» (Уитмен У. Избранные произведения. «Листья травы». Про- 52 за. – М.: Худож. лит., 1970. – С. 205). Но и самому критику можно было бы поставить в упрек нарушение – пусть и обусловленное экспрессией стиха – связи пунктуации с орфографией. Примечательно, что в последующих изданиях К. Чуковский этот пример снял. Сложно сказать, почему К. Чуковский не захотел увидеть в переводе Бальмонта ничего заслуживающего внимания или подсказать будущим переводчикам Уитмена пути оптимальных решений. Возможно, это произошло по той причине, что Чуковский сам переводил Уитмена и сам писал о нем (Чуковский К. Мой Уитмен. Очерки о жизни и творчестве. Избранные переводы из «Листьев травы». Проза. – М.: Прогресс, 1966. – 271 с.). Вторая часть рассматриваемой книги, автором которой стал А. В. Федоров (1906–1997), на мой взгляд, представляет собой лучшее из того, что этот автор написал о переводе за свою долгую жизнь. Ни в одной из своих последующих работ («О художественном переводе» (1941), «Введение в теорию перевода» 1953 г. и все ее последующие издания, в том числе и переработанные и выходившие под названием «Основы общей теории перевода») А. Федоров не был так оригинален, так раскован в изложении своих научных тезисов. Для подтверждения этой мысли достаточно привести начало первой главы «Что такое перевод?», открывающейся разделом «Точность и неточность»: «Принято считать, что перевод бывает точным и неточным – в большей или меньшей мере. Но точность перевода – понятие крайне условное и относительное. Произведение художественной литературы всегда теснейшим образом связано с тем языком, на котором оно создано, с той национальной литературой, в которой оно живет, с жизнью той общественной среды, для которой этот язык и эта литература – родные. При переводе произведение отрывается от своего фона – языкового, литературного, общественного. Оно пересаживается на другую почву, попадает в круг других представлений, связывается с другим строем языка» [Чуковский, Федоров: 89]. На следующей странице мы находим определение перевода, которое не потеряло своей актуальности и сегодня: «Перевод по отношению 53 к подлиннику есть подобие, созданное из другого материала» [Чуковский, Федоров: 90]. …перевод не само произведение, а путь к нему. Х. Ортега-и-Гассет К сожалению, плодотворная мысль А. Федорова, в соответствии с которой переводной текст – это подобие оригинала, в последующих работах ученого развития не получила. Далее А. Федоров пишет о том, что особенности подлинника словно борются за то место, которое им придется занять в произведении переводчика [Чуковский, Федоров: 90–91]. То есть здесь высказана идея, которая вообще не стала предметом внимания со стороны переводоведов. Мы имеем в виду положение о сопротивляемости исходного текста переводу. (О проблеме сопротивляемости художественного текста переводу речь пойдет ниже). Стиль этой первой большой работы А. Федорова четок, лаконичен, даже афористичен. Ср.: «И все же, несмотря на все эти трудности и неустранимые несовершенства, перевод существует. Более того: он – необходимость. Он выполняет большую художественную и культурную роль. Конечно, заменить оригинал он не может. Бесцельно и требовать это от перевода» [Чуковский, Федоров: 91]. Снова приходится высказывать сожаление по поводу того, что подобный стиль научного изложения так и не стал образцом для последующих поколений переводоведов. В качестве одной из важнейших проблем перевода А. Федоров рассматривает проблему разграничения стихотворного и прозаического перевода (к сожалению, автор не касается вопросов перевода драматургического). Он одним из первых анализирует, помимо прочего, возможности передачи при переводе звукописи прозаических текстов. Мысли, высказанные по поводу этой неординарной переводческой задачи, также не получили своего развития. И сегодня воссоздание звукописи прозы – белое пятно тео- 54 рии и практики художественного перевода. Вывод, завершающий сопоставительное исследование особенностей стихотворного и прозаического перевода, звучит у А. Федорова так: «Из всего сказанного отнюдь не следует, однако, что перевод прозаический технически легче, чем перевод стихотворный, или что он, как особый вид литературной деятельности, вообще обладает меньшей ценностью, чем перевод стихов. Прозаический стиль бывает не менее сложен, переводчику и в прозе также приходится преодолевать значительнейшие трудности, и в прозаическом переводе также трудно достигнуть совершенной точности» [Чуковский, Федоров: 114]. Несмотря на эти резонные доводы, высказанные еще в 1930 году, в целом ряде трудов переводоведов на протяжении многих десятилетий поэтический перевод представал по сравнению с прозаическим как некая более высокая форма переводческого творчества. В других частях своей работы А. Федоров затрагивает вопросы установки переводчика на родной язык или на исходный язык и вводит понятие сглаживающего перевода, под которым он понимает «перевод без сохранения национально-языковых и предметных особенностей подлинника, но также без ввода специфических черт того языка, на который переводится произведение, без ввода представлений, данному языку специфически свойственных; это – перевод с более или менее ровным, нейтральным языком, не вызывающим ни впечатления конкретной, национальной окраски, ни впечатления чуждости или необычности» [Чуковский, Федоров: 126]. При этом сам автор подчеркивает, что он не оправдывает и не защищает сглаживающий перевод, а рассматривает его как одну из возможностей воссоздания оригинала в тех случаях, когда средствами языка перевода невозможно передать ту или иную категорию исходного языка [Чуковский, Федоров: 177]. Много места в работе А. Федорова отведено практическим вопросам передачи значений лексических единиц и смысла синтаксических конструкций, проблемам архаизации и осовременивания переводов, эволюции 55 принципов перевода, переводной множественности и значению перевода как вида литературного творчества. Завершить этот обзор книги А. Федорова можно следующим выводом ученого: «Условия перевода различны в зависимости от требований, предъявляемых к переводчику оригиналом, и от задач, которые ставит ему состояние его национальной литературы и его языка в данный момент. Одно и то же произведение может существовать в нескольких переводах, хотя бы и равного художественного достоинства, но все же различных, и каждый из этих переводов может быть по-своему законным. К абсолютной точности возможны лишь приближения – но с разных сторон, поскольку не всегда совместимы те или иные возможности передачи» [Чуковский, Федоров: 227]. Следующей важной, но недоступной сегодня студентам работой по теории художественного перевода стала небольшая по объему книга М. П. Алексеева «Проблема художественного перевода», которая содержит вступительную лекцию автора в Иркутском государственном университете, прочитанную им 15 декабря 1927 года (ее тираж составил 150 экземпляров). Она была издана как в составе сборника трудов ИГУ за 1931 г., так и в виде отдельного оттиска [Алексеев]. Знакомство с этой работой убеждает нас в том, что поиски переводоведов в конце 20-х годов прошлого века во многом велись в одном и том же направлении. У М. П. Алексеева мы находим ту же идею насилия, совершаемого над оригиналом со стороны переводчика, мысль об эволюции принципов перевода как основе переводческой множественности и о невозможности полного воссоздания оригинала в переводе, противопоставление поэтического и прозаического переводов и многое другое [Алексеев: 3, 5, 7, 13, 17 и след.]. Язык автора порой столь же пластичен, как и стиль раннего А. Федорова. Ср.: «Как ни велики и разнообразны трудности перевода, стоящие перед человеком, серьезно относящимся к своей задаче, – перевод, как одно из орудий культуры, неизбежен и необходим» [Алексеев: 17]. 56 Вместе с тем в брошюре М. Алексеева содержатся идеи, которые не нашли впоследствии сколько-нибудь широкого отражения в отечественном переводоведении, но которые получили развитие в работах зарубежных ученых. В частности, в лекции М. Алексеева можно обнаружить зачатки так называемой скопос-теории, в соответствии с которой ведущей объявляется цель перевода. Так, Алексеев пишет: «Об эстетической ценности любого перевода очевидно нельзя говорить, не учитывая круга читателей, для которых он предназначен: вопрос о принципах передачи в переводе стилевых, синтаксических, ритмических особенностей подлинника, в свою очередь, стоит в связи с особенностями воспринимающей данный перевод социальной среды, с запасом речевых, литературных, эстетических навыков определенной общественной группы. Таким образом, вопрос о том, как переведено, предваряется другим: когда, кем и для кого переведено? Как переводить, влечет за собой иной: для кого и кому переводить?» [Алексеев: 4]. В другом месте брошюры М. Алексеев настаивает на том, что перевод должен обращаться к специальной группе читателей. Деление читателей по социальному и профессиональному признаку в данном случае совершенно необходимо» [Алексеев: 24]. Как отмечалось выше, эта идея оказалась популярной в немецком переводоведении 80-х годов прошлого века прежде всего благодаря трудам К. Райс и Х. Фермеера, однако вскоре была подвергнута обоснованной, научно аргументированной критике, и сегодня она представляет собой не более чем короткий малопродуктивный этап в истории европейской теории перевода. В труде М. Алексеева мы также наталкиваемся на другие идеи, ставшие на рубеже XX–XXI вв. важными категориями переводоведения. К ним можно отнести тезис о важности раскрытия переводчиком своей творческой лаборатории [Алексеев: 10], что нашло отражение в упоминавшейся выше эксплицитной теории перевода [Лысенкова, 2007]. 57 В заключительной части вступительной лекции М. Алексеев подчеркнул, что «никакой перевод никогда не заменит подлинник, хотя существование переводов и пользование ими также необходимо и желательно» [Алексеев: 32]. Эта максима верна и сегодня. В 1936 г. работа К. Чуковского, появившаяся в 1930 г. под одной обложкой с исследованием А. Федорова, была выпущена тем же издательством «Academia» в виде книги с сохранением прежнего общего названия «Искусство перевода». Это издание примечательно тем, что в нем К. Чуковский сочувственно цитирует статью известного лингвиста Р. О. Шор «О научной базе художественного перевода», опубликованную в 1933 году «Литературной газетой». К. Чуковский приводит два фрагмента из публикации Шор: «Переводчик без лингвистической подготовки – очень часто раб словаря: он не учитывает влияния контекста, не считается с социальной и эмоциональной нагрузкой слова… …Не зная элементов семасиологии учение о значении слов, ни лексикологии учение о словарном составе языка, переводчик не может удачно подыскивать смысловые эквиваленты и орудует своим, часто небогатым, запасом слов анархически и вслепую», и указывает, что в статье также «выдвигается требование, чтобы современный переводчик изучил теорию стиля, теорию пауз, теорию клаузул и пр., и пр., и пр.». По мнению К. Чуковского, работа Р. О. Шор «выражает собою ту небывалую веру в науку, которой характеризуется наша эпоха» Чуковский, 1936: 121–122. К сожалению, из последующих изданий книги эти серьезные лингвистические аргументы исчезли. В 1941 г. состоялось еще одно издание этой книги – на этот раз под заглавием «Высокое искусство» (книга была подписана в печать 31.12.1940 г.). Это заглавие сохранилось за книгой К. Чуковского во всех ее последующих переизданиях. Нельзя не высказать сожаления в связи с тем, что в этом издании К. Чуковский вынужденно констатирует наличие некоего советского стиля перевода Чуковский, 1941: 5, 220 и др.. 58 Издание 1964 г., имеющее подзаголовок «Принципы художественного перевода», содержит, среди прочего, анализ переводов на английский язык повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Есть эти страницы и в 3-м томе Собрания сочинений К. Чуковского, вышедшем в 1966 г. Однако при работе с книгой К. Чуковского студенту-филологу необходимо учитывать то обстоятельство, что из-за цензурных вмешательств ее издания не полностью повторяют друг друга. В издании 1968 г. части радела «Стиль» о переводах «Одного дня Ивана Денисовича» из книги были изъяты. А. Солженицын стал неугоден властям, его имя вымарывалось, поэтому пострадала и книга К. Чуковского. Представление о том, как это происходило, дают записи в дневнике Чуковского: «Вечером приехала Елена Никол. Конюхова от «Советского писателя» уговаривать меня, чтобы я выбросил из своей книги упоминание о Солженицыне. Я сказал, что это требование хунвейбиновское, и не согласился. Книга моя вряд ли выйдет. … Книга моя «Высокое искусство» сверстана в издательстве «Советский писатель». Она должна была выйти в свет, когда в издательстве вдруг заметили, что в книге упоминается фамилия Солженицын. И задержали книгу» (Чуковский К. Дневник (1930–1969). – М.: Соврем. писатель, 1994. – С. 443). Через полгода, 7 октября 1968 г. выдающийся российский филолог заносит в свой дневник такие горькие слова: «Сегодня, увы, я совершил постыдное предательство: вычеркнул из своей книги «Высокое искусство» – строки о Солженицыне. Этих строк много. Пришлось искалечить четыре страницы, но ведь я семь месяцев не сдавался, семь месяцев не разрешал издательству печатать мою книгу – семь месяцев страдал оттого, что она лежит где-то под спудом, сверстанная, готовая к тому, чтобы лечь на прилавок, и теперь, когда издательство заявило мне, что оно рассыпет набор, если я оставлю одиозное имя, я увидел, что я не герой, а всего лишь литератор, и разрешил наносить книге любые увечья, ибо книга все же – плод многолетних усилий, огромного, хотя и безуспешного труда. 59 Мне предсказывали, что, сделав эту уступку цензурному террору, я почувствую большие мучения, но нет: я ничего не чувствую кроме тоски – об[м]озолился» (Чуковский К. Дневник (1930–1969). – М.: Соврем. писатель, 1994. – С. 457). Издание 1988 г. также вышло без страниц, где содержался анализ переводов повести А. Солженицына. Восстановлены эти фрагменты книги были лишь в последнем по времени издании, которое вышло в составе 15-томного «Собрания сочинений» К. Чуковского в 2001 г. В 1941 г. ленинградским отделением Государственного издательства художественной литературы была выпущена книга А. Федорова «О художественном переводе». Эта работа отразила отход ее автора от многих идей и принципов, которые были сформулированы в его работах конца 20-х – рубежа 30-х годов. Во «Вступительных замечаниях» к книге А. Федоров пишет: «Здесь автор считает необходимым отметить, что в своих ранних работах о переводе он, не отрицая возможности перевода, не становясь в принципе на точку зрения непереводимости, все же слишком сильный упор делал на примеры несовместимости формально-языковой и художественносмысловой передачи отдельных деталей оригинала, рассматривая их самих по себе, а из этого порой вытекали наивно-пессимистические или скептические выводы. Автор тогда недостаточно учитывал то обстоятельство, что отдельная деталь, вне ее художественно-смысловой роли в системе целого, невесома. Подчеркивая относительность понятия точности, автор не видел того, что именно благодаря этой относительности становится возможным понятие равноценности перевода как искусства по отношению к оригиналу, а также – в некоторых случаях – равноценности двух переводов по отношению к друг другу» [Федоров, 1941: 5–6]. В связи с приведенными словами уместно отметить, что в 2006 г. Санкт-Петербургский университет переиздал ранние работы А. Федорова в сборнике под тем же названием – «О художественном переводе» [Федоров, 2006]. Повторное знакомство с ними убеждает нас в том, что самокритика 60 ученого была, видимо, вынужденной: работы молодого А. Федорова и сегодня не потеряли своего значения, ибо в них без обиняков говорилось о тех проблемах художественного перевода, о которых автору, готовившему свою книгу к изданию в конце 30-х годов, пришлось говорить с оглядкой на идеологические установки. Книга «О художественном переводе» 1941 года состоит из семи глав, названия которых звучат многообещающе. Ср.: «Перевод как проблема литературной культуры», «Перевод и критика», «Типы и методы перевода», «Перевод и литературные жанры», «Вопрос о переводимости». Однако содержание глав лишь в малой степени соответствует заявленной проблематике. Например, понятие «литературной культуры» в первой главе не раскрывается, вторая глава, посвященная критике перевода, включает в себя такие части: 1. Об одной ошибке из собственной практики; 2. Ошибки, которые остаются не замеченными; 3. О рецензии на переводную книгу; 4. Переводческий язык; сглаживание подлинника; наивная точность; 5. Передача языковой необычности оригинала; 6. О народном языке. В параграфе «О рецензии на переводную книгу» А. Федоров подчеркивает, что главное при оценке переводной книги – это выяснение того, сохранено ли в переводе своеобразие оригинала и не обесцвечен ли он. В главе «Типы и методы перевода» читатель не найдет типологии перевода, а узнает о двух крайностях, встречающихся при воссоздании оригинала и выражающихся в его перелицовке «на родные нравы» и в калькировании языка подлинника. В последней главе книги «Вопрос о переводимости» приводится множество примеров перевода разнообразной лексики (варваризмов, диалектизмов, провинциализмов, арготизмов), а проблема переводимости как категории теории художественного перевода не затрагивается вовсе. Добавим к сказанному, что в первом издании учебника «Введение в теорию перевода» А. Федоров снова признает свои «ошибки» и кается в том, что важный и сложный вопрос о переводимости им упрощен и разре- 61 шен слишком легко и прямолинейно. Касаясь последней главы книги «О художественном переводе», автор в 1953 году пишет: «Недостатком книги «О художественном переводе» в рассмотрении этого же вопроса является также и то, что последняя глава, специально посвященная ему («Вопрос о переводимости»), построена в значительной части на материале примеров, окрашенных экзотикой или эстетством, – случаев специфически редких (игра слов, особые условия применения варваризмов и диалектизмов и т. д.)» [Федоров, 1953: 109, 110]. Во втором и последующих изданиях учебника эти абзацы отсутствуют (см., например: [Федоров, 1958]). Частично изменившийся после смерти Сталина и ХХ съезда КПСС идеологический климат позволил автору отойти от самоуничижительной критики своих теоретических положений. 2. 1950–1990-е годы Война 1941–1945 гг. сделала проблематику художественного перевода неактуальной, поэтому следующая книга на эту тему появилась 10 лет спустя: в 1955 г. был издан сборник «Вопросы художественного перевода», в котором отстаивалась точка зрения на переводной текст как явление «родной литературы», содержались предостережения переводчикам относительно опасности проникновения в их переводы «рецидивов буржуазного национализма» и излагалась теория так называемого реалистического перевода, в соответствии с которой переводчик должен «прорваться» сквозь «заслон» оригинала к «реальности авторского видения», поскольку «советский перевод не мертвая зеркальная копия, а творческое воссоздание, так как мы воспринимаем и воссоздаем реальность подлинника в свете нашего реалистического и революционного миропонимания». В этой книге наиболее отчетливо декларировались требования к переводу с позиций господствовавшего в советской литературе социалистического реализма. Затем с 1959 г. стали выходить сборники «Мастерство перевода», подготавливаемые Советом по художественному переводу Правления Сою- 62 за писателей СССР. Сначала они выходили почти ежегодно, а впоследствии все реже. Последний, 13-й сборник за 1985 год, был выпущен лишь через пять лет, в 1990 году, и на этом издание книг этой серии прекратилось. Трудно переоценить значение этих тринадцати томов для становления отечественной истории, теории и критики перевода. Они были задуманы, как подчеркивалось в аннотациях, как трибуна для свободного обмена мнениями по различным методологическим и творческим проблемам художественного перевода. Разумеется, что свободно обмениваться мнениями авторы статей могли только в рамках установок теории социалистического реализма. Тем не менее в «Мастерстве перевода» печаталось много важных материалов теоретического и исторического характера, время от времени публиковалась информация о состоянии переводческой мысли за рубежами СССР. Непреходящую ценность и поныне составляет библиографические материалы, которые содержатся во всех тринадцати выпусках. Однако издание этих коллективных трудов имело, как думается, и оборотную сторону, которая заключалась в том, что они некоим образом перекрывали дорогу авторским работам о переводе. Например, в выпусках «Мастерства перевода» опубликовано много статей известного отечественного историка и теоретика перевода, переводчика художественной прозы В. Россельса, но его монография о переводе так и не появилась (считать книгой его 32-страничную брошюру «Эстафета слова. Искусство художественного перевода», напечатанную в 1972 году, нельзя. А книга статей этого автора «Сколько весит слово» (1984) – это всего лишь перепечатка названной выше брошюры (с незначительными добавлениями и изменениями) и пяти статей, которые, к сожалению, единого целого не составили. Кроме того, вторая часть книги включает работы, которые не имеют отношения к проблематике перевода). Не вышли книги серьезного исследователя художественного перевода В. Шора, а также Л. Копелева, выступивших на страницах «Мастерства перевода» с интересными и глубокими статьями. 63 Не были изданы размышления о переводе и переводчиках В. Левика, известного переводчика западно-европейской поэзии. Параллельно с томами «Мастерства перевода» в издательстве Института международных отношений с 1963 г. начали выходить «Тетради переводчика». Они явились продолжением сборников, выпускавшихся в 1958– 1962 гг. кафедрой перевода I Московского государственного педагогического института иностранных языков (ныне Московский государственный лингвистический университет). Эти сборники выходят и сегодня (всего издано 26 выпусков), хотя между 23-м и 24-м выпусками был перерыв в десять лет (1989–1999), а 25-й и 26-й выпуски появились соответственно в 2005 и в 2007 г. В разные годы они выходили в издательствах «Международные отношения» и «Высшая школа». В последние годы «Тетради переводчика» вновь издаются МГЛУ. Все сборники этой серии отличаются высоким научным уровнем публикуемых материалов. Сопоставляя аналитически «Мастерство перевода» и «Тетради переводчика», А. Федоров писал: «Если «Мастерство перевода» всецело посвящено переводу художественной литературы и имеет отчетливо выраженный литературоведческий характер, то «Тетради переводчика» занимаются всеми видами перевода… и принципами подготовки переводчика в языковом высшем учебном заведении, а также и двуязычными словарями. При этом большое место уделяется языковой проблематике, рассматриваемой на различном материале, включая и художественный. Надо подчеркнуть, что этот лингвистический уклон не имеет воинствующего оттенка, и это закономерно: это важный, но не единственный аспект сложной и многогранной проблемы» (Федоров А. В. «Тетради переводчика» // Мастерство перевода. Сб. шестой. 1969. – М.: Сов. писатель, 1970. – С. 328). Свое место в становлении теории художественного перевода в России заняли и другие книги, в которых, как правило, были собраны статьи многих авторов на весьма отдаленные друг от друга темы. 64 В этом ряду следует упомянуть сборники «Теория и критика перевода» (1962), «Редактор и перевод» (1965), двухтомное издание материалов конференции «Актуальные проблемы теории художественного перевода» (1967), «Вопросы теории художественного перевода (1971), а также два тома, выпущенные в свет Ереванским университетом: «Художественный перевод: Взаимодействие и взаимообогащение литератур» (1973) и «Художественный перевод: Вопросы теории и практики» (1982). Вторая из только что названных книг ценна тем, что в ней один из разделов посвящен драматургическому переводу. Кроме того, в ней опубликованы статьи многих известных зарубежных авторов: А. Лиловой, А. Лефевра, Д. Радо, Э. Озерса, А. Такаяма, Дж. С. Холмса и др. В книге «Теория и практика перевода» опубликован целый ряд статей, которые носили постановочный характер и в той или иной мере определили направление переводоведческих исследований в последующие годы. Это прежде всего работы Л. Бархударова «Общелингвистическое значение теории перевода», Е. Эткинда «Теория художественного перевода и задачи сопоставительной стилистики», В. Коптилова «Трансформация художественного образа в поэтическом переводе», Я. Рецкера «Задачи сопоставительного анализа переводов» и др. Теория и критика перевода. Сборник «Редактор и перевод» ценен сегодня тем, что в нем описан тот этап работы над переводом, который почти исчез из переводческой практики, а именно этап редактирования текста готового перевода. Из статей Р. Райт-Ковалевой, М. Ваксмахера, В. Шора, Е. Ланда будущий переводчик может почерпнуть немало ценных подсказок относительно того, как читать подготовленный к печати перевод. Высказанные на страницах книги советы окажутся полезными и для редактирования своих собственных переводов, (т. е. для авторедактуры) Редактор и перевод. Двухтомник «Актуальные проблемы теории художественного перевода» отражает состояние переводческой мысли середины 1960-х годов (преимущественно с литературоведческих позиций). В нем опубликованы важ- 65 ные работы ученых и переводчиков: В. Г. Адмони и Т. И. Сильман, А. И. Дейча, Вяч. Вс. Иванова, В. В. Коптилова, Ю. Д. Левина, Л. М. Мкртчяна, В. М. Россельса, П. М. Топера, А. В. Федорова, Е. Г. Эт- кинда, поэтов и переводчиков: Л. В. Гинзбурга, Т. Г. Гнедич, Г. П. Кочура, В. Б. Микушевича, С. В. Петрова, С. В. Шервинского и др., зарубежных переводоведов: С. Флорина, А. Курелла (ГДР), И. Левого (Чехословакия, умер 16 января 1967 г.), П. Фр. Кайе (Франция), Р. Италиаандера (ФРГ) и др. Актуальные проблемы… Т. 1–2. Книга «Вопросы теории художественного перевода» открывается 75-страничной статьей известного ныне переводчика В. Микушевича «Поэтический мотив и контекст», в которой автор утверждает, что поэтическое произведение является переводом только тогда, когда его поэтический мотив тождественен поэтическому мотиву другого произведения [Вопросы теории…: 43]. Но при этом, по Микушевичу, после усвоения поэтического мотива материал стихотворного произведения отодвигается на второй план [Вопросы теории…: 33]. По мысли автора этой весьма спорной статьи, путь реалистического перевода – это путь от поэтического мотива к суверенному контексту произведения, которым представлена общность мировой культуры в ее диалектической целостности [Вопросы теории…: 79]. Важное значение для практикующего и будущего переводчика может иметь статья В. Станевич «Ритм прозы и перевод», опубликованная в этом же сборнике. Ценными представляются работы В. Коптилова и В. Россельса об этапах работы переводчика и воссоздании музыкальной темы или лейтмотива, типичного для так называемой ассоциативной прозы. Книга «Художественный перевод: проблемы и суждения» отличается тем, что в ней большей частью представлены работы практикующих переводчиков с языков народов бывшего СССР, в том числе и тех, кто не знал никакого языка, кроме родного, и работал по подстрочнику. Г. Митин пытается даже «теоретически обосновать» значимость этого фигового листка перевода (подробнее об этот см.: [Чайковский, 1997: 90–97]). Другой автор, В. Леонович, заявлял: «Я не стану подражать оригиналу. Я захочу пре-образить 66 то, что было его причиной… Сущность этого труда – производство свободы» [Художественный перевод…: 137, 138.] Читатель сборника может увидеть результаты такого «перевода» в разделе «Форум переводчиков», где приводятся стихи на украинском, татарском и аварском языках с их подстрочными переводами, на основе которых затем поэтами, не знающими исходного языка, были написаны рифмованные «переводы». Начало 90-х годов ознаменовалось выходом в свет книги «Литература и перевод: проблемы теории» (1992), в основу которой положены материалы Международной встречи специалистов в области перевода, переводчиков и писателей из многих стран, состоявшейся в Москве весной 1991 года. В ней опубликованы статьи таких выдающихся отечественных и зарубежных переводоведов, как В. Коллер (Германия), М. Гаспаров, В. Комиссаров, А. Швейцер, Г. Тури (Израиль), А. Лилова (Болгария), Ю. Левин, М. Новикова (Украина), С. Влахов и С. Флорин (Болгария) и многие другие. В некоторых из помещенных в этом сборнике работ затрагиваются вопросы, имеющие принципиальное значение для теории и критики художественного перевода, поэтому несколько подробнее мы остановимся на них ниже (речь идет в первую очередь о статьях М. Гаспарова и С. Влахова) Литература и перевод…. Время показало, что для развития науки о художественном переводе большее значение имели не коллективные сборники трудов, а авторские монографии, в которых всесторонне исследовалась та или иная конкретная проблематика. В качестве примера можно привести монографию Е. Г. Эткинда «Поэзия и перевод» (1963) и книгу В. С. Виноградова «Лексические проблемы перевода художественной прозы» (1978). 3. Авторские школы перевода второй половины XX века Е. Г. Эткинд (1918–1999) также опубликовал в выпусках «Мастерства перевода» немало статей на разные темы. Однако автор этих статей понимал, что – при всей их значительности – они не составляли единого целого. Еди- 67 ным целым и одновременно основной книгой этого выдающегося переводоведа и переводчика стала именно монография «Поэзия и перевод» Эткинд, 1963. При этом важно учитывать, что в 1974 г., после того как Е. Эткинд за сотрудничество с А. Солженицыным был лишен ученой степени доктора филологических наук и ученого звания профессора, уволен из Ленинградского педагогического института им. А. Н. Герцена и буквально принужден эмигрировать, все его книги (в том числе и абсолютно аполитичная «Поэзия и перевод») были изъяты из библиотек, а ссылки на них вымарывались цензурой. Но названная монография, как и успевшая выйти в свет в 1973 г. еще одна книга Е. Эткинда – «Русские поэты-переводчики от Тредиаковского до Пушкина», оказались не только в государственных библиотеках, но и в личных собраниях многих специалистов, откуда их, к счастью, изъять не могли. Поэтому книги Эткинда продолжали работать на отечественную науку о художественном переводе (и прежде всего о переводе поэтическом) и в долгие годы замалчивания имени их автора в советской России (подробнее об истории гонений на этого выдающегося филолога можно узнать из его книги «Записки незаговорщика. Барселонская проза» (СПб., 2001), а также из тома воспоминаний об Эткинде (в нем же публикуются и некоторые работы самого Эткинда): «Ефим Эткинд: Здесь и там» (СПб., 2004). Монография «Поэзия и перевод» – блестящее новаторское исследование теории и практики поэтического перевода, не потерявшее своего значения и сегодня. В ней впервые в отечественной истории теории художественного перевода поставлены и решены важные методологические вопросы этой области филологической науки. Свою книгу автор начинает афористически отточенным тезисом: «Поэзия – высшая форма бытия национального языка». Исходя из этой максимы, Эткинд на протяжении всей книги выступает за сохранение в переводе этой высшей формы существования языка: переводчик не имеет права убивать поэзию, живущую в исходном тексте, – он обязан максимально полно донести до иноязычного читателя все поэтическое богатство ориги- 68 нала. Это невозможно, но без стремления к идеалу искусство пересоздания стихов умирает. Первую главу своей книги Эткинд посвящает самой главной проблеме – проблеме поэтического содержания и приходит к выводу, что творчество поэта-переводчика сводится именно к созданию нового единства смыслового содержания и словесной формы. Переходя к вопросу о критериях верности перевода оригиналу, Эткинд подчеркивает, что универсального критерия в сфере поэтического перевода существовать не может. Он пишет: «Верность – понятие непостоянное, меняющееся в зависимости от того, к какому виду поэзии относится переводимая вещь. В одном случае решающую роль играет близкое воспроизведение смыслового содержания стихов, и тогда нелепым догматизмом окажется требование музыкально-архитектонической, ритмической, эмоциональной адекватности. В другом случае сущность стихотворения – авторская эмоция, доносимая до читателя словесно-музыкальными средствами; можно ли тогда настаивать на полной передаче смыслового объема слов? В третьем случае важнейшей чертой подлинника является живая непосредственность разговорной интонации. В четвертом – чисто формальная игра на рифмах, на звучании слов, на их корневом родстве, и переводчик будет прав, если, воссоздавая эту игру, пренебрежет другими, менее важными, менее сущностными элементами произведения» [Эткинд, 1963: 39]. В основу своего подхода к поэтическому переводу Эткинд кладет идеи В. Брюсова, который в качестве основных элементов стихотворного произведения усматривал стиль языка, образы, размер и рифму, движение стиха, игру слогов и звуков. По мнению Эткинда, брюсовская теория и «метод перевода» «должны быть развиты, – именно этот принцип и следует положить в основу эстетики поэтического перевода» [Эткинд, 1963: 42]. Сам Эткинд предлагает несколько иную констелляцию основных составляющих поэтического произведения, а именно: смысл, композицию, звучание, образную структуру [Эткинд, 1963: 43]. 69 Затем он последовательно анализирует разные виды поэзии – поэзию внешней формы, поэзию мысли и поэзию образа, убедительно демонстрируя важность вычленения в исходном тексте и воссоздания в переводе его главных, стилеобразующих элементов. После этого Эткинд переходит к рассмотрению личности переводчика и анализирует ее в двух ракурсах: переводчик как поэт и переводчик как читатель. Обращает на себя внимание последовательность изучения двух взаимосвязанных сторон личности переводчика. Из этой очередности явственно следует, что переводчик поэзии прежде всего сам должен быть поэтом. Об этом же говорят и имена переводчиков, работы которых представлены на страницах книги: Н. Заболоцкий, М. Лермонтов, С. Маршак, Б. Пастернак, А. Пушкин и др. Разумеется, что поэты такого масштаба невольно привносят в выполняемые ими переводы элементы своего мировидения, своего стиля. Эткинд так объясняет эту особенность перевода поэзии: «Субъективная «примесь» в поэтическом переводе – это не следствие злой воли переводчика, захотевшего навязать себя читателю, а фатальная неизбежность» [Эткинд, 1963: 113]. Субъективность перевода может быть, по мысли Эткинда, снижена благодаря правильному прочтению оригинала. В качестве доказательства необходимости аналитического чтения подлинника переводчиком автор дает блестящий ретроспективный анализ двенадцати переводов стихотворений Гете «Nähe des Geliebten». Эткинд наглядно демонстрирует ошибки переводчиков, вызванные неправильным чтением оригинала. Попутно Е. Эткинд касается и других важных проблем перевода. В частности, он критически осмысливает теорию И. Кашкина о необходимости прорыва «за текст» оригинала и убедительно доказывает ее методологическую несостоятельность [Эткинд, 1963: 133–142]. Правильное прочтение подлинника возможно только при его глубоком и всестороннем изучении. Поэтому Эткинд следующие главы книги посвящает таким аспектам, как исследовательская работа переводчика (на примере многолетнего труда М. Лозинского над переводом «Божественной 70 комедии» Данте), раскрытие стилистической структуры оригинала, его метра, ритма и интонации, а также воссоздание в переводе особенностей свободного стиха и музыкально-лирической поэзии. В заключении к книге Эткинд предупреждает об одной из наиболее серьезных опасностей, подстерегающего переводчика поэзии, а именно об опасности банализации исходного поэтического произведения. Ее можно избежать только в том случае, если в переводе будет сохранена подлинная, неподдельная поэзия. Этой задаче и посвящена блестящая книга Е. Эткинда, которая стала классическим исследованием проблем поэтического перевода. Перевод является хорошим тогда, когда совпадают векторы его понимания читателем оригинала и читателем этого перевода. Т. Гаврылив Для развития теории художественного перевода важное значение имели работы Г. Р. Гачечиладзе (1914–1974) «Вопросы теории художественного перевода» (1964) и «Введение в теорию художественного перевода» (1970). Написанные на грузинском языке, они выходили в свет и в авторизованном переводе на русский язык и широко обсуждались специалистами. Кроме того, дважды на русском языке издавалась книга Г. Гачечиладзе «Художественный перевод и литературные взаимосвязи» (1972, 1980). Если Е. Эткинд исследовал проблематику поэтического перевода, то Г. Гачечиладзе рассматривал в своих книгах вопросы перевода и поэзии, и прозы. Г. Гачечиладзе являлся сторонником так называемого реалистического перевода, однако его взгляды на художественный перевод несколько отличаются от позиции И. Кашкина, на работы которого Гачечиладзе неодно- 71 кратно ссылается (см., например: [Гачечиладзе, 1964: 7, 106, 112–113, 128– 132], [Гачечиладзе, 1972: 90, 93–94, 124]). По Гачечиладзе, «художественный перевод – это творчество, и оно подчинено мировоззрению переводчика» [Гачечиладзе, 1970: 149]. Не подлежит сомнению, что подобное гипертрофированное подчеркивание роли мировоззрения переводчика открывало большие возможности для нестесненного авторским миропониманием обращения с оригиналом и для его разнообразных трансформаций в угоду идеологии вольного перевода. Г. Гачечиладзе рассматривал художественный перевод как отражение художественной действительности подлинника и на этой основе определял его как специфический вид художественного творчества, где оригинал выполняет функцию, аналогичную той, которую выполняет для оригинального творчества живая действительность. При этом под художественной действительностью он понимал «живую действительность, опосредованную подлинником, воплощенную в художественное целое, в единстве формы и содержания» [Гачечиладзе, 1972: 91, 95]. Г. Гачечиладзе признает, что «художественная действительность» сама по себе условна по отношению к «живой действительности», так как прошла через призму авторского мироощущения. Но, будучи отраженной в подлиннике, эта условная художественная действительность, по мысли исследователя, вновь оказывается некой живой действительностью, которая в свою очередь может быть отражена через призму мироощущения переводчика. «По отношению к живой действительности, отраженной в подлиннике, – пишет далее Г. Гачечиладзе, – перевод – вторичное, условное отражение, но по отношению к художественной действительности подлинника он первичен, и творческий характер его не подлежит сомнению» [Гачечиладзе, 1972: 95–96]. Как видим, рассуждения известного переводоведа направлены прежде всего на доказательство тождества творчества писателя и переводчика. Эта точка зрения на суть перевода как вида художественного творчества 72 нашла немало сторонников. В монографии А. А. Акоповой, например, утверждается, что «в теории художественного перевода невозможно обойтись без изучения личности переводчика, поскольку художественный перевод несет в себе все черты оригинального творчества» [Акопова: 116]. Пытаясь уравнять творчество писателя с творчеством переводчика, Г. Гачечиладзе и его последователи фактически закрывали путь к пониманию реальной специфики творческого труда переводчика*. Деятельность переводчика искусственно переносится в сферу творчества писателя, в рамки деятельности автора оригинала и таким образом ее своеобразие растворяется в общих принципах писательского труда. Несомненно, что в деятельности писателя и переводчика есть немало общего, но в то же время между ними имеется одно кардинальное отличие, которое не позволяет уравнивать их. Это отличие заключается в том, что творческий труд писателя носит первичный характер, а труд переводчика по своей природе вторичен. Уяснение этого принципиального различия между деятельностью писателя и переводчика позволит, на наш взгляд, строить теорию художественного перевода на реальной онтологической основе и даст возможность определить ее статус как самостоятельной области филологической науки. Значительно меньший резонанс по сравнению с трудами Е. Эткинда и Г. Гачечиладзе имела монография В. С. Виноградова «Лексические вопросы перевода художественной прозы», вышедшая в 1978 году в издательстве Московского университета. В теоретической части своей работы В. Виноградов вступает в полемику с положениями теории художественного перевода Г. Гачечиладзе и предпринимает попытку наметить основные отличия между творческим трудом писателя и деятельностью переводчика. Он писал: «Писатель выбирает предмет литературного изображения, опре- * В свое время обоснованный критический анализ взглядов Г. Гачечиладзе дал В. С. Виноградов [Виноградов, 1978: 8–16]. К сожалению, в последующих переработанных изданиях этой книги глава «Художественный перевод – вид словесного творчества», в которой рассматривались идеи Г. Гачечиладзе, была снята [Виноградов, 2001], [Виноградов, 2004]. 73 деляет тему, содержание, жанр литературного произведения, выделяет его главную идею, разрабатывает композицию, сюжет, типы, характеры и все эти многочисленные компоненты литературного произведения материализует в языке как средстве художественного воспроизведения действительности. Переводчик не повторяет всего процесса создания художественного произведения. На его долю выпадает иная задача: как можно полнее воспринять идейно-художественное содержание и форму подлинника, определить его социально-историческую обусловленность и перевоплотить все воспринятое в материале другого языка, не отступая от авторского отражения действительности и ее авторской оценки» [Виноградов, 1978: 10]. По В. Виноградову, суть художественного перевода от начала и до конца – в языковом процессе, ибо оригинал воспринимается через язык и через язык воссоздается. «Язык и слово как единица языка, – продолжает он, – должны занять одно из мест на переднем плане теории художественного перевода» [Виноградов, 1978: 12]. Однако анализа природы художественного перевода как вида искусства слова в работе В. Виноградова мы не обнаруживаем. Он ограничивается критикой взглядов Г. Гачечиладзе и обоснованным предостережением против попыток уравнивания творчества писателя и работы переводчика художественной литературы. С сожалением приходится констатировать, что призыв В. Виноградова сосредоточить внимание исследователей на неповторимой специфике художественного перевода как самостоятельного рода искусства услышан не был, и что сам автор также отказался от дальнейшего изучения своеобразия художественного перевода как вида искусства слова. Студента, аспиранта или начинающего переводчика не должно ввести в заблуждение название учебного пособия Н. Сагандыковой «Основы художественного перевода», изданного в 1996 году на русском языке в Алма-Ата (Казахстан), поскольку оно не отражает содержания книги. В нем нет изложения основ художественного перевода. Оно посвящено изучению истории художественного перевода в Казахстане и исследованию воссоздания казах- 74 ской поэзии средствами русского языка, а также переводов русской литературы на казахский язык. В библиографии к книге много неточностей (Сагандыкова Н. Ж. Основы художественного перевода. Учебное пособие. – Алматы: Санат, 1996. – 208 с.). 4. Начало ХХI века Уже в новом веке весьма своеобразная точка зрения на природу художественного перевода оказалась представленой в книге Ю. А. Сорокина «Переводоведение: статус переводчика и психогерменевтические процедуры» (2003). Автор этой работы утверждает, что художественный перевод «есть не что иное, как маскировка зон несогласий, возникающих в результате столкновения двух самодостаточных креативных установок, стремящихся ассимилировать друг друга. Это спор двух личностей (автора оригинального текста и переводчика), заведомо не согласных на паритетные отношения…» [Сорокин, 2003: 46]. Предпринятая автором процитированных слов попытка доказать эфемерность художественного перевода представляется нам неубедительной прежде всего на том основании, что ее основу составляют сомнительные исходные положения. У переводчика одно лекарство – смирение. Ю. А. Сорокин Так, тезис о зонах несогласия, являющихся результатом столкновения двух разных творческих установок таит в себе сразу несколько противоречий. Первое из них состоит в том, что движущей креативной силой переводчика служит именно «согласие» с текстом, который он решает перевести. Второе противоречие заключается в рассмотрении установок автора оригинала и переводчика как самодостаточных. На наш взгляд, подобное уравнивание исходных творческих позиций писателя и переводчика весьма близко по своей сути идее Г. Гачечиладзе о тождестве труда писателя и пе- 75 реводчика и не может быть признано продуктивным именно в силу самодостаточности авторской установки и зависимого, вторичного характера установки переводчика. Третье противоречие содержится в утверждении о стремлении творческих установок участвующих в процессе художественного перевода лиц “ассимилировать” друг друга. Автору оригинала, как правило, нет дела до перевода, в то время как попытки ассимиляции оригинала со стороны переводчика должны рассматриваться и как непонимание им характера взаимоотношений между исходным текстом и переводным текстом, и как проявление неуважения не только к автору переводимого произведения, но и к его будущим читателям. Четвертое противоречие видится в тезисе о споре двух личностей, в котором нашла отражение все та же концепция равенства творческих величин писателя и переводчика. Но давно было сказано Лессингом: «Хорошую книгу должен переводить хороший переводчик. Но хороших переводчиков на свете куда меньше, чем это кажется на первый взгляд» [Разговор цитат: 486]. Представить себе личность переводчика, конгениальную личности Т. Шевченко, Ф. Достоевского, Р. М. Рильке или Э. Хемингуэя, весьма сложно. Можно, однако, согласиться с другой мыслью Ю. Сорокина, в соответствии с которой «переводческие аргументы всегда (или почти всегда) оказываются фальсифицированными по сравнению с «истинами» оригинала» [Сорокин, 2003: 46]. Но возникает вопрос – как можно уравнивать «фальсификатора» с автором исходных «истин» (пусть даже в кавычках)? Из этой мысли проступает вся несоразмерность фигур автора и его переводчика. И приписывать переводчику конкурирующую роль в связке «автор– переводчик» безосновательно, поскольку переводчик для автора оригинала не конкурент, а скорее его наемный работник. Итоговый вывод Ю. Сорокина о том, что переводческая версия исходного текста «всего лишь симулякр», то есть подобие, видимость чего-то [Сорокин, 2003: 50], опровергает все сказанное им ранее и низводит худо- 76 жественный перевод до уровня неких переводческих фантазий, проверка которых на истинность невозможна. …переводы должны ширить славу переводимого поэта и обогащать язык, на который его переводят; тем не менее читать поэта следует на том языке, на котором он пишет, ибо переводы делают явными все недостатки поэтического творения и затеняют его красоты; однако нет сомнения в том, что они совершенствуют родной язык переводчика. Антуан де Ривароль В позиции Ю. Сорокина отразились глубинные противоречия художественного перевода как вида словесного искусства. Отрезвляющая сила конечного вывода ученого, который сам является талантливым переводчиком поэзии, объясняется, на наш взгляд, изначальной трагической неосуществимостью любой попытки абсолютно адекватного воссоздания художественного оригинала, то есть желанием переводчика сделать его конгениальную версию и осознанием того, что в 99% случаев это невозможно. В начале XXI века вышло уже немало работ, посвященных проблематике художественного перевода. Помимо рассмотренной нами небольшой, но весомой как своим оригинальным подходом к решению важных вопросов перевода художественного текста, так и своими идеями книги Ю. А. Сорокина, увидели свет монография Л. С. Макаровой «Коммуникативно-прагматические основы художественного перевода» [Макарова], учебное пособие Ю. Солодуба «Теория и практика художественного перевода» [Солодуб], учебник Т. А. Казаковой «Художественный перевод. Теория и практика» [Казакова, 2006а], учебное пособие Ю. Л. Оболенской «Художественный перевод и межкультурная коммуникация» [Оболенская], а также еще одна книга Т. А. Казаковой «Художественный перевод: в поисках истины» [Казакова, 2006б]. 77 Монография Л. С. Макаровой – это теоретическая работа, в которой поднимаются важные вопросы науки о переводе. Проблематика, исследованная в книге, находится в эпицентре сложных междисциплинарных изысканий, где сходятся интересы лингвистики и теории межкультурной коммуникации, прагматики языка и поэтики текста, общего переводоведения и теории художественного перевода. Лингвокультурные и эстетические характеристики художественного перевода трактуются автором в широком контексте, так как он рассматривается как «социолингвокультурная деятельность по обеспечению единого литературно-художественного пространства, включающая межъязыковые, межкультурные и художественно-эстетические компоненты» [Макарова: 16]. Из этой посылки вытекает следующая дефиниция художественного перевода, которую мы находим в работе: «Художественный перевод можно определить как эстетически обусловленное и верное авторской стилистике перевыражение вербально-художественной информации оригинала, позволяющее донести до иноязычного и инокультурного читателя глубинный смысл произведения и индивидуальность авторской манеры» [Макарова: 12]. Для решения конкретных задач переводоведения Л. С. Макарова находит новые, собственные варианты использования многих универсальных общепереводческих категорий. В частности, вызывает интерес понятие эмпирической эквивалентности, которое подразумевает не только общность, но и гетерогенность оригинала и перевода. Эмпирическими эквивалентами могут быть, по Макаровой, альтернативные варианты тех или иных элементов переводного текста. «Для каждого перевода, пишет Л. С. Макарова, может быть найдена альтернатива в силу вариативности языкового выражения, но также и потому, что носители языка способны различно интерпретировать одно и то же высказывание» [Макарова: 58]. Необходимо подчеркнуть еще один очень важный аспект монографии Л. С. Макаровой, а именно выделение в ее работе такого коммуникативного параметра художественного перевода как ориентация на замысел 78 автора и авторский идиолект [Макарова: 29]. Нам представляется, что эта посылка автора может оказаться весьма плодотворной для переводоведения, так как на ее основе возможно построение идиостилистики художественного перевода, ибо, как известно, в художественном переводе на первый план выдвигается задача воссоздания «грамматики идиостиля» конкретного переводимого автора, а не неких общих особенностей художественной речи в целом. В определенной мере эта задача уже решена в докторской диссертации Е. Л. Лысенковой [Лысенкова: 2006]. Книга, на переплете которой значится: Ю. П. Солодуб, Ф. Б. Альбрехт, А. Ю. Кузнецов «Теория и практика художественного перевода», может показаться студенту-филологу наиболее пригодным для него учебным пособием по этому предмету (тем более что оно рекомендовано Учебно-методическим объединением по специальностям педагогического образования в качестве такового для студентов вузов, обучающихся по специальности: «Иностранный язык»). Однако содержание пособия лишь в малой степени соответствует его названию. Кроме того, основная часть учебника (260 страниц из 295) написана одним автором – Ю. Солодубом, а его «соавторы» представлены в приложении статьями на совершенно разные, хотя и переводоведческие темы. Подобная структура нетипична для учебного пособия и дает основание предполагать, что в готовящейся к печати книге образовалась, как говорят издатели, «дыра», т. е. в макете книги не хватало несколько десятков страниц авторского текста и их пришлось заполнить приложением, мало согласующимся с содержанием основной части пособия. Внимательный студент обратит также внимание на отсутствие заключения в книге, поскольку раздел с таким названием относится к третьей главе книги, а печатающийся там же после звездочек текст содержит всего три абзаца, первый из которых относится все к той же 3-й главе, во втором напоминается, что в книге рассматривались переводы на разные языки, а в третьем содержится пожелание читателям успехов в искусстве художественного перевода [Солодуб: 257]. 79 Однако обратимся непосредственно к содержанию пособия. Его основная часть состоит из трех глав: «Вводный курс в теорию и практику художественного перевода»; «Минимальные единицы художественного перевода – слово, эквиваленты слов, фразеологизмы, паремии» и «Художественный текст как максимальная единица перевода». К сожалению, названия глав лишь в малой степени отражают суть того, о чем в них идет речь. Вторая глава, например, представляет собой изложение авторского понимания проблем сопоставительной лексикологии, основные аспекты которого сопровождаются примерами на разных языках. О лексикологическом, а не переводоведческом характере теории Ю. Солодуба убедительно говорит список используемых им сокращений, приводимый на стр. 5. Из шестнадцати обозначений только три (ИЯ – язык-источник, ПЯ – язык перевода и ХТ – художественный текст) относятся к переводу, а 13 остальных – к общей и сопоставительной лексикологии. Многие утверждения Ю. Солодуба, касающиеся переводоведческой проблематики, нуждаются в разъяснении или, по меньшей мере, в редактировании. Так, в начале первой главы студенту предлагается такой тезис: «Только при достаточно верно определенной структурно-семантической эквивалентности разноуровневых единиц перевода (слово, словосочетание, предложение) в ИЯ и ПЯ перевод будет достаточно точным, адекватным» [Солодуб: 7]. Возникает вопрос: что такое единицы перевода в ИЯ и ПЯ? И что означает «достаточно точный» перевод? Ответов на эти вопросы в книге нет. Некоторые утверждения Ю. Солодуба не соответствуют действительности. Он, например, пишет, что теория динамической эквивалентности была впервые разработана А. Д. Швейцером и дает ссылку на его книгу 1973 г. «Перевод и лингвистика» [Солодуб: 181]. Но студентам из курса истории перевода известно, что автором теории динамической эквивалентности является Ю. Найда, и А. Д. Швейцер в упоминаемой Ю. Солодубом 80 книге не преминул подчеркнуть приоритет американского переводоведа (Швейцер, 1973: 34, 36, 75–76, 270). Ряд тезисов автора грешит тавтологией и неточностью. Ср.: «Основным приемом, передающим всю необычность образов индивидуальноавторских метафор… является очень внимательный и предельно адекватный в лексико-семантическом отношении их перевод с ИЯ на ПЯ» [Солодуб: 156]. По Солодубу выходит, что основным приемом перевода является перевод. И, разумеется, что такое «предельно адекватный перевод», не разъясняется. Подобных недостоверных и неудачных положений в пособии, к сожалению, немало. Вместе с тем следует подчеркнуть богатство рассматриваемого в книге текстового материала на многих языках, который может расширить филологический кругозор студента. Полезным для студента будет и содержащийся в учебнике сопоставительный анализ новеллы Т. Манна «Тристан» и его перевода на русский язык. Книга значительно обогатит представления будущих филологов о семантической структуре слова и фразеологизма, о природе и типологии символов. Очевидно, что все эти сведения важны для переводчика, но они не составляют сути предмета «Теория и практика художественного перевода». Книга Ю. Л. Оболенской «Художественный перевод и межкультурная коммуникация» обозначена издательством как учебное пособие, хотя фактически она представляет собой монографическое исследование теоретических проблем перевода как формы межкультурной коммуникации и истории рецепции произведений русской литературы XIX века преимущественно в испаноязычных странах. Монография состоит из трех частей. В первой перевод рассматривается в аспекте межкультурной коммуникации, вторая посвящена «диалектике» перевода, а в третьей анализируется своеобразие воссоздания русской литературы в Испании и Латинской Америке. 81 Важной отличительной чертой работы Ю. Оболенской является то большое внимание, которое уделяется в ней вопросам истории художественного перевода. Еще одной особенностью книги следует признать последовательно реализуемую в ней идею глобальной природы художественного перевода. Ю. Оболенская обоснованно утверждает, что все наиболее заметные произведения мировой литературы известны гораздо большему числу читателей во всем мире именно в переводах, чем в оригинале у себя на родине [Оболенская: 14]. Из этого положения мы можем заключить, что переводная художественная литература и составляет мировую литературу, в то время как литература на языке оригинала – это национальная литература. Первая носит глобальный характер, вторая – региональный (в широком смысле этого слова). Нельзя, однако, согласиться с автором, когда она отождествляет художественный текст и «текст культуры» [Оболенская: 20, 22, 101, 175, 178 и др.]. На наш взгляд, ставить знак равенства между художественной литературой и национальной культурой неправомерно, поскольку литература – это особая словесная форма бытия национального сознания, коррелирующая с культурой народа не как часть и целое, а как один из соположенных видов духовной жизни этноса. Основная переводоведческая часть книги, названная несколько претенциозно «Диалектика перевода», содержит анализ двух важных проблем: взаимосвязи художественного произведения и перевода и природы переводческого билингвизма. Видимо, стремясь оправдать название главы, Ю. Оболенская пишет о диалектическом противоречии между всевременностью художественного произведения и современностью перевода, которое объективно обусловлено и тем фактом, что «даже в едином культурноисторическом контексте невозможны абсолютно идентичные интерпретации одного произведения разными субъектами» [Оболенская: 101]. Мы полагаем, что акцентирование антагонизма между оригиналом и переводом – не самый плодотворный путь решения переводческих задач. Признавая 82 наличие известной напряженности между подлинником и его иноязычным воплощением, мы не должны забывать и о том, что оригинал порождает перевод, что перевод «подчинен» оригиналу и что между ними действуют силы взаимного притяжения. В монографии Ю. Оболенской рассматриваются также вопросы эквивалентности и адекватности перевода. Автор отстаивает точку зрения, в соответствии с которой оценка эквивалентности перевода должна опираться на национальную переводческую традицию в целом и традицию переводов конкретной национальной литературы [Оболенская: 140]. Думается, что подобный подход нельзя назвать конструктивным, поскольку переводческие традиции могли быть и негодными (ср. мнение Пушкина о французских переводах его поры или традицию перевода поэзии (или прозы) в бывшем Советском Союзе по подстрочнику). Работая с учебным пособием Ю. Оболенской, в котором студент найдет много нового и полезного материала, будущему филологу целесообразно проявлять самостоятельность в оценке ряда теоретических положений и пытаться находить свои решения тех или иных из затронутых в нем проблем, проявляя вместе с тем уважительное отношение к посылкам автора книги. Книга Т. Казаковой «Художественный перевод. Теория и практика» больше соответствует сути учебника для студентов, нежели рассмотренное выше пособие Ю. Солодуба. Она состоит из трех частей. В одиннадцати главах первой части, озаглавленной «Теория художественного перевода», освещаются многие важные понятия и проблемы науки о художественном переводе, а именно: понятия художественной информации, художественного текста, проблемы статуса слова в художественном тексте и переводе, межкультурных осложнений как фактора перевода, вопросы интерпретации и понимания в художественном переводе и др. Вторая часть содержит поэтические, прозаические и фольклорные тексты для перевода и сопоставительного анализа. Третья представляет со- 83 бой хрестоматию, в которую включены фрагменты работ известных переводоведов (преимущественно зарубежных – И. Левого, А. Поповича, С. Басснет, Дж. Манди, П. Ньюмарка и др.). В учебнике Т. Казаковой студент найдет большое количество важной информации относительно природы художественного перевода. Нельзя не согласиться с автором, утверждающим, что «выражение «художественный перевод» не является термином в строгом смысле этого слова, но, широко используемое, обрело статус научного имени, освященного традицией. Это имя, носящее метаязыковой характер, используется для обозначения совокупности сложных и расплывчатых понятий, связанных с творческим решением задач межкультурного и межлитературного и межъязыкового посредничества» [Казакова, 2006а: 4–5]. Важным является также разграничение Т. Казаковой понятий «художественный перевод» и «перевод художественной литературы», поскольку «возможны и отнюдь не художественные переводы художественных текстов» [Казакова, 2006а: 6]. Можно принять и тезис автора о том, что «понятие собственно художественного перевода предполагает творческое преобразование литературного подлинника не только в соответствии с литературными нормами, но и с использованием всех необходимых выразительных возможностей переводящего языка, сопровождаемого культурологически оправданной трансформацией литературных особенностей оригинала и той эмоционально-эстетической информации, которая присуща подлиннику как вторичной знаковой системе» [Казакова, 2006а: 10–11]. Нам думается, что в этой написанной хорошим языком характеристике художественного перевода излишним является обозначение перевода как вторичной знаковой системы. Во-первых, оно несколько выбивается из филологического контекста данного определения художественного перевода своей семиологической привязанностью, а во-вторых, эта семиотическая подпорка в значительной мере определила весь стиль дальнейшего изложения, который в отдельных местах книги придает изложению идей Т. Каза- 84 ковой характер ненужной в учебнике наукообразности. Ср.: «Первичный авторский семиозис сообщает исходному тексту не только коллективно объективированную, социально-культурную информацию, но и ее индивидуальные, частные варианты, в том числе информацию о самой кодирующей системе, то есть об авторе исходного текста» [Казакова, 2006а: 56–57] или «Переводчик выступает не просто в качестве межъязыкового оператора, который соединяет единицы двух разных языков, но и в качестве соавтора в межсемиотическом процессе по созданию знаковой общности между разноязычными текстами» [Казакова, 2006а: 160]. Считать поэта или прозаика как автора оригинала «кодирующей системой» студенту вряд ли целесообразно, поскольку такой подход может вызвать неприятие и самого оригинала как «продукта деятельности» этой системы. А читая о соавторстве в межсемиотическом процессе и знаковой общности, студент может неверно истолковать роль переводчика и не догадаться, что речь идет о смысловой близости оригинала и перевода. Другая книга Т. Казаковой с журналистским названием «Художественный перевод: в поисках истины», увидевшая свет также в 2006 г. и обозначенная как «научное издание», фактически представляет собой переиздание учебника «Художественный перевод. Теория и практика», но с частично измененной компоновкой глав, объединенных в две части: «Текст и смысл: художественный перевод как информационный процесс» и «Текст и переводчик: художественный перевод как психосемиотический процесс». Поэтому студенты могут пользоваться как одним, так и другим изданием работы Т. Казаковой. 85 Глава III. Онтологическая основа художественного перевода (о проблеме переводимости/непереводимости) Можно с уверенностью утверждать, что проблема переводимости/непереводимости возникла вместе с зарождением перевода как вида человеческой деятельности и продолжает оставаться актуальной и сегодня. Поэтому вполне оправдано то внимание, которое уделялось и уделяется ей в истории и теории перевода. Литература по проблеме переводимо- сти/непереводимости необозрима. Разумеется, что в одной главе невозможно рассмотреть все аспекты этой бинарной категории, поэтому ниже мы коснемся лишь некоторых показательных сторон в подходах к освещению проблемы переводимости/непереводимости. Прежде всего, ознакомимся с тем, как эта проблема преподносится российским студентам. Затем мы выборочно рассмотрим некоторые подходы к понятию переводимости/непереводимости, характерные для работ не только переводоведов, но и писателей и филологов – как российских, так и зарубежных. …перевод, пусть несовершенный и даже очень приблизительный, всегда возможен. К. Ажеж 1. А. В. Федоров и его трактовка подходов в проблеме перево- димости/непереводимости в трудах предшественников В широко известном и наиболее доступном для студентов учебнике одного из основоположников отечественного переводоведения А. В. Федорова категория переводимости рассматривается во всех пяти изданиях, вышедших с 1953 по 2002 г., как в главах, посвященных истории перевода, так и в теоретической части книги. Именно со страниц этого учебника во многие статьи и пособия по переводу перекочевали цитаты из произведений Данте, 86 Сервантеса, Гумбольдта и других писателей и ученых, на основе которых делался вывод о том, что названные авторы отрицали возможность перевода. Так, «бродячим» фактом переводоведения стали слова Сервантеса, вложенные в уста его Дон-Кихота: «…я держусь того мнения, что перевод с одного языка на другой, если только это не перевод с языка греческого или же с латинского, каковые суть цари всех языков, – это все равно, что фламандский ковер с изнанки: фигуры, правда, видны, но обилие нитей делает их менее явственными, и нет той гладкости и нет тех красок, которыми мы любуемся на лицевой стороне…» (Сервантес. Указ. соч. Ч. 2. С. 544). Обычно это высказывание трактуется как пессимистический взгляд на возможность осуществления художественного перевода, хотя его вполне обоснованно можно воспринимать как трезвую оценку качества современных Сервантесу переводов – переводов, которые все-таки давали определенное представление об оригинале, были неким подобием оригинала, но уступали ему по богатству и силе языка. То есть Сервантес не отрицал возможность перевода (заметим в скобках, что он предполагает более высокое качество переводов с греческого и латинского), а скорее неосознанно вывел один из законов теории художественного перевода – всякий перевод по своим художественным качествам уступает подлиннику. Характеризуя процитированное выше высказывание Сервантеса как неправомерный вывод [Федоров, 1983: 26], А. В. Федоров вольно или невольно зачислил его в апологеты непереводимости. Между тем на страницах «Дон Кихота» встречается много других мыслей о сути переводческого ремесла, которые представляют нам великого испанца в несколько ином свете. Так, уже в начале романа, рассуждая о поэтическом переводе, один из героев Сервантеса говорит о том, что в этой сфере даже «самому добросовестному и самому искусному переводчику никогда не подняться на такую высоту, какой достигают они (оригиналы – Р. Ч.) в первоначальном своем виде» (Сервантес. Указ. соч. Ч. 1. С. 65). Как нетрудно заметить, эта мысль, 87 повторимся, стала одним из краеугольных положений современной теории поэтического перевода: перевод, как правило, слабее оригинала. Несколькими страницами далее тот же герой – священник – упоминает о переводчике (Луисе Бараоне де Сото), который «так чудесно перевел некоторые сказания Овидия» (Сервантес. Указ. соч. Ч. 1. С. 69, 563 (комментарии). Затем в первой части романа еще несколько раз упоминается о переводе, и при этом каждый раз он подается как деятельность, которая вполне достойно достигает своей цели (С. 430, 433, 447). В начале второй части романа рассказывается о том, что книга о подвигах Дон Кихота, написанная на арабском языке, была переведена на испанский. Упоминание об этом факте сопровождается такими словами еще одного героя романа – бакалавра Самсона Карраско: «…да преблагословен будет тот любознательный человек, который взял на себя труд перевести ее с арабского на наш обиходный кастильский язык для всеобщего увеселения» (Сервантес. Указ. соч. Ч. 2. С. 30). Расписывая Дон Кихоту успех книги, бакалавр говорит, «что скоро не останется такого народа, который не прочел бы ее на своем родном языке» (то есть здесь речь идет о так называемой множественности перевода), на что Дон Кихот ему отвечает: «Ничто не может доставить человеку добродетельному и выдающемуся такого полного удовлетворения... как сознание, что благодаря печатному слову добрая о нем молва еще при его жизни звучит на языках разных народов» (Сервантес. Указ. соч. Ч. 2. С. 31). Затем следует еще одна реплика бакалавра, которая полностью разрушает представление о Сервантесе как человеке, сомневающемся в возможностях перевода: «Что касается доброй славы и доброго имени… то ваша милость превосходит всех странствующих рыцарей, ибо мавр на своем языке, а христианин на своем постарались в самых картинных выражениях описать молодцеватость вашей милости, великое мужество ваше в минуту опасности, стойкость в бедствиях, терпение в пору невзгод, а также при ранениях, и, 88 наконец, чистоту и сдержанность платонического увлечения вашей милости сеньорою доньей Дульсинеей Тобосской» (Сервантес. Указ. соч. Ч. 2. С. 31). Из этих слов следует, что переводчик с арабского на испанский достиг высокого уровня адекватности и представил читателям рыцаря печального образа во всей его первозданной красе, зафиксированной в оригинале. Так стоит ли причислять Сервантеса к апологетам непереводимости? Очевидно, что это был бы неверный вывод. Столь же широко цитируется отрывок из письма В. Гумбольдта к А. Шлегелю: «Всякий перевод представляется мне безусловно попыткой разрешить невыполнимую задачу. Ибо каждый переводчик неизбежно должен разбиться об один из двух подводных камней, слишком точно придерживаясь либо своего подлинника за счет вкуса и языка собственного народа, либо своеобразия собственного народа за счет своего подлинника. Нечто среднее между тем и другим не только трудно достижимо, но и просто невозможно» (См., например: Федоров, 1968: 43; другой перевод этой цитаты см. в подборке Разговор цитат, 479). Приведя эти мысли Гумбольдта, А. В. Федоров, начиная с третьего издания своего учебника, комментирует их следующим образом: «Эти утверждения принципиальной невозможности перевода стояли в непосредственной связи с идеалистическим взглядом Гумбольдта и его единомышленников на языки мира, каждый из которых, по их мнению, определяет и выражает национальное своеобразие «духа» (то есть также и мышления), свойственного данному народу, а поэтому несводим ни к одному другому языку, как и своеобразие «духа» одного народа несводимо к своеобразию «духа» другого народа» Федоров, 1983: 31. См. также: Федоров, 1968: 43; Федоров, 2002: 42. Не исключено, что если бы автор сам готовил последнее издание к печати, то он снял бы этот комментарий, так как еще при жизни А. В. Федорова исчезла необходимость уличать Гумбольдта в идеализме и отрицать взаимосвязь языка и создаваемой им национальной картины мира. Гипотеза Сепира – Уорфа, подвергавшаяся остракизму в советском языкознании и пе- 89 реводоведении как идеалистическая, заняла свое достойное место в науке о языке и переводоведении (см., например: [Комиссаров, 2000: 66–67]). Заметим попутно, что, как это часто бывает при критических оценках той или иной теории, гипотезе Сепира – Уорфа приписывалось порой то, чего в ней изначально не было, и на ее основе делались выводы, которые из нее не вытекали. Так, гипотеза лингвистической относительности представлялась ее критиками как теория, отрицающая саму возможность перевода, в то время как один из ее авторов, Б. Л. Уорф, имел в виду сложности переформулирования мысли не с любого языка на другой любой язык, а трудности в установлении переводных соответствий между языками, представляющими значительно отличающиеся друг от друга культуры (например, между одним из языков североамериканских индейцев хопи и каким-либо европейским языком) (Уорф Б. Л. Отношение норм поведения и мышления к языку // Новое в лингвистике. Вып. 1. – М.: Изд-во иностран. лит., 1960. – 140–141). Между тем в учебнике, переизданном в 2002 году, студентам сообщается, что в «современной зарубежной филологии отрицание переводимости находит опору в концепции американских лингвистов Э. Сепира и Т. Уорфа, по которой особенности каждого языка влияют на особенности мышления людей, пользующихся данным языком, а в результате этого содержание мысли, выраженной на одном языке, в принципе не может найти соответствие в другом, если они различны. Концепция Сепира – Уорфа представляет по самому существу продолжение и развитие в новых условиях языковедческих взглядов В. Гумбольдта. В немецком же языкознании середины и 2-й половины ХХ века неогумбольдтианство (то есть обновление концепции Гумбольдта) представлено работами Лео Вайсгербера (ФРГ) и его последователей; для них каждый язык – это особое «видение мира», особая картина действительности, недоступная для носителей другого языка» [Федоров, 2002: 44]. Приведенный выше комментарий А. В. Федорова к словам Гумбольдта тем более странен, что он, если выражаться мягко, недостаточно корректно 90 представляет идеи выдающегося философа и языковеда, который в одной из своих работ однозначно заявлял: «Опыт перевода с весьма различных языков, а также использование самого примитивного и неразвитого языка при посвящении в самые тайные религиозные откровения показывают, что, пусть даже с разной степенью удачи, каждая идея может быть выражена в любом языке» [Гумбольдт, 1984: 315]. Несомненно, что А. В. Федорову был известен и другой тезис Гумбольдта: «Перевод – один из самых необходимых видов литературы, он служит расширению смысловых возможностей и выразительности родного языка» [Разговор цитат: 484]. После таких слов записывать Гумбольдта в адепты принципа непереводимости по меньшей мере несправедливо. Скорее наоборот – именно в лице Гумбольдта идея переводимости получает одного из наиболее авторитетных приверженцев*. Отметим при этом, что сам А. Федоров характеризовал категорию переводимости диалектически: «Переводимость не есть какаялибо природная способность того или иного языка или литературы по отношению к другим языкам, другим литературам. Эта способность развивается в процессе общего движения культур, литератур, языков, контактов между народами. Переводимость могут сковывать те или иные традиции литературного языка, налагающие запрет на те или иные категории средств. А питают ее и контакты между народами, и успехи перевода, всякое расширение переводческих возможностей» [Федоров, 1967: 38]. 2. Проблема непереводимости в работах отечественных и зару- бежных ученых Помимо тех высказываний о невозможности перевода, с которыми студент может ознакомиться по учебнику А. В. Федорова, можно привести целый ряд утверждений, в которых так или иначе ставится под сомнение осуществимость полноценного перевода с одного языка на другой. И, как мы увидим, из этих утверждений также нередко делаются выводы весьма сомниС удовлетворением можно отметить, что в работах самого последнего времени взгляды В. Гумбольдта на природу перевода стали освещаться объективно и с учетом их эволюции (см., например: [Нелюбин, Хухуни, 2006: 138–140]). * 91 тельного свойства и к сторонникам идеи непереводимости необоснованно причисляют авторов, которые имели свой собственный взгляд на перевод как вид человеческой деятельности. Рассмотрим кратко некоторые положения работ известных ученых разных стран. Так, в отечественном переводоведении XX века, например, теория непереводимости связывается, как правило, с именем А. А. Потебни (1835– 1891), ученого, сыгравшего выдающуюся роль в развитии литературоведческой и языковедческой мысли Украины и России. В своих работах А. А. Потребня во многом опирался на идеи В. Гумбольдта. В качестве довода, позволяющего якобы относить А. Потебню к сторонникам идеи непереводимости, приводят его слова, содержащиеся в статье «Язык и народность»: «Если слово одного языка не покрывает слова другого, то тем менее могут покрывать друг друга комбинации слов, картины, чувства, возбуждаемые речью; соль их исчезает при переводе, остроты непереводимы. Даже мысль, оторванная от связи с словесным выражением, не покрывает мысли подлинника. И это понятно. Допустим на время возможность того, что переводимая мысль стоит перед нами, уже лишенная своей первоначальной словесной оболочки, но еще не одетая в новую. Очевидно, в таком состоянии эта мысль как отвлечение от мысли подлинника не может быть равна этой последней … Мысль, переданная на другом языке, сравнительно с фиктивным отвлеченным ее состоянием получает новые прибавки, несущественные лишь с точки зрения ее первоначальной формы. Если при сравнении фразы подлинника и перевода мы и затрудняемся нередко сказать, насколько ассоциации, возбуждаемые тою и другою, различны, то это происходит от несовершенства доступных нам средств наблюдения» [Потебня: 263–264]. Известный белорусский переводовед П. И. Копанев объясняет «пессимистический», по его определению, взгляд Потебни на перевод тем обстоятельством, что «ему не была доступна современная мысль об изоморфности языков между собой, обслуживающих общественную практику различных народов, так или иначе одинаковую повсюду на земле. Языки как системы в целом симметричны, но это стало ак- 92 сиомой лишь много позднее» [Копанев: 255]. Думается, что идеи Потебни в подобной защите не нуждаются. В цитировавшейся статье ученого немало доказательств тому, что на проблему перевода он смотрел широко, видя его возможности и осознавая его слабости. Правы поэтому Л. Л. Нелюбин и Г. Т. Хухуни, подчеркивающие, что отнесение Потебни к безоговорочным приверженцам теории непереводимости требует весьма существенных корректировок [Нелюбин, Хухуни, 2006: 302]. Непереводимость не должна быть ни тайной, ни пугалом. Ж. Мунен В широко известной работе английского переводоведа Дж. Кэтфорда «Лингвистическая теория перевода» (A Linguistic Theory of Translation) (1965 г.) речь идет о трех видах непереводимости: лингвистической, культурологической и коллокационной. Лингвистическая непереводимость, по его мнению, встречается в тех случаях, когда двусмысленность, свойственная тексту языка-источника, представляет собой функционально релевантный признак. К таким случаям Кэтфорд относит, в частности, игру слов и каламбуры. Культурологическая непереводимость возникает тогда, когда ситуационный признак, функционально релевантный для текста исходного языка, полностью отсутствует в культуре, частью которой является язык перевода. Автор выделяет, кроме того, коллокационную непереводимость, которая является результатом того факта, что любой возможный приблизительный эквивалент данного конкретного лексического элемента исходного языка имеет в языке перевода низкую вероятность сочетаемости с теми эквивалентами элементов текста языка перевода, которые обычно нормально сочетаются с данным элементом исходного языка [Катфорд: 183–194]. Естественно, что во всех работах российских переводоведов фамилия Catford передается как Кэтфорд (см. труды А. Д. Швейцера, В. Н. Коммисарова, Л. Л. Нелюбина и Г. Т. Хухуни и многих других авторов). Почему переводчик и издательство, выпустившее эту книгу в 2004 г., прибегли к устаревшему приему транслитерации, сказать трудно. 93 Как нетрудно увидеть, Кэтфорд выделяет те случаи, когда из-за алломорфизма языков-партнеров при воссоздании исходного текста возникает необходимость пользоваться приемами компенсации или описательного перевода. Поэтому непереводимость предстает как феномен, способный выявить силу переводческой теории. «Мощь теории перевода», если воспользоваться словами Дж. Кэтфорда, при решении проблем непереводимости значительно возрастает Катфорд: 197. Когда переводишь, необходимо подходить вплотную к тому, что непереводимо, и лишь тогда воспримешь особенности другого народа и другого языка. И. В. Гете Нередко отстаивание идеи непереводимости используется авторами работ по теории перевода как некий литературный прием, имеющий целью привлечь внимание читателя. Так, в известной статье американского исследователя У. Уинтера «Impossibilities of Translation», опубликованной в авторитетном сборнике «The Craft and Context of Translation», речь идет не о невозможности перевода, а скорее о поисках путей к достижению адекватного перевода. Уинтер сравнивает работу переводчика с работой ваятеля, которому поручили сделать точную копию мраморной скульптуры, но у которого нет мрамора, а есть разные другие материалы, из которых он может сделать другое замечательное произведение, но оно не будет точным аналогом оригинала [Winter: 93]. Уинтер, правда, обходит стороной вопрос о том, что же получится у такого скульптора, если же ему все-таки предоставят идентичный материал. Не исключено, что тогда созданный им аналог будет в состоянии дать довольно полное и адекватное представление об оригинале. И затем все рассуждения автора ведутся вокруг проблемы невозможности дать полностью достоверную версию подлинника. Но это один из законов не только художественного перевода, но и перевода вообще: всякий 94 перевод представляет собой лишь некоторое приближение к оригиналу. У. Уинтер даже предпринимает попытку установить некую градацию жанров по степени трудностей, которые приходится преодолевать переводчику в стремлении достичь адекватного перевода. По Уинтеру, наиболее высокая степень переводимости характерна для научной литературы, затем идут газетные тексты, после них письма, пьесы (не стихотворные) и беллетристика (non-poetic novels). Наименьшая мера переводимости присуща, по его мнению, строгим поэтическим формам (poetry in rigid form) [Winter: 104]. В завершение своей статьи Уинтер снова обращается к своему примеру с оригинальной скульптурой и пишет, что мы можем быть удовлетворены, если в результате перевода получим некий пандан, то есть парный предмет, соответствующий оригиналу [Winter: 112]. Следовательно, статья Уинтера фактически не о невозможности перевода, а о трудностях перевода, о путях преодоления этих трудностей, и в конечном итоге, о переводимости и непереводимости как двух соположенных категориях. Но эта соположенность, по Уинтеру, разноформатна: переводимости, условно говоря, больше, непереводимости – меньше. В изданной на Украине книге Г. Мирама и А. Гона находим такую мысль о непереводимости: «Сложность перевода, по крайней мере, литературного усугубляется еще и тем, что слова, словосочетания и даже отдельные звуки или буквы связаны в сознании носителей языка не только с определенными значениями, но и с определенными ассоциациями и передать их полностью в переводе, по-видимому, вообще невозможно» Мирам, Гон: 55. Как мы увидим ниже, этот тезис перекликается с идеями известного болгарского переводоведа С. Влахова. С. Влахов, один из авторов широко известной в России книги «Непереводимое в переводе», выходившей на русском языке тремя изданиями, продолжал размышлять над проблемами переводимости/непереводимости. Результатом этих размышлений стало его выступление на международной встрече ученых и писателей «Литература и перевод: проблемы теории», со- 95 стоявшейся в Москве в 1991 году, которое он озаглавил «Переводимо ли переводимое?» Влахов. Напомнив о том, что теоретики перевода дружно утверждают, что «непереводимых произведений не существует», С. Влахов обращает внимание и на тот скепсис, который содержится по этому поводу в высказываниях многих авторов, так или иначе связанных с переводом, и призывает «попристальнее вглядеться в аксиому переводимости, подвергнуть пересмотру посылки, на которых она зиждется, и попытаться таким образом приблизить наши теоретические изыскания и умозаключения к живой жизни, то есть лишний раз проверить их практикой» [Влахов: 323]. Свои рассуждения С. Влахов начинает с парадоксального, казалось бы, положения, утверждая, что слово – непереводимо. По Влахову, даже изолированное слово одного языка не полностью соответствует своему аналогу в другом языке: вода, Wasser и eau не обязательно идентичны друг другу. В речи же эти расхождения намного увеличиваются, а при переводе нарушаются связи каждого слова с присущей ему в языке оригинала «окружающей словесной средой». Кроме того, говорит С. Влахов, сами люди весьма отличаются друг от друга и, следовательно, их мышление также не может быть одинаковым. Мысль человека, прежде чем она окажется готовой для передачи другому человеку, требует подходящего для нее оформления, «обличья», и обличьям этим тоже несть числа. И все используемые переводчиками приемы воссоздания содержания и формы оригинала далеко не всегда гарантируют требуемый результат, а зачастую предстают доказательством их бессилия адекватно воспроизвести на язык перевода исходный художественный текст. С. Влахов ярко пишет о сложности и многогранности переводческих задач: «вглядываясь напряженно в текст, максимально глубоко проникая в его содержание, и дух, и общий разум, и образную систему, стараясь охватить своим сознанием целое, переводчик вместе с тем вынужден тщательно разобрать каждую составную часть текста, каждую мельчайшую деталь, оце- 96 нить нюансы значений и значения нюансов, обдумать каждую коннотацию, взвесить на аптекарских весах, рассмотреть под микроскопом малейшее изменение тональности каждого элемента речи, мелодику гласных и согласных, назначение каждой точки, каждой запятой. И все это воссоздать в цельности!» [Влахов: 326]. Далее он останавливается на требовании сохранения единства содержания и формы в переводе и приходит к заключению, что оно невыполнимо. Переводчик вынужден, пишет С. Влахов, наливать старое содержание в новую форму, что так же порочно, как наливать новое вино в старые мехи. Разница лишь в том, полагает он, что старое вино прорвет мехи и вытечет, а старое содержание не «состыкуется» с новой формой. Влахов признает, что новое произведение может быть равногениальным, но при этом оно не является переводом. В качестве иллюстрации он приводит стихотворение Лермонтова «Горные вершины», неправомерно выдаваемое за перевод стихотворения Гете «Wanderers Nachtlied» и подчеркивает недопустимость обоснования теории переводимости такими примерами. С. Влахов присоединяется к тем переводоведам, которые перевод поэзии считают невозможным, и приводит свои аргументы в пользу этой точки зрения. Однако он идет дальше и переносит тезис о непереводимости и на художественную прозу. Стремясь опровергнуть возможные возражения сторонников идеи переводимости, подтверждающих ее, в частности, огромной популярностью Толстого и Достоевского в Западной Европе, Влахов пишет о том, что, вероятно, зарубежные читатели улавливают прежде всего содержательную, «общечеловеческую», философскую сторону их произведений, но что столь же вероятно, что эти гениальные творения доходят до многих в несколько ущербном с точки зрения единства содержания и формы виде. В заключение своей статьи, написанной по материалам выступления, С. Влахов цитирует приводимый К. Чуковским в его книге «Высокое искусство» отрывок из рассмотренной нами выше статьи У. Уинтера. К. Чуковский 97 комментирует пессимистические мысли Уинтера о переводе словами о том, что на фоне таких переводов, как «Горные вершины», все эти горькие мысли о непереводимости рушатся сами собой (см.: Чуковский, 1988: 158). С. Влахов соглашается с тем, что мысли эти – горькие, но задается вопросом: рушатся ли они? [Влахов: 323–330]. Судя по приводимым им доводам, он очень сомневается в этом и призывает коллег по ремеслу обсудить эти проблемы. К сожалению, за прошедшие с момента появления этой статьи годы, перчатку, брошенную С. Влаховым, никто из сторонников идеи всепереводимости так и не поднял. 3. Переводимость как категория переводоведения Мы обсудили точки зрения тех авторов, которые рассматривают непереводимость как реальный факт, который необходимо учитывать в определении сути перевода как такового. Теперь мы коротко остановимся на работах тех исследователей, которых можно условно считать приверженцами теории переводимости. По мысли классика мирового языкознания Л. Ельмслева, переводимость основывается на том факте, что языки и только они способны давать форму любому материалу, и что только в языке мы можем «претворить невыразимое в выразимое» (Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка // Новое в лингвистике. Вып. 1. – М.: Изд-во иностр. лит., 1960. – С. 364). Если Ельмслев при характеристике переводимости исходил из природы языка, то известный немецкий литературовед и теоретик культуры В. Беньямин (1892– 1940) в своем подходе к этой проблеме отталкивался от оригинала. В ставшей сегодня классической работе «Задачи переводчика» он писал: «Перевод – это форма. Чтобы постичь его как форму, стоит вернуться к оригиналу. Ибо в оригинале заключен ее закон, воплощенный в его переводимости. Вопрос переводимости произведения может толковаться двояко. Он может быть сформулирован так: найдется ли среди читающей публики подходящий переводчик для такого произведения? Или же, более глубоко, так: допускает ли оно по самой своей сути перевод, и, далее, – сообразно значению этой фор- 98 мы, – нуждается ли оно в переводе? С принципиальной точки зрения решение первого вопроса есть внешняя проблема, зато решение диктуется логической необходимостью. Лишь очень поверхностный ум, отказывая второму вопросу в его самостоятельном смысле, способен уравнять их в значимости … Следовательно, переводимость языковых форм имеет смысл рассматривать и тогда, когда людям они представляются непереводимыми … если перевод – это форма, то для определенных произведений переводимость должна быть сущностной. Некоторым произведениям переводимость свойственна как нечто сущностное – это не означает, что перевод их сущностен сам по себе, здесь имеется в виду, что определенное значение, присущее оригиналу, проявляется именно в его переводимости... И тем не менее в силу переводимости оригинала перевод состоит с ним в тесной связи» [Беньямин: 28–30]. В. Беньямин, следовательно, решает проблему переводимости одновременно в трех направлениях: социологическом, онтологическом и переводоведческом. Если поменять последовательность поставленных Беньямином вопросов, то возникает логическая цепочка посылок идеи переводимости: возможность перевода, потребность в переводе, реальность перевода. В этих тезисах содержатся и другие положения теории В. Беньямина, а именно: сущность категории переводимости как таковой, различная степень «нацеленности» того или иного оригинала на перевод и тесная связь между переводом и оригиналом. Другой известный философ, наш соотечественник, В. Бибихин рассматривал переводимость как способ существования условного общечеловеческого языка. Он писал: «Оригинал затерян, заперт в своей конкретной форме. Переводимость спасает его из этой ограниченности. Она показывает принципиальную, хотя и только потенциальную возможность существования этого оригинала в любой форме. Тем самым переводимость обнаруживает, что помимо того, что оригинал написан на японском или абхазском языке, он 99 написан также еще на общечеловеческом языке» [Бибихин, 1973: 13]. Эта заманчивая по своему характеру теория зиждется на идее цельности человеческого мировосприятия и содержит в себе важную для науки о переводе гуманистическую идею единства человеческого общества. В какой-то мере с мыслями В. Бибихина перекликаются положения ряда теоретических работ российских переводоведов. Обратимся, в качестве примера, к монографии А. Швейцера «Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты». В ней есть целый раздел, посвященный переводимости, однако в нем мы с сожалением обнаруживаем все ту же критику Гумбольдта (на основе цитаты, заимствованной из учебника А. В. Федорова), гипотезы Сепира – Уорфа и неогумбольдтианства в целом, подкрепляемую тезисом марксистской философии о том, что логический строй мысли один для всех людей и никакие особенности строя языков не могут его изменить. По мысли Швейцера, именно общность логического строя мысли, общечеловеческий характер логических форм и наличие семантических универсалий, характеризующих язык вообще, составляют ту основу, на которой возникает принципиальная возможность переводимости [Швейцер, 1988: 99–110]. Но, как мы сегодня знаем, дело обстоит не так просто, как это вынужденно казалось теоретикам перевода в советскую эпоху. Тезис об общности логического строя мысли предстает сегодня как далеко не доказанный (не только по отношению к отдаленным друг от друга в культурологическом плане этносам, но и в гендерном аспекте), общечеловеческий характер логических форм не имеет сколько-нибудь серьезного значения в сфере литературно-художественного творчества, на первый план в котором выдвигаются эмоционально-эстетические принципы, и даже самые «универсальные» из языковых универсалий не покрывают всех без исключения известных языков. А. Швейцер рассматривает далее традиционные случаи лексических и грамматических расхождений между языками, пишет о неизбежных компромиссах, сопутствующих переводу, анализирует случаи частичной неперево- 100 димости, останавливается на путях воссоздания игры слов, «говорящих имен», реалий и т. д. и на этой основе приходит к обоснованному выводу о том, что переводимость представляет собой не абсолютное, а относительное понятие, поскольку полная переводимость является далеко не всегда достижимым идеалом. При этом, подчеркивает автор, следует иметь в виду, что принципиальная переводимость, допускающая известные потери, исходит из того, что эти потери касаются второстепенных, менее существенных элементов текста, и предполагает обязательное сохранение его главных, наиболее существенных элементов, его функциональных доминант. Как быть в тех случаях, когда не удается воссоздать и «существенные элементы текста», из анализируемой монографии мы не узнаем. Не находим на этот вопрос ответа и в статье А. Швейцера «Еще раз к вопросу о переводимости», в которой акцент с «существенных элементов текста» переносится на функции текста [Швейцер, 1992: 154–159]. Закончить этот беглый обзор идей сторонников теории переводимости можно словами немецкого переводоведа И. Альбрехта, который писал, что мы все думаем, что интуитивно мы знаем, какие качества литературного художественного произведения влияют на его переводимость, но фактически они известны нам лишь в самом общем виде. Поэтому, полагает Альбрехт, весь комплекс факторов, определяющих степень переводимости, заслуживает основательного изучения [Albrecht: 242]. 4. Переводимость/непереводимость: попытка синтеза В этом заключительном разделе главы мы обратимся к размышлениям тех авторов, в работах которых прослеживается некий синтетический подход к вопросу о переводимости и непереводимости. Для наглядности приведем мнения самых разных авторов – писателей, переводчиков, переводоведов из многих стран. При этом можно заметить, что принятие переводимости и непереводимости как двух реальных категорий художественного перевода происходит у ряда авторов бессознательно, почти против их воли. 101 Показательна, в этом плане, например, позиция Томаса Манна, изложенная им в письме к его венгерскому издателю Е. Т. Дьемери. Комментируя присланное ему венгерским литератором стихотворение, в котором обыгрывались первые слова из новеллы Т. Манна «Маленький господин Фридеман», выдающийся мастер художественной прозы пишет следующее: «Как ярко выражает оно невозможность перевода поэтического произведения с языка, на котором оно создано, которым оно рождено, на любой другой! Что лирика действительно непереводима, признано всеми. Но что точно так же обстоит дело и со всякой высокой прозой, что она выхолащивается, что ее ритм ломается, что все тонкие оттенки пропадают и даже сокровеннейшие ее намерения, ее настроение и умонастроение, при всем желании воспроизвести их верно, искажаются порой до неузнаваемости, до сплошного недоразумения, это знают немногие, – прежде всего, пожалуй, тонкие переводчики сами, которые уже не раз жаловались мне на свои беды. Например, я отлично помню, что моя американская переводчица и приятельница, Хелен Лоу-Портер, сказала мне со вздохом во время своей работы над английской «Лоттой в Веймаре»: I am committing a murder!» (Манн Т. Письма. – М.: Наука, 1975. – С. 306). Казалось бы, перед нами некая апология, если воспользоваться словом Манна, но не переводческого дела, а апология непереводимости. Однако несколькими строками ниже Т. Манн пишет о том, что в этой высокой сфере есть ряд необычайных удач и приводит в качестве примера немецкие переводы Шекспира и Сервантеса, называя их чудесными случаями подлинного претворения великих литературных богатств в духовное достояние другого народа. К таким же удачам он относит и перевод своей «Волшебной горы» на французский язык, выполненный известным переводчиком М. Бетцом. Но если эти «необычайные удачи» и «счастливые претворения» оказались возможными в одном случае, то почему не предположить также реальную возможность их проявления в ином месте и в иное время? Далее Т. Манн сам задается риторическим вопросом: «Кто вообще осудит народы за то, что переводят, только потому, что перевод в сущности невозможен», но тут же вос- 102 хищенно говорит о «переводческой ярости немцев», благодаря которой многие скандинавские, например, писатели достигли мировой славы. В заключение письма Т. Манн делится еще одним своим наблюдением и выводит фактически еще один закон художественного перевода: «Если в книге есть суть, то многое останется и в плохом переводе» (там же: 307). Размышления Т. Манна наглядно демонстрируют противоречивость взглядов мастеров искусства слова на природу и возможности художественного перевода, на категории переводимости и непереводимости. В них, как в зеркале, отражается двойственная природа художественного перевода и диалектическая взаимообусловленность категорий переводимости и непереводимости. Непереводимое. То, что из книги непереводимо, не есть ни лучшее, ни худшее в ней. Ф. Ницше Болгарские ученые С. Влахов и С. Флорин начинают свою известную многим переводчикам книгу «Непереводимое в переводе» таким эмоционально сформулированным тезисом: «Теорию непереводимости опровергла живая переводческая практика, превосходные работы плеяды талантливых переводчиков, и доказывать ее несостоятельность значило бы ломиться в открытую дверь» [Влахов, Флорин: 8]. Однако уже на следующей странице авторы вынуждены признать: «есть еще вопросы, которые с точки зрения переводимости пока разрешить не удалось» [там же: 9]. Здесь налицо также некоторое противоречие: с одной стороны, теория непереводимости несостоятельна, с другой – есть де факто проблемы, которые теория переводимости пока решить не может, то есть теория непереводимости в какой-то своей части оказывается состоятельной. (Как было показано выше, впоследствии один из авторов этой широко цитируемой в России Другой перевод этого письма Т. Манна на русский язык (анонимный) см. в сборнике «Мастерство перевода». – М.: Сов. писатель, 1959. – С. 531–532. См. также: Гинзбург Л. В. «Апология переводческого дела» // Гинзбург Л. В. Над строкой перевода: Статьи разных лет. – М.: Сов. Россия, 1981. – С. 85–87. 103 книги, С. Влахов, несколько изменил свою точку зрения на проблему переводимости/непереводимости). А. Н. Сильников, посвятивший проблеме переводимо- сти/непереводимости кандидатскую диссертацию, рассматривает переводимость и непереводимость в контексте передачи количества информации при переводе. Он дает такие определения этих категорий: переводимость – это «возможность такого преобразования информации в процессе перевода, когда при максимальном сохранении смысла высказывания (слова или словосочетания) с наибольшей полнотой передаются элементы формы этого высказывания (слова или словосочетания)»; «непереводимость – это потеря большего или меньшего количества информации». Как видим, А. Сильников ограничивается в своем определении пределами высказывания (слова или словосочетания), не выходя на уровень текста, который является объектом перевода. Кроме того, смысл высказывания и, как пишет А. Сильников, «элементы формы этого высказывания» у него явно разобщены как отдельные данности, а не рассматриваются им как органическое единство. Очевидно также, что при определении количества теряемой при переводе информации требуется некоторая мера, единица этой информации, однако вопрос о ней автором не ставится. Вместо этого в статье выдвигается идея о принципе переводимости, под которой понимается признание возможности осуществлять перевод с максимальным сохранением информации, содержащейся в оригинале. На основе этого принципа он разделяет все случаи «при переводе» на три группы: 1) случаи, где принцип переводимости осуществляется в полной мере (полная переводимость); 2) случаи, где этот принцип в какой-то мере нарушается (частичная переводимость); 3) случаи, когда происходит существенное нарушение этого принципа (случаи непереводимости). При этом А. Сильников усматривает непереводимость и в тех случаях, когда в целях создания соответствующего колорита переводчик «не полностью передает на своем языке различные предметные и понятийные реалии, 104 данные в оригинале. Так, приходится переводить эль (и не заменять его пивом), клерк (а не конторский служащий) и т. д.» [Сильников, 1966: 200–201, 210]. На наш взгляд, используя укоренившиеся в языке заимствованные слова, обозначающие понятные для читателя перевода реалии, переводчик достигает требуемого уровня переводимости исходного текста и одновременно размещает его в нишу именно переводной литературы, то есть помогает читателю осознать, что перед ним не что иное как перевод, а не оригинальное произведение. Тем самым читателю предлагается правильная стратегия восприятия переводного художественного текста. И никакого существенного нарушения установленного автором статьи принципа переводимости не происходит. Более того, здесь мы имеем дело не с потерей какого-то количества информации, а с некоторым приращением ее объема, так как читатель воспринимает и коннотативные значения, присущие заимствованным словам эль и клерк. В более поздней статье А. Сильников предпринял попытку разграничить типы информации, передаваемой при переводе (лингвистическая, внелингвистическая и эмоционально-экспрессивная информация), предложил два новых подхода к проблеме переводимости – коммуникативный и функциональный, а также обосновал необходимость поуровневого анализа переводимости [Сильников, 1969: 201–232]. Что касается последнего предложения, то следует заметить, что поуровневый анализ переводимости представляет собой широко практикуемый прием сопоставительного анализа оригинала и перевода, который, однако, не вскрывает сколько-нибудь существенные аспекты категории переводимости, а только инвентаризует случаи лексических и грамматических расхождений между языками. В монографии словацкого ученого А. Поповича «Проблемы художественного перевода», которая вышла на языке оригинала еще в 1975 году (русский перевод появился пятью годами позже), противопоставление возможности и невозможности перевода проведено с учетом господствовавшего Здесь и ниже мы приводим цитаты из опубликованных работ А. Сильникова. 105 в те годы в бывших Чехословакии и Советском Союзе разграничения идеалистического (читай – «ложного») и материалистического («единственного правильного») подходов к любым изучаемым явлениям. А. Попович различает переводческий пессимизм и переводческий оптимизм и полагает при этом, что «гносеологическую основу переводческого пессимизма создает идеалистическая концепция эстетики, которая считает акт художественного творчества неповторимым и рационально не объяснимым. Поэтому попытки рациональной и творческой реконструкции оригинала в переводе, с точки зрения сторонников этой концепции, обречены на неудачу. Переводческий оптимизм коренится в материалистической эстетике. В соответствии с этой теорией художественное произведение не может рассматриваться только как единичный акт его творца, поскольку в его реализации и конкретизации участвует много факторов, находящихся вне автора. Один из них – переводчик как читатель, анализирующий оригинал. Проблему возможности перевода и переводимости такая эстетика решает исходя из материального характера знака» [Попович: 22]. К счастью, времена, когда ученым приходилось укладывать решение любой проблемы в прокрустово ложе материалистической диалектики, прошли, и теперь нет необходимости противопоставлять разновекторные подходы друг другу. Сегодня мы можем соединить «переводческий пессимизм» с «переводческим оптимизмом» и вскрыть истинную диалектику взаимосвязи категорий переводимости/непереводимости. Большое внимание проблеме переводимости/непереводимости уделяет в своем многократно переиздававшемся «Введении в науку о переводе» (Einführung in die Übersetzungswissenschaft) немецкий переводовед В. Коллер. Сначала он описывает абсолютную переводимость, абсолютную непереводимость, частичную переводимость и уменьшающуюся (убывающую – abnehmende) переводимость. Абсолютная переводимость имеет место в тех случаях, когда культуроориентированные коммуникативные контексты исходного языка и языка 106 перевода идентичны. Идеальным вариантом такого совпадения коммуникативных контекстов Коллер называет ситуацию в многоязычном городе, жители которого вырастают как билингвы и вследствие этого на обоих языках одинаково интерпретируют действительность. Об абсолютной непереводимости можно говорить тогда, когда культуры исходного языка и языка перевода несоизмеримы (например, культуры племен, сохранивших первобытные формы жизни, и культуры народов высокоразвитых стран). Частичная переводимость возникает при условии, что коммуникативные контексты исходного языка и языка перевода в какой-то части перекрывают друг друга. Использование языков в пределах их наложения друг на друга дает частичную переводимость. При таком рассмотрении соотношения языка, коммуникативного плана и перевода переводимость оказывается зависимой от того, насколько отдалены друг от друга культурообусловленные коммуникативные контексты и языки-партнеры: если расстояние между ними увеличивается, степень переводимости уменьшается, и тогда можно говорить об убывающей переводимости. Однако В. Коллер полагает, что такой подход к проблеме переводимости/непереводимости требует корректировки с учетом динамического характера взаимосвязи между языком, мышлением, восприятием действительности, самой действительностью, творческой природой и уникальностью каждого языка, функционированием языковых средств и т. д.; кроме того, необходимо принимать во внимание текстоцентрический характер перевода, типологию текстов и многое другое. Коллер отмечал также, что необходимо разграничивать понятие переводимости и понятие трудностей перевода. Переводимость того или иного текста в целом может не подвергаться сомнению, но отдельные его элементы могут представлять для переводчика значительные трудности [Koller: 164– 167]. После этих предварительных общих тезисов В. Коллер переходит к критике тезиса непереводимости и к обоснованию идеи относительной пере- 107 водимости. Он, как и многие другие авторы, указывает на то, что мысль о принципиальной непереводимости подтверждается, как правило, примерами отдельных не передающихся переводу слов. Однако такие слова функционируют не сами по себе, а в соответствующем контексте, который по мере восприятия переводчиком текста позволяет ему уяснить себе весь объем значения этого слова и найти для него наиболее адекватное соответствие. Основываясь на положении, в соответствии с которым понимание текста реципиентом никогда не может быть абсолютным, Коллер приходит к выводу о том, что переводимость текста также всегда относительна. Коллер выводит следующую аксиому переводимости: если в каждом языке может быть выражено все то, что подлежит выражению, то в принципе должно быть возможно перевести все, выраженное на одном языке, на другой язык. Коллер напоминает также о еще более лапидарной аксиоме, предложенной в свое время Х. Вайнрихом, в соответствии с которой все тексты переводимы, и полагает, что с учетом возможностей пояснительного перевода эта истина представляется вполне убедительной [Koller: 172–184]. Поэтому в разделе, посвященном комментированному переводу, В. Коллер говорит о принципиальной переводимости, достигаемой в том числе путем толкования, разъяснения, комментирования исходного текста, однако он подчеркивает, что при этом аналогичный эффекту воздействия исходного текста на читателя эффект воздействия переводного текста не всегда достижим, особенно при переводе художественного текста с его богатством эстетических, стилистических, коннотативных, ассоциативных и иных качеств. По Коллеру, искусство перевода заключается в попытке сделать невозможное возможным и минимизировать неизбежные потери [Koller: 267–268]. В новейших работах по теории перевода проблема переводимости/непереводимости освещается по-разному. Так, Л. К. Латышев и А. Л. Семенов пишут о том, что при решении вопроса переводимо- сти/непереводимости возникает своего рода теоретический тупик, которого можно избежать, если рассматривать переводимость как статистическую (ве- 108 роятностную) закономерность, поскольку коммуникативно-функциональная эквивалентность исходного текста и переводного текста, обеспечивающая для носителей контактирующих пар языков равноценность объективных предпосылок для восприятия текстов и реакции на них, возможна в подавляющем большинстве случаев, в то время как непереводимость настолько статистически уступает переводимости, что общественное сознание ее не замечает. По мнению авторов, всегда возможна некоторая постоянная минимальная степень переводимости (ее «нижний порог») – по меньшей мере что касается передачи информации об описываемом в тексте фрагменте действительности. В то же время Л. К. Латышев и А. Л. Семенов указывают на два важных подтипа непереводимости – непереводимость, которая будет существовать до тех пор, пока существуют языки, поскольку она вызвана непреодолимыми в переводе особенностями одного из языков (например, созвучие английских слов sin (грех) и snake (змея), важное для религиозных текстов на английском языке, но не восполнимое в русском переводе), и непереводимость, которая обусловлена культурологически и носит временный характер: по мере сближения контактирующих культур сфера непереводимости этого типа сужается [Латышев, Семенов: 65–72]. Не может не вызвать, однако, сожаления, что и в этом оригинально написанном учебнике не обошлось без отнесения В. Гумбольдта к апологетам непереводимости. В учебнике И. С. Алексеевой различаются понятия переводимости, то есть принципиальной возможности перевести тот или иной текст с одного языка на другой, и понятие трудности перевода, связанное со сложностью оформления эстетической информации в художественном тексте. К сожалению, и в этой предназначенной для студентов книге повторяются все те же утверждения о том, что сторонниками принципиальной непереводимости выступили В. Гумбольдт и Л. Вайсгербер и что в гипотезе Сепира – Уорфа язык и мышление отождествляются. С другой стороны, И. С. Алексеева напоминает о том, что философия языка эпохи Просвещения, исходя из идеи суще- 109 ствования некоего общеуниверсального языка, манифестировала принцип абсолютной переводимости. Саму эту идею и ее развитие в теории лингвистических универсалий автор учебника рассматривает как другую крайность, так как чрезмерное обобщение приводит к недооценке роли языка в процессе познания. Дух языка отчетливее всего выражается в непереводимых словах. Мария Эбнер-Эшенбах Оба этих принципа – абсолютной непереводимости и абсолютной переводимости, по мнению И. С. Алексеевой, недостаточно полно отражают реальную картину «взаимопереводимости» языков, и поэтому она предлагает принять в качестве категории теории перевода предложенный немецким переводоведом В. Коллером принцип относительной переводимости, в соответствии с которым взаимосвязь языка и мышления рассматривается как динамичный и креативный процесс, позволяющий благодаря новыми методам перевода заполнять пробелы в языковой системе языка перевода [Алексеева: 132–134]. В учебном пособии С. В. Тюленева «Теория перевода» читатель найдет все те же цитаты из П. Б. Шелли и В. Гумбольдта, а также осуждение гипотезы Сепира – Уорфа, с одной стороны, и изложение теории всепереводимости, берущей начало в универсальных грамматиках XVII–XVIII вв. – с другой. Приведя еще несколько цитат (В. Г. Белинский, В. Набоков) и точек зрения (В. В. Иванов, П. М. Топер), автор пособия подчеркивает, что размышления о проблеме переводимости/непереводимости внесли свой вклад в развитие теории перевода, так как они прежде всего помогли осознать огромную сложность перевода и уберечь общественность и переводчиков от упрощенческого подхода к переводу и его оценке [Тюленев: 18–23]. С точки зрения Л. С. Макаровой, границы творчества переводчика могут значительно сужаться, если в переводческой деятельности недостаточно 110 последовательно реализуется принцип функциональности, позволяющий добиваться эмпирической эквивалентности и находить решения для самых сложных аспектов интерлингвокультурного преобразования оригинала в переводе, которые так или иначе связаны с дихотомией переводимости/непереводимости. Большинство переводоведов считают, что за очень редким исключением перевод всегда принципиально возможен, хотя и допустимы некоторые потери на уровне отдельных составляющих смысла. Тем не менее, в некоторых случаях проблема переводимости очень остро встает при переводе художественного текста. Неслучайно Ж. Деррида писал, что перевод в «полном, абсолютном смысле» невозможен, реально только «обещание перевести», которое выполняется в самых блестящих переводах. По мнению Л. Макаровой, в пользу тезиса непереводимости свидетельствует то, что любой перевод допускает смысловые потери и, следовательно, не может приравниваться к оригиналу. С другой стороны, перевод всегда возможен, поскольку переводятся не отдельные элементы текста, а речевые произведения в целом, и непереведенные элементы могут быть так или иначе компенсированы в совокупной текстовой перспективе. Очевидно, нельзя полностью изгнать понятие «непереводимости» из теории перевода, превратив его в табу, поскольку переводческая практика нередко демонстрирует бесплодные попытки передачи таких лингвостилистических феноменов, как местные наречия, диалектизмы, варваризмы, тонкости образной риторики и т. д. Макарова: 218. В рассуждениях Л. Макаровой подкупает трезвая, объективная оценка соотнесенности категорий переводимости/непереводимости. В структуре художественного перевода проблема их онтологий приобретает особое значение, поскольку, если воспользоваться мыслью Ж. Деррида, всякий перевод – лишь некое обещание подлинного перевода, а непереводимость не жупел, которого переводчик-профессионал должен бояться. Иногда относительно категорий переводимости и непереводимости высказываются весьма оригинальные идеи. Например, работавший в Грузии 111 поэт, переводчик и исследователь перевода А. Цыбулевский считал, что «…человек, знающий язык, прежде всего сталкивается с фактом непереводимости. Непереводимость – понятие из непосредственного ощущения поэтической вещи. И действительно, поэзия непереводима прежде всего и только на родной язык, непереводима на собственный и переводима на чужой. Когда говорят о «непереводимости» и, тем не менее, состоявшемся чуде перевода, смешивают разные понятия: непереводимость – внутриязыковое свойство, качество, присущее оригиналу, переводимость – явление, очевидность переводческой практики» (Цыбулевский А. С. Высокие уроки. Поэмы Важа Пшавела в переводах русских поэтов. – Тбилиси: Мерани, 1980. – С. 56). Более конструктивна, на наш взгляд, позиция известного французского философа П. Рикера, который предлагает «отбросить теоретическую альтернативу переводимость/непереводимость текста и заменить ее другой, вытекающей из самой практики перевода, то есть альтернативной верность/неверность перевода своему источнику, что, впрочем, не исключает того, что перевод – это рискованная операция, постоянно нуждающаяся в теоретическом обосновании. Действительно, продолжает Рикер, хотя теоретически перевод представляется делом невыполнимым, он все же осуществим практически; однако за это приходится платить нашими сомнениями относительно его верности/неверности своему источнику» [Рикер: электронный ресурс]. В этом же ключе высказался и А. Семенов, который считает, что вопрос переводимости/непереводимости демагогичен по своей сути, поскольку приблизительность двух текстов – имманентное свойство в теории коммуникации. Равнозначность любых текстов, по его мнению, не может быть абсолютной, а речь может идти лишь о степени приближения одного текста к другому [Семенов: 29]. Как вы имели возможность убедиться, многочисленные противоречивые высказывания писателей, переводчиков и филологов о переводимости/непереводимости и еще более непоследовательные их толкования авто- 112 рами статей и книг по переводу обусловлены прежде всего противоречивостью самих этих двух взаимосвязанных явлений – переводимости и непереводимости. Непереводимость и переводимость представляют собой диалектическую категорию возможного и действительного, которой изначально свойственно онтологическое противоречие, отражающее как противоречия в самом объекте, то есть в переводе как виде человеческой деятельности, так и противоречия между объектом деятельности (исходный текст, переводной текст, процесс перевода) и субъектом этой деятельности (то есть переводчиком). Признание диалектического единства и вместе с тем противопоставленности друг другу категорий переводимости и непереводимости позволяет отказаться от альтернирующего подхода (или-или) и дает возможность утвердить подход к этим категориям как членам соположенности (и-и). Тем самым и проблема переводимости, и проблема непереводимости окажутся равнозначными предметами изучения, и над переводоведами не будет довлеть необходимость во что бы то ни стало настаивать на принципе переводимости, как это было принято в зависимой от господствующей материалистической идеологии советской науке. Объективное исследование взаимодействия между этими исключающими друг друга, но взаимосвязанными категориями теории перевода позволит выявить движущие силы перевода как науки и практики и обеспечит поворот от сакральной по своей природе теории художественного перевода, в которой переводимость фигурировала в виде священной коровы, к теории объективной, подлинно научной. К переводу не применима альтернатива: все или ничего. Ж. Мунен При этом надлежит исходить из того, что сфера переводимости и сфера непереводимости по своим объемам несопоставимы. Переводимость является качеством, присущим подавляющему большинству имеющихся или со- 113 здаваемых художественных текстов или подавляющей части конкретного исходного текста. Непереводимость покрывает лишь отдельные фрагменты или элементы тех или иных исходных текстов. Обычно к таким элементам относят палиндромы, каламбуры, некоторые паронимические сближения, значения отдельных грамматических категорий (например, рода имен существительных), так называемые темные места текста (и хотя в последнем случае переводимость может быть реализована, достоверность ее реализации всегда сомнительна (ср. многочисленные переводы «Слова о полку Игореве»), звуковую символику, реалии, сложные слова, игру слов, аллюзии, отдельные случаи интертекстуальной зависимости, языковые шутки и т. п. Ярким примером непереводимости являются, например, шуточные толкования семантики слов, основывающиеся на правдоподобности ложной этимологизации. Ср.: баранка – овца; бульдозер – капельница; горбуша – верблюд; зубило – врач-стоматолог; мим – прохожий; радист – оптимист, человек, который рад всему (другие примеры см.: Норман Б. Ю. Язык: знакомый незнакомец. – Мн.: Высш. шк., 1987. – С. 207–221). Непереводимость так же реальна, как реальна переводимость. Сосуществование переводимости и непереводимости – движущая сила художественного перевода. Степень проявления этих категорий каждый раз различна. Переводимость и непереводимость целесообразно разъединить как сиамских близнецов и дать им возможность существовать параллельно. Но при этом они навсегда останутся диалектически взаимосвязанными данностями. Многим переводчикам (прежде всего переводчикам поэзии) известно ощущение, что тот или иной текст перевести невозможно. Но постепенно сопротивление исходного текста ослабевает, переводчик предпринимает более или менее удачные попытки воссоздать отдельные слова, фразы, фрагменты, и в конечном итоге в результате долгой творческой работы переводчик оказывается в состоянии дать адекватный перевод того текста, который поначалу казался ему вообще не поддающимся переводу. 114 Непереводимость – реальность переводческой практики. Она подтверждается и всеобщим признанием того факта, что всякий перевод представляет собой лишь некоторое приближение к оригиналу, но никогда не покрывает на 100% все аспекты содержания и формы оригинала. Переводимость – это потенциальная способность исходного текста быть максимально полно воссозданным в переводном тексте. Непереводимость – это отсутствие возможности передать исходный текст или какие-либо его фрагменты на языке перевода. Непереводимость – это проявление максимальной степени сопротивления исходного текста переводу. Это еще одно проявление динамического характера переводимости. Таким образом, корреляция: непереводимость × переводимость сменяется иным соотношением, а именно: непереводимость → переводимость. То есть непереводимость способна преобразовываться в переводимость. Категория непереводимости теряет в таких случаях свой абсолютный характер, модифицируется в категорию вероятной переводимости, а затем в потенциальную и реальную переводимость. …всякий текст на том или ином языке (ведь переводят не языки, а тексты) переводúм – приблизительно или точно – в текст на другом языке. К. Ажеж В заключение этой главы можно привести слова украинского переводоведа Т. Гаврылива, который, к месту используя сленговое слово, резонно замечает, что «драйв непереводимости подталкивает к переводу» (Гаврилiв: 24). Таким образом, непереводимость – это своеобразный Мефистофель художественного перевода. В «Фаусте» Гете Господь произносит такие слова: 115 Слаб человек; покорствуя уделу, Он рад искать покоя, потому Дам беспокойного Я спутника ему: Как бес, дразня его, пусть возбуждает к делу! (Пер. Н. Холодковского) Непереводимость – беспокойный спутник переводчика. Но именно она дразнит его и «возбуждает» к стремлению преодолеть ее, преодолеть сопротивление оригинала, перевести непереводимое и выполнить свое предназначение. 116 Глава IV. Сопротивление оригинала переводу Оригинал не только потенциально полилингвален, т. е. открыт переводу на разные языки, он не только генерирует перевод, но оригинал одновременно и сопротивляется переводу. Некоторые авторы считают сопротивление оригинала закономерностью процесса перевода. В. Ганиев пишет, например, что если бы не было сопротивления оригинала, то не было бы необходимости в искусстве перевода Ганиев: 361. Вопрос о сопротивлении оригинала переводу тесно связан с рассмотренной выше проблемой переводимости/непереводимости. Сфера непереводимости – это сфера наибольшего сопротивления оригинала переводу. Следовательно, степень сопротивления оригинала носит не абсолютный, а относительный характер: одни тексты оказывают сильное сопротивление переводу, сопротивление других преодолевается сравнительно легко, противодействие третьих малоощутимо. Различной степенью сопротивляемости переводу обладают и отдельные части и уровни одного и того же исходного текста. Труднопереводимые фрагменты текста сменяются участками, где сопротивление переводу минимально, и наоборот. Текст может легко воссоздаваться на синтаксическом уровне, но оказывать значительное сопротивление переводу на уровне лексики или на уровне стиля и т. п. Перевод – это также сопротивление и борьба, но борьба, ведущаяся по правилам и на территории оригинала. Ж. Деррида Рассмотрим конкретные случаи такого сопротивления на разных уровнях языка. 117 1. Лексика Сопротивление оригинала переводу объясняется целым рядом причин. На лексическом уровне, например, оно обусловлено в первую очередь несовпадением объема значений исходного слова и его потенциальных соответствий в языке перевода. Как писал Х. Ортега-и-Гассет, неверно предполагать, что в испанском языке «лесом» называется то же, что в немецком «Wald», однако в словаре говорится, что «Wald» – это «лес». Различие между этими двумя понятиями так велико, – продолжает философ, – «что совершенно не соответствуют друг другу не только реалии, но и почти все духовные и эмоциональные отзвуки, вызванные ими Ортега-и-Гассет: 522. Поэтому слово сопротивляется его замене, оно словно бы говорит переводчику: «это не я». Слово в исходном контексте связано только ему свойственной сеткой отношений с другими лексемами языка оригинала. Полностью передать ее в переводе невозможно, поскольку отдельные нити при переводе рвутся, ячейки этой сетки приобретают иную форму. Поэтому бережное отношение ко всем языковым и стилистическим элементам исходного текста – ключевое требование к переводчику. Как писал Маяковский: «Начнешь это слово в строчку всовывать, а оно не лезет – нажал и сломал». На лексическом уровне сопротивление оригинала подкрепляется его интертекстуальными связями, элементами прецедентных текстов, аллюзиями. В качестве примера сопротивления оригинала за счет включения в него прецедентных текстов может служить поэтический цикл М. Цветаевой «Маяковский». Четвертой части этого цикла, написанного в год самоубийства Маяковского, предпослан эпиграф: «Любовная лодка разбилась о быт». Эта строка из предсмертного письма Маяковского, озаглавленного: «Всем». В немецком переводе этот эпиграф переведен так: Das Liebesboot zerbrach am Sein. Очевидно, что переводчик Р. Питрас не только не распознал цитаты, но и не понял значения слова «быт», приняв его за «бытие». Слово «быт» относится к тем словам, которые с трудом поддаются переводу и требуют пояснений. В шестой части 118 цикла Цветаева вновь упоминает «любовную лодку» поэта: Уж… – Вот-те и шлюпка / Любовная лодка! / Ужель из-за юбки? / – Хужей из-за водки. Переводчик забыл про свой вариант Liebesboot и на этот раз прибегает к другому соответствию – «Liebeskajüte»: Laß… – Da, die Schaluppe / Die Liebeskajüte! / Und wegen ner Puppe? / – Um Wodka ist übler. Аллюзия на слова Маяковского осталась невоспроизведенной, интертекстуальные связи оказались разорванными, «любовная лодка» превратилась в «каюту любви», а «быт» возведен в ранг философского понятия (попутно заметим, что в тексте Цветаевой есть еще один случай включения элементов прецедентного текста: слова Хужей из-за водки – это отсылка к стихотворению Маяковского «Сергею Есенину», написанному в 1926 г. после самоубийства Есенина: Лучше уж от водки умереть, / чем от скуки! Пояснения переводчика в примечании или комментарии к переводу были бы в этом, как и в предыдущих случаях, уместными). Сопротивление оригинала переводчиком не преодолено. Великая сила противодействия переводу у слов, относящихся, например, к диалектной лексике, к архаизмам или к национальным реалиям. Так, слово «шушун» в стихотворении С. Есенина «Письмо к матери» означает вид старинной женской русской одежды типа кофты или куртки с перехватом в талии, которая изготовлялась из домотканого сукна или холста. Вспомним вторую строфу этого стихотворения, ставшего песней: Пишут мне, что ты, тая тревогу, / Загрустила шибко обо мне, / Что ты часто ходишь на дорогу / В старомодном ветхом шушуне. Разумеется, что найти в английском или немецком языке адекватный эквивалент этому устаревшему слову нелегко. Переводчик на английский язык Дж. Терли предлагает такую замену: in a dress old-fashioned and threadbare. Первым значением слова dress применительно к женщине выступает значение «платье», которое, несомненно, всплывает, прежде всего, в восприятии читателя. Следовательно, героиня английского перевода выходила на дорогу в немодном и поношенном платье. В одном из переводов на немецкий 119 язык, выполненном Р. Киршом, она выходит в старой старомодной шубе: in deinem alten, altmodischen Pelz. Слово Pelz в значении «одежда» ассоциируется с дорогим мехом, поэтому образ матери модифицируется: из бедной старушки она превращается в обедневшую даму. Другой переводчик, Л. Мюллер, одевает героиню в старомодный, поношенный сарафан: in deinem altmodischen, abgetragenen Sarafan. Немецкий читатель этого перевода вынужден будет обратиться к словарям, из которых он узнает, что так обозначалась национальная одежда русских крестьянок 1819-го вв., а именно застегивающееся платье с бретельками. Поскольку у Есенина речь идет, как можно предположить, о зиме (поэт обещает приехать к матери весной: Я вернусь, когда раскинет ветви / По весеннему наш белый сад), то героине в сарафане на дороге будет зябковато. Слово переводу не поддалось. Как писал В. Ганиев, оригинал «как бы не отдает переводчику своих достоинств, а если и отдает, то обрекает его на приблизительность или многовариантность решений, а последнее означает, что необходим поиск и нахождение лучшего из многих вариантов» Ганиев: 363. Убедительным примером несовпадения объема значения и коннотативных значений могут послужить слова ряда языков, обозначающие сочетание мужчины и женщины браком. В русском языке слово свадьба и в английском языке слово wedding никаких коннотаций, связанных с так называемой внутренней формой слова, не несут: связь слова свадьба со словом сват не ощущается, а этимология древнеанглийского слова, обозначающего церемонию, во время которой молодые давали обещание вступить в брак, современным носителям языка неизвестна. В украинском, польском и немецком языках слова весiлля, wesele, Hochzeit за счет сопутствующих им коннотаций обладают более широким по объему значением. Польское и украинское слова ассоциируются с веселым праздником бракосочетания (второе значение польского wesele – веселье, радость), а немецкое – со знаменательным этапом в жизни брачующихся (хотя первоначально слово Hochzeit означало hohes Fest). Таким образом, при разнонаправленных переводах с названных языков 120 и на них будет иметь место или приращение смысла или его обеднение (при переводе с русского на украинский язык можно воспользоваться созвучным словом свайба, которое, однако, менее употребительно, нежели весiлля). Главное – это весы, на которых мы взвешиваем… слова, ибо вся работа переводчика сводится к взвешиваемости слов. Валери Ларбо Иногда объем значения слова в одном языке значительно превышает объем его соответствий в другом. Например, английский глагол smell и немецкий глагол riechen означают: а) нюхать, обонять, чуять и б) пахнуть, издавать запах. В одном слове этих двух языков соединены два взаимосвязанных значения: пахнуть, издавать запах и чувствовать запах. Второе из приведенных значений, следовательно, связывается со всем, что издает запах, а первое характеризует одно из ощущений человека – а именно обоняние, т. е. способность ощущать и различать запахи. Передача значений подобных слов в переводе вынуждает переводчика искать не только прямые соответствия этих слов, но и использовать в качестве замены другие глаголы, выражающие ощущения. Ср.: Nach Haaren konnte riechen, nach Haut und Haaren und vielleicht nach ein bißchen Kinderschweiß. Und Terrier schnupperte und stellte sich darauf ein, Haut, Haare und ein bißchen Kinderschweiß zu riechen. Aber er roch nichts. P. Süskind. Das Parfum Он мог бы пахнуть волосами, кожей и волосами, и, может быть, немного детским потом. И Террье принюхался и уговорил себя, что слышит запах кожи, волос и, может быть, слабый запах детского пота. Но он не слышал ничего. П. Зюскинд. Парфюмер В приведенном переводе для передачи первого значения слова использован глагол, обозначающий другой вид ощущений – слуховой. В русском языке глагол слышать применительно к запаху употребляется намного чаще, чем слово чуять, которое оказалось подвержено процессу сужения значения, в результате чего оно стало фигурировать главным образом относительно 121 животных (собака чует дичь и т. п.). Поэтому использование его применительно к человеку в русском языке кажется несколько нарочитым. Ср.: Er roch, lange ehe Druot es bemerkte, wann sich das Fett zu stark erhitzte, er roch, wann die Blüte erschöpft, wann die Suppe mit Duft gesättigt war, er roch, was im Innern der Mischgefäße geschah und zu welchem präzisen Moment der Destillationsprozeß beendet werden musste. P. Süskind. Das Parfum Он намного раньше, чем замечал Дрюо, чуял, когда жир начинал перегреваться, чуял, когда цветочная масса выдыхалась, когда варево насыщалось ароматом, он чуял, что происходило внутри смесителей и в какой точно момент процесс дистилляции должен был прекратиться. П. Зюскинд. Парфюмер Ради справедливости скажем, что в контексте романа П. Зюскинда «Парфюмер» употребление глагола чуять следует признать оправданным, поскольку в нем речь идет о герое, обладавшим феноменальной способностью различать запахи, во много раз превышающей обонятельные возможности животных. 2. Уровень морфологии В некоторых случаях сопротивление оригинала не столь значительно, однако переводчики не стремятся преодолеть его по причине того, что в языке перевода, как они полагают, соответствующие категории несут иную стилистическую нагрузку. В частности, распространено мнение, что причастные и деепричастные обороты отяжеляют текст, что они характерны только для так называемого книжного стиля, и, возможно, поэтому их употребление в художественной речи, в том числе в переводах не приветствуется. Очень эмоционально против использования причастий и деепричастий в переводе выступает Н. Галь в ее много раз переиздававшейся книге «Слово живое и мертвое»: «Иные авторы глаголом буквально брезгуют – слишком-де он прост, несолиден. Заменяют его не только длинными цепями существительных в косвенных падежах, но и гирляндами причастий и деепричастий – так выходит официальнее и потому внушительнее на взгляд литератора, который словечка в простоте не скажет… Живой, тем более современной русской речи, деепричастия не очень свойственны, и причастными оборотами люди говорят очень редко, разве что в официальных и торжественных случаях… В 122 литературе причастием и деепричастием надо пользоваться с оглядкой» Галь: 17–18 (В скобках заметим, что свою личную точку зрения на стилистические возможности причастий и деепричастий Н. Галь без каких-либо поправок отстаивала во всех прижизненных изданиях книги, и эти же мысли тиражируются и после кончины автора. (См., например: Галь Н. Слово живое и мертвое. – М.: Время, 2007. – С. 35). Так и хочется спросить авторов подобных, с позволения сказать, рекомендаций: а что делать переводчику, если в оригинале сплошные «цепи существительных в косвенных падежах» или «гирлянды причастий»? Но переводчики, особенно начинающие, таких вопросов, к сожалению, не задают, а принимают слова известного переводчика за истину в последней инстанции и начинают переводить «с оглядкой». Но оглядываются они, к сожалению, не на оригинал, а на подобные почти бездоказательные установки. Между тем хорошо бы было, если бы мэтры перевода не только доверялись своему языковому вкусу, но и постарались бы узнать, чтó об отвергаемых ими языковых средствах пишут специалисты. Тогда они могли бы, вслед за А. Н. Гвоздевым, например, сказать неопытным переводчикам, что «причастия способствуют сжатости речи, давая возможность заменять придаточные предложения», или что «деепричастие, обозначающее сопутствующее действие, может заменяться глаголом-сказуемым, но от этого исчезает оттенок второстепенности, добавочности, присущей ему; оба действия становятся равноправными: Он обнял сундук ногами и склонился над ним, напевая тихонько… (Горький, В людях) (склонился над ним и напевал тихонько)» (Гвоздев А. Н. Очерки по стилистике русского языка. – М.: Просвещение, 1966. – С. 201, 306). Все оказывается не так просто, как это видится Н. Галь. Каждая грамматическая форма содержательна, и ее замена неадекватными средствами привносит в текст перевода иной смысл, смещает акценты, искажает оригинал. Но настоятельное требование отвергать причастия и деепричастия многие переводчики хорошо запомнили и отказываются от их воссоздания даже в тех случаях, когда эти грамматические формы представляют собой значимое 123 стилистическое средство стиля оригинального текста. Таким стилистическим средством предстают причастия (страдательные причастия прошедшего времени) в рассказе Б. Брехта «Солдат из Ла-Сиота» (Der Soldat von La Ciotat). В нем зафиксированы мысли автора от встречи с человеком-памятником, бывшим солдатом, который после контузии на войне приобрел способность долгое время сохранять полную неподвижность (в сегодняшней Европе такие живые памятники можно увидеть во многих городах – Р. Ч.). Для автора этот живой бронзовый солдат олицетворяет солдат всех эпох, всех народов. Брехт пишет: Wie ein Stein, fühllos (sagt er), verharre er, wenn man ihn in den Tod schicke. Durchlöchert von Lanzen der verschiedensten Zeitalter, steinernen, bronzenen, eisernen, gefahren von Streitwagen, denen des Artaxerxes und denen des Generals Ludendorff, zertrampelt von den Elefanten des Hannibal und den Reitergeschwadern des Attila, zerschmettert von den fliegenden Erzstücken der immer vollkommeneren Geschütze mehrerer Jahrhunderte, aber auch den fliegenden Steinen der Katapulte, zerrissen von Gewehrkugeln, groß wie Taubeneier und klein wie Bienen, steht er, unverwüstlich, immer von neuem, kommandiert in vielerlei Sprachen, aber immer unwissend warum und wofür. «Гирлянда» из шести причастий как нельзя лучше передает мысль писателя – мысль о незащищенности солдатской судьбы, ее извечной зависимости от тех, кто посылает его на смерть, об обесцененности человеческой жизни. Переводчики этого рассказа на русский язык в полном соответствии с «указаниями» Н. Галь пренебрегли волей и стилем автора оригинала и прилежно заменили все причастные обороты повествовательными предложениями, лишив свой перевод сжатости, характерной для оригинала. Кроме того, им пришлось из-за этого воспользоваться таким отяжеляющим текст пунктуационным знаком, как точка с запятой. В результате изменился ритм текста – вместо энергичной интонации брехтовского оригинала читателю предложен текст с расслабленной ритмикой. Ср.: Он остается тверд как камень (если верить ему), когда его посылают на смерть. Его изрешетили пики всех веков – каменного, бронзового, желез- 124 ного; давили боевые колесницы времен Артаксеркса, и времен генерала Людендорфа; топтали слоны Ганнибала и эскадроны Аттилы; рвали на части куски железа, извергаемые орудиями, которые совершенствовались из века в век, не говоря уже о камнях, выброшенных катапультами; пробовали ружейные пули, большие, с голубиное яйцо, и маленькие, как пчелы. И вот он стоит – неистребимый, покорный командам на всех языках и, как всегда, не ведающий, за что и почему. (Перевод Э. Львовой и С. Львова). Переводчики, как нетрудно увидеть, отказались преодолевать сопротивление оригинала. Однако произошло это не потому, что это сопротивление, оказываемое текстом, значительное, а по причине не совсем верных представлений о стилистической ценности различных грамматических средств в языке перевода. О том, что преодолевать сопротивление оригинала в данном случае не только необходимо (так как такой подход отвечает интересам переводимого автора и интересам читателя перевода), но и возможно без большого ущерба для стиля перевода, показывает перевод этого фрагмента, выполненный нами в конце 60-х годов прошлого века для учебных целей: Камнем, говорит он, бесчувственным камнем остается он, когда его посылают на смерть. Пронзенный пиками всех веков – каменного, бронзового, железного, раздавленный колесницами Артаксеркса и танками генерала Людендорфа, растоптанный слонами Ганнибала и конницей Аттилы, растерзанный камнями из катапульт, а потом из все совершенствующихся орудий многих столетий, изрешеченный большими, как голубиное яйцо, и маленькими, как пчелы, ружейными пулями, он стоит, неистребим, все стоит, облаянный командами на всех языках, но всегда не ведая, почему и за что. В переводе, наверное, самый тяжелый грех – ложь, грех перед автором, перед самим собой. Есть ложь преднамеренная, когда чужое выдают за свое и свое – за чужое. Есть ложь невольная – от недостатка знания, главным образом, языка. Слово в наши дни, как никогда прежде, обросло множеством дополнительных значений, смысл, заложенный в нем, непомерно разросся. Не проникнув в ядро слова, 125 невозможно интерпретировать текст: переводчик читает его слепыми глазами. Л. В. Гинзбург Предлагаем студентам самим провести стилистический анализ фрагмента оригинала и представленных выше переводов и дать свою оценку правомерности каждого из двух подходов к преодолению сопротивления оригинала. Еще одним примером сопротивления исходного текста на уровне морфологии может служить фраза из рассказа Э. Хемингуэя «Кошка под дождем» (The Cat in the Rain). Героиня выходит из своего номера, чтобы забрать котенка, которого она увидела под окном, – он прятался от дождя под столом во дворе. Проходя мимо стойки хозяина гостиницы, она сказала ему: «Il piore» – (идет дождь). Автор сопровождает эти слова такими пояснениями: She liked the hotelkeeper. Владелец гостиницы отвечает ей: «Si, si Signora, brutto tempo. It’s very bad weather». После этого следует абзац, в котором Хемингуэй еще шесть раз повторяет глагол like: He stood behind his desk in the far end of the dim room. The wife liked him. She liked his deadly serious way he received any complaints. She liked his dignity. She liked the way he wanted to serve her. She liked the way he felt about being a hotel-keeper. She liked his old, heavy face and big hands. Новый абзац текста начинается так: Liking him she opened the door and looked out. Несомненно то, что это предложение представляет пороговое место текста. В переводе Л. Кисловой предложение The wife liked him звучит Он нравился ей, а во всех остальных использована форма ей нравилось (в ее модификациях в зависимости от последующего дополнения или придаточного предложения). Пороговое место передано следующим образом: Думая о том, что он ей нравится, она открыла дверь и выглянула наружу. Сопротивление оригинала, вызванное тем, что причастие liking невозможно в данном контек- 126 сте перевести деепричастием любя, преодолено за счет деепричастного оборота с относящимися к нему придаточным предложением. Для этого переводчице пришлось воспользоваться семью словами, вместо двух в оригинале. Кроме того, перевод не совсем точен. Героиня не думала о том, что хозяин гостиницы ей нравится, а просто испытывала симпатию к нему в тот момент, когда открывала дверь, не рефлексируя по этому поводу. Учитывая, что краткость выступает одной из доминант хемингуэевского стиля, и что героиня не размышляет о своем чувстве, а только предается ему, будущие переводчики этой блистательной новеллы могли бы попытаться найти и другие пути преодоления сопротивления оригинала. Для этой цели можно попробовать прибегнуть к глаголам обожать, импонировать, симпатизировать и их производным или попробовать полностью трансформировать предшествующий этой фразе абзац, чтобы получить возможность адекватно воссоздать необычное словоупотребление Хемингуэя. 3. Синтаксис Роль синтаксиса в конструировании стиля текста трудно переоценить. Синтаксис оказывается в состоянии придавать тексту такие качества, которые не могут быть обеспечены за счет своеобразия словоупотребления. Более того, синтаксис дает возможность обходиться меньшим количеством слов. Синтаксис – это вместе с тем средство особого акцентирования стиля конкретного текста. Необходимо также подчеркнуть, что в стилистическом плане важны как сами синтаксические конструкции, так и формы их комбинаций (подробнее о взаимодействии синтаксиса и стиля см.: Чайковский, 1980). Синтаксические структуры художественного текста семантически нагружены. Эта семантика синтаксиса должна быть в той или иной мере воссоздана в оригинале, ибо она составная часть смыслового содержания оригинала. Анализ переводов показывает, что переводчики зачастую не уделяют синтаксической стороне текста надлежащего внимания, в результате чего пе- 127 ревод предстает семантически ущербным. Между тем, синтаксис способен оказывать переводу столь же сильное сопротивление, как и лексика. Подтверждением сказанному может послужить пример перевода одного предложения из повести А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» на английский и немецкий языки. Заключенный Шухов размышляет о том, что в двух письмах в год, которые были разрешены ему, многое родным не напишешь, и о том, что письма с воли также малоинформативны. Мысли героя повести переданы в форме внутренней речи и отражают особенности повседневной разговорной речи. Ср.: Да и они два раз в год напишут – жизни их не поймешь (Солженицын, 31). Приведенная фраза представляет собой сложное бессоюзное предложение. Бессоюзные предложения составляют основу русской разговорной речи (Земская Е. А., Китайгородская М. В., Ширяев Е. Н. Русская разговорная речь. Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис. – М.: Наука, 1981. – С. 231). Смысловая зависимость между частями подобных высказываний выражена имплицитно, смысловые отношения в них не дифференцированы, однако они, как правило, интерпретируются безошибочно и смыслового провала не происходит. Это объясняется прежде всего тем, что порядок следования компонентов высказывания выполняет в таких случаях скорее не грамматическую, а психологическую функцию, т. е. части высказывания располагаются в последовательности формирования мысли (Сиротинина О. Б. Русская разговорная речь. – М.: Просвещение, 1983. – С. 47). Недифференцированность смысловых отношений между частями бессоюзного сложного предложения подтверждается возможностью подстановки на их стыках разных союзов или союзных слов. В приведенном примере грамматический «пробел» между компонентами высказывания мог бы быть заполнен такими сложными элементами: так что, но (из их писем), так и др. Разумеется, что такая синтаксическая форма может оказывать значительное противодействие переводу. О том, что это имеет место на самом деле, свидетельствуют имеющиеся переводы повести А. И. Солженицына. Ниже мы приведем четыре варианта перевода процитированного произведения 128 на английский язык и три на немецкий язык. Ср. (для удобства анализа переводные варианты пронумерованы): 1) Neither did the two letters a year they sent him throw much light on the way they were living. (Ralph Parker, 48, 37); 2) Anyway, they only wrote twice a year, and you couldn’t make out how they were getting along. (M. Hayward and R. Hingley, 44); 3) And from the two letters a year they wrote, you couldn’t tell much about their lives. (Gillon Aitken, 57); 4) They wrote twice a year as well, and there was no way in which he could understand how things were with them. (H. T. Willetts, 32); 5) Und sie schrieben ja auch nur zweimal im Jahr. Und was sie schrieben, von ihrem Leben, wie sie zu Rande kamen – das begreifst du kaum noch. (M. Hayward, R. Hingley, 55) Deutsche Bearbeitung von Gerda Kurz u. Siglinde Summerer; 6) Sie schreiben nur zweimal im Jahr – man kann sich ihr Leben da draußen gar nicht mehr vorstellen. (Christoph Meng, 320); 7) Aber auch sie schreiben zweimal im Jahre – versteh` einer ihr Leben. (Wilhelm Löser, Theodor Friedrich, Ingeborg Hanelt und Eva-Maria Kunde, 50). При рассмотрении переводов бессоюзного двухчастного предложения из повести Солженицына прежде всего бросается в глаза многословие переводчиков – все их предложения, кроме предложения № 7, по объему больше исходного высказывания. Второе отличие переводных предложений – усложнение их синтаксической структуры: в первом использовано два определительных придаточных предложения, второе представляет собой сложносочиненное предложение с одним придаточным, в то время как в четвертом снова два придаточных предложения. В переводе под номером пять вместо одного бессоюзного предложения – два самостоятельных, из которых второе осложнено двукратным подчинением. Третье предложение также содержит подчинительную связь. И только предложения 6 и 7 свидетельствуют о стремлении переводчиков преодолеть сопротивление перевода и воссоздать 129 своеобразие синтаксиса исходной фразы. В переводе К. Менга при адекватном воссоздании значимой формы бессоюзной связи вторая часть предложения носит пояснительный характер, что лишает ее присущей разговорной речи краткости. И только предложение из коллективного перевода четырех авторов являет собой пример успешного преодоления сопротивления исходного текста: синтаксическая связь выражена имплицитно, смысловые отношения между частями предложения не дифференцированы, разговорный характер фразы воссоздан адекватно и читатель перевода может уловить «последовательность формирования мысли» героя произведения. Сопоставительный анализ четырех переводов на английский язык и трех на немецкий язык подтверждает мысль о том, что сопротивление оригинала – категория относительная. Профессиональный подход к переводу позволяет нейтрализовать многие факторы, препятствующие адекватному воссозданию оригинала. Многих ошибок можно было бы избежать, если бы люди, берущиеся переводить, уяснили себе, что у них для этого явно не хватает знаний. Х. Хенинг Нередко сопротивление оригинального текста на синтаксическом уровне вызвано авторским подбором и расположением второстепенных членов предложения. Например, в романе «Das Parfum» П. Зюскинд строит целую цепочку из пяти предложных групп с использованием предлога in (im): Wie damals in der Höhle im Traum im Schlaf im Herzen in seiner Phantasie stiegen mit einem Mal die Nebel, die entsetzlichen Nebel seines eigenen Geruchs, den er nicht riechen konnte, weil er geruchlos war. В этой связи нельзя не вспомнить цитировавшиеся выше слова Н. Галь, осуждавшей подобные «цепи существительных в косвенных падежах». Возможно, для русской художественной прозы подобное скопление обстоятельств нетипично. Однако в тексте романа Зюскинда – это семантически чрезвычайно нагруженная синтаксическая конструкция, передающая 130 смысловой рефлексивный комплекс, в котором перебрасывается мостик из сегодняшнего дня героя в прошлое, и его воспоминания предстают явственными и четкими. Возможно ли подобное синтаксическое единство в переводе на русский язык? Если переводчик следует принятым установкам, то нет; если же переводчик стремится передать своеобразие языка и стиля оригинала, то, видимо, да. В существующем переводе это предложение передано следующим образом: Как тогда в пещере, в сновидении, во сне, в сердце, в его фантазии внезапно поднялись туманы, жуткие туманы его собственного запаха, который нельзя было воспринять обонянием, ибо он имел иную природу. Переводчица Э. Венгерова не рискнула последовать за автором и «подтянуть» до его уровня читателя – она посчитала более уместным «опустить» автора до уровня ожидания читателя. Мы вновь предлагаем студентам попробовать свои силы и в переводе этого предложения. При этом рекомендуется дать несколько вариантов перевода и обосновать их приемлемость или непригодность. 4. Звукопись Языковым явлением, которое способно оказать существенное сопротивление при переводе, следует признать звукопись. В научной литературе можно встретить разные интерпретации звукописи как лингвостилистического явления и, соответственно, различные ее дефиниции. Например, М. Л. Гаспаров трактует звукопись очень широко, отождествляя ее с фоникой и понимая ее как звуковую организацию художественной речи вообще. В нашем пособии мы усматриваем звукопись в случаях ощутимо повышенной концентрации одних и тех же или сближенных по качеству звуков на определенном участке текста, способствующей более глубокому выражению мысли писателя. 131 Важно иметь в виду, что сам по себе повтор звуков эффекта звукописи не создает. В каждом языке насчитывается в среднем 40–60 звуков, поэтому их частая встречаемость в текстах неизбежна. Кроме того, частотность одних звуков в несколько раз превышает употребительность других. Так, в русском языке частотность звукобуквы «о» превосходит частотность «э» в 37 раз, а глухой согласный «т» встречается в два раза чаще, чем его парный звонкий звук «д». В целом же к часто употребляемым звукам русского языка относятся гласные «о», «е», «а», «и», согласные «т», «н», а к малочастотным – «э», «ю», «ы». Частотными звуками немецкого языка являются [ə], [a], [n], [t], [s], а низкочастотными [ø:], [y:], [z], [h] (подробнее об этом см.: (Тимофеев Л. И. Очерки теории и истории русского стиха. – М.: Гос. изд-во худож. лит., 1958. – С. 32; Потапова Р. К., Линднер Г. Особенности немецкого произношения. – М.: Высш. шк., 1991. С. 36–41). Звуковые повторы приобретают качество звукописи, когда они обогащают содержание и форму художественного текста дополнительными смысловыми и стилистическими нюансами. Поэтому о звукописи можно говорить только в случае так называемой звуковой инструментовки текста, нацеленной на усиление тех или иных аспектов его смыслового содержания и/или на создание определенного эмоционального состояния читателя (радости, счастья, тревоги, печали и т. д.) Звукопись может быть эксплицитной, т. е. явно выраженной, и имплицитной, или скрытой. К явно выраженной звукописи относятся случаи, когда экспрессивная функция звуков носит подчеркнутый характер, как, например, в известной строфе из стихотворения К. Бальмонта «Челн томленья»: Вечер. Взморье. Вздохи ветра. Величавый возглас волн. Близко буря. В берег бьется Чуждый чарам черный челн. Подобная инструментовка свойственна первым строкам пятой строфы «Ворона» Э. По, оркестрованным на звук d: 132 Deep into the darkness peering, long I stood there wondering, fearing, Doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to dream before… Знакомство с двумя десятками переводов этого стихотворения на русский язык показывает, что очень многие переводчики или не «слышат» этой звукописи, или не считают ее релевантной, или оказываются не в состоянии преодолеть сопротивление оригинала и воссоздать это фоническое стилистическое средство. Показательно, что это относится не только к переводчикамнепрофессионалам, но и к тем, кто составил себе имя как переводчик. Приведем несколько примеров. Вот перевод М. Донского, в котором нет и намека на звукопись Э. По: Никого, лишь тьма ночная! Грозный ужас отгоняя, Я стоял; в мозгу сменялась странных мыслей череда. То же самое, как это ни странно, можно сказать и о переводе В. Брюсова, который много переводил американского поэта: И, смотря во мрак глубокий, долго ждал я, одинокий, Полный грез, что ведать смертным не давалось до того! Как нетрудно убедиться, какие-либо попытки воссоздать звукопись «Ворона» в этом двустишии обнаружить нельзя. На фоне таких переводов известных мастеров слова, как В. Брюсов и М. Донской, варианты Д. Гольдовского или А. Скоффера уже не кажутся такими беспомощными: Так стоял я в темном зале, полон страха и печали, / А во мраке ночи мысли плыли душу бередить. / Не являлись мысли эти никому еще на свете. (Перевод Д. Гольдовского); Взор во тьму свой устремляя, долго я стоял, мечтая, / О вещах, о коих смертным знать не должно ничего. (Перевод А. Скоффера). Низкий уровень большинства переводов – это зеркало, в котором отражается интеллект, состояние общества, это симптом пренебрежительного отношения к духовным и культурным ценностям. Другими словами – общество получает те переводы, которых заслуживает. Х. Хенинг 133 Между тем использование звуковой «живописи» в том виде, как она представлена у К. Бальмонта и Э. По, подтверждает вывод Л. П. Якубинского о том, что в «языковом сознании звуки всплывают в светлое поле сознания», в результате чего к ним возникает эмоциональное отношение, которое влечет за собой установление определенной зависимости между содержанием и звуковой стороной текста (Якубинский Л. П. Избранные работы. Русский язык и его функционирование. – М.: Наука, 1986. – С. 175). Скрытая звукопись не проявляется так обнаженно, как эксплицитная, она носит латентный характер, и поэтому ее нужно уметь «вычитать». Примером такой имплицитной звукописи может служить фрагмент из романа Артема Веселого «Россия, кровью умытая», в котором инструментовка на звук «з» направлена на создание ассоциаций с образом уходящей зимы: Зима, напрягая силы, еще оборонялась. По ночам зима облетала повитую тревожными снами землю и строила козни: где морозный узор наведет на окно, где подсушит лужицу, где закует во льды зажорину, где частым инеем усыплет поле, тут заметет мокрым снегом крепко уснувшую собаку, там студеным дыханием остановит бег ручья… Дополнительным элементом звукописи в данном фрагменте выступают буквосочетания «сн», «ст», которые также вплывают «в светлое поле сознания» читателя и напоминают ему о зимнем сне природы и зимней стуже. Звукопись как стилистический прием встречается не только в поэзии, но и, как мы могли только что убедиться, в прозе и отчасти в драматургии. Рассмотрим функционирование звукописи в этих трех литературных родах и возможности ее воссоздания в переводе. Звукопись обоснованно относят к числу магических свойств поэзии. Она представляет собой результат творческой интуиции поэта и требует от него особого художественного такта. В элементах звукописи языковая субстанция стиха выступает выразителем его эмоциональной и интеллектуальной субстанции. 134 Одним из виртуозов звуковой организации стиха в русской поэзии второй половины XX века был Б. Окуджава. К сожалению, элементы звукописи до сих пор не были предметом специального переводоведческого исследования. Поэтому каждый переводчик решает эту задачу, исходя из собственного опыта и опыта других, предоставляя читателям языка перевода возможность в том или ином приближении уловить данный стилистический прием. Разумеется, что нередки случаи, когда переводчик просто игнорирует эту особенность поэтики переводимого автора и отказывается преодолевать сопротивление оригинала, обогащенного звуковой оркестровкой. В этой связи тем более интересны попытки преодолеть эту языковую трудность и адекватно решить такую сложную переводческую задачу средствами другого языка. Одним из переводчиков поэзии Окуджавы на немецкий язык, предпринявшим такие попытки, является В. Фишер. В переведенной им книге стихов Б. Окуджавы «Der fröhliche Trommler»* содержатся переводы ряда произведений, в которых звукопись является стилевой доминантой. К таким стихотворениям относится, в частности, «Осень в Кахетии»: Вдруг возник осенний ветер, и на землю он упал. Красный ястреб в листьях красных словно в краске утопал. Были листья странно скроены, похожие на лица, – сумасшедшие закройщики кроили эти листья, озорные, заводные посшивали их швеи... Листья падали на палевые пальчики свои. Уже на материале этой первой строфы нетрудно убедиться, что основными темами звуковой инструментовки стиха являются звукосочетания кр, ли, па. При этом фонетический состав строк очень точно соответствует описываемой поэтом картине: возникают прямые ассоциации с ключевым словом-образом падающие листья. Как указывали многие исследователи, аллитерация на звук л’ придает стиху лиричность, мягкость, нежность. Более того, Okudshawa B. Der fröhliche Trommler. Lieder, Chansons, Balladen. Aus dem Rusischen übertragen von Walter Fisher. – Ahrensburg – Paris: damokles verlag, 1969. – 92 S. * 135 можно высказать предположение, что в русской поэзии идея «нежного» полета (опадания) листьев реализуется посредством исключения «тяжелых» звуков, например р. В приведенной выше строфе Б. Окуджавы мягкость звука л’, доминирующего в стихе, подчеркивается противопоставлением с «жесткой» темой на звук р. Точное акустическое восприятие звуковой субстанции строк и их «звуковой симпатии» (П. Бицили), а также их воссоздание средствами другого языка представляют для переводчика большие трудности. Выясним теперь, в какой мере В. Фишер сумел преодолеть сопротивление оригинала. Приведенная нами строфа в его переводе звучит так: Plötzlich war es Herbst, der Abend fiel zur Erde jäh herab. Roter Falke – wie in Farbe tauchte er in rotes Laub. Wunderlich der Blätter Zuschnitt, jedes fast wie ein Gesicht – Irre Schneider haben dieser Blätter Zuschnitt zugericht’, außgelaßne Nährinnen spielerisch genäht die Naht... Und auf ihre Fingerlein, die fahlen, fielen Blatt um Blatt. Отвлекаясь от некоторого метрического несоответствия перевода оригиналу, скажем, что В. Фишер предпринимает смелую и в целом удачную попытку воссоздания звукописи Окуджавы. Он находит точное соответствие звуковой инструментовки первых двух строк (красный ястреб, красных, краске – Herbst, Erde, roter, Farbe, rotes). Достаточно полно В. Фишер повторяет еще одну звуковую тему оригинала, вводя многочисленную лексику со 136 звуком l (plötzlich, fiel, Falke, Laub, wunderlich, Blätter, außgelaßne, spielerisch, Fingerlein, fahlen, fielen, Blatt). Звуковая тема па воссоздается в переводе темой fa, fi (Farbe, Falke, fast, Fingerlein, fahlen, fielen). Очевидно, что желание переводчика воспроизвести звуковое богатство оригинала объясняется не стремлением к формальным изыскам, звуковому расцвечиванию перевода, а необходимостью воссоздания той эмоциональной и интеллектуальной субстанции, которая содержится в строках оригинала, поскольку в них смысл ассоциативно связывается со звуком. Пример В. Фишера подтверждает, что звукопись в поэтическом переводе преодолима и воспроизводима. Читатель перевода сможет уловить все фонетическое богатство оригинала, если переводчик, кроме профессионализма, проявит и переводческую смелость. Каждому автору хочется, чтобы в переводе его произведения сохранилось лишь его «лицо», его стиль, во всяком случае не было больших искажений. Чем своеобразнее его язык, тем труднее переводчику его передать; важна точность, еще важнее дух. Этот «дух» в вечной борьбе с точностью. Старинный английский поэт сэр Джон Денем сказал: «Лишь гений гения перевести способен». Но вопрос о гениях не очень злободневен, тем более, что найти сразу двоих гениев довольно мудрено. На практике мысль английского поэта сводится к правилу: хороший переводчик берется за перевод только такого автора, который ему созвучен. М. Осоргин В прозе роль звукописи не столь велика, однако и в художественнопрозаическом тексте она может оказаться важным стилистическим средством. Внимательный читатель всегда может обнаружить ее в произведениях выдающихся прозаиков разных стран – А. Чехова и О. Гончара, Э. Хемингуэя и Э. М. Ремарка, Ж. П. Сартра и Е. Анджеевского. 137 В отдельных случаях и в прозе звукопись носит открытый характер. Очевидно, что при таком использовании фонических средств в оригинале они должны быть непременно воссозданы в переводе, иначе качество переводного текста не будет соответствовать своеобразию подлинника. Эксплицитный тип звукописи типичен, например, для прозы В. Борхерта. Ср.: Und draußen da steht die Stadt. Dumpf, dunkel, drohend. Die Stadt: Groß, grausam, gut. Die Stadt: Stumm, stolz, steinern, unsterblich. При взгляде на этот заключительный фрагмент новеллы В. Борхерта «Gespräch über den Dächern» возникает впечатление, что воссоздать звукопись этих строк не составит большого труда. Однако обращение к имеющемуся переводу, выполненному Н. Ман, показывает, что сопротивление звукового уровня текста оказалось не преодоленным, вследствие чего читатель не получил представления об одной важной черте борхертовской новеллистики: А за окном город, смутный темный, грозный. Город: огромный, жестокий, добрый. Город: немой, гордый, каменный, бессмертный. Но, как уже отмечалось выше, звукопись в прозе носит преимущественно скрытый характер. Она по своей природе подспудна, т. е. она словно спрятана автором в глуби его текста и требует от читателя повышенного внимания. Этот тип звукописи характерен, в частности, для прозы Э. Хемингуэя, где оркестровки на один звук соседствуют со звукописью, которую условно можно назвать полифонической, поскольку в ней используются выразительные возможности определенной совокупности звуков. Примером первого типа звукописи является звуковая организация зачина рассказа «Now I lay me» («На сон грядущий»): That night we lay on the floor in the room and I listened to the silk-worms eating. The silk-worms fed in racks of mulberry leaves and all night you could hear them eating and a dropping sound in the leaves. I myself did not want to sleep because I had been living for a long time with the knowledge that if I ever shut my eyes in the dark and let myself go, my soul would go out of my body. I had been 138 that way for a long time, ever since I had been blown up at night and felt it go out of me and go off and then come back. Герой романа, от имени которого ведется повествование, – контуженный на войне лейтенант Ник Адамс. Страшное военное прошлое позади, но это все еще не отпускает героя. Ник пытается преодолеть свои страхи, он словно настраивает себя на лучшую жизнь. Заглавие рассказа, представляющее собой первую строку молитвы, читаемой ребенком перед сном, привносит в текст начального абзаца и романа в целом чувство умиротворения. Герой прислушивается к звукам, которые издают шелковичные черви, поедающие листья, и этот легкий страх отвлекает Ника Адамса от воспоминаний о контузии, убаюкивая его мятущуюся душу. Одним из средств, которым писатель показывает некоторые ослабления напряжения в состоянии героя, выступает последовательно проведенная инструментовка абзаца на звук l. Звук l, как мы уже отмечали, служит для смягчения текста, что можно считать универсальным свойством этого звука во многих языках. Используя звук l в качестве фонической доминанты абзаца, Хемингуэй подготавливает другие пассажи рассказа, которым свойственна редкая для прозы на английском языке лиричность. Сказанное относится прежде всего к воспоминаниям Ника Адамса о детстве. Некоторые предложения сочетают в себе звуковую инструментовку с особым ритмическим рисунком, что способствует возникновению в тексте элегического настроения. Ср.: …I always ate my lunch very slowly and watched the stream below me while I ate. Вторая часть этого предложения – свободный и ясный, по терминологии Н. Гумилева, ямб, подчеркивающий однозначное восприятие мира ребенка: он перекусывает на берегу и наблюдает за неудержимым течением реки. Обратимся к переводу этого рассказа на русский язык: В ту ночь мы лежали на полу, и я слушал, как едят шелковичные черви. Червей кормили тутовыми листьями, и всю ночь было слышно шуршание и такой звук, словно что-то падает в листья. Спать я не хотел, потому что уже давно я жил с мыслью, что если мне закрыть в темноте глаза и 139 забыться, то моя душа вырвется из тела. Это началось уже давно, с той ночи, когда меня оглушило взрывом, и я почувствовал, как моя душа вырвалась и улетела от меня, а потом вернулась назад. (Перевод Е. Калашниковой). Опытная переводчица Е. Калашникова без труда «вычитала» эту звуковую инструментовку и мастерски воспроизвела ее за счет русского звука «л», передав тем самым смягченный характер этого фрагмента текста, в котором отразилась попытка героя вытеснить из подсознания мучившие его кошмары. Второй тип звукописи – полифоническая звукопись – неоднократно встречается в рассказах А. Чехова. Так, в рассказе «Ионыч» мы находим несколько фрагментов текста, сдобренных звукописью. В эпизоде, в котором говорится о первом визите доктора Старцева к семейству Туркиных, дано описание игры на фортепьяно одной из героинь рассказа: Подняли у рояля крышку, раскрыли ноты, лежавшие уже наготове. Екатерина Ивановна села и обеими руками ударила по клавишам; и потом тотчас же ударила изо всей силы, и опять, и опять; плечи и грудь у нее содрогались, она упрямо ударяла все по одному месту, и казалось, что она не перестанет, пока не вобьет клавишей внутрь рояля. Гостиная наполнилась громом; гремело все: и пол, и потолок, и мебель… Екатерина Ивановна играла трудный пассаж, интересный именно своею трудностью, длинный и однообразный, и Старцев, слушая, рисовал себе, как с высокой горы сыплются камни, сыплются и все сыплются, и ему хотелось, чтобы они поскорее перестали сыпаться, и в то же время Екатерина Ивановна, розовая от напряжения, сильная, энергичная, с локоном, упавшим на лоб, очень нравилась ему. После зимы, проведенной в Дялиже, среди больных и мужиков, сидеть в гостиной, смотреть на это молодое, изящное и, вероятно, чистое существо и слушать эти шумные, надоедливые, но все же культурные звуки, – было так приятно, так ново… Основная звуковая тема приведенного отрывка – звук р в сочетании с гласными: ру, ри, ро, ря, ре, ра, ры, ер, ар, ор, ур и согласными: гр, др, пр, тр, 140 бр, вр, нр, рг. Звукосочетания с опорой на р как нельзя лучше передают манеру исполнения героиней музыкальной пьесы. Екатерина Ивановна играла не просто форте, а фортиссимо, т. е. очень громко. И звук р, который специалисты по звукосимволике характеризуют как громкий, гремящий, сильный, грубый, холодный, тяжелый, призван воссоздать особенности игры (Журавлев А. П. Звук и смысл. – М.: Просвещение, 1981. – С. 6, 104, 101, 108, 139, 155). Чехов в рассказе дважды называет игру Екатерины Ивановны шумной. Кроме упомянутых звукосочетаний в этом фрагменте актуализованы фонические функции звуков л и с. Следовательно, текст отрывка – полифоничен, и звукопись оформлена в нем эксплицитно. Обращение к некоторым из многочисленных переводов этого рассказа русского классика на разные языки дает основание полагать, что переводчики эту громкую музыку не услышали. Возможно, они воспринимали оригинал лишь как письменный текст, не пытаясь уловить его звуковую составляющую. Поэтому в целом ряде переводов звукопись как значимое фоностилистическое средство не воссоздана. Приведем в качестве примеров переводы начала этого фрагмента на английский язык, принадлежащие трем разным переводчикам – К. Гарнетт, М. Фэлл и Д. Магаршаку: The lid of the piano was raised and the music lying ready was opened. Ekaterina Ivanovna sat down and banged on the piano with both hands, and then banged again with all her might, and then again and again; her shoulders and bosom shook. She obstinately banged on the same notes, and it sounded as if she would not leave off until she had hammered the keys into the piano. The drawingroom was filled with the din; everything was resounding; the floor, the ceiling, the furniture. (Перевод К. Гарнетт (Constance Garnett). Вместо чеховской полифоничности в этом переводе мы обнаруживаем лишь отдельные попытки передать звукопись оригинала (raised, ready, Ekaterina, room, resounding). Some one raised the top of the piano, and opened the music which was already lying at hand. Katherine struck the keys with both hands. Then she struck 141 them again with all her might, and then again and again. Her chest and shoulders quivered, and she obstinately hammered the same place, so that it seemed as if she were determined not to stop playing until she had beaten the keyboard into the piano. The drawing-room was filled with thunder; the floor, the ceiling, the furniture, everything rumbled. (Перевод М. Фелл (Marian Fell). В переводе М. Фелл, чью работу над воссозданием драматургии и прозы Чехова К. И. Чуковский подверг уничижительной критике [Чуковский, 1988: 15–16], звуковые темы фрагмента также переданы лишь в слабой степени (raised, Katherine, struck, struck, drawing-room, rumbled). Однако в этом переводе все же заметно некоторое стремление к передаче полифоничности оригинала. The lid of the grand piano was raised, the music books lying there in readiness were opened, and Yekaterina sat down and struck the keys with both hands; then she struck them again with all her might, and again and again; her shoulders and bosom shuddered, she went on striking the keys in the same place, and one could not help feeling that she would go on hitting the keys till she had driven them into the piano. The drawing-room filled with thunder; everything thundered - the floor, the ceiling, the furniture. (Перевод Д. Магаршака (David Magarshack). Текст Д. Магаршака больше ориентирован на воссоздание звуковой полифоничности рассказа Чехова, однако «громкости» оригинала он также не достигает (grand, raised, readiness, Yekaterina, struck, struck, striking, driven, drawing-room). В какой-то мере звукопись Чехова передана в переводе на немецкий язык, выполненном Г. Диком: Dеr Deckel des Klaviers wurde hochgeklappt, das Notenheft, das schon bereitlag, aufgeschlagen, Jekaterina Iwanowna setzte sich und hieb mit beiden Händen auf die Tasten. Sie hieb immer und immer wieder aus voller Kraft darauf ein; ihre Schultern und ihre Brust bebten, hartnäckig hämmerte sie auf die gleiche Stelle, und es schien, sie wolle nicht eher aufhören, als bis sie die Tasten in das Innere des Klaviers hineingetrieben hätte. Der Salon war von Donnergetöse erfüllt; alles 142 dröhnte – der Fußboden, die Decke, die Möbel... (Перевод Г. Дика (Gerhard Dick). Ослабление экспрессивной силы звукописи в приведенных фрагментах переводов объясняется и обилием непроизносимых или вокализуемых в английском и немецком языках букв r. Этот тип звукописи мы обнаруживаем и в романе Э. Хемингуэя «For whom the bell tolls» («По ком звонит колокол»): It is like a merry-go-round, Robert Jordan thought. Not a merry-go-round that travels fast, and with a calliope for music, and the children ride on cows with gilded horns, and there are rings to catch with sticks, and there is the blue, gasflare-lit early dark of the Avenue du Maine, with fried fish sold from the next stall, and a wheel of fortune turning with the leather flaps slapping the posts of the numbered compartments, and the packages of lump sugar piled in pyramids for prizes. В приведенном примере Э. Хемингуэй пользуется не инструментовкой на один звук, а прибегает к полифонической оркестровке текста. Главный герой романа Роберт Джордан размышляет об отряде испанских республиканцев, в котором он оказался, о сложном переплетении характеров и судеб, об опасности, которая их всех подстерегает. И ему приходит на ум сравнение их жизни с каруселью, но это не карусель, которая вращается на месте, а вертикальное колесо, в котором движешься вверх и вниз, взлетая и опускаясь. Процитированный фрагмент – описание карусели из довоенных времен: она символизирует мирную жизнь, но Джордан уже знает, что той по-испански, шумной, но безмятежной жизни больше нет, жизнь осложнилась, в ее будничность вторглась гражданская война. Именно поэтому писатель создает полифоническую картину: в привычный веселый шум довоенной жизни, который находит отражение в повторе смягчающего текст звука l, проникают ноты грозового времени, передаваемые сочетаниями со звуком r, и частым употреблениям жесткого k, которые в конце фрагмента сменяется инструментовкой на r. В сознание читателя входит совокупность разнотипных звуков, дополняя содержание фрагмента важными смысловыми нюансами. 143 Приведем вариант имеющегося перевода: Это словно карусель, думал Роберт Джордан. Но не такая карусель, которая кружится быстро под звуки шарманки и детишки сидят верхом на бычках с вызолоченными рогами, а рядом кольца, которые нужно ловить на палку, и синие, подсвеченные газовыми фонарями сумерки на Авеню-дю-Мэн, и лотки с жареной рыбой, и вертящееся колесо счастья, где кожаные язычки хлопают по столбикам с номерами, и тут же сложены пирамидой пакетики пиленого сахара для призов. (Перевод Н. Волжиной и Е. Калашниковой). Сопоставив перевод с оригиналом, можно убедиться, что и в данном случае сопротивление подлинника на фонетическом уровне переводчицами Н. Волжиной и Е. Калашниковой успешно преодолено: русский читатель имеет возможность уловить полифонизм отрывка как важную составную часть его формы, которая в единстве с содержанием воссоздает перемены, свершившиеся в жизни героев, шагнувших из парков для увеселений в прифронтовые землянки. Как обоснованно утверждал М. Арнаудов, «через особый колорит гласных или согласных, через их блеск или их темную окраску и слабую артикуляцию поистине можно значительно уяснить представление о вещах, прямо изображенных» [Арнаудов: 614]. Однако звукопись имплицитного типа «открывается» только читателю, который воспринимает художественнопрозаический текст в единстве его содержания и формы и который фиксирует в сознании все без исключения элементы формы – от звукового уровня до стиля в целом. Умение «вычитать» звукопись в прозе, «услышать» ее, уловить ее смысловую предназначенность в рамках конкретного текста и преодолеть сопротивление оригинала на уровне фоники предполагает наличие у переводчика, помимо иных качеств, хорошо развитого внутреннего фонематического слуха. Звукопись, как правило, легко распознается и адекватно воспринимается, когда она строится на малочастотных звуках, но она сопротивляется пере- 144 воду и, соответственно, требует расшифровки в тех случаях, когда ее основой выступают звуки максимальной частотности. Многое из сказанного выше о звукописи в поэзии и в прозе относится и к звукописи в драматургических текстах. В текстах этого жанра употребительными формами звуковой выразительности выступают акцентирование отдельных слов, слогов или звуков, «игра» звуками, различные варианты коверканья звуков в речи персонажей и т. п. Элементы звукописи, аналогичные звукописи в поэзии и прозе, можно обнаружить в основном в стихотворной драме. В качестве образца приведем небольшую часть монолога из драмы Г. Гауптмана «Потонувший колокол» (G. Hauptmann. Die versunkene Glocke) и три перевода этого фрагмента на русский язык. Монолог произносит сказочное существо – сильфида (фея). Recht wahrhaft schauerlich! Ich rief ’nen Käfer, der ein Laternchen trug mit grünem Licht, doch flog er mit vorüber. Und ich lag und wußte nichts, und bange ward mir sehr – bis daß der lieblichste von allen Elfen, libellenflüglig – ach, von weitem schon erhört’ ich meines Knäbleins Klirreflug – geflogen kam und zu mir niederstieg. Как нетрудно заметить, весь монолог оркестрован на звуковую тему l. На восемь строк приходится 17 употреблений этого звука. В опущенных нами остальных пяти строках мы обнаруживаем еще десять звуков l. Таким образом, в среднем на один стих Гауптмана выпадает по два звука l. Имеющиеся переводы свидетельствуют о том, что их авторы не только правильно прочитали текст, но и почувствовали его мягкость. По мысли И. Сельвинского, звук л способен придать тексту лиричность и нежность (Сельвинский И. Л. Я буду говорить о стихах. – М.: Сов. писатель, 1973. – С. 461). Лиричность и нежность ощутимы в оригинале, они в той или иной мере 145 представлены и в переводах. При этом мне важно иметь в виду, что в русском языке существуют два звука л – мягкий и твердый. Ср.: Я позвала жука, который нес Фонарик легкий с светом изумрудным, Но он, негодный, мимо пролетел. Так я лежала, ничего не знала, И очень было страшно мне, пока С крылами стрекозы мой эльф любимый Не прилетел ко мне. Ах, издалека Я слышала, как крыльями звенел он, Мой милый мальчик, прилетел, упал… (Перевод К. Бальмонта) И жалобные голоса и плач… Мне стало страшно, кликнула в тревоге Я светлого жучка, что промелькнул С фонариком своим зеленым мимо, Но пролетел он дальше. Я лежала В томленьи грустном…Вдруг прелестный эльф На крылышках блестящих стрекозы Ко мне спустился… (Перевод В. Буренина) Мне страшно стало! Позвала жучка я, Который нес фонарик изумрудный, Но пролетел он мимо. Я лежала, Не зная ничего, в тоске и страхе, Пока не прилетел дружок мой эльф На крыльях стрекозы – ах, издалека… (Перевод П. Мелковой) 146 К. Бальмонт в переводе, выполненном в конце XIX в. и впервые опубликованном в 1900 г., добивается равномерного распределения мягкого и твердого л: из 14 звукоупотреблений семь твердых и семь мягких л. В переводе В. Буренина 1908 г. мы обнаруживаем 21 употребление мягких и твердых л при соотношении 11:10. Третий перевод «Потонувшего колокола» был выполнен П. Мелковой в середине XX века (напечатан в 1959 г.) и также отличается одинаковым количеством твердых и мягких л – их по 9. Из этого сопоставления видно, что все три переводчика осознавали семантическую значимость звуковой оркестровки текста и стремились воссоздать ее, компенсируя некоторую жесткость твердого л использованием слов с уменьшительными суффиксами (фонарик, жучок, дружок, крылышки). Мы убедились, что сопротивление оригинала преодолимо и на фоническом уровне. 5. Стиль Если оригинал в состоянии оказывать столь сильное сопротивление переводу на низших языковых уровнях, то его противодействие на стилистическом уровне возрастает многократно, ибо стилистика вбирает в себя ресурсы всех других страт языка. В результате определенного отбора и комбинаций языковых средств всех уровней возникает интуитивно воспринимаемое читателем качество текста, отличающее его от других речевых произведений: так рождается стиль текста. Стилистика, следовательно, синтезирует потенции всех разноуровневых средств языка, использованных в тексте, благодаря чему этот текст приобретает только ему свойственный характер. Стиль – это специфическое свойство текста, через которое манифестируется единство его содержания и формы и в котором отражается творческая позиция автора данного текста. 147 Очевидно, что воссоздание стиля текста – сложная переводоведческая задача. Приведенные выше примеры уже давали возможность представить себе степень встающих перед переводчиком трудностей, так как даже минимальный фрагмент любого речевого произведения в сфере художественной речи обладает стилистическими параметрами. Текста без стиля не существует, поэтому переводчику всегда приходится преодолевать и сопротивление стиля оригинала. Обратимся к конкретному примеру – вводному абзацу рассказа В. Шукшина «Охота жить»: Поляна на взгорке, на поляне – избушка. Избушка – так себе, амбар, рядов в тринадцать-четырнадцать, в одно оконце, без сеней, а то и без крыши. Кто их издревле рубит по тайге?.. Приходят по весне какие-то люди, валят сосняк поровней, ошкуривают… А ближе к осени погожими днями за какую-нибудь неделю в три-четыре топора срубят. Найдется и глина поблизости, и камни – собьют камелек и трубу на крышу выведут, и нары сколотят – живи не хочу! Экспозиция абзаца сверхлапидарна. В первых двух предложениях – ни одного глагола. Первое предложение представляет собой легко объяснимый в творчестве этого писателя кинематографический зачин (В. Шукшин был автором киносценариев, режиссером и актером кино – Р. Ч.). Зачин словно нарисован экономными мазками: поляна на взгорке, на поляне – избушка. Читатель настраивается на дальнейшее изображение автором деталей увиденного им, но во втором предложении конкретный образ незаметно сменяется образом обобщающим – а то и без крыши. Значит, речь идет не о конкретной избушке, а о многих избушках, встречавшихся автору-рассказчику в тайге. Кинематографическое начало с семантическим расширением образа таежной избушки сменяется внутренним диалогом, который открывается вопросительным предложением: Кто их издревле рубит по тайге?.. Отточие после этого вопроса, который выражает раздумья писателя, придает ему элегический характер. 148 Следующий за этим ответ продолжает ноту мечтательности, чему способствует инверсия порядка слов, употребление неопределенного наречия какие-то, существительного с широким значением люди, разнородных сказуемых: приходят, валят, ошкуривают, и еще одного отточия. По воле автора весна сменяется концом лета, когда те же люди, словно добрые невидимые гномы из сказки, снова приходят, чтобы завершить свою работу. Отсутствие подлежащего только подчеркивает их недоступность взору, хотя они срубят, собьют, выведут, сколотят. В этом абзаце ощутима эпическая дистанция от описываемых событий и отсутствие временной соотнесенности с описываемым – словно эти весна и пора ближе к осени – вне времени, словно они, как и люди-невидимки, – символ вечности: так повелось издревле. В тексте Шукшина – ни одного лишнего слова. Эта выверенная краткость фразы вместе с другими особенностями его компоновки (экономное использование определений при существительных, асиндетическая и полисиндетическая связь между членами предложения, сочинительная связь между частями абзаца, «легкий» ритм предложений) придает тексту плавность, а заключительный краткий фразеологизм – завершенность. Сочетание композиционно-речевых форм «описание» и «рассуждение» на столь малой текстовой площади способствует «сгущению» стилистических качеств текста, результатом чего является переплетение элегичности с лиризмом (ср.: избушка, оконце, камелек). Вместе эти свойства текста позволяют ощутить нежное отношение автора к описываемому, его восхищенность этими не известными ему людьми, которые выявляют по-христиански свою любовь не столько к ближнему, сколько к дальнему, незнакомому, к кому-то, кому в метельные зимние дни понадобится защита от холода и ветра. Финальное предложение абзаца перекликается с заглавием рассказа: «Охота жить» – Живи не хочу! Как мы могли убедиться, основным качествами рассматриваемого абзаца является его элегичность и лиричность, с одной стороны, и аура восхищенности и любви к неведомым людям – с другой. И создаются эти качества 149 текста языковыми средствами всех уровней – лексического, морфологического, синтаксического, просодического. Обратимся к переводу этого рассказа на английский язык, выполненному Р. Даглишом, и выясним, насколько успешно переводчик сумел преодолеть сопротивление стиля оригинала: The ground rises a little and the trees give way to a clearing and in that clearing stands a small log cabin. Nothing special, just a shed really with walls thirteen or fourteen logs high and no porch – no roof either sometimes. Such rough shelters have been built in the taiga since time began. One day in spring a few men will appear from nowhere, chop down some of the straighter pine, strip the bark and, later on, in the fine days of early autumn it takes them no more than a week, working with three or four axes, to shape the logs and knock them together. Somewhere nearby they’ll find clay and stones and put in a small stove with chimneystack and build a rough bunk to sleep on. And there you are – a place to live in for as long as you feel like it. Прежде всего бросается в глаза многословность перевода: вместо 72 слов у Шукшина у Р. Даглиша – 149 слов, т. е. в два раза больше. Средняя длина предложения в оригинале 12 слов (самое короткое предложение включает 6 слов, самое длинное – 19), в то время как в переводе она составляет почти 25 слов (самое короткое состоит из 12 слов, а самое длинное – из 53). Уже из этих параметров можно заключить, что свойственная абзацу в оригинале краткость в переводе не воссоздана. Двукратное увеличение объема переводного текста объясняется изменением синтаксического состава предложений. Например, в первом предложении у Шукшина глаголы отсутствуют. У Даглиша же три глагольных сказуемых: rises, give way, stands. Это же первое сложносочиненное предложение в оригинале состоит из двух трехсловных предложений, в то время как переводчик развертывает его в трехчастную конструкцию с двукратным использованием союза and. Тем не менее черты кинематографического зачина в переводе воссозданы, хотя он и приобрел более детальный характер. Во втором предложении переводчик по- 150 чему-то опускает слово оконце, важное в ткани шукшинского текста: оно перекликается с другими лексемами, содержащими уменьшительный суффикс (избушка, камелек). Р. Даглиш в определенной степени передает смену конкретного образа обобщающим, используя наречие sometimes. Затем переводчик отказывается от формы внутреннего диалога, характерного для оригинала, и продолжает повествование только в форме описания, элиминируя типичные признаки композиционно-речевой формы «рассуждение». Из-за этого исчезает элегичность, пропадает нота мечтательности, свойственная абзацу оригинала. Какие-то люди переводчик передает как a few men, и поэтому из текста уходит загадочность, сопровождающая это словосочетание у Шукшина. Объединяя последующие предложения в одно, Даглиш в определенной мере устраняет ту смену времен года, которая у Шукшина явственно присутствует, словно подчеркивая длящуюся доброту этих неведомых ему людей. Использование в этом объемном предложении перевода разъяснительных компонентов: it takes them… working with three or four axes, bunk to sleep on утяжеляет его структуру. Заметим попутно, что словосочетание в три-четыре топора означает не совсем то, что working with three or four axes: у Шукшина речь идет о слаженности в работе таинственных строителей избушки, а у Даглиша на первый план выходит количество инструментов. Двукратное использование личного местоимения в переводе (them, they) делает описание в некоторой мере более конкретным, что частично снимает покров загадочности с людей, строящих избушки по тайге. Разговорный по своему характеру заключительный фразеологизм воссоздан многословным предложением, приблизительно разъясняющим смысл исходной устойчивой фразы. Таким образом, основные особенности стиля оригинала: элегичность и лиризм, а также аура восхищенности и любви к загадочным добрым людям оказались переданными в переводе лишь в зачаточной мере. Вместо краткого, содержательно сгущенного текста носитель английского языка получил 151 относительно правильно переданный в смысловом отношении, но лишенный многих черт оригинала разжиженный многословием текст, в котором индивидуальный стиль В. Шукшина переводчику не поддался. В переводе стиль другой, не шукшинский, а стиль некоего усредненного англоязычного писателя. Переводчик в целом преодолел сопротивление оригинала на уровне смысла, но не справился с ним на стилистическом уровне, в результате чего текст предстал перед иноязычным читателем в несколько искаженном виде. Плохой перевод вредит авторитету страны за рубежом. В. Коллер Сопротивление исходного текста переводу сопровождается в некоторых национальных школах перевода отсутствием стремления это сопротивление преодолевать и готовностью удовлетворяться весьма приблизительными решениями. Следствием этого, как правило, является банализация перевода. Иноязычный автор предстает перед читателем языка перевода в оглупленном виде. Показательным примером может служить перевод на английский язык предсмертного стихотворения Сергея Есенина «До свиданья, друг мой, до свиданья…», принадлежащий перу Джефри Терли: До свиданья, друг мой, до свиданья. Goodbye, my friend, goodbye. Милый мой, ты у меня в груди. My love, you are in my heart. Предназначенное расставанье It was preordained we should part обещает встречу впереди. And reunited by and by. До свиданья, друг мой, без руки и слова, Goodbye: no handshake to endure. не грусти и не печаль бровей, – Let’s have no sadness – furrowed brow. В этой жизни умирать не ново, There’s nothing new in dying now Но и жить, конечно, не новей. Though living is no newer. Элегичность полного печали и нежности стихотворения Есенина создается как его словником, ритмикой, сочетанием женских и мужских пере- 152 крестных рифм, повторами, так и метром – пятистопным хореем с пиррихиями, обеспечивающим стиху неторопливость интонации. Н. Гумилев наряду с другими качествами хорея выделял выражение им взволнованности и растроганности, а также его песенный характер Принципы…: 58 (как известно, стихотворение Есенина стало романсом). Все эти качества оригинала в переводе утрачены. Твердость укороченных по сравнению с текстом Есенина ямбических строк, использование только мужских рифм, замена перекрестной рифмы опоясывающей, повествовательный характер двустишия первой строфы, смещение семантических акцентов во второй строфе (no handshake to endure, dying now) – все это далеко уводит перевод от оригинала. Читателю перевода в сноске сообщается, что это последнее стихотворение Есенина написано им перед самоубийством его кровью. Читающий этот текст носитель английского языка может подумать, что ради таких заурядных виршей поэту не стоило перед самоубийством еще и вскрывать себе вены, чтобы изза отсутствия в номере гостиницы «Англетер» в Ленинграде чернил записать эти строки кровью. Читатель будет прав, потому что переводчик не смог преодолеть сопротивление оригинала и создал необязательную текстовку вместо трагического шедевра. Именно подобные переводы привели Х. Ортега-иГассета к выводу, что «автор переведенной книги всегда нам представляется немного глуповатым» Ортега-и-Гассет: 522. Поэтому читателю переводного произведения важно об этом помнить и переносить эту нелестную характеристику с автора оригинала на переводчика. Оглядываясь назад, на гору прочитанной и забракованной мною иностранной литературы, я с горечью и сожалением осознаю, сколько прекрасных писателей, сколько чудных голосов загубили для меня гугнивые, косноязычные толмачи, криворукие и торопливые халтурщики. Т. Толстая Добавим к сказанному, что переводу сопротивляется не только оригинал. Нередко переводу сопротивляются сами авторы оригиналов. З. Фрейд, 153 например, многие произведения которого представляют собой образцы высокой художественно-психологической прозы, противодействовал переводам своих трудов на другие языки и не воспринимал уже существующих, словно полагая, что он свои озаренья должен заново излагать на другом языке, а не доверять их переводчику (см. об этом: Goldschmidt G.–A. Als Freud das Meer sah. Freud und die deutsche Sprache. – Zürich: Amman Verlag, 1999: 154). Именно поэтому многие поэты и прозаики прибегают к автопереводу. 154 Глава V. Переводная множественность как категория теории художественного перевода 1. Понятие переводной множественности К числу важных понятий науки о художественном переводе относится понятие переводной множественности. Явление переводной множественности известно давно. Достаточно вспомнить многочисленные переводы Священного Писания на один и тот же язык – на английский, немецкий или русский. Одним из первых вопрос о переводной множественности как важной категории художественного перевода в отечественной науке поставил еще в 1930 году А. В. Федоров, который писал, что «одно и то же произведение может существовать в нескольких переводах, хотя бы и равного художественного достоинства, но все же различных, и каждый из этих переводов может быть по-своему законным» [Чуковский, Федоров: 227]. В своей работе А. В. Федоров упоминает также о так называемых переводческих состязаниях, когда «два или три поэта переводили одновременно одно и то же стихотворение, и переводы эти издавались затем вместе» [Чуковский, Федоров: 213]. Затем ряд работ о проблеме переводной множественности опубликовал В. Е. Шор, который, как можно предположить, первым употребил слово «множественность» как переводоведческий термин [Шор: 448]. В зарубежной теории и критике художественного перевода приоритет в постановке вопроса о потенциальной переводной множественности принадлежит, вероятно, Х. Ортега-и-Гассету. В его известном эссе 1930 года «Нищета и блеск перевода» испанский философ писал: «И если я раньше говорил, что каждое произведение неповторимо, а перевод лишь оружие, приближающее нас к нему, то из этого следует, что один и тот же текст допускает несколько переводов. Невозможно, по крайней мере в большинстве случаев, приблизиться к оригиналу сразу во всех измерениях» [Ортега-и-Гассет: 539–540]. Весьма интенсивно проблематикой переводной множественности ста- 155 ли заниматься в конце прошлого века. Ряд работ этой категории теории художественного перевода посвятил Ю. Д. Левин. В одной из них он определяет переводную множественность как «возможность существования в данной национальной литературе нескольких переводов одного иноязычного литературного произведения, которое в оригинале имеет, как правило, одно текстовое воплощение» [Левин, 1992: 213]. Эта дефиниция требует, на наш взгляд, существенных корректировок. В частности, едва ли оправдано употребление в контексте дефиниции этого явления слова «возможность», ибо такой подход предполагает фактически лишь потенциальную, а не реальную переводную множественность. С нашей точки зрения, нельзя принять и утверждение о существовании переводов «в данной национальной литературе». Если следовать этому тезису Ю. Д. Левина, то выходит, что национальная литература включает в себя переводы из всех других литератур мира, что представляет собой явное противоречие в терминах: одна национальная литература не может вбирать в себя другую национальную литературу, даже в переводном виде. Уточнение Ю. Д. Левина по поводу однократного текстового воплощения оригинала также представляется нам излишним, поскольку две или более редакций одного и того же произведения могут, в свою очередь, стать источниками переводной множественности. Таковы, например, многочисленные переводы двух редакций стихотворения-песни Б. Окуджавы «Бумажный солдат». С учетом сказанного мы полагаем, что переводную множественность как категорию художественного перевода можно определить как факт реального сосуществования в переводной литературе двух и более переводов одного и того же оригинала. 2. Статус перевода при переводной множественности Переводная множественность неизбежно влечет за собой изменения статуса переводов конкретного оригинала. Во-первых, с появлением второго перевода первый перевод лишается статуса единичности и исключительно- 156 сти и становится одним из нескольких, однако навсегда сохраняет за собой характер перевода-открытия. Во-вторых, опубликование новых переводов препятствует канонизации одного из них или постепенно расшатывает канонический статус перевода, который к тому времени уже оказался таковым. Еще одной особенностью статуса и самой рецепции переводов в случае переводной множественности является несколько иное восприятие новых переводов данного оригинала. Они принимаются читателями, критикой, другими переводчиками более настороженно, зачастую скептически и, как правило, критически. Поэтому задача каждого нового переводчика, берущегося за перевод оригинала, уже существующего во многих переводных и еще не устаревших версиях, заметно усложняется по сравнению с ознакомительными задачами первых переводчиков. 3. Типы переводной множественности Переводная множественность, как многие другие понятия переводоведения, – явление комплексное. Одним из важных аспектов этой категории является ее членение на синхроническую и диахроническую переводную множественность. Здесь уместно напомнить, что всякий перевод вторичен по своей природе, поскольку он является иноязычным воплощением ранее созданного текста. Временнóй промежуток между созданием оригинала и перевода может быть минимальным (перевод выполняется непосредственно после возникновения оригинала) или может насчитывать многие столетия (таковы, например, современные переводы античных и средневековых авторов). Кроме того, разные переводы одного и того же оригинала появляются, как правило, в хронологической последовательности. Вместе с тем возможно и их относительно одновременное создание. Т. е. в истории перевода может иметь место интенсификация работы ряда переводчиков над одним и тем же оригиналом (возникновение двух или более переводов в тот или иной период) и отсутствие интереса к данному оригиналу в другие отрезки времени. По аналогии с языкознанием можно поэтому условно говорить о диахронии и 157 синхронии перевода – вертикальная ось времени, в течение которого создавались переводы данного произведения, может пересекаться в тех или иных временных точках одной или рядом горизонтальных осей. Анализ диахронических и синхронических аспектов перевода ставит перед историком перевода одну трудноразрешимую проблему, которая заключается в том, что время опубликования перевода далеко не всегда совпадает с моментом его создания, и нередко между временем возникновения перевода и годом его выхода в свет пролегает весьма значительный временной промежуток. Поскольку сегодня вопросы хронологии перевода не разработаны, дату публикации приходится вынужденно принимать за дату его создания, так как только опубликование текста перевода (в большинстве случаев) включает его в литературный процесс, и именно с момента публикации перевод становится фактом переводной литературы. Показательна в этом отношении история создания переводов на русский язык «Гамлета» У. Шекспира. Ее можно схематически изобразить в виде вертикальной и пересекающих ее горизонтальных осей: А. Сумароков 1748 И. Шувалов 1775 П. Карабанов 1786 А. Петров 1789 С. Висковатов 1811 Ю. Нелединский-Мелецкий 1820-е М. Вронченко 1828 Н. Полевой 1837 Н. Кетчер 1842 А. Кронеберг 1844 П. Попов 1860 А. Загуляев 1861 А. Данилевский 1878 Н. Маклаков 1880 М. Плещеев 158 А. Соколовский 1883 С. Мельников 1884 Д. Михаловский 1880-е С. Юрьев А. Месковский 1889 В. Чуйко П. Гнедич 1891 А. Каншин 1894 Д. Аверкиев 1895 А. Кремлев 1898 К. Р. (Романов) С. Аполлонов 1900 Н. Карабчевский 1904 Н. Россов 1907 М. Лозинский 1933 А. Радлова 1937 В. Пастернак 1940 М. Морозов 1954 В. Раппопорт 1999 Н. Коршунова 2001 В. Поплавский А. Чернов 2002 И. Пешков 2003 С. Степанов 2007 Из приведенной схемы видно, что на вертикальной оси заметна определенная аритмия в возникновении и публикации переводов - продолжительная пауза в работе над воссозданием «Гамлета» после появления первого перевода А. П. Сумарокова сменяется относительно интенсивной и ритмичной работой в конце ХVIII в., на протяжении всего ХIХ столетия, а также в начале ХХ века. Как видно из схемы, с 1880 по 1900 год происходит отчетливый всплеск интереса к «Гамлету» - за двадцать лет выходит в свет более десяти новых переводов. Впоследствии наступает четвертьвековая временнáя лакуна, за которой вновь следует период устойчивого интереса к этой драме со стороны переводчиков, после которого отмечается почти полувековой пе- 159 рерыв. Начало ХХI снова знаменуется усилением внимания к драматическому шедевру Шекспира. Обращают на себя внимание горизонтальные оси 1775, 1880-х, 1889, 1898 и 2001 годов, давшие по два перевода. Таким образом, переводная множественность возникает как благодаря последовательному появлению переводов во времени, так и в результате одновременного создания несколькими переводчиками переводных версий одного и того же оригинала. Мы различаем также конкурирующую, активную и пассивную переводную множественность. Конкурирующая переводная множественность имеет место в тех случаях, когда разные переводы одного и того же оригинала, созданные за относительно непродолжительный период времени, т. е. почти одновременно, функционируют параллельно, как в издательской практике, так и на книжном рынке. Показательным примером подобной переводной множественности являются переводы одних и тех же романов американского беллетриста Стивена Кинга. Четыре романа писателя имеются в четырех переводах на русский язык (Needful Things («Необходимые вещи»: 1993–2000), The Drawing of the Three («Извлечение троих»: 1994–1995), The Waste Lands («Бесплодные земли»: 1994–1997), Four Past Midnight («Четверть после полуночи»: 1993–1999), девять других книг существуют в трех переводах, а десять романов – в двух. Таким образом, 23 книги Ст. Кинга доступны читателю в 63 конкурирующих переводах. Обращает на себя внимание «плотность» появления переводов отдельных романов. Так, четыре перевода романа «Извлечение троих» вышли в разных издательствах на протяжении двух лет (Эрлихман В. Стивен Кинг: Король Темной Стороны: Стивен Кинг в Америке и России. – СПб.: Амфора. ТИД Амфора, 2006. – С. 366–379). Об активной переводной множественности можно говорить тогда, когда некоторое количество переводов одного и того же оригинала, созданных в разное время, многократно перепечатывается и функционирует в переводной литературе синхронно, конкурируя друг с другом. Таковы, например, переводы стихотворения Р. М. Рильке «Пантера», выполненные А. Биском, 160 К. Богатыревым, В. Летучим. О пассивной множественности речь может идти в тех случаях, когда большая часть переводов данного оригинала стала достоянием истории литературы, а текстом-заместителем оригинала в рамках переводной литературы служит один из имеющихся переводов. В качестве примера можно привести перевод на русский язык рома Э. М. Ремарка «На Западном фронте без перемен», принадлежащий Ю. Афонькину (1959) и вытеснивший перевод А. Коссовича (1929) и две редакции перевода С. Мятежного и П. Черевина (1929). 4. Политекстуальность оригинала Еще одним важным аспектом переводной множественности как категории художественного перевода является потенциальная политекстуальность всякого текста, так как в каждом оригинале заложена возможность его перевода на другие языки. Вместе с тем индекс потенциальной политекстуальности разных оригиналов неодинаков. Одни тексты характеризуются высоким индексом политекстуальности, у других он может быть низок. Факторы, определяющие индекс политекстуальности каждого отдельного текста, весьма многообразны. Для теории переводной множественности прежде всего важен тот факт, что оригинал генерирует перевод. Запрограммированная направленность оригинала и на иноязычную реализацию, и на иноязычное существование обеспечивает появление переводной множественности. Важно учитывать, что эта множественность может быть также полилингвальной, т. е. многоязычной. Этот тезис убедительно подтверждается, в частности, фактом перевода «Заповіта» («Завещания») украинского классика Тараса Шевченко на различные языки. Написанное в 1845 году и распространявшееся поначалу в списках, это стихотворение после его опубликования в неподцензурном сборнике стихов А. Пушкина и Т. Шевченко, вышедшем в свет в 1859 году в Лейпциге, стало одним из наиболее часто переводившихся произведений мировой поэзии (в России это стихотворение полностью было напечатано лишь в 1907 г.). В книге «“Заповіт” мовами народів світу», изда- 161 нной в Киеве в 1989 году, опубликованы переводы этого поэтического шедевра на 150 языков. Общее же количество переводов «Завещания» намного больше, так как только на русский язык оно переводилось много десятков раз. 5. Связь между оригиналом и его переводами Оригинал, как уже отмечалось, предстает текстом-генератором, порождающим некое количество новых текстов. После появления переводных версий контакт между оригиналом и его переводами на другой язык не обрывается, но характер связей между оригиналом и его иноязычными воплощениями весьма различен. Связи оригинала с одними переводами сильнее, стабильнее, с другими – слабее, с третьими они могут полностью прерываться. Таким образом, степень контакта между оригиналом и переводом колеблется от сильного до нулевого. Поэтому вряд ли можно согласиться с точкой зрения, в соответствии с которой «расхождения между переводами иногда бывают довольно значительными и все же их можно считать полноправными репрезентантами оригинала в литературе» языка перевода (Гришкова Л. В. Текст как единица перевода и множественность переводного произведения // Теория и методы исследования текста и предложения. Межвуз. сб. науч. трудов. – Л.: ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1975. – С. 20). Такие существенно отличающиеся друг от друга переводы никак не могут являться полноправными репрезентантами оригинала, а предстают именно неполноправными, неполноценными, т. е. ущербными. С другой стороны, существуют и связи противоположного направления – от перевода к оригиналу. Обычно они усиливаются в тех случаях, когда перевод по той или иной причине приобретает в переводной литературе статус более высокий по сравнению со статусом оригинала в его национальной литературе. Ярким примером подобной ситуации может служить судьба романа Б. Пастернака «Доктор Живаго», который стал явлением в европейский странах и США в 1950–60-х годах прошлого века, но не был широко известен 162 на родине писателя до 1990-х годов. Существование разных переводов одного и того же произведения влечет за собой целый ряд последствий. Разные переводы неизбежно представляют читателю оригинал в несходных ипостасях. Разные переводы – это разные образы оригинала. А образ оригинального произведения всегда так или иначе связан с понятием «образ автора» и шире – с образом писателя вообще. Появление многих переводов одного и того же произведения неминуемо ведет к размыванию образа оригинала в представлении читателей. С выходом каждого нового перевода происходит частичное наложение различных образов произведения друг на друга, и, как результат этого, уменьшается оптическая резкость восприятия оригинала. На первый взгляд, может показаться, что наличие нескольких переводов благо – у читателя есть выбор. Однако на практике проблема выбора перед читателем не стоит – он читает тот перевод, который ему оказался доступен, и может даже не знать о существовании других версий этого произведения на родном для него языке. Поэтому можно сказать, что обилие переводов одного и того же произведения так называемому рядовому читателю не нужно, ибо в идеале он должен иметь один оптимальный перевод, точно и верно воспроизводящий оригинал. Если представить себе гипотетическую ситуацию, что читатель, не знающий языка оригинала, прочитывает все или многие имеющиеся переводы, то такое чтение может оставить читателя в неведении, в каком же из вариантов предстает подлинный автор, а в каких – нет. В этой ситуации встает вопрос – какому переводу верить, какому отдать предпочтение, в каком переводе автор оригинала остается самим собой, а в каком автор искажен, заслонен переводчиком. Переводческое искусство – это прежде всего искусство языка. В. Левик 163 Например, читатель знакомится с началом одного из монологов главного героя в пяти переводах «Гамлета» Шекспира, собранных под одной обложкой (Шекспир У. Гамлет: Антология русских переводов: 1883–1917. Сост. В. Поплавский. – М.: Совпадение, 2006. – 326 с.), и читает еще два наиболее известных, и, значит, наиболее доступных перевода – М. Лозинского и Б. Пастернака: О, для чего так крепко создана Ты, наша плоть, что не дано растаять Тебе росой!.. О, если б не карал Господь самоубийства! Боже, Боже! Как пусто, пошло жалко для меня Всё, чтó дано нам в жизни!... (Перевод А. Соколовского) О, если б это тело, чересчур Уж плотное, могло растаять, Расплавиться и разрешиться в росу! Иль если бы не возбранил Предвечный Самоубийства?.. Боже, Боже! Как Изношено, потёрто, бесполезно И плоско кажется мне всё на свете! (Перевод Д. Аверкиева) О, если б эта плоть из твёрдой, слишком твердой, Растаяв, растопясь, росою стала! О, если б заповедью нам самоубийства Превечный Бог не запретил! О Боже, Боже! как пошлы, мелочны, противны и бесплодны Мне мира этого все кажутся дела! (Перевод К. Р.) О, если б жизнь столь крепкой этой плоти Растаяла, росою испарилась; 164 О, если бы Предвечный Судия Не называл грехом самоубийства! О Боже, Боже, до чего противны, И мелочны, и пошлы, и ничтожны Деяния людей на этом свете! (Перевод Н. Россова) О, если б плоть здоровая моя Растаяла, рассеялась росою… О, почему нам запретил Творец Самоубийство? Боже мой! о, Боже! Как гнусно, вяло, плоско и бесплодно Мне кажется всё на земле. Мир – гадок. (Перевод П. Гнедича) О, если б этот плотный сгусток мяса Растаял, сгинул, изошел росой! Иль если бы Предвечный не уставил Запрет самоубийству! Боже! Боже! Каким докучным, тусклым и ненужным Мне кажется все, что ни есть на свете! (Перевод М. Лозинского) О если б этот грузный куль мясной Мог испариться, сгинуть, стать росою! О если бы предвечный не занес В грехи самоубийств! Боже! Боже! Каким ничтожным, плоским и тупым Мне кажется весь свет в своих затеях. (Перевод Б. Пастернака) Английский текст читателю, как правило, неизвестен – его, к слову, нет даже в упомянутой выше антологии. Между тем в шекспировском оригинале начало монолога Гамлета выглядит так: O that this too too solid flesh would melt, 165 Thaw, and resolve itself into a dew! Or that the Everlasting had not fix’d His canon ‘gainst self-slaughter! O God! God! How weary, stale, flat, and unprofitable seem to me all the uses of this world! Теперь мы можем сказать, что семь переводчиков из сорока достаточно верно передали смысл процитированного фрагмента (в других известных нам переводах данный отрывок также воссоздан относительно адекватно), однако в каждом из переводов наблюдается сдвиг стилистического регистра – в одном больший, в другом – меньший. Читатель воспринимает некоторую искусственность фраз в переводе А. Соколовского, разговорные элементы и сдвиг ударения в варианте Д. Аверкиева, попытку звукописи в версии К. Р. (Растаяв, растопясь, росою стала!), экспрессивное многосоюзие, выражение до чего противны и эквивалент деяния в переводе Н. Россова, с некоторым удивлением улавливает лапидарность перевода П. Гнедича, узнает о каком-то сгустке мяса из перевода М. Лозинского и о куле мясном и затеях света из перевода Б. Пастернака и остается в неведении о том, как же все это сказано великим Шекспиром. Из беглого сопоставления отрывков из нескольких переводов видно, что при переводной множественности наиболее заметные потери ощутимы на уровне лексики и на стилистическом уровне. 6. Переводная множественность как синонимика на уровне текста Переводная множественность как феномен переводной литературы включает в себя целый ряд частных положений. Мы можем, к примеру, обоснованно рассматривать переводную множественность как синонимику на уровне текста. Сосуществующие переводы представляют собой текстовые синонимы семантико-стилистического характера. При этом степень равнозначности текстов сосуществующих переводов в пределах отдельных фрагментов текста (строк, строф, предложений, абзацев, разделов, глав и т. д.) может быть различной – от полного совпадения до отсутствия какого-либо 166 подобия. В последнем случае в общую семантико-синонимическую межтекстовую структуру вклиниваются отдельные смысловые элементы, не имеющие семантических эквивалентов ни в оригинале, ни в других переводах. Такие тексты оттесняются, как правило, на периферию переводного сообщества, их связи с оригиналом оказываются разорванными, и степень их претензий на замещение оригинала опускается до нуля. В целом же переводные «тексты-синонимы» так же, как и лексические синонимы, образуют «синонимический» текстовый ряд, а точнее сообщество с возможным доминантным текстом. Однако доминанта этого сообщества может определяться двояко – как канонизированный перевод или как наиболее адекватный перевод. В отдельных случаях обе эти характеристики могут совпадать в одном тексте. Очевидно, что с переводческой точки зрения только наиболее адекватный перевод может рассматриваться в качестве доминанты синонимического текстового ряда. Однако нередко возникает ситуация, когда на роль текста-доминанты претендует не один, а одновременно несколько переводов, верно и точно передающих содержание и форму оригинала. В таких случаях можно говорить о некоей совокупной политекстовой доминанте, некоем доминантном текстовом ядре в составе сообщества переводов одного и того же оригинала. Таковы, например, переводы «Ворона» Э. По, выполненные К. Бальмонтом и В. Брюсовым. По аналогии с лексическим синонимическим рядом сообщество переводов одного и того же произведения является открытым, что всегда позволяет надеяться на появление новых переводов. 7. Расширение образно-понятийного мира оригинала при переводной множественности Синонимическая природа переводов одного и того же исходного текста закономерно обусловливает расширение образно-понятийного мира оригинала. В подлиннике автором создается некий образно-понятийный мир, составляющий художественное содержание оригинала. Этот мир незыблем, он все- 167 гда один и тот же (если отвлечься от тех случаев, когда в процессе истории происходит переосмысление художественных текстов). Образно-понятийный мир, например, упоминавшегося выше стихотворения «Заповіт» Т. Шевченко и через полтора столетия остается все тем же – его составляют все та же могила, все те же степ, лани, кручі и т. д. Зато в переводах картина зачастую резко меняется: вместо могила появляются курган, холм, гора, вместо лани – нивы, поля, равнины, долины, простор. Расширение круга перечисленных понятий и созданных на их основе поэтических образов на этом не кончается, так как в переводах приведенные выше соответствия представлены как в нейтральных словосочетаниях, так и в виде метафор. Один словообраз лани вызвал к жизни более десятка самых разнообразных образов-соответствий – от адекватного нивы до такого далекого от него, как горы. Это дает основание утверждать, что образно-понятийный мир оригинала генерирует появление целого ряда понятий и образов на языке перевода, которые могут как приближать реципиента перевода к оригиналу, так и уводить от него. Образно-понятийный мир, порожденный переводческим восприятием оригинала, может служить одним из критериев определения уровня адекватности перевода оригиналу. Всякий перевод является в какой-то степени вымыслом и в этом качестве представляет собой уникальный текст. О. Пас 8. Переводная множественность и ресурсы языка Переводная множественность неизбежно влечет за собой максимальное использование всех ресурсов языка перевода. С каждым новым переводом так или иначе расширяется сфера привлекаемых переводчиками образов и понятий, разнообразных языковых и стилистических средств. Однако при все большем увеличении количества переводов одного и того же оригинала может быть достигнута некая критическая масса повторов находок предше- 168 ственников и идентичных переводческих решений. Одной из причин этого является ограниченность (в каждом языке) набора лексических эквивалентов всех типов, которые могут быть использованы для воссоздания элементов оригинала без значительного видоизменения его содержания. И гипотетически возможна такая ситуация, когда все потенциальные языковые средства адекватного воссоздания подлинника окажутся в языке перевода исчерпанными. Это может означать, что большего количества относительно адекватных переводов на этом языке создано быть не может и что дальнейшая работа возможна лишь в рамках других типов перевода (вольного, перевода на мотив оригинала, перевода-реминисценции, подражания и т. д.). Однако относительно большинства из упомянутых на страницах этого пособия оригиналов можно сказать, что в их переводах на русский язык этот рубеж еще далеко не достигнут и в распоряжении переводчиков все еще имеется достаточно средств для дальнейших попыток приближения к сути этих текстов. Несомненно, что лексическое богатство, образная сила, звуковое многообразие и синтаксическая гибкость русского языка будут в дальнейшем успешно использованы переводчиками последующих поколений для создания новых переводных версий многих выдающихся произведений зарубежной литературы. Тезис о возможном исчерпании ресурса воссоздания оригинала средствами языка перевода тем не менее не лишает достоверности мысль о том, что каждый высокохудожественный оригинал неисчерпаем. Мы можем вести речь о потенциальной исчерпанности ресурсов языка перевода, но при этом никак не затрагивается семантический статус оригинала, который при всех его иноязычных репрезентациях продолжает оставаться незыблемым, и, как всякое подлинное художественное произведение, не может быть «прочитан» до конца. Каждый оригинал – это особый художественный мир, который полностью не может быть повторен ни на одном языке. И только максимальное количество переводов на наибольшее количество языков представляет собой в совокупности обобщенный иноязычный инвариант оригинала, в пре- 169 дельно возможной степени исчерпывающий его. В завершение этого подраздела целесообразно упомянуть о том, что при заметном увеличении количества переводов перевод с более высоким уровнем адекватности возможен лишь на основе творческого комбинирования уже использованных переводческих решений, то есть при использовании формы сводных переводов, так называемых переводов-центонов. В качестве примера перевода-центона приведем сводный перевод стихотворения В. Борхерта «Versuch es»: Stell dich mitten in den Regen, Встань под дождь и с упоеньем glaub an seinen Tropfensegen верь в его благословенье. spinn dich in das Rauschen ein В шуме струй рискни побыть und versuche gut zu sein! и пытайся добрым быть! Stell dich mitten in den Wind, Встань средь ветра ты, шутя, glaub an ihn und sei ein Kind – верь в него, будь как дитя. Laß den Sturm in dich hinein Шторм сумей в себя впустить, Und versuche gut zu sein! и пытайся добрым быть! Stell dich mitten in das Feuer, Встань в огонь, и это диво liebe dieses Ungeheuer в вине сердца ты игривом in des Herzens rotem Wein – полюби, чтоб не остыть, und versuche gut zu sein! и пытайся добрым быть! Начало первой строки и вторая строка взяты из перевода Г. Киселева, ключевая фраза составлена из фрагментов переводов А. Егина и Г. Киселева; две первые строки второй строфы – из перевода А. Украинцева; в седьмой строке употреблен глагол, фигурировавший в переводе И. Ращектаева; в четвертой строфе использовались элементы перевода А. Украинцева). 170 9. Тождественность переводческих решений при переводной множественности Переводная множественность предполагает также неизбежность повторов в сосуществующих переводах. В поэтическом переводе это повторы рифм, стихотворных строк и других текстовых элементов. Тождественность переводческих решений по-разному воспринимается и оценивается как переводчиками, так и теоретиками перевода. Так, М. Ваксмахер в ответе на вопрос известной анкеты Л. Любенова заявляет: «Повторение в новых переводах строк, кусков, находок из прежних работ кажется мне морально недопустимым» (Поэзия и перевод. Советские поэты-переводчики отвечают на анкету Любена Любенова (ответы М. Алигер, М. Ваксмахера, М. Донского, В. Левика, В. Марковой) // Мастерство перевода. – Сб. 13. 1985. – М. Совет. писатель, 1990. – С. 131). Ему вторит В. Маркова: «Повторять чужие рифмы не следует» (там же: 146). А. Цыбулевский удивляется тому, что в двух переводах одного и того же текста есть до смешного, как он пишет, качественно равнозначные отрывки (Цыбулевский: 127). Наряду с подобными взглядами существует и иная точка зрения на проблему повторения переводческих решений. Достаточно развернуто ее в свое время выразил В. Вересаев: «Когда новый переводчик берется за перевод классического художественного произведения, то первая его забота и главнейшая тревога – как бы не оказаться в чем-нибудь похожим на когонибудь из предыдущих переводчиков. Какое-нибудь выражение, какойнибудь стих или двустишие, скажем даже, целая строфа переданы у его предшественника как нельзя лучше и точнее. Все равно! Собственность священна. И переводчик дает свой собственный перевод, сам сознавая, что он и хуже, и дальше от подлинника. Все достижения прежних переводчиков перечеркиваются, и каждый начинает все сначала. Такое отношение к делу представляется мне в корне неправильным. Главная все оправдывающая и все покрывающая цель – максимально точный и максимально художественный перевод подлинника. <…> Все хорошее, все 171 удавшееся новый переводчик должен полной горстью брать из прежних переводов, конечно, с одним условием: не перенося их механически в свой перевод, а органически перерабатывая в свой собственный стиль, точнее, в стиль подлинника, как его воспринимает данный переводчик» (Вересаев В. Предисловие переводчика // Гомер. Илиада. – М.-Л.: Гос. изд-во худож. лит., 1949. – С. 6). Примечательно, что этот подход разделял и В. Левик, утверждавший, что «все то, что помогает улучшить перевод и не подпадает под определение плагиата, может быть использовано» (Поэзия и перевод: 142). Думается, что попытки во что бы то ни стало проигнорировать лежащие подчас на поверхности решения приводят не к оригинальности перевода, поскольку перевод по своей природе не может быть оригинальным, а к оригинальничанью, что не идет на пользу переводимому автору. В основе таких потуг переводчика на оригинальность лежит все та же ложная посылка о некоем индивидуальном стиле переводчика, который якобы должен проявляться в его переводах. Идея о так называемом стиле переводчика, получившая широкое распространение в отечественном переводоведении, оказалась по сути контрпродуктивной и привела к тому, что переводчики стали больше заботиться о собственном стиле, а не о воссоздании неповторимого индивидуального стиля переводимого ими автора. …каждое произведение неповторимо, а перевод лишь орудие, приближающее нас к нему. Х. Ортега-и-Гассет Как правильно подметил А. Дранов, переводчики нередко стремятся «перевести по-своему то, что и без того уже было переведено хорошо, вместо того, чтобы, сохраняя достигнутое, улучшать еще несовершенное» [Дранов: 51]. Сохранять достигнутое, но улучшать несовершенное – такова задача переводчика. Бояться повторений удачных вариантов предшественников могут только переводчики, больше озабоченные собственными амбициями, чем судьбой и именем переводимого ими поэта. 172 10. Оптимальные переводческие решения В связи с рассмотренным выше тезисом о неизбежности повторов переводческих решений необходимо остановиться на еще одном тезисе, а именно на проблеме оптимальных переводческих решений. В последние годы в переводоведении все больше внимания уделяется так называемому оптимальному переводу. Л. К. Латышев, например, вводит понятие оптимального переводческого решения, понимая под этим наилучший из возможных вариантов перевода. «Оптимальный вариант перевода (оптимальное переводческое решение), – пишет ученый, – соотносительное понятие, подразумевающее наличие или возможность неких других, неоптимальных (худших) вариантов, на базе сопоставления с которым и выявляется вариант оптимальный» [Латышев, 2000: 229]; (см. также: [Латышев, 2005: 253]). Далее Л. К. Латышев подчеркивает, что «природным» свойством перевода является множественность конкурирующих друг с другом переводческих решений, поскольку «в одном варианте не удается совместить в максимальной мере все положительные качества перевода» [Латышев, 2000: 246]; (см. также: [Латышев, 2005: 272]). В этих рассуждениях известного переводоведа важны два момента – само понятие оптимального решения и признание потенциальной множественности сущностным качеством перевода. Именно на основе идеи о возможности оптимальных переводных решений можно утверждать, что в переводе поэзии некоторые строки или фрагменты стиха имеют в другом языке те единственно верные в данном конкретном случае эквиваленты, которые как бы сами просятся в перевод. Возможно, что именно такова, например, четвертая строка в переводах на английский язык «Полночного троллейбуса» Булата Окуджавы, принадлежащих Дж. Р. Роуланду, Дж. С. Смиту, Е. Шапиро и Р. Чайковскому: последний, случайный = the last one, the chance one. Такой же оптимальной представляется третья строка в переводах стихотворения Э. М. Ремарка «Abendlied»: Ein Kuss von dir – der Duft von deinem 173 Haar = Твой поцелуй и аромат волос, выполненных И. Белавиным, А. Егиным и А. Пуриным. Об оптимальном характере этого решения свидетельствуют варианты других переводчиков, в которых отчетливо прослеживается поиск именно в этом направлении: Твой поцелуй, твой аромат волос (А. Каплан); Твой поцелуй, – но аромат волос (Т. Панасевич); (Твой поцелуй и аромат твоих волос) (К. Ельцов). Оптимальное переводческое решение, следовательно, – это высший уровень семантико-структурной и стилистической эквивалентности текстовых фрагментов оригинала и перевода. Оптимальный переводной эквивалент сочетает в себе и точность в передаче содержания, и адекватное языковое оформление, и максимальную семантико-структурную близость к исходному тексту [Латышев, 2000: 240]. Оптимальные переводные варианты фрагментов оригинального текста дают основания надеяться на возможность создания и оптимального перевода всего оригинала [Задорнова: 14–57]. 11. Роль заглавия оригинала при переводной множественности В случае переводной множественности значительно увеличивается семантический вес заглавия оригинала, ибо помимо обычных для заглавия художественного произведения функций (номинативной, экспрессивно- апеллятивной, разделительной, проспективной, прагматической и др.) у заглавия текста, многократно переведенного на один или несколько иностранных языков, неизбежно появляется еще одна функция, которую условно можно назвать консолидирующей, поскольку оно объединяет все синонимические тексты-переводы в одно текстовое сообщество. Одинаково переведенное заглавие подлинника приобретает вместе с тем эмблематическое значение, сигнализирующее о том, что все данные тексты являются вторичными воплощениями одного и того же оригинала. В тех случаях, когда используются синонимические варианты заглавия (ср. название стихотворения Р. М. Рильке: «Der Panther» – «Пантера», «Леопард», «Гепард», «Барс»), происходит частичное смещение семантической сетки текста, он сдвигается в 174 иное тематическое поле, в результате чего меняется фокус его восприятия, и может иметь место частичное вычленение текста с неканоническим заглавием из данного сообщества переводов. Так, несколько десятков переводчиков упомянутой выше «Пантеры» Рильке на русский язык (за исключением В. Авербуха, А. Гольца и А. Глазовой) используют эквивалент- интернационализм «Пантера», несмотря на то, что немецкое существительное der Panther мужского рода и что грамматический род слов der Panther и пантера привносит соответственно в текст оригинала и в текст каждого перевода дополнительные, но разные коннотации. Семантико-стилистические различия между оригиналом и переводами начинаются в данном конкретном случае уже с их заглавий. При полной смене заглавия переводчик выводит свой переводной текст из единого для всех переводов данного оригинала содержательного поля, размещая перевод в иной тематической нише. Подобная смена заголовка приводит к существенному разрушению связей между оригиналом и переводом. В качестве примера можно привести еще одно стихотворение Рильке – «Ernste Stunde», название которого Т. Сильман передано как «Серьезная минута», Е. Храмовым как «Строгая минута», Е. Витковским как «Строгий час», Д. Щедровицким и В. Куприяновым как «Серьезный час», К. Чистовым как «Решающий час», Б. Марковским как «Суровый час», Ю. Вишневецкой как «Смертный час» (В. Эльснер в своем переводе название опустил). Как видим, все переводные варианты размещают перевод в одном семантическом пространстве. И лишь Е. Борисов свой вариант перевода озаглавил «Кто ты?» Как показывает анализ, именно его переводной текст максимально далеко отстоит от оригинала (Лысенкова Е. Л. «Кто рыдает сейчас на свете…». Так как же все-таки переводить и издавать Рильке? // Книжное обозрение. – 1996. – № 4.– С. 23). Связь оригинала с переводом в данном случае разрушена, и это разрушение начинается с перевода заглавия. 175 Переводная множественность и проблема прогресса в переводе В свое время Ю. Д. Левин писал о том, что «движение от перевода к переводу в известной мере можно уподобить приближению к объективной истине» [Левин, 1974: 261]. К сожалению, в истории перевода отмечены случаи не только прогрессивного, но и регрессивного развития переводческой практики (ср. переводы «Ворона» Э. По, выполненные в начале ХХ века К. Бальмонтом или В. Брюсовым, и перевод П. Рыжова, относящийся к 2001 г.). Таким образом, факты переводной множественности убедительно подтверждает мысль Е. В. Витковского о том, что в сфере художественного перевода принципы поступательного движения, законы прогресса не действуют [Витковский, 1998: 10]. Естественно, что этот тезис относится к одному определенному этапу развития национального языка. Применительно к «Ворону» Э. По, «Тигру» У. Блейка, «Пантере» Р. М. Рильке и многим другим произведениям зарубежных литератур можно сказать, что русский язык конца XIX–ХХ веков, на который переводился тот или иной оригинал, представляет собой хотя и развивающуюся, но одновременно стабильную систему, так что язык начала, середины и конца ушедшего века можно считать с некоторыми оговорками однородным. Поэтому вопрос о характере развития переводов (прогрессивном или регрессивном) того или иного произведения необходимо решать в зависимости от качества конкретного сообщества переводов одного и того же оригинала. Сказанное выше свидетельствует, как это ни прискорбно сознавать, о весьма низкой эффективности теории перевода, о почти нулевом уровне учета рекомендаций переводоведов, о филологической и собственно переводческой неграмотности многих переводчиков. Складывается впечатление, что основным оружием, инструментом многих переводчиков продолжает оставаться наитие. Перевод по наитию может удаться лишь случайно, поэтому, к сожалению, это бывает очень редко. Намного чаще возникают переводы, которые являются не воссозданием оригинала, а свидетельством профессиональной беспомощности, замешанной на ничем не подкрепленных амбициях. 176 В целом есть все основания утверждать, что в последние десятилетия ушедшего века в отечественном поэтическом переводе усилились регрессивные тенденции. Переводчики все больше стали заниматься собой и все меньше переводимыми ими авторами. Самолюбование, самовосхваление, амбициозность, пренебрежительное отношение к работе коллег, полное отсутствие самокритичности – все это с избытком встречается в книгах, статьях и интервью многих переводчиков. Поэтому еще один постулат переводной множественности гласит: новый перевод не обязательно означает хороший перевод, старый перевод не обязательно означает плохой или устаревший перевод. Еще один вывод, вытекающий из сказанного: переводная множественность служит убедительным подтверждением необходимости обучать переводчиков их ремеслу. Завершить рассмотрение ряда проблем категории переводной множественности уместно утверждением о том, что факт переводной множественности как во времени, так и в пространстве (разные эпохи, разные страны и разные языки) является неоспоримым доказательством гениальности оригинала. Именно таковы в большинстве своем произведения, рассмотренные в этой главе. Высокопрофессиональный переводчик способен к многократному набрасыванию смысла на непокорный дух оригинала. Г. Воскобойник 177 Глава VI. Этапы работы переводчика Труд переводчика-профессионала – комплексный вид человеческой деятельности, в который входят рецепция оригинала, поиск путей его воспроизведения средствами другого языка и само воссоздание этого исходного текста на языке перевода. Процесс перевода – процесс длительный. В зависимости от характера переводческого произведения и отношения переводчика к своему труду он может растягиваться на годы. Например, Мартин Лютер вместе с помощниками работал над переводом Библии на немецкий язык в течение 12 лет. Очевидно, что такой сложный и в известной мере творческий процесс не может не состоять из целого ряда этапов, проходя которые переводчик достигает (или не достигает) запланированного результата, каким является адекватный перевод оригинала. Перевод – дерзновенный вид языковой практики. К. Ажеж Вопрос о том, какие этапы включает в себя деятельность переводчика художественной литературы, интересовал многих специалистов в области художественного перевода. При этом они рассматривали его на разных уровнях. Так, известный болгарский переводовед С. Флорин, обсуждая использование переводчиком в своей работе словарей разного типа, полагает, что словари обслуживают три последовательных этапа в деятельности переводчика: 1) установление эквивалентов всех вкрапленных в текст оригинала неизвестных понятий из всевозможных специальных областей; 2) полное понимание переводимого произведения со всеми тонкостями вспомогательных средств, использованных автором; 3) воссоздание произведения на другом языке Флорин, 1971: 328]. Как нетрудно заметить, С. Флорин пишет фактически лишь о двух этапах, поскольку первые два представляют собой единый по 178 сути этап восприятия и понимания оригинала. Очевидно, что этими двумя этапами деятельность переводчика не ограничивается. Украинский теоретик перевода В. Коптилов разделяет процесс работы переводчика на три этапа. Первый этап – это всесторонний анализ оригинала, рассмотрение его содержания, его семантики и стиля, то есть тех языковых средств, которые употребляет автор для выражения содержания. На этом этапе надо уметь выделить в произведении определяющие черты его ритмической, фонетической, синтаксической и иных структур, выявить ведущие конструктивные элементы его формы. Само собой разумеется, что к этому первому этапу относится и определение места переводимого произведения в рамках его литературы, соответствующего литературного направления и творчества его автора. Второй этап, по В. Коптилову, это поиски в языке перевода и в традиции литературы, существующей на этом языке, эквивалентных средств воссоздания важнейших черт оригинала. Главное на этом этапе – определение пути, по которому пойдет переводчик, выбор средств, которые он использует на завершающей стадии своей работы. Третий, заключительный этап – это этап, на котором происходит синтез в новое художественное целое черт, выделенных в оригинале и трансформированных в соответствии с особенностями литературного языка перевода и множеством других конкретных условий. Основная задача, стоящая перед переводчиком на этом этапе, – воссоздание подлинника во всем могуществе его художественной убедительности, воссоздание силы его воздействия на читателя. В. Коптилов упоминает и о четвертом этапе в деятельности переводчика, который он, пользуясь словами Б. С. Мейлаха, характеризует как момент аналитической проверки степени соответствия переводимого оригиналу. На этом этапе переводчик, по мысли В. Коптилова, снова выступает в роли критика и исследователя, но уже не оригинала, а собственного перевода Коптилов, 1971: 154, 158, 162, 165–166. 179 Этапы, выделенные В. Коптиловым, во многом совпадают с тремя фазами переводческого труда, выявленными известным чешским теоретиком перевода И. Левым (1926–1967) в его книге «Искусство перевода», впервые изданной на языке оригинала в 1963 г. Ее перевод на русский язык был опубликован в 1974 г. Левый]. Выделяемые им этапы И. Левый называет фазами постижения, интерпретации и перевыражения подлинника. Постижение оригинала на первом этапе осуществляется на трех уровнях. Первой ступенью является, по мнению И. Левого, дословное понимание текста. Он называет такое понимание филологическим. Второй ступенью постижения исходного текста является усвоение переводчиком стилистических факторов языкового выражения. И. Левый имеет здесь в виду настроение, передаваемое текстом, ту или иную окраску (ироническую или трагическую), «наступательный тон» или склонность к сухой констатации. Переводчик должен определить, благодаря использованию каких средств возникают эти качества текста. Третья ступень постижения подлинника состоит в осмыслении явлений художественной действительности переводимого произведения: характеров, их отношений, места действия, идейного замысла автора. Этап интерпретации подлинника характеризуется, как считает И. Левый, следующими тремя моментами: установлением объективного смысла произведения, интерпретационной позицией переводчика, интерпретацией объективной сущности произведения с позиции переводчика. Чтобы интерпретация оригинала переводчиком была правильной, ее исходным пунктом должны стать основные черты произведения, а целью – сохранение его объективной ценности. Цель переводчика, подчеркивает автор, – свести к минимуму свое субъективное вмешательство в текст и максимально приблизиться к объективной сущности переводимого произведения. Интерпретационной позицией переводчика определяется его подход к произведению. Переводчик избирает свою позицию, как правило, обдуманно, зная, что он хочет сказать читателю своим переводом. И. Левый подчеркивает, что особенно императивно выражена позиция переводчиков-марксистов, 180 которые стремятся выделить те компоненты произведения, которые свидетельствуют о материалистическом мировоззрении и реалистическом направлении в литературе. Переводческая концепция, по И. Левому, – это идейная основа творческого метода. Переводчик ограничен в трактовке исходного произведения и не имеет права вкладывать в него свои субъективные идеи, поскольку, противопоставляя свою собственную идею идее подлинника, переводчик нагромождает на ее первоначальный смысл новое толкование и в итоге создает другое произведение, которое представляет собой не перевод, а обработку оригинала. Этап перевыражения подлинника в значительной мере связан с языковым мастерством переводчика, который, как подчеркивает И. Левый, должен быть в первую очередь стилистом. Языковая проблематика, характерная для данного этапа, касается соотношения двух языковых систем, появления в художественной ткани перевода следов языка оригинала и напряженности в стиле перевода, которая возникает из-за того, что мысль переформулируется на другом языке. Системы языков-партнеров в большинстве случаев существенно расходятся. И чем значительнее роль языка в художественной структуре текста, тем труднее добиться адекватного перевода. Материал двух языков, указывает И. Левый, несоизмерим, поэтому при переводе имеет место насилие над семантикой и языком исходного произведения. Автор высказывается в пользу создания сопоставительной стилистики каждой пары отдельных языков, что дало бы в руки переводчика надежный инструмент решения конкретных языковых задач перевода. Говоря о том влиянии, который язык оригинала оказывает на язык перевода, И. Левый пишет, что оно может быть прямым и косвенным («непрямым»). Например, непрямое влияние языка подлинника измеряется тем, насколько часто переводчик отступает от стилистических черт, которые ошибочно он воспринимает как нейтральные. 181 Необходимость формулирования мысли на другом языке, т. е. на языке, на котором она не была создана, зачастую приводит переводчика к использованию стереотипных решений, результатом чего является так называемый переводческий язык, лишенный оригинальности и выразительности. Поэтому, резонно замечает Левый, переводчику необходимы лингвистические воображение и находчивость, чтобы овладеть огромным богатством выразительных средств и научиться отбирать из них наиболее подходящие Левый, 59–88]. Как видим, И. Левый не только дает подробную характеристику каждого этапа, но и останавливается на тех моментах, без учета которых переводчик будет не в состоянии эффективно осуществить все эти фазы своего труда. Предложенная И. Левым классификация этапов деятельности переводчика художественной литературы и поныне остается не только наиболее полной и наиболее адекватной ее природе, но она также представляет собой развернутый свод профессиональных рекомендаций переводчику, следование которым позволит ему обеспечить более высокое качество перевода. Для перевода одного стихотворения нужно знать всего поэта. С. Аверинцев О том, что соблюдение сформулированных И. Левым требований к процессу перевода художественной литературы на разных его этапах и учет вытекающих из них рекомендаций приводят к позитивным результатам, свидетельствует опыт такого известного отечественного переводчика, как Л. В. Гинзбург (1921–1980). В своем романе-эссе «Разбилось лишь сердце мое…» Л. Гинзбург подробно описывает свою работу над переводом романа средневекового немецкого писателя Вольфрама фон Эшенбаха «Парцифаль» на русский язык. Прежде всего переводчик вчитывался в текст оригинала (в его оригинальной форме на средневерхненемецком языке и в переводах на современ- 182 ный язык). Гинзбург стремился, говоря его словами, разглядеть поэзию оригинала, услышать под грудой столетий ее движение. Но поначалу ничто не роднило его ни с автором романа, ни с главным героем, ни со стихом (роман «Парцифаль» – стихотворный – Р. Ч.). На этом начальном этапе еще не сложилась и концепция перевода. Поэтому главной задачей переводчика стал поиск соответствующего стихотворного размера. Постепенно, пишет Л. Гинзбург, в глубине текста стало прослушиваться «биение сердца», строки начали как бы пульсировать, внутри текста угадывалась своя жизнь, и нужно было вскрыть ту перегородку, которая мешала этой жизни прорваться наружу и перейти в наши дни. Предстояло преодолеть и языковой барьер, и барьер времени, отделявший оригинал тринадцатого века от века двадцатого. То есть наступил этап посредничества переводчика между языком оригинала и языком перевода, между средними веками и концом второго тысячелетия. На этом этапе решались задачи сохранения в переводе тех элементов оригинала, которые определяли его впаянность в язык и культуру средневековья. Параллельно вновь и вновь вставали вопросы о самих принципах перевода классических произведений, т. е. переводчик уточнял концепцию своего перевода. Кроме того, Л. Гинзбург неоднократно возвращался ко всему тексту оригинала, стремясь глубже понять его, почувствовать особенности его стиля. В результате этого он начинает менять размер своего перевода (четырехстопный ямб) и включать в него фрагменты со сбивчивым ритмом, чтобы продемонстрировать читателю первородное звучание подлинника. Много внимания переводчик уделял при этом реставрации сложных средневековых метафор, бережному сохранению в тексте перевода архаизмов, многочисленных разнообразных деталей, воссозданию импровизационного характера отдельных фрагментов романа. Работа Л. Гинзбурга над переводом «Парцифаля» продолжалась три года. За это время были последовательно и вместе с тем в значительной мере параллельно пройдены основные этапы работы переводчика, о которых пи- 183 сали и С. Флорин, и В. Коптилов, и И. Левый, и многие другие Гинзбург: 18–38]. Как видно из приведенного выше материала ученых и переводчиков (а все переводоведы, чьи размышления нами рассмотрены, сами были или остаются переводчиками), перевод литературно-художественного произведения с языка на язык – процесс сложный и, повторимся, как правило, длительный. Можно сказать, что процесс перевода делится на две главные части: на работу над оригиналом и на работу над текстом перевода. В рамках этих двух основных звеньев труда переводчика вычленяются многочисленные фазы, которые осуществляются последовательно, протекают параллельно или вклиниваются одна в другую. При этом последовательность отдельных этапов и их компонентов может быть различной. Например, переводчик может начать свою работу с чтения оригинала, но он волен также предварительно ознакомиться с творчеством автора и лишь затем приступить к первому чтению оригинала. Первое чтение переводчиком оригинала является чтением ознакомительным. Оно также составляет одну из фаз первого этапа работы переводчика, которая сменяется, как правило, вторым чтением. Это второе чтение носит уже изучающий характер. Ознакомительное и изучающее чтение подлинника – два важных компонента начальной стадии работы над исходным литературно-художественным произведением. В ходе работы чтение всего произведения уступает место многократному восприятию его отдельных фрагментов. Все виды чтения – ознакомительное, изучающее, целостное и фрагментарное представляет собой стадию филологического предпереводческого анализа подлинника. От того, насколько тщательно и глубоко будет проанализирован исходный текст, в значительной мере зависит успех всех последующих фаз перевода, и прежде всего фазы интерпретации оригинала, на которой определяется творческая позиция переводчика и вырабатывается концепция перевода. Концепция перевода – это, по сути, индивидуальная теория перевода, сформулированная у того или иного переводчика. Эта тео- 184 рия может и не осознаваться переводчиком, считающим себя чистым практиком перевода, но она имплицитно всегда присутствует в его сознании и, так или иначе, реализуется в переводе. Каждый практик перевода в душе носит свою теорию. В. Ганиев Эта стадия позиционирования переводчика включает в себя также поиск и определение наиболее приемлемых по отношению к данному конкретному оригиналу так называемых текстов-доноров, т. е. произведений, прежде всего, литературы языка перевода, которые могут способствовать более эффективному решению возникающих проблем перевода. Воссоздание подлинника на языке перевода – наиболее важный этап переводческого труда, ибо именно от того, как средствами другого языка будет передан исходный текст, зависит его будущая судьба в переводной литературе. Если переводчик создает адекватный перевод, то этот перевод будет достаточно равноценно замещать оригинал на языке перевода и представит автора оригинала иноязычному читателю в относительно идентичном виде. Если переводчик не достигает в своем переводе необходимого уровня адекватности и в результате возникает неполноценный иноязычный вариант подлинника, то тем самым наносится ущерб автору оригинала, читателю перевода и даже языку перевода. Для того чтобы исключить появление некачественных переводов, в работе переводчика непременно должен присутствовать этап авторедактирования готового текста перевода. Опыт самокритичных переводчиков показывает, что повторная работа над всем текстом конечного перевода позволяет вскрыть многочисленные ошибки самого разного характера. Однако это происходит только в том случае, если переводчик выработал в себе умение подойти к собственному тексту отстраненно и словно увидеть его чужими глазами. Только тогда ему удастся выступить непредвзятым, объективным, но 185 строгим судьей перевода, который озабочен соблюдением интересов как автора переведенного произведения, так и его будущих иноязычных читателей. Устранение выявленных в переводе недостатков в переводном тексте позволит считать процесс перевода завершенным. 186 Заключение Наука о художественном переводе еще весьма молода. Подтверждением этому служит тот факт, что первые учебные пособия по теории и практике художественного перевода стали появляться только в начавшемся XXI веке. Поэтому специалистам в этой области предстоит еще большая работа по определению законов и категорий теории художественного перевода, по анализу многолетнего опыта воссоздания разноплановых произведений зарубежных литератур средствами русского языка, по выработке научно обоснованных критериев оценки качества переводов и т. д. В нашем пособии мы смогли затронуть лишь некоторые из тех проблем и трудностей, которые встают перед переводчиками художественной литературы. Но мы надеемся, что ознакомление с рассмотренными в книге положениями и категориями теории художественного перевода облегчат начинающим переводчикам их первые шаги в преодолении того сопротивления, которое всегда оказывает иноязычный оригинал, словно оберегая от посягательств свои драгоценности. Задача переводчика – дать возможность читателю, не знающему языка оригинала, также насладиться этими драгоценностями недоступного ему текста, переодетого для него переводчиком в одежды родного слова. В следующей части пособия автор предполагает осветить вопросы типологии, жанрологии и аксиологии художественного перевода, а также рассмотреть некоторые частные проблемы (канонизация переводов, проблема текстов-доноров при переводе, автоперевод, специфика перевода беллетристических текстов (детектив, любовный роман, фэнтези), передача контаминированной речи, доминанты перевода и др.). Поэтому закончить эту маленькую книгу можно словами выдающегося филолога Виктора Шкловского: «Что касается конца – не люблю этого слова. Конца не будет». 187 Использованная и рекомендуемая литература Адмони В. Г. Система форм речевого высказывания. – СПб.: Наука, 1994. – 153 с. Адмони В. Г., Сильман Т. И. Структура художественного текста и перевод // Актуальные проблемы теории художественного перевода. – М.: Совет. писатель, 1967. – Т. 2. – С. 97–108. Ажеж К. Человек говорящий: Вклад лингвистики в гуманитарные науки. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 304 с. Акопова А. А. Образ и художественный перевод. – Ереван: Изд-во АН Армянской ССР, 1985. – 149 с. Актуальные проблемы теории художественного перевода. Материалы Всесоюзного симпозиума (25 февраля – 2 марта 1966 г.) – М.: Союз писателей СССР. Совет по худож. переводу, 1967. Т. 1. – 369 с., Т. 2. – 356 с. Алексеев М. П. Проблема художественного перевода. – Иркутск: Издво Иркутского ун-та, 1931. – 30 с. Алексеева И. С. Введение в переводоведение: Учеб. пособие для студ. филол. и лингв. фак. высш. учеб. заведений. – СПб.: Филологический факультет СПб ГУ; М.: Изд. центр «Академия», 2004. – 352 с. Арнаудов М. Психология литературного творчества. – М.: Прогресс, 1970. – 654 с. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – М.: Изд. группа «Прогресс»; «Универс», 1994. – 616 с. Бархударов, Л. С. Язык и перевод / Л. С. Бархударов. – М.: Междунар. отношения, 1975. – 237 с. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – 424 с. 188 Белянин В. П. Психолингвистические аспекты художественного текста. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 123 с. Беньямин В. Маски времени. Эссе о культуре и литературе. – СПб.: Симпозиум, 2004. – 480 с. Бибихин В. В. К проблеме определения сущности перевода // Тетради переводчика. – Вып. 10. – М.: Междунар. отношения, 1973. – С. 3–14. Бибихин В. В. Опыт сравнения разных переводов одного текста // Тетради переводчика. Вып. 13. – М.: Междунар. отношения, 1976. – С. 37–46. Брандес М. П. Критика перевода. Практикум по стилистикосопоставительному анализу переводов немецких и русских художественных текстов: Учеб. пособие. – Изд. 2-е, доп. – М.: КДУ, 2006. – 240 c. Брандес М. П. Стилистика текста. Теоретический курс. – М.: Прогресс – Традиция; ИНФРА–М., 2004. – 416 с. Брандес М. П., Провоторов В. И. Предпереводческий анализ текста. – Курск: РОСИ, 1999. – 224 с. Брудный А. А. Психологическая герменевтика. – М.: Лабиринт, 1998. – 336 с. Васильева, А. Н. Художественная речь.– М.: Рус. яз., 1983. – 256 с. Виноградов В. В. О языке художественной литературы. – М.: Гослитиздат, 1959. – 655 с. Виноградов В. С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). – М.: ИОСО РАО, 2001. – 224 с. Виноградов В. С. Лексические вопросы перевода художественной прозы. – М.: Изд-во МГУ, 1978. – 174 с. Виноградов В. С. Перевод: Общие и лексические вопросы. – М.: КДУ, 2004. – 240 с. Винокур Г. О. О языке художественной литературы. – М.: Высш. шк., 1991. – 448 с. 189 Витковский Е. Quo vadis – к оригиналу или от оригинала? // Чайковский Р. Р. Поэтический перевод в зеркале мнений (15 интервью). – Магадан: Кордис, 1997. – С. 21–32. Витковский Е. Русское зазеркалье // Строфы века-2: Антология мировой поэзии в русских переводах XX века. – М.: Полифакт. Итоги века, 1998. – С. 8–22. Влахов С. Переводимо ли непереводимое? // Литература и перевод: проблемы теории. – М.: Изд. группа «Прогресс», «Литера», 1992. – С. 323– 330. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. – М.: Р. Валент, 2006. – 448 с. Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике: Сб. статей. – Пер. с англ., нем., фр. Вступ. ст. и общ. ред. пер. В. Н. Комисарова. – М.: Междунар. отношения, 1978. – 232 с. Вопросы теории художественного перевода. Сб. статей. – М.: Худож. лит., 1971. – 254 с. Воскобойник Г. Д. Лингвофилософские основания общей когнитивной теории перевода: дис. … докт. филол. наук. – Иркутск, 2004. – 296 с. Гаврилiв Т. Текст мiж культурами. Перекладознавчi студiï. – Киïв: Критика, 2005. – 200 с. Галеева Н. Л. Параметры художественного текста и перевод. – Тверь: Изд-во Тверского гос. ун-та, 1999. – 154 с. Галь Н. Слово живое и мертвое. Из опыта переводчика и редактора. – М.: Книга, 1975. – 192 с. Ганиев В. Сопротивление оригинала как закономерность процесса перевода // Литература и перевод: проблемы теории. – М.: Изд. группа «Прогресс», «Литера», 1992. – С. 361–368. Гарбовский Н. К. Теория перевода. – М.: Изд-во МГУ, 2004. – 544 с. Гачечиладзе Г. Р. Введение в теорию художественного перевода. – Тбилиси: Изд-во ТбГУ, 1970. – 285 с. 190 Гачечиладзе Г. Р. Вопросы теории художественного перевода. – Тбилиси: Литература да хеловнеба, 1964. – 267 с. Гачечиладзе Г. Р. Художественный перевод и литературные взаимосвязи. – М.: Сов. писатель, 1972. – 262 с. Гинзбург Л. В. «Разбилось лишь сердце мое…» – М.: Сов. писатель, 1983. – 225 с. Гиршман М. М. Литературное произведение: теория художественной целостности. – М.: Языки славянской культуры, 2002. – 528 с. Гончаренко С. Ф. Информационный аспект межъязыковой поэтической коммуникации // Тетради переводчика. Вып. 22. – М.: Высш. шк., 1987. – С. 38–39. Гореликова М. Н., Магомедова Д. М. Лингвистический анализ художественного текста. – М.: Рус. яз., 1989. – 152 с. Гумбольдт Вильгельм фон. Избранные труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 1984. – 398 с. Денисова Г. В. В мире интертекста: язык, память, перевод. – М.: Азбуковник, 2003. – 298 с. Домашнев А. И. и др. Интерпретация художественного текста . – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1989. – 208 с. Дранов А. В. Монолог Гамлета «Быть или не быть». Русские переводы XIX века // Тетради переводчика. Вып. 6. – М.: Междунар. отношения, 1969. – С. 32–51. Ефимов А. И. Стилистика художественной речи. – Изд. 2-е, дополн. и перераб. – М.: Изд-во МГУ, 1961. – 519 с. Задорнова В. Я. Восприятие и интерпретация художественного текста. Учеб. пособие для ин-тов иностр. яз. и филол. фак. ун-тов. – М.: Высш. шк., 1984. – 152 с. Иванов В. В. Перевод в свете современной лингвистической теории // Художественный перевод: Вопросы теории и практики. – Ереван: Изд-во Ереван. ун-та, 1982. – С. 160–166. 191 Ингарден Р. Исследования по эстетике. – М.: Изд-во иностран. лит., 1962. – 572 с. Ингарден Р. Очерки по философии литературы. – Благовещенск: БГК им. И. А. Бодуэна де Куртене, 1999. – 184 с. Казакова Т. А. Художественный перевод. Теория и практика: Учебник. – СПб.: ООО «Инязъиздат», 2006. – 544 с (а). Казакова Т. А. Художественный перевод: в поисках истины. – СПб.: Филолог. ф-т СПбГУ; Изд-во СПбГУ, 2006. – 224 с (б). Катфорд Дж. К. Лингвистическая теория перевода: об одном аспекте прикладной лингвистики. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 208 с. Кашкин И. А. Для читателя – современника. – М.: Сов. писатель, 1968. – 564 с. Комисаров В. Н. Современное переводоведение. – М.: ЭТС, 2000. – 192 с. Комиссаров В. Н. Общая теория перевода: Проблемы переводоведения в освещении зарубежных ученых. – М.: ЧеРо, 1999. – 136 с. Комиссаров В. Н. «Естественность» художественного перевода // Литература и перевод: Издательская группа «Прогресс», «Литера», 1992. – С. 101– 110. Комиссаров В. Н. Лингвистическое переводоведение в России. – М.: ЭТС, 2002. –184с. Комиссаров В. Н. Теория перевода. – М.: Высш. шк., 1990. –151 с. Копанев Н. И. Вопросы истории и теории художественного перевода. – Минск, 1972. – 295 с. Коптiлов В. Теорiя i практика перекладу. – Киïв: Унiверс, 2003. – 280 с. Коптилов В. Этапы работы переводчика // Вопросы теории художественного перевода. Сб. статей. – М.: Худож. лит., 1971. – С. 148–166. Кузьмина, Н. А. Феномен художественного перевода в свете теории интертекста // http://www.quebec.ru/translation/page3.htm 192 Латышев Л. К. Технология перевода. – М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2000. – 280 с. Латышев Л. К. Технология перевода. Учеб. пособие для студ. лингв. вузов и фак. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издат. центр « Академия», 2005. – 320 с. Латышев Л. К., Семенов А. Л. Перевод: теория, практика и методика преподавания. – М.: Издат. центр «Академия», 2003. – 192 с. Левин Ю. Д. Восприятие творчества иннациональных писателей // Историко-литературный процесс. Проблемы и методы изучения. – Л.: Наука, 1974. – С. 237 -273. Левин Ю. Д. Проблема переводной множественности // Литература и перевод: проблемы теории. – М.: Издательская группа «Прогресс», «Литера», 1992. – С. 168. Левин Ю. Д. Русские переводчики XIX в. и развитие художественного перевода. – Л.: Наука, 1985. – 298 с. Левый И. Искусство перевода. – М.: Прогресс, 1974. – 397 с. Литература и перевод: проблемы теории. – М.: Изд. группа «Прогресс», «Литера», 1992. – 398 с. Лихачев Д. С. Внутренний мир художественного произведения // Вопросы литературы. – 1968. – № 8. – С. 74–87. Лихачев Д. С. Литература – реальность – литература. – Л.: Сов. писатель, 1984. – С. 4. Лозинский М. Л. Искусство стихотворного перевода // Перевод – средство взаимного сближения нардов: Худож. публицистика. – М.: Прогресс, 1987. – С. 91–105. Лорие М. О редактуре художественного перевода // Мастерство перевода. – М.: Сов. писатель, 1959. – С. 87–105. Лотман Ю. М. Структура художественного текста. – М.: Искусство, 1970. – 384 с. 193 Лысенкова Е. Л. За строкой перевода: (переводчики Р. М. Рильке о своем труде). – Магадан: Кордис, 2002. – 124 с. Лысенкова Е. Л. Поэзия и проза Р. М. Рильке в русских переводах (исторические, стилистико-сопоставительные и переводоведческие аспекты): дис. … докт. филол. наук. – Магадан, 2006. – 512 с. Макарова Л. С. Коммуникативно-прагматические основы художественного перевода. – М.: Изд-во Московск. госуд. област. ун-та, 2004. – 256 с. Мастерство перевода. Вып. 1– 13. – М.: Сов. писатель, 1959-1990. Миньяр-Белоручев Н. К. Теория и методы перевода. – М.: Московский Лицей, 1996. – 208 с. Мир перевода. Вып. 1–15. – М., 1999–2006. Мирам Г., Гон А. Профессиональный перевод. – Киев: Эльга, Ника– Центр, 2003. – 136 с. Мосты. Журнал для переводчиков. Вып. 1–14. – М., 2004–2007. Нелюбин Л. Л. Толковый переводоведческий словарь. – 3-е изд., перераб. – М.: Флинта, Наука, 2003. – 220 с. Нелюбин Л. Л., Хухуни Г. Т. Наука о переводе (история и теория с древнейших времен до наших дней). – М.: Флинта: МПСИ, 2006. – 416 с. Николина Н. А. Филологический анализ текста. – М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 256 с. Оболенская Ю. Л. Художественный перевод и межкультурная коммуникация. – М.: Высш. шк., 2006. – 335 с. Ортега-и-Гассет Х. «Дегуманизация искусства» и другие работы. Эссе о литературе и искусстве / Сб. / Пер. с исп. – М.: Радуга, 1991. – 639 с. Парандовский Я. Алхимия слова. – М.: Прогресс, 1972. – 335 с. Пас О. Перевод // Перевод – средство взаимного сближения народов: худож. публицистика. – М.: Прогресс, 1987. – С. 159–166. Перевод – средство взаимного сближения народов: Худож. публицистика. – М.: Прогресс, 1987. – 640 с. 194 Попович А. Проблемы художественного перевода. – М.: Высш. шк., 1980. – 199 с. Потебня А. А. Эстетика и поэзия. – М.: Искусство, 1976. – 614 с. Поэтика перевода. Сб. статей. – М.: Радуга, 1988. – 238 с. Принципы художественного перевода. – Петроград: Госуд. изд-во, 1920. – 60 с. Прошина З. Г. Теория перевода (с английского на русский и с русского на английский язык): Учебник на англ. яз. – Изд. 2-е, испр. – Владивосток: Изд-во ДВГУ, 2002. – 240 с. Разговор цитат // Мастерство перевода–1970. – М.: Сов. писатель, 1970. – С. 477–486. Редактор и перевод. – М.: Книга, 1965. – 155 с. Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. – М.: Междунар. отношения, 1974. – 216 с. Рикер П. Парадигма перевода. http://russ.ru/ist_sovr/sumerki/20001102. html Робинсон Д. Как стать переводчиком: введение в теорию и практику перевода. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005. – 304 с. Россельс В. М. Сколько весит слово: статьи. – М.: Сов. писатель, 1984. – 432 с. Россельс В. М. Эстафета слова. Искусство художественного перевода. – М.: Знание, 1972. – 32 с. Русские писатели о переводе (XVIII–XX вв.). Под ред. Ю. Д. Левина, А. В. Федорова. – Л.: Сов. писатель, 1960. – 696 с. Сдобников В. В., Петрова О. В. Теория перевода (учебник для студентов лингвистических вузов и факультетов иностранных языков). – М.: АСТ: Восток-Запад, 2006. – 448 с. Семенов А. Л. Основные положения общей теории перевода. – М.: Издво РУДН, 2004. – 99 с. 195 Сильников А. Н. Некоторые вопросы, связанные с переводимостью // Проблемы лингвистического анализа. – М.: Наука, 1966. – С. 200–212. Сильников А. Н. Передача информации и переводимость // Система и уровни языка. – М.: Наука, 1969. – С. 221–232. Солодуб Ю. П., Альбрехт Ф. Б., Кузнецов А. Ю. Теория и практика художественного перевода: учеб. пособие для студентов лингв. фак. высш. учеб. заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 2005. – 304 с. Сорокин Ю. А. Переводоведение: статус переводчика и психогерметические процедуры. – М.: Гнозис, 2003. – 160 с. Теория и критика перевода. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1962. – 168 с. Теория и практика перевода. Вып. 1–2. – М., 2005–2006. Тетради переводчика. Вып. 1–26. – М., 1963–2007. Топер П. М. Перевод в системе сравнительного литературоведения. – М.: Наследие, 2000. – 254 с. Тюленев С. В. Теория перевода: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2004. – 336 с. Федоров А. В. Введение в теорию перевода. – М.: Изд-во лит. ин. яз., 1953. – 335 с . Федоров А. В. Введение в теорию перевода. – М.: Изд-во лит. ин. яз., 1958. – 375 с. Федоров А. В. Искусство перевода и жизнь литературы. – Л.: Сов. писатель, 1983. – 351 с (а). Федоров А. В. К вопросу о переводимости // Актуальные проблемы теории художественного перевода. Материалы Всесоюзного симпозиума (25 февраля – 2 марта 1966 г.) – М.: Союз писателей СССР. Совет по худож. переводу, 1967. Т. 1. – 369 с., Т. 2. – С. 35–40. Федоров А. В. О художественном переводе. – Л.: Гос. изд-во худож. лит., 1941. – 259 с. Федоров А. В. О художественном переводе. Работы 1920–1940-х годов. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2006. – 256 с. 196 Федоров А. В. Основы общей теории перевода (Лингвистические проблемы) / А. В. Федоров. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: ООО «Издательский Дом «ФИЛОЛОГИЯ ТРИ», 2002. – 416 с. Федоров А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы). – М.: Высш. шк., 1983. – 303 с (б). Федоров А. В. Основы общей теории перевода (лингвистический очерк). – М.: Высш. шк., 1968. – 396 с. Флорин С. Необходимое пособие // Мастерство перевода. – М.: Сов. писатель, 1971. – С. 327–339. Художественный перевод: Взаимодействие и взаимообогащение литератур. – Ереван: Изд-во Ереван. ун-та, 1973. – 534 с. Художественный перевод: Вопросы теории и практики. – Ереван: Издво Ереван. ун-та, 1982. – 500 с. Художественный перевод: проблемы и суждения. Сб. статей. [Сост. Л. А. Аннинский]. – М.: Известия, 1986. – 576 с. Хухуни Г. Т., Валуйцева И. И. Межкультурная адаптация художественного текста. – М.: Прометей, 2003. – 172 с. Цвиллинг М. Я. Переводоведение как синтез знания // Тетради переводчика. – Вып. 24 / Под ред. С. Ф. Гончаренко. – М.: МГЛУ, 1999. – С. 32– 37. Чайковский Р. Р. Поэтический перевод в зеркале мнений (15 интервью). – Магадан: Кордис, 1997. – 104 с. Чайковский Р. Р. Реальности поэтического перевода (типологические и социологические аспекты). – Магадан: Кордис, 1997. – 197 с. Чайковский Р. Р. Синтаксис и стиль. – Хабаровск: ХПГИ, 1980. – 64 с. Чуковский К. И. Высокое искусство // Чуковский К. И. Собрание сочинений в 6 томах. Т. 3. – М.: Худож. лит., 1966. – С. 239–627. Чуковский К. И. Высокое искусство // Чуковский К. И. Собрание сочинений в 15 томах. Т. 3. – М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2001. – С. 3–342. 197 Чуковский К. И. Высокое искусство. – М.: Гос. изд-во «Художественная литература», 1941. – 259 с. Чуковский К. И. Высокое искусство. – М.: Сов. писатель, 1968. – 384 с. Чуковский К. И. Высокое искусство. – М.: Сов. писатель, 1988. – 349 с. Чуковский К. И. Искусство перевода. – М.–Л.: ACADEMIA, 1936. – 227 с. Чуковский К. И., Федоров А. В. Искусство перевода. – Л.: ACADEMIA, 1930. – 237 с. Швейцер А. Д. Перевод и лингвистика. – М.: Воениздат, 1976. – 280 с. Швейцер А. Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты. – М.: Наука, 1988. – 215 с. Швейцер А. Еще раз к вопросу о переводимости // Литература и перевод: проблемы теории. – М.: Изд. группа «Прогресс», «Литера», 1992. – С. 154–159. Шор В. Е. Опыт многообразного решения одной переводческой задачи // Мастерство перевода. Сб. 1962. – М.: Сов. писатель, 1963. – С. 447–484. Эко У. Сказать почти то же самое. Опыты о переводе. – СПб.: Симпозиум, 2006. – 574 с. Эткинд Е. Г. Поэзия и перевод. – М.–Л.: Сов. писатель, 1963. – 430 с. Эткинд Е. Г. Художественный перевод: искусство и наука // Вопросы языкознания. – 1970. – № 4. – С. 15–29. Albrecht J. Literarische Überzetzung: Geschichte, Theorie, kulturelle Wirkung. – Darmstadt: Wiss. Buchges., 1998. – 362 S. Apel F. Literarische Übersetzung. – Stuttgart: Metzler, 1983. – 103 S. Bassnet S. Translation Studies. – London and New York: Routledge, 1996. – 168 p. Belloc H. On Translation. – Oxford: The Clarendon Press, 1931. – 44 p. Friedberg M. Literary Translation in Russia. A Cultural History. – Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 1997. – 224 p. 198 Gentzler E. Contemporary Translation Theories. – London; New York: Routledge, 1993 –224 p. Gerzymisch–Arbogast H. Übersetzungswissenschaftliches Propädeutikum. – Tübingen und Basel: Francke Verlag, 1994. – 190 S. Handbuch Translation / Mary Shell-Hornby… (Hrsg.). – 2., verb. Aufl. – Tübingen: Stauffenburg–Verl., 1999. – 434 S. Übersetzung. Translation. Traduction. – Walter de Gruyter–Berlin–New York, 2004. –1. Teilband / Volume 1 / Tome 1. – 1061 S. Kade O. Zufall und Gesetzmäβigkeit in der Übersetzung // Fremdsprachen [Leipzig]. – 1968. – Beiheft 1. – 128 S. Kayser W. Das sprachliche Kunstwerk. Eine Einführung in die Literaturwissenschaft. – 20. Auflage. – Tübingen und Basel: Francke Verlag, 1992. – 460 S. Kelletat A. F. Die Rückschritte der Übersetzungstheorie. Anmerkungen zur „Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie“ von Katharina Reiß und Hans J. Vermeer. – Vaasa: Verlag der Universität Vaasa, 1986. – 33 S. Kirsch R. Das Wort und seine Strahlung. Über Poesie und ihre Übersetzung. – Berlin-Weimar: Aufbau Verlag, 1976. – 119 S. Koller W. Einführung in die Übersetzungswissenschaft. 5. Aufl. – Wiesbaden: Quelle & Meyer, 1997. – 343 S. Königs F. Übersetzungswissenschaftliche Terminologie // Übersetzen und Fremdschprachenunterricht. – Hrsg. von K.-R. Bausch, F.-R. Weller. – 1. Aufl. – Frankfurt am Main; Berlin; München: Diesterweg, 1981. – S. 314–338. Kußmaul P. Kreatives Übersetzen. – Tübingen: Stauffenburg Verlag, 2000. – 215 S. Mishchenko Z. A., Turtschenko O. M. Theorie und Praxis des Übersetzens. – Winnyzja: NOWA KNYHA, 2003. – 176 S. Nord Ch. Textanalyse und Übersetzen: Theoretische Grundlagen, Methode und didaktisache Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse. – Heidelberg: Gross; 1995. – 284 S. 199 Paepcke F. Textverstehen – Textübersetzen – Übersetzungskritik // Übersetzungswissenschaft – eine Neuorientierung: zur Integrierung von Theorie und Praxis / Mary Shell-Hornby (Hrsg.). – 2 Aufl. – Tübingen; Basel: Franke, 1994. – S. 106–132. Raffel B. The Art of Translating poetry // Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 1988. – 206 p. Reiß K. Grundfragen der Übersetzungswissenschaft. Wiener Vorlesungen / Hrsg. von M. Snell-Hornby und M. Kadric. – Wien: WUV-Univ.-Verl., 1995 – 132 S. Risku H. Translatorische Kompetenz: Kognitive Grundlagen des Übersetzens als Expertentätigkeit. – Tübingen: Stauffenburg Verlag, 1998. – 294 S. Tietze R. Pladoyer für den sicht- und hörbaren Übersetzer. Sieben Schritte auf dem Weg zu einer Poetik des Übersetzens // Das Wort. Germanistisches Jahrbuch 1994. – M.: Deutscher Akademischer Austauschdienst, 1994. – S. 210–217. Touri G. In Search of a Theory of Translation. – Tel Aviv: The Porter Institute for Poetics and Semiotics, 1980. – 235 p. Wilss W. Übersetzungswissenschaft. Probleme und Methoden. – Darmstadt: Wissenschaft1iche Buchgesel1schaft, 1981. – 414 S. Winter W. Impossibilities of Translation // The Craft and Context of Translation. Ed. by W. Arrowsmith and R. Shattuck. – Garden City, New York: Anchor Books, 1964. – P. 93-112. 200 Содержание Введение ............................................................................................................... 3 Глава I. Предмет, объект и важнейшие понятия теории художественного перевода ................................................................................ 6 1. Задачи, предмет и объект теории художественного перевода ................................6 2. Литературно-художественное произведение ..............................................................9 3. Художественная речь ....................................................................................................14 4. Художественный текст .................................................................................................20 5. Оригинал и перевод ......................................................................................................25 6. Методы теории художественного перевода ..............................................................28 7. Художественный перевод как вид искусства слова ...............................................31 8. Законы теории художественного перевода ...............................................................34 9. Статус переводной литературы ..................................................................................42 Глава II. Теория художественного перевода в отечественном переводоведении XX – начале XXI вв. ......................................................... 47 1. 20–40-е годы ХХ века ....................................................................................................47 2. 1950–1990-е годы ............................................................................................................61 3. Авторские школы перевода второй половины XX века .......................................66 4. Начало ХХI века ............................................................................................................74 Глава III. Онтологическая основа художественного перевода (о проблеме переводимости/непереводимости) .............................................. 85 1. А. В. Федоров и его трактовка подходов в проблеме переводимости/непереводимости в трудах предшественников ...............................85 2. Проблема непереводимости в работах отечественных и зарубежных ученых .90 3. Переводимость как категория переводоведения ....................................................97 4. Переводимость/непереводимость: попытка синтеза ............................................100 Глава IV. Сопротивление оригинала переводу ........................................ 116 1. Лексика ..........................................................................................................................117 2. Уровень морфологии ..................................................................................................121 3. Синтаксис......................................................................................................................126 4. Звукопись ......................................................................................................................130 5. Стиль..............................................................................................................................146 201 Глава V. Переводная множественность как категория теории художественного перевода ............................................................................ 154 1. Понятие переводной множественности...................................................................154 2. Статус перевода при переводной множественности.............................................155 3. Типы переводной множественности ........................................................................156 4. Политекстуальность оригинала ...............................................................................160 5. Связь между оригиналом и его переводами ...........................................................161 6. Переводная множественность как синонимика на уровне текста ....................165 7. Расширение образно-понятийного мира оригинала при переводной множественности .............................................................................................................166 8. Переводная множественность и ресурсы языка ...................................................167 9. Тождественность переводческих решений при переводной множественности 170 10.Оптимальные переводческие решения .................................................................172 11.Роль заглавия оригинала при переводной множественности ...........................173 12.Переводная множественность и проблема прогресса в переводе .....................175 Глава VI. Этапы работы переводчика ....................................................... 177 Заключение ...................................................................................................... 186 Использованная и рекомендуемая литература.................................... 187