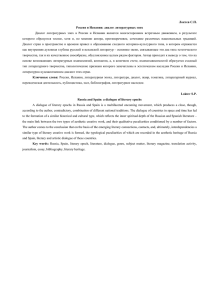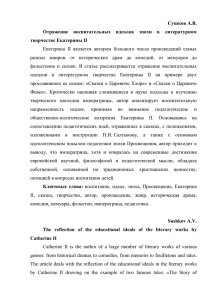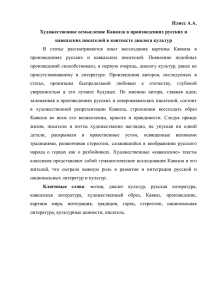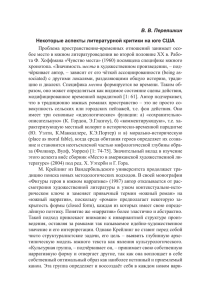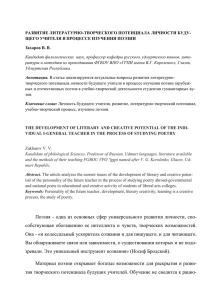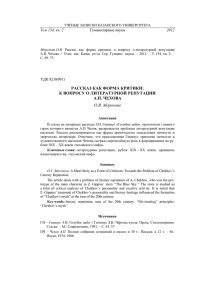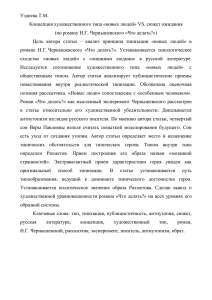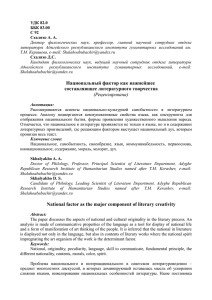ЦЕННОСТИ И КАНОНЫ
реклама
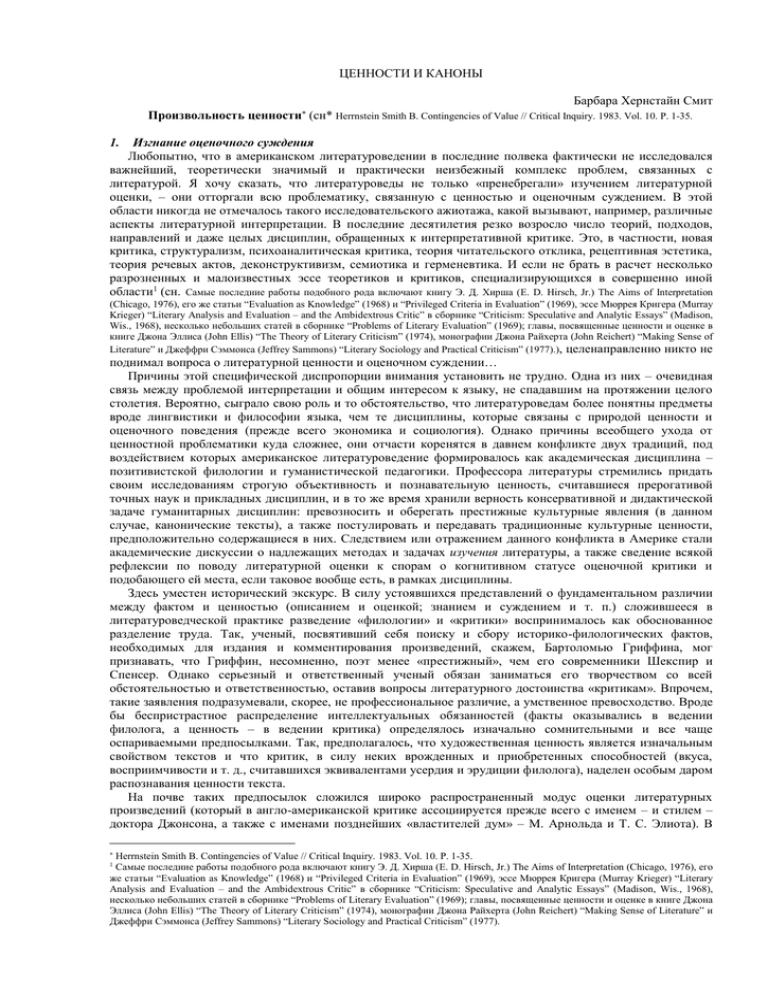
ЦЕННОСТИ И КАНОНЫ Барбара Хернстайн Смит Произвольность ценности (сн* Herrnstein Smith B. Contingencies of Value // Critical Inquiry. 1983. Vol. 10. P. 1-35. Изгнание оценочного суждения Любопытно, что в американском литературоведении в последние полвека фактически не исследовался важнейший, теоретически значимый и практически неизбежный комплекс проблем, связанных с литературой. Я хочу сказать, что литературоведы не только «пренебрегали» изучением литературной оценки, – они отторгали всю проблематику, связанную с ценностью и оценочным суждением. В этой области никогда не отмечалось такого исследовательского ажиотажа, какой вызывают, например, различные аспекты литературной интерпретации. В последние десятилетия резко возросло число теорий, подходов, направлений и даже целых дисциплин, обращенных к интерпретативной критике. Это, в частности, новая критика, структурализм, психоаналитическая критика, теория читательского отклика, рецептивная эстетика, теория речевых актов, деконструктивизм, семиотика и герменевтика. И если не брать в расчет несколько разрозненных и малоизвестных эссе теоретиков и критиков, специализирующихся в совершенно иной области1 (сн. Самые последние работы подобного рода включают книгу Э. Д. Хирша (E. D. Hirsch, Jr.) The Aims of Interpretation 1. (Chicago, 1976), его же статьи “Evaluation as Knowledge” (1968) и “Privileged Criteria in Evaluation” (1969), эссе Мюррея Кригера (Murray Krieger) “Literary Analysis and Evaluation – and the Ambidextrous Critic” в сборнике “Criticism: Speculative and Analytic Essays” (Madison, Wis., 1968), несколько небольших статей в сборнике “Problems of Literary Evaluation” (1969); главы, посвященные ценности и оценке в книге Джона Эллиса (John Ellis) “The Theory of Literary Criticism” (1974), монографии Джона Райхерта (John Reichert) “Making Sense of Literature” и Джеффри Сэммонса (Jeffrey Sammons) “Literary Sociology and Practical Criticism” (1977).), целенаправленно никто не поднимал вопроса о литературной ценности и оценочном суждении… Причины этой специфической диспропорции внимания установить не трудно. Одна из них – очевидная связь между проблемой интерпретации и общим интересом к языку, не спадавшим на протяжении целого столетия. Вероятно, сыграло свою роль и то обстоятельство, что литературоведам более понятны предметы вроде лингвистики и философии языка, чем те дисциплины, которые связаны с природой ценности и оценочного поведения (прежде всего экономика и социология). Однако причины всеобщего ухода от ценностной проблематики куда сложнее, они отчасти коренятся в давнем конфликте двух традиций, под воздействием которых американское литературоведение формировалось как академическая дисциплина – позитивистской филологии и гуманистической педагогики. Профессора литературы стремились придать своим исследованиям строгую объективность и познавательную ценность, считавшиеся прерогативой точных наук и прикладных дисциплин, и в то же время хранили верность консервативной и дидактической задаче гуманитарных дисциплин: превозносить и оберегать престижные культурные явления (в данном случае, канонические тексты), а также постулировать и передавать традиционные культурные ценности, предположительно содержащиеся в них. Следствием или отражением данного конфликта в Америке стали академические дискуссии о надлежащих методах и задачах изучения литературы, а также сведение всякой рефлексии по поводу литературной оценки к спорам о когнитивном статусе оценочной критики и подобающего ей места, если таковое вообще есть, в рамках дисциплины. Здесь уместен исторический экскурс. В силу устоявшихся представлений о фундаментальном различии между фактом и ценностью (описанием и оценкой; знанием и суждением и т. п.) сложившееся в литературоведческой практике разведение «филологии» и «критики» воспринималось как обоснованное разделение труда. Так, ученый, посвятивший себя поиску и сбору историко-филологических фактов, необходимых для издания и комментирования произведений, скажем, Бартоломью Гриффина, мог признавать, что Гриффин, несомненно, поэт менее «престижный», чем его современники Шекспир и Спенсер. Однако серьезный и ответственный ученый обязан заниматься его творчеством со всей обстоятельностью и ответственностью, оставив вопросы литературного достоинства «критикам». Впрочем, такие заявления подразумевали, скорее, не профессиональное различие, а умственное превосходство. Вроде бы беспристрастное распределение интеллектуальных обязанностей (факты оказывались в ведении филолога, а ценность – в ведении критика) определялось изначально сомнительными и все чаще оспариваемыми предпосылками. Так, предполагалось, что художественная ценность является изначальным свойством текстов и что критик, в силу неких врожденных и приобретенных способностей (вкуса, восприимчивости и т. д., считавшихся эквивалентами усердия и эрудиции филолога), наделен особым даром распознавания ценности текста. На почве таких предпосылок сложился широко распространенный модус оценки литературных произведений (который в англо-американской критике ассоциируется прежде всего с именем – и стилем – доктора Джонсона, а также с именами позднейших «властителей дум» – М. Арнольда и Т. С. Элиота). В Herrnstein Smith B. Contingencies of Value // Critical Inquiry. 1983. Vol. 10. P. 1-35. Самые последние работы подобного рода включают книгу Э. Д. Хирша (E. D. Hirsch, Jr.) The Aims of Interpretation (Chicago, 1976), его же статьи “Evaluation as Knowledge” (1968) и “Privileged Criteria in Evaluation” (1969), эссе Мюррея Кригера (Murray Krieger) “Literary Analysis and Evaluation – and the Ambidextrous Critic” в сборнике “Criticism: Speculative and Analytic Essays” (Madison, Wis., 1968), несколько небольших статей в сборнике “Problems of Literary Evaluation” (1969); главы, посвященные ценности и оценке в книге Джона Эллиса (John Ellis) “The Theory of Literary Criticism” (1974), монографии Джона Райхерта (John Reichert) “Making Sense of Literature” и Джеффри Сэммонса (Jeffrey Sammons) “Literary Sociology and Practical Criticism” (1977). 1 Англии эта разновидность критики наиболее ярко представлена трудами Ф. Р. Ливиса, а в Америке – пожалуй, крайне неудачно – работами А. Уинтерса. Размах и общий тон подобной критики можно представить себе по следующему отрывку из «Переоценки» Ливиса: Безусловно, различия необходимы: например, Теннисон как поэт значительно превосходит любого из прерафаэлитов. Кристина Россетти также заслуживает отдельного рассмотрения в силу ее, пусть скромных и ограниченных, но все-таки несомненных достоинств…. Эмили Бронте как поэту тоже еще не воздали по заслугам. Не претендуя на окончательность суждения, я все же осмелюсь сказать, что в Оксфордской антологии английской поэзии (The Oxford Book of English Verse) ее «Холод земли» – лучшее стихотворение в разделе, посвященном девятнадцатому веку2. (сн. Leavis F. R. Revaluation: Tradition and Development in English Poetry. London, 1936; New York, 1963. P. 5-6.) Однако столь откровенный «разгул вкусовщины» (как позже скажет Нортроп Фрай) со временем стал осознаваться как помеха для дисциплины. Оценочная критика становилась все агрессивнее – отчасти, вероятно, из-за возобновившегося и возросшего влияния аксиологического скептицизма. В 1930-40-х гг. многие видные философы, в том числе А. Дж. Айер и Р. Карнап, принялись доказывать, что оценочные суждения не только отличны от поддающихся опытной проверке фактоизъявлений, но являются «псевдовысказываниями». Они могут, в лучшем случае, звучать убедительно (не являясь при этом истинными); в худшем случае они всего лишь выражают личные эмоции. Но ни в одном из случаев они не отражают и не создают подлинного знания 3 . (сн. См.: Ayer A. J. Language, Truth, and Logic. London, 1936.) Такие заявления лишь укрепляли филолога-позитивиста во мнении, что работа его коллеги-критика в интеллектуальном плане – не более чем малоценная деятельность дилетанта, тогда как его собственные штудии, в которых он всегда стремился к точности и объективности, и есть настоящее литературоведение. Последовавшие затем академические баталии примечательны многообразием тактических ходов, призванных обеспечить «критике» статус «серьезного исследования», который был бы не менее почетным, чем статус точных наук. […] Одним из самых смелых проектов, призванных придать критике дисциплинарную респектабельность и содержательную насыщенность, был предложен в середине века Н. Фраем, предлагавшим рассматривать критику как деятельность, полностью свободную от оценочного компонента. В своем «Полемическом введении» к «Анатомии критики» Фрай подчеркивал, что если критике и суждено когда-нибудь стать «сферой подлинного познания», то она должна «отрезать и выбросить» часть, которая «[с ней] органически не связана», т. е. оценку.4 (сн. Frye N. Anatomy of Criticism: Four Essays. Princeton, N.J., 1957. P. 18, 19. Далее в ссылках данная работа будет обозначена аббревиатурой AC.) Для Фрая всевозможные мнения критиков и выстраиваемые ими иерархии произведенний были не просто бестолковым нагромождением субъективных суждений, но противоположностью «настоящей критики», поскольку он вслед за Элиотом утверждал, что «существующие памятники литературы сами по себе образуют идеальный порядок». В известном отрывке он высмеивает «любую литературоведческую болтовню, способствующую взлету и падению репутации поэта на воображаемой бирже», подчеркивая: Подобные явления не должны быть частью систематического исследования, поскольку систематическое исследование предполагает только развитие: лишь пустословию праздного класса свойственно смятение, непостоянство и смена позиций. К структуре критики история вкуса имеет такое же отношение, какое спор между Хаксли и Уилберфорсом – к структуре биологической науки. [AC, 18]. Принимая во внимание платоническое понимание Фраем литературы и его позитивистский взгляд на науку, неудивительно, что он не понял, насколько сомнительна его аналогия. Ведь полемика между Хаксли и Уилберфорсом вполне может стать частью «структуры» биологической науки (которая, как любая другая наука, в том числе и наука о литературе, отнюдь не отделена от собственной интеллектуальной, социальной и институциональной истории). Однако, раз «порядок» «существующих памятников литературы», бесспорно, является побочным продуктом, среди прочего, оценочных практик, то всякая истинно систематическая работа по литературоведению рано или поздно потребует изучения этих практик. Иными словами, структуру критики нельзя так просто отделить от истории вкуса, поскольку они тесно переплетены друг с другом. Сделанная Н. Фраем попытка исключить из литературоведения оценочный компонент была на удивление объективна, поскольку в ней сочетались призыв к научной объективности и гуманистический взгляд на литературу. Фрай также обещал светлое будущее литературной критике и высокий профессиональный статус критикам. В результате под его влияние подпало целое поколение литературоведов, критиков и преподавателей, многие из которых до сих пор извиняются за неприкрытые оценочные суждения, словно допустив интеллектуальную или моральную слабость5. (сн. Стоит напомнить, что, 2 Leavis F. R. Revaluation: Tradition and Development in English Poetry. London, 1936; New York, 1963. P. 5-6. См.: Ayer A. J. Language, Truth, and Logic. London, 1936. 4 Frye N. Anatomy of Criticism: Four Essays. Princeton, N.J., 1957. P. 18, 19. Далее в ссылках данная работа будет обозначена аббревиатурой AC. 5 Стоит напомнить, что, как и многие другие (в частности, Хирш, о котором см. ниже прим.), Фрай настаивал на том, что интерпретационная критика должна стремиться к объективности. См. его замечания в лекции 1967 года: «Полновесное критическое действие… является актом узнавания, всматривания, отличным от простого смотрения в нарциссическое зеркало нашего собственного опыта и социально-этических предрассудков….. Занимаясь интерпретацией, критик говорит о своем поэте, когда же он дает оценку, он говорит о себе самом» (“Value Judgments” // Criticism: Speculative and Analytic Essays, p. 39). 3 как и многие другие (в частности, Хирш, о котором см. ниже прим.), Фрай настаивал на том, что интерпретационная критика должна стремиться к объективности. См. его замечания в лекции 1967 года: «Полновесное критическое действие… является актом узнавания, всматривания, отличным от простого смотрения в нарциссическое зеркало нашего собственного опыта и социально-этических предрассудков….. Занимаясь интерпретацией, критик говорит о своем поэте, когда же он дает оценку, он говорит о себе самом» (“Value Judgments” // Criticism: Speculative and Analytic Essays, p. 39).) Однако Фраю не удалось оставить за собой последнее слово в данной дискуссии, и уже в 1968 году Э. Д. Хирш-младший в эссе с красноречивым названием «Оценка как познание» попытался реабилитировать когнитивный статус оценочной критики. Хирш заявляет, что если оценочное суждение о произведении литературы напрямую связано с самим произведением, а не с его «искаженной версией», и тесно соприкасается с правильной интерпретацией его объективного значения, то оно представляет собой истинное утверждение и в этом отношении сопоставимо с «чистым описанием», выражающим «объективное знание»6. (сн. Hirsch E.D. The Aims of Interpretation, p. 108.) Так как едва ли не каждое понятие, использованное здесь Хиршем, является одним из спорных мест современной эпистемологии и критической теории, неудивительно, что его рассуждение так и не определило интеллектуальный статус оценочной критики ни для самого Хирша, ни для других исследователей 7 . (сн. В недавней, так и не опубликованной статье «Литературная ценность: Краткая история сегодняшней путаницы» (Literary Value: The Short History of a Modern Confusion, 1980) Хирш утверждает, что в отличие от значения, оценка литературного произведения носит непостоянный характер. Однако, учитывая это обстоятельство, он заявляет, что «существуют некоторые неизменные принципы» - т. е. принципы этического свойства, – «которые спасены от хаоса обычного человеческого релятивизма» (Р. 22). Как станет ясно ниже, «человеческий релятивизм» вовсе не есть причина хаоса и сам по себе тоже не отличается хаотичностью. Способ спасения этических принципов и апелляция к высшему благу будут рассмотрены ниже.) Дискуссия о надлежащем месте оценки в литературоведении к концу еще не подошла и вряд ли, как мне кажется, подойдет, если будет вестись в привычной плоскости. Между тем, хотя интеллектуальный потенциал оценочной критики по-прежнему остается под сомнением, она все же не теряет авторитета в литературоведческих аудиториях, получая также доступ в филологические журналы, куда пробирается под прикрытием других форм литературоведения, считающихся более объективными – исторического описания, текстового анализа и комментария. Однако всегда затушевывается то обстоятельство, что литературная оценка – не просто одна из сторон официальной академической критики, но также и целый ряд социальных и культурных практик, проистекающих из самой сути литературы. От серьезного исследования ускользает целая область, подлежащая теоретическому, историческому и практическому осмыслению. Хотя мои наблюдения относятся прежде всего к англо-американской критической теории, в континентальной Европе ситуация, равно как и ее интеллектуальная и институциональная предыстория, в целом аналогичны. Господство лингвоцентрических и интерпретационных теорий, направлений и подходов явно носит международный характер, и в Европе вектор развития литературоведения тоже определяется конфликтом между позитивизмом и гуманизмом. Отдельные исключения, тем не менее, заслуживают внимания. В двадцатые и тридцатые годы восточноевропейские теоретики тоже стремились превратить литературоведение в прогрессивную систематическую науку, но они не исключали из своей программы проблематику ценности и оценки. В частности, Юрий Тынянов и Михаил Бахтин признавали историческую изменчивость функций текста, а также взаимодействие канонических и неканонических произведений с другой культурной продукцией. Оригинальным и основательным оказалось также изучение Яном Мукаржовским принципиального вопроса об эстетической ценности 8 . (сн. См. работы Ю. Тынянова «О литературной эволюции» (Москва, 1927), М. Бахтина «Рабле и его мир» (Москва, 1965) и Яна Мукаржовского «Эстетическая норма, функция и ценность как социальные явления» (Прага, 1934).) Кроме того, некоторые работы в русле социологии литературы (преимущественно французские и немецкие), и в русле рецептивной эстетики тоже затрагивали аспекты литературной оценки9. (сн. Обзор и анализ соответствующих теорий см. в работах: Sammons J. Literary Sociology and Practical Criticism; Segers R. T. The Evaluation of Literary Texts: An Experimental Investigation into the Rationalization of Value Judgments with Reference to Semiotics and Esthetics of Reception (Lisse, 1978). Из последних исследований существенный интерес представляет труд Жака Ленхардта и Пьера Жожа – Leenhardt J.) Стоит, правда, отметить, что изучение ценности и оценки в последних работах формалистов и структуралистов осталось в практически зачаточном состоянии 10 (сн. Например, как таковые эти понятия не упоминаются у Джонатана Каллера в «Структурной поэтике» (Culler J. Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics, and the Study of Literature. Ithaca, N.Y., 1975).), а марксистская литературная теория только недавно начала двигаться от робкого пересмотра ортодоксальной эстетической аксиологии в сторону радикальной смены 6 Hirsch E.D. The Aims of Interpretation, p. 108. В недавней, так и не опубликованной статье «Литературная ценность: Краткая история сегодняшней путаницы» (Literary Value: The Short History of a Modern Confusion, 1980) Хирш утверждает, что в отличие от значения, оценка литературного произведения носит непостоянный характер. Однако, учитывая это обстоятельство, он заявляет, что «существуют некоторые неизменные принципы» - т. е. принципы этического свойства, – «которые спасены от хаоса обычного человеческого релятивизма» (Р. 22). Как станет ясно ниже, «человеческий релятивизм» вовсе не есть причина хаоса и сам по себе тоже не отличается хаотичностью. Способ спасения этических принципов и апелляция к высшему благу будут рассмотрены ниже. 8 См. работы Ю. Тынянова «О литературной эволюции» (Москва, 1927), М. Бахтина «Рабле и его мир» (Москва, 1965) и Яна Мукаржовского «Эстетическая норма, функция и ценность как социальные явления» (Прага, 1934). 9 Обзор и анализ соответствующих теорий см. в работах: Sammons J. Literary Sociology and Practical Criticism; Segers R. T. The Evaluation of Literary Texts: An Experimental Investigation into the Rationalization of Value Judgments with Reference to Semiotics and Esthetics of Reception (Lisse, 1978). Из последних исследований существенный интерес представляет труд Жака Ленхардта и Пьера Жожа – Leenhardt J. 10 Например, как таковые эти понятия не упоминаются у Джонатана Каллера в «Структурной поэтике» (Culler J. Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics, and the Study of Literature. Ithaca, N.Y., 1975). 7 подхода11. (сн. См., в частности, вполне обстоятельное обсуждение «объективной ценности» у Стефана Моравского (Morawski S. Inquiries into Fundamentals of Aesthetics. Cambridge, Mass.; London, 1974) и обесценивание стандартного английского литературного канона в терминах Альтюссера у Терри Иглтона (Eagleton T. Criticism and Ideology: A Study in Marxist Literary Theory. London, 1976, p. 162-87). Также на эту тему см.: Jauss H.R. The Idealist Embarrassment: Observations on Marxist Aesthetics // New Literary History 7 (Autumn 1975): 191-208; Williams R. Marxism and Literature. Oxford, 1977, pp. 45-54, 151-57; Bennett T. Formalism and Marxism. London, 1979. P. 172-75; Widdowson P. “Literary Value” and the Reconstruction of Criticism // Literature and History 6 (1980): 138-50.) И хотя теоретические перспективы, понятийные структуры и техника анализа, предложенные Ж. Деррида, потенциально представляют для нас большой интерес (особенно в свете возобновившегося внимания к Ницше), их основная аксиологическая подкладка остается, в целом, неизученной12 (сн. Можно, тем не менее, обратиться к работе Аркадия Плотницкого: Plotnitsky A. Constraints of the Unbound: Transformation, Value, and Literary Interpretation. (Ph.D. diss., University of Pennsylvania, 1982).), а ставший частью американской литературной теории метод деконструкции практически полностью поставлен на службу антигерменевтике, иными словами, подчинен нашему враждебному интересу к интерпретативной критике. Недавние попытки поднять вопрос о ценности и оценке в американском академическом литературоведении исходили, главным образом, от тех, кто стремился подвергнуть канон основательному пересмотру, – в основном, от критиков феминистического направления. Своих целей они добились, но все же не смогли сформулировать самостоятельной неканонической теории ценности и оценки. Запрет, налагаемый на открытые оценочные суждения, сделал невозможным и ненужным признание множественности ценностных систем, что наделило неограниченными полномочиями одну-единственную оценивающую инстанцию (за неимением конкурентов). Следует отметить, что ни в одном из развернувшихся в 1940–50-е годы дебатов не оспаривался сам академический канон текстов, и что в тех случаях, когда авторитет оценивающей инстанции не нуждался в отдельных пояснениях и оправданиях, он просто принимался как данность. И потому Фрай на одном дыхании мог говорить о том, что «избавление от… всех случайных, сентиментальных и предвзятых оценочных суждений» есть «первый шаг к формированию подлинной поэтики» и упоминать «шедевры литературы», выступающие в качестве «материала для литературной критики» (АС, 18, 15). «Шедевральность», похоже, разумелась сама собой или же определялась при помощи «непосредственных ценностных суждений развитого вкуса» либо «конкретных художественных ценностей, … давно установленным благодаря критическому опыту» (АС, 27, 20). Особого внимания заслуживает следующий пассаж Фрая: Сопоставительная оценка значимости на самом деле есть не что иное, как вывод из критической практики, причем более весомый, если он не произносится вслух…. Всякий критик вскорости убедится, что поэзия Мильтона – куда более ценный и благодарный материал для исследования, чем поэзия Блэкмора. Однако, чем яснее он будет это осознавать, тем меньше ему захочется тратить время на объяснение своего мнения [АС, 25]. Кроме примечательной связи валидности суждения и молчания (в какой-то мере, сопоставимой со сдержанными «проявлениями» ценности Уимсета), интереса заслуживают еще два момента в рассуждении Фрая. Во-первых, говоря, что Мильтон, очевидно, «более ценный и благодарный» автор для критического исследования, чем Блэкмор, Фрай поднимает вопрос, какого рода исследованием будет заниматься критик. Ведь если рассматривать отношения канонических и неканонических текстов в рамках системы литературных ценностей в Англии XVIII века, то Блэкмор для исследования покажется столь же ценным и многогранным, как и Мильтон. И здесь, и в упорстве, с каким Фрай повторяет, что «материалом» критики должны быть «шедевры литературы» (он также апеллирует к «мнению, которое все мы разделяем, – о том, что изучение посредственных произведений искусства остается случайной и маргинальной формой критического опыта» [АС, 17]), проявляется крайне узкое понимание потенциальной области литературоведения и набора проблем и явлений, которыми стоит заниматься. Однако именно в этой предметной и методологической ограниченности (которая даже в лаборатории новой прогрессивной поэтики обнажает консервативную силу традиционной гуманистической идеологии) Фрай за последние полвека обрел сторонников в лице большинства англо-американских литературоведов. Второй занимательный аспект рассуждения Фрая состоит в симптоматичном сопоставлении Мильтона с Блэкмором, которое преподносится как пример оценочного сравнения, причем с результатом настолько очевидным, что он не заслуживает доказательств. Блэкмор, как мы помним, был автором претенциозной эпической поэмы «Творение», оставшейся в истории литературы благодаря случайной похвале доктора Джонсона и известной больше как образец литературной посредственности. Ее роль, – можно даже сказать, ее ценность, – в том, что она служит примером плохой поэзии. Однако это удобное сопоставление (а также ряд ему подобных: Шекспир и Эдгар Гест, Джон Китс и Джойс Килмер, Т. С. Элиот и Элла Уиллер Уилкокс, – которые беспрестанно встречаются в описанной выше полемике) позволяет уклониться от более сложных и принципиальных вопросов о суждении, порождаемых подлинным многообразием и См., в частности, вполне обстоятельное обсуждение «объективной ценности» у Стефана Моравского (Morawski S. Inquiries into Fundamentals of Aesthetics. Cambridge, Mass.; London, 1974) и обесценивание стандартного английского литературного канона в терминах Альтюссера у Терри Иглтона (Eagleton T. Criticism and Ideology: A Study in Marxist Literary Theory. London, 1976, p. 162-87). Также на эту тему см.: Jauss H.R. The Idealist Embarrassment: Observations on Marxist Aesthetics // New Literary History 7 (Autumn 1975): 191-208; Williams R. Marxism and Literature. Oxford, 1977, pp. 45-54, 151-57; Bennett T. Formalism and Marxism. London, 1979. P. 172-75; Widdowson P. “Literary Value” and the Reconstruction of Criticism // Literature and History 6 (1980): 138-50. 12 Можно, тем не менее, обратиться к работе Аркадия Плотницкого: Plotnitsky A. Constraints of the Unbound: Transformation, Value, and Literary Interpretation. (Ph.D. diss., University of Pennsylvania, 1982). 11 столкновением ценностных систем. Вопросы, в частности, возникают из-за отчетливых претензий на ценность со стороны неканонических произведений (таких, как модернистские тексты, в особенности крайне новаторские, а также экзотические произведения, принадлежащие устной либо племенной литературе, популярной литературе и «этнической» литературе) и из-за суждений о художественной ценности, вынесенных теми, кого можно было бы назвать неканонической или экзотической в культурном плане аудиторией (например, всеми читателями, которые не являются ни студентами, ни критиками, ни преподавателями литературы и, вероятно, никогда не были и не попадут в академический мир или на его окраины). Уклонение от неудобных вопросов становится еще заметнее, когда конфликт суждений, возникающий из фундаментального и, пожалуй, непримиримого расхождения интересов, получает политическую подоплеку. Поясню свою точку зрения конкретным примером. В 1977 году вышла работа о поэзии Лэнгстона Хьюза, написанная Онвучеквой Джеми (Onwuchekwa Jemie) – поэтом и критиком с нигерийскими корнями и американским образованием, на тот момент преподававшим английскую и афро-американскую литературу в университете Миннесоты. В одной из глав своего исследования Джеми анализирует поэтический цикл Хьюза «Госпожа» и его отношение к «Любовной песни Альфреда Пруфрока» Элиота и «Хью Селвину Моберли» Эзры Паунда. Сравнивая разные формальные и тематические аспекты трех произведений, Джеми, в частности, замечает, что каждое из них «по языку, интонации и мировоззрению соотносится с социопсихологической средой, которая и есть предмет рассмотрения: диалект и разухабистый юмор гетто [в произведении Хьюза], циничная и изысканная болтовня образованного Лондона [у Паунда] и высокопарные размышления деятельного ума Пруфрока, пребывающего в бессильном теле». Затем Джеми намеренно жестко заключает: «В общем, придираться к одному стихотворению за то, что оно не похоже на другое, не повторяет его тему и манеру, – значит, выносить в корне неверное суждение»13 (сн. Jemie O. Langston Hughes: An Introduction to the Poetry. New York, 1976, p. 184.). Вскоре после публикации, рецензируя работу Джеми в книжном приложении к лондонской «Таймс» (Times Literary Supplement), некий критик cурово отчитал его, среди прочего, за «вопиюще неуместные сопоставления», процитировав вышеприведенный отрывок14 (сн. Bigsby C. W. B. “Hand in Hand with the Blues” // Times Literary Supplement, 17 June 1977, p. 734.). А спустя несколько недель в TLS появилось примечательное письмо к главному редактору, написанное Чинвейзу (Chinweizu) – тоже писателем и критиком нигерийского происхождения, получившим американское образование. На рецензию и, в особенности, на фразу «вопиюще неуместные сопоставления», он отреагировал следующим пассажем: Вопиющие – для кого? Неуместные – для кого? Для идолопоклонников белокожего гения? Кто сказал, что творения Шекспира, Аристофана, Данте, Мильтона, Достоевского, Джойса, Паунда, Сартра, Элиота и прочих – высшее достижение в литературе, равного которому нет в целом свете? … Целью этого сравнения было вовсе не втиснуть черное лицо в ряд белых идолов Европы, местное значение которых, увы, раздули до масштабов «универсальности». Задача состоит, скорее, в том, чтобы расчистить нам путь и горизонт, показать, … что найдутся у нас и ровни, а то и кто-то получше этих парней…. На сегодняшний день британские предпочтения не имеют никакого значения для Черного мира. Как сказал еще полвека назад сам Лэнгстон Хьюз, «если белые довольны – мы рады. А если нет – нам все равно»15. (сн. Chinweizu, letter to the editor // Times Literary Supplement, 15 July 1977, p. 871.) Данный эпизод, связанный с проблемой литературной оценки, помимо прочего показывает, что такое подлинный конфликт оценочных суждений. (Он к тому же демонстрирует, что, вопреки утверждению Фрая, история вкуса вовсе не есть «история без фактов» [АС, 18], хотя мы только начинаем понимать, как выделять ее события, как строить ее изложение и определять ее значимость не только для «структуры критики», но и для структуры «литературы».) Мне кажется, что англо-американские литературоведы боятся признать саму возможность подобной полемики, а когда спор достигает того накала, какой ощущается в письме Чинвейзу, способны лишь огрызаться в ответ 16. (сн. Так Сэммонс в своей спорной книге пишет об «элементах… в каноне великой литературы», к которым мы должны проявлять внимание, дабы, столкнувшись с обвинениями в элитарности, «мы не молчали в ответ на заявления, что невнятица, невежество, шаманское бормотание и грубость равнозначны высокой литературе» (Literary Sociology and Practical Criticism., p. 134).) Что же касается основных вопросов практического и теоретического плана, связанных с художественной ценностью и оценкой, вполне очевидно, что американская критическая теория здесь просто умывает руки. Увлеченная гуманистической иллюзией трансцендентности, вневременности и универсальности, она оказалась не в состоянии осознать основное свойство художественной ценности, т. е. ее изменчивость и разнородность. Завороженная идеями наивного сциентизма, ослепленная безжизненными построениями философской аксиологии, одержимая ложным стремлением к «объективности», в самом понимании литературоведения ограниченная закоснелой интеллектуальной традицией и профессиональными пристрастиями академического сообщества, критическая теория отказалась от возможности осмыслить динамику этой изменчивости и понять природу этой разнородности. […] 13 Jemie O. Langston Hughes: An Introduction to the Poetry. New York, 1976, p. 184. Bigsby C. W. B. “Hand in Hand with the Blues” // Times Literary Supplement, 17 June 1977, p. 734. 15 Chinweizu, letter to the editor // Times Literary Supplement, 15 July 1977, p. 871. 16 Так Сэммонс в своей спорной книге пишет об «элементах… в каноне великой литературы», к которым мы должны проявлять внимание, дабы, столкнувшись с обвинениями в элитарности, «мы не молчали в ответ на заявления, что невнятица, невежество, шаманское бормотание и грубость равнозначны высокой литературе» (Literary Sociology and Practical Criticism., p. 134). 14 Экономика художественной и эстетической ценности Всякая ценность – явление абсолютно произвольное, и не является ни внутренним свойством объектов, ни спонтанной проекцией субъектов. Она, скорее, есть результат динамики экономической системы. Потому кажется естественным, что ценность любого товара – будь то золото, хлеб, томик «Моби Дика» – определяется по отношению к этой системе, причем показателем ценности выступает рыночная стоимость. Однако в экономической теории и теории эстетики, равно как и в быту, принято четко различать непосредственную ценность вещи (т. е. ее меновую стоимость) и некую разновидность ценности, которую можно назвать полезностью (потребительской стоимостью), либо – когда речь идет о так называемых «неутилитарных» объектах вроде произведений искусства и литературы, – «внутренней ценностью». Таким образом, выходит, что гибкая цена конкретного издания «Моби Дика» является функцией таких переменных, как предложение и спрос, тираж, издержки распространения и издательские прогнозы прибыли, но все эти факторы вовсе не влияют на ценность «Моби Дика» для отдельного читателя или значимость романа как литературного произведения. Тем не менее, подобное разграничение носит не столь отчетливый характер, как может показаться. Как и цена на рынке, ценность вещи для отдельного субъекта тоже есть результат динамики экономической системы, – главным образом, экономики индивидуальной, которую образуют потребности, интересы и возможности субъекта (психофизиологические, материальные и практические). Как и любая экономика, персональная экономика представляет собой систему изменчивую и гибкую, поскольку личные потребности, интересы и возможности зависят от нашего постоянно меняющегося положения в мире, которое может быть лишь относительно устойчивым, но никогда не определенным окончательно. Обе системы не просто аналогичны, но взаимодополнительны и взаимозависимы: рыночная экономика составляет часть нашей среды, но также в известной степени формируется из индивидуальных экономических систем отдельных производителей, распространителей, потребителей и т. д. Традиционный дискурс ценности, включающий ряд уже употреблявшихся здесь терминов – «субъект», «объект», «потребность», «интерес» и, разумеется, «ценность», отражает произвольное членение и гипостазирование непрерывного процесса нашего взаимодействия с внешней средой, который можно описать еще как взаимоотношение множества систем с переменной конфигурацией. Трудно представить себе (и, пожалуй, невозможно выработать) подлинно гераклитический дискурс, который не воспроизводил бы подобных мыслительных операций. Однако стоит все же признать, что данные термины отображают представление об изолированных действиях, агентах, предметах, статических качествах, простейших причинных и временных связях, тем самым затушевывая динамику ценности и предлагая сомнительное понимание закономерности, т. е. идеи «органичности», «объективности», «абсолюта», «универсальности» и «трансцендентности». Поэтому необходимо сосредоточиться на тех формах взаимодействия и взаимозависимости, которые язык подвергает фрагментации, а критическая теория и эстетическая аксиология обычно игнорируют. Во-первых, как я уже отмечала, восприятие предмета субъектом всегда есть результат его личной экономики: т. е. частное «бытование» объекта или события, его цельность, гармоничность, границы, категория явлений, к которым он «принадлежит», его индивидуальные «черты», «качества» или «свойства» – все это переменные результаты взаимодействия субъекта со средой при определенных условиях. …Различные акты восприятия вовсе не дополняют друг друга и потому не способствуют глубине знания о предмете (т. е. не делают его подробным всесторонним, и исчерпывающим). Наоборот, каждый опыт восприятия предмета наделяет его новой функцией и очертаниями, высвечивая одни «свойства» и затемняя другие. Более того, восприятие объекта никогда не бывает дискретным, точнее, последовательным, потому что воспоминания и ожидания всегда накладываются на перцепцию, а фрагменты того, что мы называем «опытом» сами по себе всегда разнятся и перекрывают друг друга. Во-вторых, «потребности», «интересы» и «задачи» субъекта не только постоянно изменяются (стоит отметить, что «личность» – или то, что формирует «личные интересы» субъекта – тоже изменчива и зависит от его социальной роли и отношений), но также находятся под воздействием объектов, которые их удовлетворяют и реализуют. Иными словами, объекты создают потребности и вызывают интерес, который сами же удовлетворяют, и формируют цели, к которым сами приводят. Поскольку наши цели постоянно видоизменяются и заново формулируются под влиянием объектов, которые мы создаем в процессе их достижения, и поскольку между человеческими потребностями, технологическим производством и культурными практиками существует сложное взаимодействие, наш мир и наши желания находятся в отношениях непрерывной взаимной модификации17. (сн. Отдельные стороны этого процесса обсуждаются в статье Пьера 2. Бурдье «Метаморфоза вкуса» (Bourdieu P. «La Métamorphose des goût // Questions de sociologie (Paris, 1980), p. 161-72). Более широкое Отдельные стороны этого процесса обсуждаются в статье Пьера Бурдье «Метаморфоза вкуса» (Bourdieu P. «La Métamorphose des goût // Questions de sociologie (Paris, 1980), p. 161-72). Более широкое взаимодействие между человеческими «потребностями и желаниями», культурными практиками и экономическим производством исследуется в работах: Sahlins M. Culture and Practical Reason (Chicago, 1976), Douglas M. The World of Goods (New York, 1979), Baudrillard J. For a Critique of the Political Economy of the Sign (Paris, 1972). Хотя сделанный Бодрийяром критический анализ понятия «потребительской стоимости» вкупе со «знаковой стоимостью» представляет существенный интерес для семиотики рынка, его попытка «в качестве основания для отказа от политической экономии» (Р. 122) разработать теорию ценности «за пределами цены» (возникшей, по его выражению, из символического обмена) оказалась менее удачной, отчасти по вине его утопической антропологии и отчасти потому, что анализ ценности не возможен без экономического инструментария. 17 взаимодействие между человеческими «потребностями и желаниями», культурными практиками и экономическим производством исследуется в работах: Sahlins M. Culture and Practical Reason (Chicago, 1976), Douglas M. The World of Goods (New York, 1979), Baudrillard J. For a Critique of the Political Economy of the Sign (Paris, 1972). Хотя сделанный Бодрийяром критический анализ понятия «потребительской стоимости» вкупе со «знаковой стоимостью» представляет существенный интерес для семиотики рынка, его попытка «в качестве основания для отказа от политической экономии» (Р. 122) разработать теорию ценности «за пределами цены» (возникшей, по его выражению, из символического обмена) оказалась менее удачной, отчасти по вине его утопической антропологии и отчасти потому, что анализ ценности не возможен без экономического инструментария.) Особенное значение для ценности «произведений искусства» и «литературы» имеет взаимоотношение классификации предмета и функций, которые ему приписывают. Воспринимая объект или артефакт в рамках определенной категории (например, «часы», «словарь», «дверная подпорка», «антиквариат»), мы невольно выделяем его отдельные возможные функции и обычно считаем его ценным постольку, поскольку он выполняет данные функции. Однако между функцией и классификацией существует и обратная связь. Так, обстоятельства, которые создают «потребность» в дверной пружине или «интерес» к артефактам Викторианской эпохи, заставляют обращать внимание на соответствующие свойства и потенциальные функции разных предметов, находящихся вокруг, и тогда классификация и ценность этих предметов будут определяться сообразно. Словарь может неожиданно оказаться ценным в качестве подпорки для двери, а часы приобретут повышенную ценность в качестве антикварной диковины 18 . (сн. Превосходный анализ связи между классификацией и ценностью см. в работе Майкла Томпсона: Tompson M. Rubbish Theory: The Creation and Destruction of Value. Oxford, 1979, p. 13-56.) …Здесь можно заметить, что человеческие существа эволюционировали как явные приспособленцы, и залогом нашего выживания (как личностей и как биологического вида) сейчас служит прежде всего наша способность и склонность классифицировать объекты по-новому, ценить их нестандартные, альтернативные функции, забыв их первоначальное применение и отказавшись от привычных категорий. Выявленные здесь формы взаимозависимости имеют самое непосредственное отношение к тому, что можно назвать экономикой художественной и эстетической ценности. Традиционное – идеалистическое, гуманистическое, аристократическое – стремление выделить некоторые области жизни и культуры (например, искусство и литературу) и укрыть их от экономического анализа в конце концов затемнило природу, или, вернее, динамику, их ценности. Если учесть беспочвенность такого изоляционизма, неудивительно, что язык эстетики становится все больше похож на язык экономики, что разведение этих двух областей и двух языков приходится поддерживать искусственно 19.(сн. Взаимное притяжение и периодический обмен на уровне понятий между экономическим и эстетическим, в особенности литературным, дискурсом зафиксирован и проанализирован Марком Шеллом (Shell M. The Economy of Literature. Baltimore, 1978) и Куртом Хайнцелманом (Heinzelman K. The Economics of the Imagination. Amherst, Mass., 1980).) …Тем, для кого понятия «польза», «производительность» и «функция» ассоциируются с чисто практической выгодой, грубыми материальными желаниями и удовлетворением животных потребностей, концепция потребительской стоимости покажется неуместной в отношении искусства и явно не соотносимой с эстетической ценностью. Однако нет никаких оснований связывать область утилитарного с объектами, которые служат лишь сиюминутным, узким и приземленным целям. Точно также не стоит считать, что ценность произведений искусства не имеет ничего общего с практической выгодой и животными потребностями 20.(сн. См. статью Джорджа Стиглера и Гэри Беккера – Stigler G. J., Becker G. S. “De gustibus non est disputandum”// American Economics Review 67 (March 1977): 76-90.) Многочисленные попытки определить эстетическую ценность, отказывая ей в практическом измерении, отрицая всякую заинтересованность, отделяя ее от любой другой ценности – гедонистической, практической, сентиментальной, декоративной, исторической, идеологической и т.д. – фактически перечеркивают само существование этой ценности. Ведь если вычесть все виды пользы и заинтересованности, больше ничего не останется. Говоря другими словами: «сущностная ценность» произведения искусства состоит из всего того, от чего ее отделяют. […] Утверждения об абсолютно произвольном характере ценности обычно вызывают шквал контраргументов, доказывающих ее явно неслучайную природу, – приводятся примеры долголетия классических канонических произведений (упоминание Гомера – общее место критической традиции), поминается «всеобщий хор человечества» Поупа, или, по крайней мере, схожие представления, бытующие в привилегированной среде. Разумеется, любая теория эстетической ценности должна объяснять явления преемственности, постоянства и единодушия, равно как и сдвиги, изменения и расхождения. Традиционная эстетическая аксиология объясняла устойчивость и единомыслие внутренними свойствами объектов и/или наличием определенных универсалий человеческого бытия, тогда как непостоянство и разночтения относились за счет ошибок, недочетов и предубеждений отдельных субъектов. Классическое изложение данного подхода встречается в эссе Юма «О норме вкуса», где «всечеловеческая и всеобщая красота» рассматривается как результат Превосходный анализ связи между классификацией и ценностью см. в работе Майкла Томпсона: Tompson M. Rubbish Theory: The Creation and Destruction of Value. Oxford, 1979, p. 13-56. 19 Взаимное притяжение и периодический обмен на уровне понятий между экономическим и эстетическим, в особенности литературным, дискурсом зафиксирован и проанализирован Марком Шеллом (Shell M. The Economy of Literature. Baltimore, 1978) и Куртом Хайнцелманом (Heinzelman K. The Economics of the Imagination. Amherst, Mass., 1980). 20 См. статью Джорджа Стиглера и Гэри Беккера – Stigler G. J., Becker G. S. “De gustibus non est disputandum”// American Economics Review 67 (March 1977): 76-90. 18 [связи], которую природа установила между формой и чувством… Установить ее влияние мы сумеем… по тому долго сохраняющемуся восхищению, какое вызывают творения, пережившие все капризы моды и стиля, все ошибки невежества и зависти. Тот же Гомер, который услаждал две тысячи лет назад Афины и Рим, все еще вызывает восхищение в Париже и Лондоне. Никакие изменения климата, системы правления, религии и языка не в силах были затмить его славы… Из этого следует, таким образом, что при всем разнообразии и причудах вкусов существуют определенные общие принципы одобрения и порицания, влияние которых внимательный глаз может проследить во всех действиях духа. Некоторые отдельные формы или качества, проистекающие из первоначальной внутренней структуры, рассчитаны на то, чтобы нравиться, другие, наоборот, на то, чтобы вызывать недовольство; и, если они не производят эффекта в том или ином отдельном случае, это объясняется явным изъяном или несовершенством воспринимающего органа. Многочисленными и часто встречающимися являются недостатки, мешающие или ослабляющие воздействие тех общих принципов21. (сн. Юм Д. Сочинения в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1996. С. 627-628.) Далее в эссе перечисляются и рассматриваются эти недостатки, и проводится параллель – тоже ставшая общим местом традиции – между «совершенной красотой», которую признает всякий человек «со здоровым состоянии органом восприятия» и «подлинным цветом» объектов, которые воспринимаются «при дневном свете глазом здорового человека»22. (сн. Юм Д. Сочинения в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1996. С. 627-628.) Далее приведем новейшую формулировку традиционной точки зрения: Ошибочные суждения или ощущения могут быть исправлены только при условии постоянного и верного интуитивного предпонимания объекта…. Относительность оценочных суждений доказывает лишь, что человеком владеют субъективные суждения, что ложные заключения – в которых в истории литературы не было недостатка – всегда есть результат человеческого заблуждения. …Универсальная достоверность математической теоремы не гарантирует, что ее поймет каждый; точно так же и универсальная достоверность эстетической ценности не всегда значит, что каждый признает ее очевидность. Эстетические ценности требуют сообразного отношения, развитой и адекватной способности восприятия. Более того, наличие в истории литературы четкой иерархии знаковых произведений искусства означает, что ценность способна преодолеть историческую изменчивость23. (сн. Hinderer W. Literary Value Judgments and Value Cognition // Problems of Literary Evaluation, p. 58-59.) При более изощренной формулировке мысль Юма о том, что индивидуальное представление о красоте соотносится с «формами» и «свойствами», приятными любому человеку в силу нашего общего психофизиологического устройства, выглядит более обоснованной 24 . (сн. Именно из этой предпосылки выросла дисциплина «эмпирической эстетики». С ее недавними наработками и проблемами можно ознакомиться в «Психологии искусства» Крейтлеров: Kreitler, Hans and Shulamith. Psychology of the Arts. Durham, N. C., 1972.) Однако эта концепция неоднократно служила основанием для претензий на нормативность и порождала оппозицию «стандарт – отклонение». В таких случаях Юм (как и многие другие исследователи) был вынужден объявлять примером индивидуальной патологии любое явление, бывшее на самом деле плодом взаимодействия некоторых относительно однородных врожденных механизмов и склонностей с бесконечным многообразием культурных контекстов и особенностей индивидуума (его жизненной истории, темперамента, возраста, и т. д.). Единогласие в оценках получается не за счет исправного функционирования человеческих органов восприятия, а за счет все той же динамики и всевозможных случайностей, которые порождают также и расхождения в оценках. Хотя ценность всегда определяется субъектом, это не означает, что всякая ценность одинаково зависима от субъекта. В рамках любого сообщества вкусы и предпочтения отдельных субъектов (т. е. их склонность получать удовольствие определенного рода от одного ряда явлений, а не от другого, и соответственно их отбирать) будут резко различны и даже несовместимы в той мере, в какой это удовольствие происходит от потребностей, интересов и способностей, которые а) допускают широкий спектр индивидуальных вариаций, б) особенно устойчивы к культурному влиянию (если вообще ему поддаются), и/или в) высоко зависимы от случайного контекста. И наоборот, вкусы и предпочтения будут совпадать в той мере, в какой те же потребности, интересы и способности а) допускают узкий спектр индивидуальных вариаций, б) легко поддаются влиянию культурных инстанций и в) достаточно устойчивы при любых условиях. […] Существующей структуре вкусов и предпочтений (а также закономерной иллюзии согласия, основанного на признании объективной ценности) всегда будут подспудно или открыто угрожать противоположные вкусы и предпочтения отдельных субъектов внутри сообщества (тех, кто еще недостаточно окультурен, – молодежь и прочие люди с «неразвитым» вкусом, в частности, провинциалы и социальные выскочки). Опасность представляют и субъекты вне сообщества, или точнее, на его периферии, у которых, однако, есть возможность общаться с его полноправными представителями (к числу таковых, например, принадлежат иностранные гости, иммигранты, выходцы из колоний и члены различных маргинальных групп). К инстанциям авторитетной оценки, следовательно, будут постоянно обращаться за аргументами и методами, Юм Д. Сочинения в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1996. С. 627-628. Юм Д. Сочинения в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1996. С. 627-628. 23 Hinderer W. Literary Value Judgments and Value Cognition // Problems of Literary Evaluation, p. 58-59. 24 Именно из этой предпосылки выросла дисциплина «эмпирической эстетики». С ее недавними наработками и проблемами можно ознакомиться в «Психологии искусства» Крейтлеров: Kreitler, Hans and Shulamith. Psychology of the Arts. Durham, N. C., 1972. 21 22 которые подтвердили бы состоятельность признанных вкусов и предпочтений сообщества, тем самым дав отпор варварству, предотвратив вечную угрозу разрушения норм и одновременно оправдав нормативные полномочия самих инстанций. По выражению Юма, «естественно, что мы ищем норму вкуса, т. е. норму, позволяющую нам примирить различные чувства людей или найти, по крайней мере, какое-то решение, которое бы дало возможность одобрить одно чувство и осудить другое». Целесообразность такой нормы в эссе иллюстрирует памятный образ варвара в светской гостиной, утверждающего «равенство гения и изящества Огилби и Мильтона или Баньяна и Аддисона». Вывод же получается следующий: «Возможно, кое-кто отдает предпочтение первым авторам, но такой вкус никем не принимается во внимание; и мы без колебания объявляем мнение этих людей, претендующих на роль критиков, нелепым и смехотворным»25 (сн. Юм Д. Сочинения в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1996. С. 624, 625.). Выделенные слова столь же красноречивы, как и странная логика в выборе имен. Как на уровне интуитивном – в гостиных образованных людей или в университетских аудиториях, так и на уровне формальном – в эссе Юма и во всей традиционной критической теории Запада, признание валидности суждения означает придачу привилегированного статуса случайным факторам, которые определяют предпочтения членов сообщества, и отрицание (либо наделением статусом патологии) всех остальных факторов, влияющих на оценку 26 (сн. Сообщества бывают разных размеров, равно как и гостиные. Провинциалы, выходцы из колоний и маргинальные группы, упомянутые выше (в том числе молодежь), являются социальными образованиями, и потому у них тоже могут быть авторитетные структуры вкусов и предпочтений, которые контролируются, как и в случае с правящими сообществами.). Такие манипуляции позволяют заявить: а) что органическими и неотъемлемыми функциями определенного класса объектов (например, или «литературных произведений») являются те функции, которые им предписывает данное сообщество. Все остальные ожидаемые, желанные или ранее неизвестные функции являются неуместными, посторонними, несвойственными этому классу объектов; б) что те условия (физические, технические, институциональные и т. д.), в которых протекает взаимодействие членов сообщества и воспринимаемых объектов, являются естественными, идеальными, и необходимыми для верной оценки последних. Все прочие условия объявляются неестественными, неподобающими, и нетипичными; и, наконец, в) что субъекты, которые являются членами сообщества, здоровы физически и психически и достаточно компетентны. Все прочие субъекты считаются ущербными, некомпетентными либо обездоленными (недостаточно восприимчивыми, недостаточно развитыми и образованными и т. п.). Что касается пункта (в), в связи с ним вспоминается всем известное представление об «идеальном критике». Такой критик не просто наделен исключительными талантами, но к тому же неустанно совершает подвиги самоосвобождения, избавляясь от всех проявлений индивидуальности, всех личных интересов (или, по Канту, вообще от всех интересов), от всех предпочтений – т. е., от всего того, что делает возможным восприятие или оценочные суждения. (В этом смысле «идеальный критик» эстетической аксиологии есть двойник «идеального читателя» литературной герменевтики.) Возвращаясь к пункту (а), можно отметить, что предпочтение определенных функций, присущих произведениям искусства или литературы, оправдывается тем, что выполнение этих функций будто бы служит некоему высшему благу, индивидуальному, коллективному либо трансцендентному (психическое здоровье читателя, единение человечества, прославление Господа, человеческое раскрепощение, выживание западной цивилизации). Выбор любого из этих, иногда взаимоисключающих, благ потребует апелляции к еще более высокому «благу», и эта гипотетически бесконечная череды суждений и их оправданий превратится в порочный круг. Впрочем, нельзя отрицать, что некоторые функции произведений искусства порой действительно служат высшему (или, по крайней мере, общему, всеобъемлющему или долгосрочному) благу. Однако наш выбор между разновидностями высшего блага, как и наш выбор товаров, всегда будет определяться ситуативно. Юм Д. Сочинения в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1996. С. 624, 625. Сообщества бывают разных размеров, равно как и гостиные. Провинциалы, выходцы из колоний и маргинальные группы, упомянутые выше (в том числе молодежь), являются социальными образованиями, и потому у них тоже могут быть авторитетные структуры вкусов и предпочтений, которые контролируются, как и в случае с правящими сообществами. 25 26