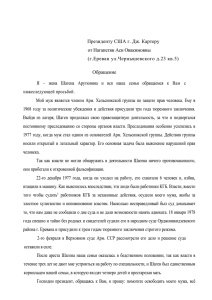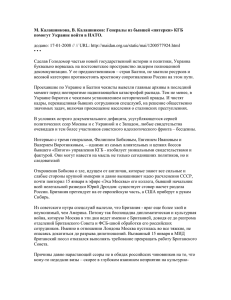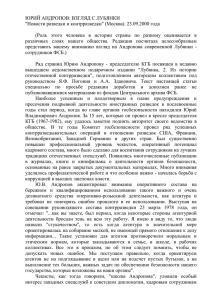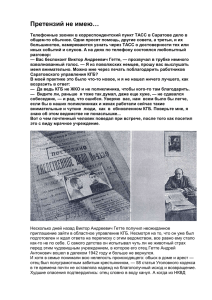Чистосердечное признание».
реклама
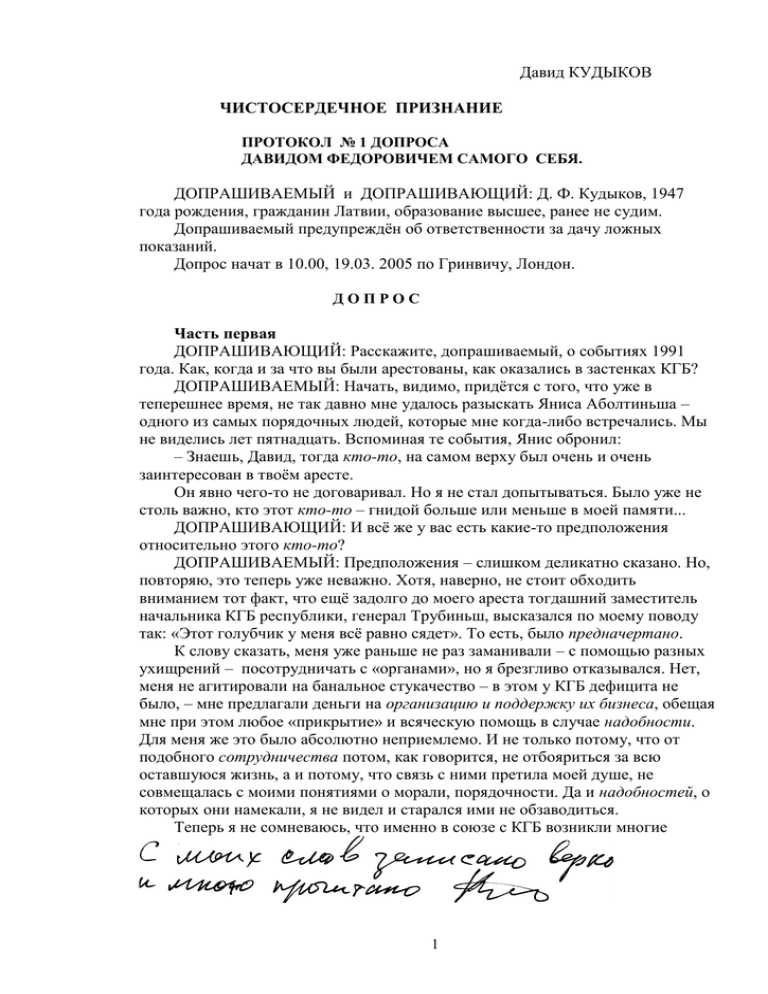
Давид КУДЫКОВ ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ ПРОТОКОЛ № 1 ДОПРОСА ДАВИДОМ ФЕДОРОВИЧЕМ САМОГО СЕБЯ. ДОПРАШИВАЕМЫЙ и ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Д. Ф. Кудыков, 1947 года рождения, гражданин Латвии, образование высшее, ранее не судим. Допрашиваемый предупреждён об ответственности за дачу ложных показаний. Допрос начат в 10.00, 19.03. 2005 по Гринвичу, Лондон. ДОПРОС Часть первая ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Расскажите, допрашиваемый, о событиях 1991 года. Как, когда и за что вы были арестованы, как оказались в застенках КГБ? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Начать, видимо, придётся с того, что уже в теперешнее время, не так давно мне удалось разыскать Яниса Аболтиньша – одного из самых порядочных людей, которые мне когда-либо встречались. Мы не виделись лет пятнадцать. Вспоминая те события, Янис обронил: – Знаешь, Давид, тогда кто-то, на самом верху был очень и очень заинтересован в твоём аресте. Он явно чего-то не договаривал. Но я не стал допытываться. Было уже не столь важно, кто этот кто-то – гнидой больше или меньше в моей памяти... ДОПРАШИВАЮЩИЙ: И всё же у вас есть какие-то предположения относительно этого кто-то? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Предположения – слишком деликатно сказано. Но, повторяю, это теперь уже неважно. Хотя, наверно, не стоит обходить вниманием тот факт, что ещё задолго до моего ареста тогдашний заместитель начальника КГБ республики, генерал Трубиньш, высказался по моему поводу так: «Этот голубчик у меня всё равно сядет». То есть, было предначертано. К слову сказать, меня уже раньше не раз заманивали – с помощью разных ухищрений – посотрудничать с «органами», но я брезгливо отказывался. Нет, меня не агитировали на банальное стукачество – в этом у КГБ дефицита не было, – мне предлагали деньги на организацию и поддержку их бизнеса, обещая мне при этом любое «прикрытие» и всяческую помощь в случае надобности. Для меня же это было абсолютно неприемлемо. И не только потому, что от подобного сотрудничества потом, как говорится, не отбояриться за всю оставшуюся жизнь, а и потому, что связь с ними претила моей душе, не совмещалась с моими понятиями о морали, порядочности. Да и надобностей, о которых они намекали, я не видел и старался ими не обзаводиться. Теперь я не сомневаюсь, что именно в союзе с КГБ возникли многие 1 олигархии на постсоветском пространстве. В том же 1991 году по СССР были арестованы тысячи кооператоров и бизнесменов, которые работали самостоятельно, то есть – не контралировались кэгэбистами. А это ведомство не не могло допустить, чтобы рыночный процесс был «неуправляемым» – ими «не управляемым». Данная «управляемость» вовсе не подразумевала вызовы в КГБ и разные отчёты – форма была более «мягкой». Просто у бизнесмена появлялся знакомый кэгэбешник или милиционер, связанный с этой организацией, и выручал бизнесмена в щекотливых ситуациях, за что, в свою очередь, просил бизнесмена о чём-нибудь. Затем возникали и совместные дела. Такая же схема была и в работе с многочисленными преступными бандами. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Отсюда, видимо, и весь тогдашний беспредел. ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Без сомнения. Правда, со мной всё же действовали осторожно. Так, за пару месяцев до моего ареста меня неожиданно пригласил на разговор старый Лавент в известную «Пардаугаву», где, как теперь все знают, разворачивался Лавент-младший. И я понял: меня прощупывают. На предложение о совместной работе я ответил отказом. Тогда «Пардаугава» росла как на дрожжах – при поддержке на очень высоком уровне и под прикрытием правохранительных органов того времени. Для меня такое партнёрство было неприемлимо. Тут я не могу не вспомнить Виктора Фёдоровича Бугая, тогдашнего начальника рижской милиции. Мы были хорошо знакомы. За счёт концерна «Комплект», где я работал, я возил его в США – изучать штатовский опыт по содержанию городов. Официально мы ездили в качестве Представительства управлений Рижского горисполкома. Был он человеком очень, как теперь говорят, неоднозначным. Да где их, однозначных-то, можно найти, а в те «смутные» времена это было тем более проблематично. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Жили по принципу: хочешь жить – умей вертеться? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Вроде того. Словом, за несколько дней до моего ареста Бугай назначил мне встречу – причём, на автомобильном рынке в Румбуле. Это было странно – ведь обычно мы встречались в его служебном кабинете. Он был в гражданской одежде, позвал меня к себе в машину и сообщил сразу, что мне грозит арест и обвинение в каких-то хищениях. Сказал, что посчитал своим долгом меня предупредить, и советует на некоторое время уехать из Латвии – лучше за границу. – Виктор Фёдорович! – взмолился я. – Что вы такое предлагаете! – Послушайся меня! – Но вы же лучше всех знаете, что меня не за что арестовывать! Какие `хищения, когда я в жизни не взял ни одной чужой копейки. И куда и зачем я поеду? В какую заграницу? И денег у меня нет, да и кому я там нужен? И кто 2 будет кормить моих детей?! Воспитанный на советской пропаганде, я был действительно наивен, как марсианин, и не верил, что у нас могут арестовать невиновного. – Фёдорович! – сказал он. – Я знаю: ты честен. И всё же лучше тебе уехать, пока всё утихнет. Хотя бы недели на две. Это мой тебе совет. После моего освобождения, Виктор скажет, что весь наш разговор писали кэгэбешники на какой-то новейший прибор, реагирующий на вибрацию стекла. Этого ему говорить не следовало. Конечно, Бог ему судья... Но позже я узнал, что для получения санкции на мой арест у КГБ не было достаточных оснований. И чтобы прокурор подписал соответствующий ордер, необходим был весомый аргумент. И тот факт, что Кудыков собирается скрыться за границей, – он-то и стал бы для них «недостающим звеном». За несколько дней до встречи с Бугаем, другой «хороший» приятель, познакомил меня – как бы невзначай – с адвокатом Мачульским, и тот щедро предложил мне свои «услуги». – Если, конечно, вам таковые понадобятся, – многозначительно добавил он и оставил свою визитную карточку. Как в воду глядел адвокат!.. А за полгода до этого у нас в фирме возник ещё один услужливый человечек – Олег Судько. К моменту моего ареста я знал о большей части кэгэгбешных стукачей в моём окружении; первым был Олег. Я не подавал вида, что знаю об этих ребятах, и всё же наивно полагал, что они докладывают «наверх» правду. Что ж, пусть их хозяевам станет известно, что я работаю добропорядочно. И вот мы собрались в командировку – к нашим партнёрам в Германию. Ехать решили автомобилем. Для командировочных нужд оформили кредит в дружеской фирме на 10 тысяч долларов США – сумма, весьма для нас тогда существенная. Оформили и визы – Судько, ещё один сотрудник и я. Перед отъездом я собрал совещание и стал давать последние указания по работе. Как дверь вдруг распахнулась и в проёме возник невзрачный мужичок в гражданском. И довольно бесцеремонно спросил: – Кто тут Кудыков?. – Это я, – ответил я спокойно. – Что у вас за дело? – Пожалуйста, выйдите в коридор. Я попросил его представиться и зайти в кабинет. Он же настаивал на коридоре. «Торг» продолжался несколько минут, пока мне не надоело. Я поднялся со стула, отметил необычайно бледное лицо Олега Судько, и вышел в коридор. Дверь за мной сразу захлопнули. Несколько человек схватили меня, вывернули руки, защёлкнули наручники. – Вы арестованы, молча следуйте за нами. – Стоп, я никуда не пойду. Во-первых, кто вы ? – Идёмте! 3 – А во-вторых, я должен взять свой дипломат – там документы и деньги. И в третьих, сообщите о происходящем моей жене – она в соседней комнате! – Пройдёмте, это всё потом! – Молодчики потащили меня силой. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Они что, так и не представились? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Вначале нет. Пока в коридоре не показались люди, и среди них – заместитель начальника ремстройуправления Пролетарского района Риги, который меня хорошо знал; он подошёл ко мне и спросил «что тут происходит?». И только тогда один из молодчиков достал удостоверение сотрудника КГБ. Я выпалил: – Меня за что-то арестовали! Сообщите всем! И в кабинете – мой дипломат с документами и десятью тысячами долларов. Сберегите его! Меня поволокли по коридору. Во дворе стояли две чёрные «Волги», меня втолкнули в первую на заднее сидение. С двух сторон сели два здоровых молодца и ещё один разместился рядом с водителем. Вторая машина следовала сзади, в ней сидели ещё трое «гоблинов». А двое остались в офисе фирмы. Все были в гражданском. Всё это выглядело достаточно комично и одновременно бредово – меня «брали», как какого-то террориста. Позднее я понял, что сопровождающие меня гэбисты так, кажется, и считали. Я свято верил, что всё случившееся – чистое недоразумение, сейчас во всём разберутся, извинятся, и вечером я буду дома. Зомбированный коммунистической пропагандой, я, как и многие до сих пор, относился к КГБ с уважением, считая чекистов порядочными людьми, высокими профессионалами. О, щенячья наивность!.. Меня привезли в рижскую прокуратуру, ввели в кабинет. Здесь находились две женщины. – Вот ваш следователь Санта Малиновская, – сказали мои сопровождающие, – А вот дежурный адвокат. – Фамилию этой женщины я, увы, запамятовал. Меня тщательно обыскали и выгрузили всё из карманов. Я сказал Малиновской, что когда меня арестовывали, то не позволили взять дипломат с важными для фирмы документами и десятью тысячами долларов. Она тут же стала звонить на фирму, оттуда ответили, что никакого дипломата нет. Я упорно твердил, что дипломат должен быть в офисе, настаивал на этом, и она звонила снова и снова. Искали димпломат и те, кто оставался в офисе, – его нигде не было. Малиновская успокаивала меня: из кабинета, мол, так и так никого не выпускают. Только, часа через четыре, после настойчивых звонков и жуткой суеты дипломат нашёлся – он, оказывается, всё время покоился на коленях у Олега Судько, который бережно держал его, как свой. Если бы дипломат не нашли, на меня повесили бы ещё и мошенничество: взял кредит и присвоил деньги. А те тысячи стали бы, видимо, веской прибавкой к зарплате генерала КГБ Трубиньша и полковника Костюка – именно они руководили той 4 «операцией». Но – не вышло. У людей с «чистыми руками», «горячим сердцем» и «холодной головой» (так обычно говорили о верных «рыцарх» Дзержинского) провалилась важная часть «операции». Им же хотелось всё – одним махом! А Санта между тем задавала мне обычные, дежурные вопросы по анкетным данным. На моё искреннее удивление, почему я здесь, отвечала: «Об этом поговорим завтра». Возможно, она и в самом деле пока не знала, «почему я здесь». Адвокат же вообще сидела молча, а когда Малиновская отлучалась, давала советы, как держаться в камере, говорила, что там очень полезно есть больше сахара и что меня ждут серьёзные испытания. Я был настолько ошарашен и так непробиваемо не понимал происходящего, что обе женщины начали мне сочувствовать. Вместе со мной они переживали из-за пропавшего дипломата и искренне обрадовались, когда он – со всеми деньгами – нашёлся. Переодически звонил телефон и по отдельным словам я понял: в это самое время во многих местах уже вовсю идут обыски – ищут улики на мою грешную душу. Под конец звонки раздавались всё чаще и можно было расслышать одно и тоже: «Ничего нет». То был второй прокол в этой «супероперации». Трубиньш с Костюком, готовя её, прекрасно знали, что искать им у меня нечего, но, имея слабо сфальцифицированное обвинение, они должны были что-нибудь найти. За месяц до этих событий стукачёк из уголовников, Серёжа Чернышёв, принёс мне в подарок старинный клинок. От подарка я отказался, тогда Серёжа сказал, что сейчас ему клинок забрать накладно, так что пусть, мол, полежит денёк-другой у меня. Клинок явно был «палёный». Это происходило в посёлке Биганциемс, в стареньком доме, принадлежавшем моей матери. А уже перед самым арестом некто Фёдор Барткевич принёс туда же настоящий кулацкий обрез со срезанным бойком и тоже предложил его мне «в подарок» и, несмотря на все отказы, с прямо-таки неприличной настойчивостью навязывал этот презент. Когда он ушёл, то «нечаянно» забыл обрез у меня под диваном. Я позвонил, он обещал забрать его со дня на день, но всё у него как то «не получалось со временем»... ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Это подбрасывались улики? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Конечно. Причём, всё – примитивно, топорно. Ну зачем мне образ, зачем клинок?.. Правда, тут хоть пытались подарить, а могли и просто по-хамски подбросить – незаметно. А потом усиленно искать... Как я узнал позднее, на обысках по моему делу были задействованы более пятидесяти оперативников и взвод воружённых солдат. Обыски шли и у всех моих близких. При этом в квартире, где я непосредственно жил, обыска не было. Мой зять Александр Сафонов, связанный с кэгэбистами, приводил их туда тайно накануне моего ареста. Когда меня «забирали», мой брат Володя незаметно вышел и сразу бросился в нашу запасную квартиру, где мы в чулане хранили архив. Он загрузил папки в машину и покатил на хутор к матери. Однако машину, в 5 которой лежали документы, оставил на дороге неподалеку от двора. Не успел он и поняться на крыльцо, как примчались оперативники. Взвод воружённых солдат окружил дом. Привезли моих перепуганых родителей... После всех расспросов про оружие, наркотики и прочее начался дотошнный обыск. Кроме рижских гэбешников были даже майор и капитан из Москвы – ну точно напали на след террориста! ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Они, конечно, искали тот обрез и клинок? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Естественно. И старались на совесть. Снимали утепление с труб, простукивали стенки, перекапывали огород – более пяти часов кряду! Пронюхав и прощупав всё и ничего не найдя, вконец раздосадованные и огорчённые, они отпустили измученных понятых и уехали. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Куда же всё-таки подевались «улики»? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Тут так вышло. Накануне этих событий в продаже появились журнальные столики, у которых сдвигалась столешница и под ней был ящик. На таком столе и писались наши деловые бумаги и в том ящике лежали искомый клинок и обрез. Никто их туда не прятал – просто убрали от детей с глаз долой... К тому же, всё время, пока шёл обыск, на дороге возле дома стояла машина с документами. И никого из «пиркентонов» она не заинтересовала... В то же время стучались в дом моей любимой женщины – там были только дети. Накануне вечером мы завернули туда в гости со знакомым бизнесменом из Чехии. Он попросил на пару дней оставить две коробки с бижутерией из чешского стекла. Когда раздался звонок и прогремел голос «полиция», десятилетний Сережа выскочил на балкон и перекинул эти коробки на соседний балкон. Почему он решил, что именно так надо сделать, осталось для меня загадкой. А ведь ничего в этих коробках запретного не было. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Обыски, следовательно, ничего не дали. ДОПРАШИВАЕМЫЙ: А что они могли дать? Тем не менее, были изъяты телевизор, видеомагнитофон и старенький БМВ, только что пригнанный из Германии за 650 марок. Ну и, конечно, – записные книжки. И всё. Такие же обыски прошли у моих заместителей, и у просто знакомых – натуральная обысковая кампания. А вот – курьёз. Поскольку я в то время был достаточно популярен в Риге, одна из наших сотрудниц решила похвастаться близостью со мной и с гордостью показывала подружкам бриллианты, которые я ей якобы подарил. На самом деле это были украшения её матери. Гэбешники забрали и эти украшения. И долго потом ей с мамой пришлось доказывать, что это их собственные ценности, и добиваться их возврата. В конце концов это им удалось, но только в обмен на подписание бумаги о готовности сотрудничать с КГБ. Много позже, когда та дама подала документы на натурализацию и получение латвийского гражданства, злополучная бумага всплыла, и пришлось уже через суд доказывать отсутствие фактов её позорного сотрудничества. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Не зря говорят: как аукнется, так и откликнется. ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Это исключительно верно. Но откликнулось и 6 другое: странным образом в течении трёх последующих месяцев после обысков, все квартиры и дома, где побывали «славные чекисты», были ограбленны – причём грабители точно знали, где что лежит. Никаких сомнений, что «рыцари Дзержинского», эти парни «без страха и упрёка», продолжатели главного дела «железного Феликса» по отъёму и дележу чужих ценностей, послужили этому самозабвенно. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Были, стало быть, наводчиками... ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Без сомнения!.. А пока шли обыски, я томился в кабинете следователя Малиновской. Кстати, она справедливо решила, что я не опасен, и отпустила охранников. И я остался один с двумя дамами. Когда я запросился в туалет, возникла неловкость: меня одного отпускать не положено, а мужчин не было. Но с момента ареста следователь Малиновская отвечала за мою жизнь и здоровье, и следовательно, отказать мне в туалете не имела права. И вынуждена была сама сопроводить меня. Разве не комичная ситуация? То меня в наручниках везли под усиленной охраной, то я – один на один с безоружной женщиной. Не думаю, что у Малиновской, как поётся в блатной песенке, «под клифтом был наган» (она, кстати, тоже была в гражданском). Просто она понимала, что никуда я не сбегу. Ведь улик-то НЕ БЫЛО! Но, конечно, если бы и нашли клинок с обрезом, засвеченном, надо полагать, на каких-то явных преступлениях, – какая была бы для них замечательная, неоспоримая улика, ни за что бы не отвертеться! ДОПРАШИВАЮЩИЙ: И ведь практически сидели на ней! ДОПРАШИВАЕМЫЙ: В том-то и дело. Потом, теснее общаясь с этими господами, я всё больше убеждался, сколь далёк от реальности пропагандиский миф о высоком профессионализме этих людей, о их гуманности и так далее. На самом деле «высокопрофессиональны» они были лишь в устройстве провокаций, подтасовке фактов, расспусканию слухов, порочащих человека. Натуральное ведомство пакостей и паскудства. Эти люди были абсолютно лишёны нормальных человеческих принципов. Оправданием для них во всём и перед всеми было одно – господин ПРИКАЗ. Он – являлся не только руководство к действию, но и отпущением всех грехов. Морали, законов для этих людей не существовало. Всё это усугублялось ещё и тем, что они себя ощущали особой кастой, этакими ПОСВЯЩЁННЫМИ, надчеловеками. Остальные люди для них были малозначимы – растопка для осуществления главного: исполнения приказа. Исполняй его – и будешь сыт и освобождён от любой ответственности. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: О чём вы ещё говорили со следователем? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Да, собственно, ни о чём. Формальная часть допроса была выполнена, а что до фактической... Ничего ведь не нашли, обвинение не было предъявлено... Когда стало темнеть, Малиновская вызвала машину, вошли двое в гражданском. На меня опять надели наручники. Внизу стояла та же чёрная волга. Куда меня везут, я не знал. Вскоре машина подъехала к зданию на углу – 7 тогда ещё ул. Ленина и Энгельса (ныне Бривибас и Стабу). ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Про этот дом ходила в народе поговорка, что, дескать, он самый высокий в Риге – с него Колыму видно. ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Прямо – точку. Это и было зданием КГБ республики – его крепостью, оплотом, штабом. Машина остановилась перед тяжёлыми чёрными воротами, они стали медленно отворятся. Мы въехали во двор, где находилось ещё одно здание – разумеется, не видимое с улицы. Меня ввели туда, сняли наручники и передали двухметровому прапорщику. Он препроводил меня в отдельную комнату и приказал раздеться догола. Вся моя одежда была тщательно обыскана, дотошно были прощупаны все швы. Оставив одежду, прапорщик принялся за меня: изучил подмышки, попросил произнести несколько фраз, обследовал полость рта. Потом мне было предложено пять раз присесть, потом – нагнуться, чтобы обследовать анальное отверстие; затем были тщательно прочёсаны волосы. Отобрав ремень и шнурки, припорщик приказал мне одеться. После чего меня куда-то повели – по неведомым коридорам и этажам. Передвигаясь, я должен был держать руки за спиной, а когда мы останавливались, немедленно опереться ими на стену. В каком-то кабинете меня сфотографировали – в анфас и профиль, потом взяли отпечатки всех пальцев и обеих ладоней. Завершив эту процедуру, повели в туалет – мыть руки и оправиться. Меня удивили тишина и ковровые дорожки в каридорах. Позже я узнал, что ковры тут – не для «производственной эстетики»: они должны были глушить шаги надзирателя, когда тот подходил к камере и заглядывал в глазок. Наконец я оказался в камере – в камере № 8. Часть вторая ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Это была одиночка? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Да. Обчная, как я потом понял, кутузка. Вдоль стены стояла кровать, от её спинок до стен – тридцать и сорок см. В меньшем промежутке – жестянное ведро-параша. Напротив кровати – вход в камеру. Рядом с изголовьем – вмурованный в стену столик, на нём – чайник с водой, кружка алюминевая и деревянная ложка. Наверху – две лампочки: жёлтая горела днём, синяя – ночью. Под самым потолком – узкое окошко, прикрытое снаружи стальным листом с прожжёными дырками – намордник по-зэковски. Сверху, между ним и окном можно было видеть узенькую полоску неба... Я лежал на спине, смотрел в потолок, от голода урчало в животе. В прокуратуре мне еды не предложили, а в тюрьме КГБ ужин уже прошёл... Происходдящее воспринималось мной, как нечто нереальное. В глубине души я ещё был уверен, что всё – нелепость, и завтра во всём разберутся, и я буду дома. Представлял, как буду рассказывать друзьям об этом казусе. По наивности я не представлял, какая огромная машина пришла в движение, для которой не важно, кто попал в её жернова. Если бы в этих жерновах оказался 8 сам Иисус Христос, всё шло бы тем же размереным чередом. У чекистов – чётко: раз арестован – значит, есть за что, «у нас зря не арестовывают». Иногда в СССР случалось невероятное: выяснялось вдруг, что человек действительно не виновен. Но и тут требовалось было найти что-либо, чтобы оправдать сам факт ареста: зря ведь не арестовывают! И даже когда растреливают миллионы безвинных или департирует целые народы, находят оправдание: сами, мол, виноваты, раз попались Но в ту ночь я всего этого ещё не понимал. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Однако ведь кто-то же дал санкцию на арест! Как правило, органы хотя бы для вида старались соблюсти юридические формальности. ДОПРАШИВАЕМЫЙ: А могли и наплевать на эти формальности. Например, тогда я ещё не знал, что прокурор Риги отказался давать санкцию на мой арест. Однако днём раньше он ушёл в отпуск, этим воспользовались, и санкцию дал зампрокурора Звайзгне – КГБ уговорил его. Сегодня, не исключено, он – один из самых пылких «национальных деятелей» и, как древний Лачплесис, мужественно борется с «оккупантами» и с кэгэбистами – за Brivu Latviyu (свободную Латвию). Позже мне мой адвокат Мичульский скажет, что и следователем на это дело была назначена Санта Малиновская, поскольку якобы состояла на учёте в психодиспансере. В случае скандала с арестом и провалом всей затеи, всё можно было списать на неё: что, дескать, взять с ненормальной?.. Не знаю, насколько слухи о «дурке» достоверны, но в любом случае дай Бог побольше таких людей, как Малиновская, и поменьше этих «нормальных»... Помню, как щеммило сердце, когда я начинал думать о родных? Верят ли дети, что их папа не преступник?.. Мой Алёшка, после четверых дочек желанный сынок, моя кровинушка... Меня часто спрашивали, зачем завёл столько детей – наверно, ждал сына? Я отшучивался, повторяя старый анекдот, что не в детях дело, а просто, мол, мне по душе эта работа. Или рассказывал другой старый анекдот: сидят цыган с цыганкой вечером, а вокруг бегают и галдят чумазые цыганята. Цыган и говорит жене: «Ну что, дорогая, будем этих мыть или нового сделаем?»... Нас у отца с матерью было четверо, и жили мы хоть и трудно, но дружно. И я, на самом деле, всегда хотел, чтобы у меня была большая семья. Глубоко в душе я очень ждал сына – это была тоже правда... Будут ли теперь моего сына и девочек дразнить во дворе и в школе «папой-зэком»?.. Для того, что бы деток вырастить и прокормить, я работал долгие годы на двух или даже трёх работах. Потом, когда купился на перестройку и поверил в искренность заявлений о свободе, весь отдался преобразованию обычного соцпредприятия в арендное. Первые успехи и надежды кружили голову, и уже не было ни свободных вечеров, ни выходных... Родные мои детки, вас я оставлял на потом, не понимая ещё, что мой потом никогда не наступит. Вспомнилось мне и моё детство. Отец с матерью работали на работе сверх всякой меры, а придя домой начинали заниматься огородом, дровами, водой, 9 коровой, и мы должны были посильно в этом учавствовать. Нас было четверо и мне, как старшему, доставалось поболе – таскал дрова, полол огород... Но я был рядом со своими родителями, а мои теперь – без меня. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Уныние в такой ситуации – плохой помощник. ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Наверно. Но всё было – как снег на голову. Я был подавлен. Искры надежды тут же гасли, сменялись ощущением полной безысходности. Где он, Творец, думал я в такие минуты, за что посылает нам столь суровые испытания?.. Но были и минуты подъёма, стойкости, когда я, осваиваясь в своём каземате, горячо думал, что, как бы там ни было, какими бы ни были ухищрения судьбы, а каждый человек в конце концов уникален и мир каждого – особая, универсальная галактика. И величайшее преступление из-за каких-то личных амбиций, из жажды власти, денег, или просто из прихоти – так легко, походя взять и раздавить эту галактику. Ведь в таком случае и Вселенную, также из прихоти, может кто-то элементарно выключить или смахнуть! Чем Вселенная всех людей лучше или предпочтительнее Вселенной одного человека?.. И как ничтожен человек, убивающий или унижающий другого человека, как он жалок! Не зря замечено: злодеи, убийцы и палачи долго не живут, и это совсем не случайно... Прошли годы и, натыкаясь на судьбы многочисленных стукачей и предателей, я не нахожу ни одной судьбы, сложившейся благополучно. Половина из них, гложимая недугами, ушла в мир иной, другие пьют нещадно или уже спились, или влачат ничтожное существование. А ко многим расплата приходит через детей... Нет, не зря, не зря это всё. Знакомясь с новым человеком я всегда пытаюсь понять, по какой логике он живёт и какие ценности для него значимы. Только разобравшись в этом, определяю для себя: интересен он мне или нет. Факт неоспоримый: человек – животное, не могущее совершать поступков без смысла и причины, всегда должна быть причина и всегда должен быть смысл – явный или скрытый; в этом суть и идея человеческого существования. Жизнь человека – это Поступок. И если в этом поступке нет Смысла, то нет и почвы для жизни. И вера нужна человеку, чтобы жить, – вера во что-то светлое. Без веры жизни нет... Убаюканный этими размышлениями и надеждой на справедливость грядущего дня, я наконец заснул, осваивая первую ночь моей тюремной жизни. И надо мной горела синяя лампочка. Да, заснул я с глубоким убеждением, что завтра это очередное моё приключение благополучно завершится. И сидя гденибудь за сараем на ящиках с разложенной на газетке закуской (на ящиках и мешках водка почему-то намного вкуснее, чем на белой скатерти), я буду смачно пересказывать друзьям об этом необычном выверте моей судьбы... ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Вам что-нибудь снилось? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Не помню. Кажется, ничего – после тяжёлого дня я, похоже, спал поистине мертвецким сном. Но пробуждение было неожиданным. 10 Меня вернул в явь голос прапорщика из-за двери, его зычный «подъём!», и вместо синей зажглась жёлтая лампочка. Было раннее утро. Я просыпался тяжело. Вначале не мог понять, где я и почему лежу одетым на кровати. Потом всплыл вчерашний день. Эти события казались какими-то нереальными, невозможными, отрывками какого-то дурного фильма... На стене висели правила поведения арестованного. Я снова прилёг на койку и стал мысленно готовиться к разговору со следователем. Я ему, естественно, сразу всё объясню. В ту минуту мне даже в голову не могло прийти, что не только сегодня, но и завтра, и послезавтра, и долгие две недели я не увижу ни следователя, ни адвоката – никого, кроме разносчицы паек, выводного прапорщика и дремлющего на вышке часового. И не услышу, в чём меня обвиняют. Видимо, генералом Трубиньшем и полковником Костюком была выбрана такая тактика – сломать меня. Так поступают бандиты при «наездах». Вначале человека готовят, чтобы он принял «правильное» решение. Никому прямо не говорят: мы, дескать, убъём твою жену, умыунём ребёнка или спалим магазин. Нет, просто в разговоре как бы невзначай бросят: – Вот ты неразумно упрямишься, а у тебя такая прелестная дочурка, наверно ещё не познала мужчину, и такие интелигентные родители, очень, к сожалению, больные... А жена – так прямо писаная красавица. Больше ничего и не надо: человек потом ночь напролёт не спит, в мозгах – дикие картины расправ с близкими, и к утру уже сам доводит себя, что называется, до кондиции. Он теперь готов всё отдать, всё сделать, лишь бы ужасы, им самим придуманные, никогда не случились. Вот так: подбросить немного опасений и страха – а богатое воображение само всё приумножит и приукрасит, возведёт в апогей. И глядишь – у человека уже нет адекватного восприятия происходящего, воля его подавлена. То есть, главное – вовремя помочь ему самому включить в своей голове «правильную» программу. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Именно на такой эффект, видимо, и рассчитывали мастера кэгэбешного дела, оставив вас на две недели в одиночке, без всякой возможности общаться с адвокатом или следователем. ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Определённо. Но вероятно, в меня была вложена не та «программа» или голова моя была с дефектом, так как я пришёл к совершенно иному. Не дошёл до кондиции, а понял, что никому моя честность и правда не нужны, они её знают не хуже меня, а просто меня, виновен я или нет, надо посадить. В ЧК есть слово «надо» и оно было сказано, остальное неважно. Так начали менять свой цвет мои «розовые очки»... Заскрежетало железо, и в кормушке появилось лицо прапорщика. – Ну как на новом месте? – Да ничего, – постарался я ответить спокойно. – А когда меня поведут к следователю?. – Это решит сам следователь, – сказал прапор. – Может, завтра, а может, 11 через месяц. Твоё дело ждать. А разговаривать нам с персоналом запрещено. Но ведь разговаривает же! Однако слова его про неуловимого следователя были – как обухом по лбу, и я ему почему-то не поверил. Мне были объявлены правила местного распорядка. Я действительно не имел права ни с кем говорить – лишь задавать самые необходимые вопросы прапору. Не имел права стучать в стену, не имел права и на многое другое... Далее мне было предложено взять парашу, и меня повели по коврам в туалет. Предупредили о том, что следующий туалет будет только завтра утром – так что, мол, будь рассчётливым, не спеши переполнять ведро. После туалета завели в крохотную комнатку рядом и предложили побриться. Дали кусок мыла и безопасную бритву. Бритва эта была их гордостью – невероятно тупая, она рвала волосы чуть ли не с кусками кожи, и за этими мучениями они с удовольствием наблюдали. На мой вопрос о нормальной бритве, ответили, что и бритву, и щётку, и пасту надо ждать от родных-близких. Вот пришлют, и они всё это положат здесь же в ящик со множеством ячеек и будут выдавать мне на время процедуры. Пока же – пожалуйста: зубной порошок и пользуйся пальцем. Минут через десять после того, как я вернулся в камеру, кармушка опять открылась: была объявлена уборка. Мне дали швабру и полведра воды, и я начал мыть пол. Около девяти прапор вручил мне деревянную ложку и жестянную кружку – отныне это мой «инструмент», его я обязан держать в камере. Потом прапор забрал чайник с остатками воды и принёс полный со свежей – это мне было до завтрашнего утра, на все нужды. Минут через десять мне доставили несколько ломтиков хлеба и пшённую кашу на воде, а в кружку налили какой-то подкрашенной жидкости, которую объявили чаем... Потом были такой же скудный обед и ужин. Еду в сопровождении прапора разносила всё время молчавшая женщина. Сквозь кармушку был виден только белый халат и белая кожа груди между лацканами; от неё шёл неуместный здесь женский запах. По всей вероятности, она тут и готовила пищу... Справедливости ради следует, однако, отметить, что, несмотря на бедность и скудость рациона, всё здесь было чистенько-аккуратненко. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Прогулки были? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Конечно! Полагался час. Меня провожали по коридору во дворик. Их было два – побольше и поменьше: четыре-пять шагов на семь-восемь; они разделялись глухой стеной и кованной дверью. Над ними вместо крыши помещалась решётка, и над ней – вышка с часовым. Порядок был таков, что за всё время моего там пребывания я не смог увидеть никого из заключённых, кроме – позднее – сокамерника. Всех разводили в строгом порядке по очереди, нигде и никогда маршруты зэков не пересекались. Из-за этого процедура утреннего туалета занимала достаточно 12 много времени, тем более что после каждого посетителя туалет тщательно обыскивался на предмет оставленных записок или каких-то условных знаков. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: По-видимому, вы до того не раз проходили и проезжали мимо этого здания в центре города... ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Разумеется! Но мне и в голову не приходило, что за красивым старинным фасадом прячется тюрьма – этакий небольшой замок Иф, на крыше которого оборудованы пулемётные гнёзда. Как я узнал потом, эта была старая тюрьма, ей уже больше сотни лет. Здесь сидели люди и при царебатюшке, и во времена «буржуазной» Латвии; здесь был НКВД, потом гестапо, потом КГБ... Не знаю, что там сегодня. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: По слухам, персонал – эти самые вертухаи и прочие – обращались с заключёнными довольно сносно? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Да, подчёркнуто вежливо. И всё-таки аура, как и во всех старых тюрьмах, была невероятно тяжёлой. Я пытался представить, сколько человеческого горя впитали за столетие эти стены и сколько трагедий таят в себе – если бы это всё можно было выплавить из них, то какой ужас обнажился бы! И со всем этим я оставался жить, добавляя в эти стены своё... Днём здесь была тишина, разве что доносилось, как во двор заезжала иногда автомашина. И всё. А по вечерам можно было услышать отдалённый скрип тормозов на соседнем перекрёстке. Ближе к августовским событиям 1991 года, когда был путч в Москве, регулярно, каждую ночь стали заезжать грузовики и до утра шла какая-то возня – что-то, похоже, грузили. Видимо, поступил приказ вывезти всё значимое. Когда теперь говорят, что чекисты забыли какие-то архивы, мешки, то у меня это вызывает улыбку. Ясней ясного: если они что и оставили, то лишь то, что сами хотели оставить, по каким-то своим соображениям... И ещё хорошо запомнилось: по воскресеньям с утра раздавался колокольный звон с колокольни стоявшего неподалеку храма. Этого звона я всегда ждал – тяжёлые и раскатистые удары колокола несли мне какую-то благость. В этих раскатах чувствовалась неизбежность вечности и незначимость, никчёмность сегодняшней суеты. Звон этот всегда был для меня праздником, он раздвигал эту тягостную ауру тюрьмы и разливался волнами света и умиротворения – я эти волны осязал кожей. Пройдёт время, думал я, – не будет уже этой тюрьмы, не будет КГБ, не будет и меня, а звон всё также будет раскатываться над этой землёй и водой, под этим вечным небом. Бом-уууу, бом-уууу, бом-уууу... В том гуде ощущалось ничтожество моего горя по сравнению с чем-то гораздо более важным... ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Родные знали, где вы находитесь? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Узнали. Однажды мой прапор (я так и не узнал его имени) появился со свежевыбритым лицом и сказал: мне разрешили передачу. Что мне надо?.. Я лихорадочно соображал. Книги, блокнот, ручку или карандаш – этого нельзя. Я попросил сменить одежду, прислать зубную щётку, пасту, сигареты, нормальную бритву, мыло, что-то из еды – что, конечно, разрешается, – но в первую очередь – лук и чеснок. Всё это было прапором записано. Перед 13 уходом он сказал, что прошло уже десять дней и мне надо в баню, и приготовил наволочку, простыню и полотенце на смену. Когда, помнится, я во вторую ночь разделся и улёгся в постель, меня поразило, что всего одна простыня. Тюфяк был замызганным, накрыться пришлось видавшим виды одеялом. Когда я попросил вторую простыню, прапор объяснил, что две простыни положены только женщинам. ДОПРШИВАЮЩИЙ: Где было лучше: в одиночке КГБ или в общей камере тюрьмы Матиса, куда вас потом перевели? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Лучше нигде в неволе не бывает. Хотя условия в КГБ по сравнению с условиями цивильной тюрьмой – всё равно, что пятизвёздочный отель по сравнению с ночлежкой. Застывшая могила одиночки и бурлящая жизнью и опасностями «хата» на Матиса – это два совершенно разных мира, две планеты, имеющие свои преимущества и недостатки, не поддающиеся никакому сопоставлению. Хреново и там и там. И тем не менее... ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Итак, вас повели в баню... ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Она была в подвале. Мы спускались по лестницам, этажи уходили вниз, и я так и не вычислил насколько. На каждом уровне был ряд камер, двери во всех – открыты, там – полный в порядок, блестела свежая краска. Потом я узнаю, что в этих камерах никто не сидел уже с шестидесятых годов. В то время в СССР, под давлением международных конвенций, было принято постановление, запрещающее содержать арестованных ниже уровня земли. С тех пор те камеры и пустовали. И всё же их содержали в приличном виде, на что тратились, конечно, немалые деньги – по всей вероятности, КГБ сохраняло их для какого-то часа «Х», когда они могут понадобиться. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: А как же с конвенциями? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Да кэгэбешникам, если посчитают нужным для себя, наплевать на все конвенции. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Что же это за такой час «X»? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Это им – раз-два придумать. Скажут: «во благо Родины». Потому и готовы были в любой момент принять «гостей»... Мы остановились у одной из открытых дверей – то была душевая с тремя почерневшими рожками. В углу лежала куча грязного белья и на лавке – стопки чистого. На всё про всё мне отвели пятнадцать минут. И, кажется, никогда в жизни – ни до этого, ни после – я не испытывал такого блаженства! Вода, как симфония, струилась по моей истосковавшейся коже и радужными брызгами отскакивала от бетонного пола. По-моему, прапор добавил мне несколько минут наслаждения, и я благодарен ему за это. Улучив секунду, я не бросил старую простыню в грязное бельё, я вложил её в новую. И хотя камеру тщательно обыскивали – например, во время моей прогулки, – я сохранил старую простыню и спал теперь в двух. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Думаете, ваш опытный прапор ничего не заметил? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Наверняка заметил. Но по каким-то мне неведомым причинам сделал вид, что всё в порядке, нарушений нет. Было это какой-то 14 тактикой или просто человечностью, до сих пор не знаю. Но очень благодарен. В этом диком мире, каждая мелочь становится едва ли не планетарным событием. Часть третья ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Тяжело привыкалось на новом месте? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Первые сутки были бесконечно долгими, каждая минута вытягивалась в изнурительные часы – день, казалось, никогда не закончится и вечер не наступит. Надо было чем-то занять себя – иначе точно «крыша поедет». Я стал изучать висевшую на стене инструкцию и выяснил, что имею право подавать жалобы прокурору и депутатам Верховного Совета. И тут же принялся за дело: попросил бумагу и ручку, объяснив цель. Прапор строго предупредил, что выдаст мне листки и карандаш, но я должен всё это ему вернуть. Если не хватит листка или будет оторван уголок, то больше бумаги не получу никогда. Первым делом я написал прокурору о том, что не знаю, за что арестован, что не допускают ко мне адвоката и отклоняют просьбы о встрече со следователем. В то время в Латвии было двоевластие и – как и положено в такой ситуации – две Генеральных прокуратуры: одна – старая советская, другая – новая, созданная нарождающейся властью. КГБ сотрудничал с обеими и неизвестно с которой успешней. Я написал обоим Генеральным Прокурорам. Написал и знакомым депутатам Верховного Совета, который становился Сеймом. Среди русских депутатов у меня было немало знакомых. Например, Сафонов – его сына, участника банды по угону автомобилей, я помог спасти от тюрьмы. Затем – батюшка Зотов: он тоже был мне кое-чем обязан. Знали о моём положении и другие, объявляющие себя сегодня бескорыстными борцами за права русскоговорящих Латвии. Но тогда никто из них и пальцем не шевельнул, чтобы хоть как-то помочь мне. И позже, при встрече со мной, они приводили убедительные причины, якобы помешавшие им сделать это. Вступились за меня депутаты-латыши, с которыми у меня и не было особо приятельских отношений, а лишь – деловые, служебные. Такие как Янис Аболтиньш – в начале я уже называл это имя. Знаю также, что немало пытался сделать Альфред Петрович Рубикс и другие. Неважно, сыграло это какую-то роль или нет, но этим людям я буду благодарен до последней своей минуты, и пусть им всегда сопутствует удача и помогает Бог. Когда я думаю теперь о проблемах русских в Латвии, коих в Риге всегда было большинство, а в республике вцелом – почти половина, то попросту недоумеваю: как они позволили поставить себя на колени? Ответ я нахожу в том, как русские и латышские депутаты отреагировали на мою беду. Обозначение латышей и русских в моём тексте, достаточно условно – и такие и сякие были как с одной стороны, так и с другой. Но когда латыши почуяли опасность, они вышли дружно и стали строить барикады, а пришла угроза русским (бывшим советским русским) – одни побежали записываться в латыши, 15 а другие стали жаловаться из своих нор, рассчитывая, что за них всё сделает кто-то другой – то ли Россия, то ли Европа. У латышей была общая цель и вера – независимость, возрождение своей страны; у русских же – одна виртуальность. Думаю, та же психология заставляет народ России и сейчас терпеть все издевательства власти – почти безропотно, в ожидании нового мессииспасителя. Не всё, конечно, в жизни так просто, но несомненно данный элемент присутствует в сознании почти каждого современного россиянина... ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Сочиняя свои жалобы, вы действительно надеялись, что ваши адресаты вам помогут? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Разве что самую малость. Но главное, писание жалоб было единственно возможным – разрешённым! – занятием и развлечением. Мне уже было ясно: самый мой страшный враг здесь – бацила, способная разрушить меня, – мои собственные мысли. Для того и устроены одиночки. В моём сознании могли произрасти и закрепиться ростки страха и безысходности. Одиночество – одно из самых труднопереносимых испытаний для человека. Наверно, человеческая сущность – это его генетическая и жизненная память. Отними её у человека, и от его сознания ничего не останется – он превратится в растение, то есть перестанет быть человеком. А память – это знания, это сумма всех наших поступков, поступков наших предков и тех правил, что вытекают из этих поступков, ссумированных с нашими эмоциями. То есть все наши поступки, плохие и хорошие, постоянно живут в нас, в нашем сознании или подсознании. У любого преступления или благородного поступка – своя жизнь и судьба. Например, большевики в 1918 году растреляли царскую семью, но это преступление продолжает жить своей жизнью с нами со всеми до сих пор. Оно даёт о себе знать, стоит коснуться вопроса о судьбе царского золота, о судьбе Анастасии, о захоронении царских останков, о мумии Ленина в Мавзолее, о судьбе России. Это преступление не только напоминает о себе как таковом, но и заставляет нас принимать какие-то решения, совершать поступки. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Вы совершали поступки, о которых затем сожалели? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Увы! Так, в одинадцатилетнем возрасте я совершил очень гадкий поступок. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Можете рассказать? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Видимо, обязан. Тогда я добирался в школу на пригородном поезде. Мы с приятелями шли втроём по составу, я – впереди. И в тамбуре наткнулся на мальчика, который тоже ездил в школу и был старше меня и на голову выше. Я сходу ударил его в лицо – мне хотелось выглядеть крутым перед товарищами. Дай он мне сдачи – не знаю, как сложилось бы всё у меня дальше. Но он... горько заплакал, и мне стало так мерзко и невыносимо гнусно, что я готов был буквально провалиться сквозь землю... Не знаю, помнит 16 ли он, но во мне это – до конца дней моих. И, как ни странно... помогает оставаться человеком. Ещё раз прошу у тебя прощения, добрый мой и далёкий земляк.... ДОПРАЩИВАЮЩИЙ: Выходит, чтобы очиститься, надо преступить? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Я этого не утверждал! Но преступление не исчерпывается самим фактом своего свершения. У меня нередко возникает мысль, что, может, следовало бы написать историю какого-нибудь преступления – как оно произошло, затем живёт вместе с людьми, переходя из поколения в поколение, как влияет на судьбы людей и через многие-многие годы... Тут дело и в человеческой памяти, и в том, что окружающие его люди – как зеркала и подпитчики этой памяти, без которой человек – уже не человек. То есть, он не существует сам по себе! Он – атом, частичка человеческого стада, общности. Иначе говоря, как сущность, он способен сохраниться лишь в виде единицы человеческого муравейника. Поэтому полное одиночество для него – медленная и неотвратимая смерть, а одиночка – пыточная камера. Чтобы не сломаться, уцелеть, понял я, что мне надо найти дело, работу. Но чем можно заняться в этом глухом колодце? Увлекательная «работа» с жалобами закончилась – надо было найти что-то другое. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: А ваши литературные опыты? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Писать не дозволялось, и я попробовал сочинять стихи в уме и запоминать. Но, видно, для этого у меня не было достаточной практики – ничего не получалось. Тогда я опять попросил бумагу – якобы для новых жалоб – и стал сочинять на этих листках. Их у меня, конечно, забирали, и потом они оказались подшиты в моём деле... Жёлтый свет лампочки сменялся на синий и наоборот, никто меня никуда не вызывал, никто ко мне не приходил. На мои вопросы об адвокате всё тот же прапор пояснял, что это решает следователь. Но где он, следователь? Ответ тот же: он сам знает, когда прийти... Наконец, в один из этих бесконечных дней дверь камеры открылась и мне сказали: «На выход». Меня провели по мягким коврам коридора и поставили перед дверью – она отличалась от камерной: в ней не было кармушки, а только глазок. В комнате стоял стол с лампой, за столом сидела Малиновская. Меня посадили напротив, на привинченый к полу стул, метрах в двух от неё. Над её головой – почти под потолком – висел ряд мощных ламп с большими блестящими отражателями. Сущие прожектора, сфокусированные на допрашиваемом. Позже мне рассказывали, что когда их включали, то человека не только ослепляло, но и поджаривало, как в духовке. Выдержать долго это было невозможно, и люди признавались в чём угодно и подписывали что угодно, только бы закончилась эта пытка светом. Для меня было достаточно настольной лампы. – Ну что, Кудыков, начнём работать, – сказала Малиновская. – Первое, что я хочу знать: за что я здесь? – ответил я. – Сюда просто так не попадают, – повторила она расхожий кэгэбистский 17 афоризм. – А обвиняетесь вы в хищении – притом в особо крупных размерах – государственной собственности. – Извините, откуда она похищена? – удивился я. – Не стройте из себя несмышлёныша! Похищена на вашем предприятии. Тут я озадачил её. – Наше предприятие – арендное, и там вообще нет и не может быть никакой государственной собственности. Она смутилась, но быстро взяла себя в руки. – С этим мы разберёмся. Но вот ваша расписка: вы лично взяли у немцев шетьсот марок и обещали их покрыть из поставок предприятия. Шестсот марок – это по нынешнему курсу 15 тысяч рублей. А особо крупные размеры начинаются, согласно УК, с 10 тысяч. Но фокус-то в том, что рубль к этому моменту обвалился, а в уголовном кодексе (УК) цифры оставались прежними. Я вначале не мог собразить: какие деньги?!.. какая расписка?!.. Позже выяснилось, что сам генерал Трубиньш с представителями московской фирмы «Инаудит» даже ездили в Германию в поисках улик на меня, где пробыли почти месяц и в качестве доказательства моей «преступной» деятельности привезли оттуда мою расписку на шестьсот марок. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: А сколько стоила эта поездка в Германию? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Резонный вопрос! Она обошлась более чем в 15 тысяч марок. Но – нашей фирме, а не генералу и его «пиркентонам»... ДОПРАШИВАЮЩИЙ: И что же в этом случае говорит УК? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: А что он может говорить. Траты в интересах следствия... Короче, я наконец собрался, сориентировался, и из памяти выплыла эта история с дойчемарками. Дело было так. Мы должны были поехать вчетвером в Германию, чтобы с одной их фирмой подписать контракт и получить техническое задание по изготовлению и поставке парковых гарннитуров. Это такой стол и две скамейки со складывающимися ножками. Немцам понравилось: за таким столиком приятно было распивать пиво на улице в хорошую погоду. Билеты на самолёт (в рублях) должны были купить мы, а весь приём и прочее оплачивали немцы – у нас валюты не было. Билеты я поручил купить Олегу Попову, руководитетелю кооператива «Юта», который брался выполнить часть этого заказа. Вылет был в субботу, я собрал всех в пятницу после обеда и только тогда выяснилось, что Олег взял билеты не из Москвы до Фрункфурта-на-Майне, а из Ленинграда до Гамбурга. Все попытки дозвониться до немцев успеха не имели: по пятницам они работают до обеда. Я обругал Попова последними словами – нас ждут во Фракфурте, а мы прилетаем в Гамбург! Это всё равно что вместо Москвы приземлиться в Минске. Но что делать? Решили лететь, а там, дескать, как нибудь доберёмся. Святая наивность! Прилетели. Суббота. Мы – в гамбургском аэропорту. Немецкого никто не знает. У каждого – по тридцать официально разрешённых рублей, которые тут 18 никого совершенно не интересуют. Пока разбирались, выяснилось, что рейс из Пулкова в Гамбург – раз в неделю. Очередной самолёт уже улетел, следующий – через неделю. В представительстве Аэрофлота мы умоляли, чтобы нам дали позвонить немцам на фирму, но нам растолковали, что «это дорого» и... выпроводили. Мы болтались по аэропорту, пока нами не заинтересовались немецкие служащие. С горем пополам мы объяснили, в чём дело, и они – всё-таки отзывчивый народ! – нашли-таки наших партнёров, и те крепко и довольно некрасиво ругались. Учитывая ситуацию, мне ничего не оставалось как попросить у партнёров в долг денег на билеты, чтобы добраться до цели нашей поездки. Немцы дали денег: оплатили поездку по телефону, и на эти деньги я написал злополучную расписку. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Вы напомнили следователю, что неверно пересчитывать марки в рубли по старому курсу? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Естественно. Причём, накануне прапорщик дал мне в камеру уголовный кодекс, и у меня было более чем достаточно времени его проштудировать раз десять. По закону, такой пересчёт следует делать, исходя из курса, существовавшего в момент совершения «преступления» или заёма денег. То есть, 600 марок надо умножить не на 25, а на курс того момента, когда доллар составлял 0,6 рубля и марка соответственно. И в таком случае ни о каких 15 тысячах говорить не приходиться – в действительности сумма «растраты» составляла менее 300 рублей. Во-вторых, эти деньги были потрачены на официальную командировку и никем не присвоены. Я подробно изложил следователю всю историю, постарался объяснить, что занял эти деньги обычным частным образом, и фирма перезаняла их у меня на оплату официальной командировки. То есть реально получается, что не я взял деньги и нанёс ущерб нашей фирме, а она взяла их у меня и на сегодня должна мне, а я, в свою очередь, должен эти 600 марок немцам. Далее я спросил, есть ли у немцев претензия ко мне в этом плане? Ясно, не было. Санта ответила, что всё проверит, и этот эпизод на допросах больше не всплывал. Хотя в деле оставался и позволял меня держать в тюрьме. И ещё одно обвинение, так сказать, озвучила следователь. В Германию была поставлена первая партия этих одиозных парковых гарнитуров, и они оказались браком. Конечно, немцы нас поймали на неопытности, но брак действительно был. Парковые гарнитуры производило отдельное предприятие, входившее в наше объединение на правах самостоятельного участка, со своим директором. Меня в это время не было в Латвии, и директор данного предприятия сам выезжал на отбраковку в Германию. Я же, как руководитель объединения, никакого прямого отношения к этому производству и поставкам не имел. И тем не менее, мои обвинители придумали, что эти гарнитуры были отличного качества, и я вступил с немцами в преступный сговор – мы, мол, умышленно объявили всё браком, а деньги присвоили. 19 Это было до крайности вероломно и подло. У меня заныло сердце. Как я докажу, что брак был, когда тех гарнитуров уже нет, а я – в одиночной камере?.. Санта выслушала моё возмущение и заявила, что тем не менее за всё мне придётся отвечать. И ещё она попросила, чтобы я назвал свои счета за границей. Правда, в её голосе не было первоначальной уверенности... ДОПРАШИВАЮЩИЙ: У вас там были счета? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Да откуда! Они были, видимо, в воображении генерала Трубиньша... Оказавшись опять в камере, я не находил себе места, всё во мне кипело. Такое обвинение – не просто подлость, а и грязное оскорбление! Древние юристы придумали когда-то презумпцию невиновности – то есть ты не должен доказывать, что ты не вор, это следствие должно доказать. Но сие – не для нашей страны. Тут, если ты сам не докажешь, что ты прав, то никто другой этого не станет делать, и итог вполне предсказуем. Я не видел выхода, мне казалось, что его не существует вообще. Но ведь я же в самом деле не вор – следовательно, выход должен быть, обязан быть и его надо искать! После этого допроса я окончательно уверился: совершенно неважно, виновен я или нет. Поскольку поставлена задача: сделать меня виновным. Любым способом. Это было видно по откровенному сволочизму обвинителей, по явной притянутости их обвинений, по беспардонным попыткам подкинуть улики, как те же обрез и клинок. Да, я шёл на этот допрос с надеждой, что обвинители во всём разберуться, и меня отпустят. Надежде моей пришёл конец. И моя Малиновская, понял я, ...надцатая спица в этом адовом колесе. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Выше вы утверждали, что настроились выстоять, не позволить собственным мыслям разрушать себя. Но если умерла надежда... ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Да, нам всегда твердили: надежда – это хорошо, она умирает последней и т.д. Я же теперь усомнился в этом. Я понял, что надежда – иллюзия, и если я буду держаться за неё, буду оправдываться, то я – их человек, и они заведут меня туда, куда им надо. Это – обычное, банальное развитие событий, которого от меня и ждут. Словом, я понял, что надежда нередко может быть коварным врагом. Это она заставляла сотни и тысячи людей, идти, не сопротивляясь, в сопровождении горстки солдат, в газовые камеры, и это именно она, надежда, позволяла покорно подыхать миллионам в лагерях. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Вы, значит, отрицаете надежду как позитивный жизненный феномен, как стимул, реакцию сопротивления обстоятельствам? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Наверно, грешно было бы отрицать. Но надежда не должна быть иллюзией, она должна быть деятельной. И я принял решение – сопротивляться. Раз уж меня всё равно отсюда не выпустят, а убедить их в чём-то смирением и оправданиями нереально, то нет смысла и обманывать себя наивными упованиями. И остаётся одно: бороться. И бороться любыми средствами. Здесь зрение ограничено стенами камеры, слух и передвижение – ими же, возможности общаться, искать доказательств своей невиновности нет. Зато у меня остаются воля и мысль – они в свободном полёте, и запасов их сил не 20 знает никто, только я. А это – грозное оружие, и оно – в моём распоряжении. И я их лишь ограничиваю его, когда, например, ошибочно полагаю, что всякое сопротивление напрасно, проще сложить крылья, будь что будет и т.д. Нет! От меня они этого не дождутся! С этим решением пришло и облегчение. Я уже не думал, что будет потом, выйду я когда-либо или нет, сколько просижу и прочее такое. У меня появилась цель, появился стимул моего нахождения здесь: бороться и осложнять их задачу, отметая всякие домыслы о последствиях. Как показало дальнейшее, это было верным, спасительным решением. С ним пришло ощущение внутренней свободы – таким свободным, каким я себя ощущал сейчас здесь, я не ощущал себя, пожалуй, никогда в жизни. Я не был никому ничего должен, я мог позволить себе любые поступки, и стены мне в этом не мешали; у меня не было ни перед кем никаких обязательств; меня не сдерживал и страх – даже страх смерти. СВОБОДА! Со свободой пришла и злость. Я писал и отдавал написанное вертухаям; это было в июне 1991 года в подвале КГБ ещё при полной Советской власти: Зачем, Вован, ты влез на броневик? Эх, не успел ты вовремя одуматься. Теперь ломают мрамор и гранит, И по другому называют улицы. Картавил бы на Капри, как барон, О бедствиях неведомой Италии. И мы б не возводили Волго-Дон, Милльонами бы так не подыхали. Никто б в тебя, бедняга, не стрелял и всяких измов не было б в помине. И царь бы жил, и Петербург стоял, и твой портрет на мамином камине. И чучело не делали б с тебя, Не стерегли б, как зэка, в Мавзолее... А журавли над родиной летят, где две берёзки грусные белеют. Всё рушится! Корёжется! Скрипит! С тобою нас несёт в вонючей пене... Опять кого-то прёт на броневик! Не лезь голуба – будешь трижды гений. Сам себе громко прочитал написанное вслух, и тут же открылся глазок – меня, оказывается, подслушивали. Словно в подтверждение созданной стихом 21 ауры загудел колокол – раскатисто и величаво, – принося маленький смешанный с печалью праздник в мою крохотную камеру. Это был чей-то тоскливый и протяжный голос, в нём пробивались вселенская грусть и тоска. Однако хотя звон скоро и прекратился, праздник не кончился... На обед вместе с постными макаронами дали крохотную котлетку. Это было чем-то из ряда вон выходящим. Как пояснил позже прапор – на праздник. Да, конечно же – ведь Лиго! Янов день, по-русски Иванов день или Иванцветный, а у белоруссов – Янка Купала. В Прибалтике, где советская власть практически началась после войны, этот праздник принял форму пассивного протеста против этой власти. Одно время его запрещали, потом поняли, что – бесполезно: народ праздновал и вечно будет праздновать Лиго. Я с детства любил этот праздник, приходящий перед сенокосом. Люди собирались на природе, часто в парках, горели костры, дымились высоко поднятые на шестах бочки со смолой, работали буфеты, жарились шашлыки, варились сосиски, играла музыка, рекой лилось пиво – народ гулял. Яны и Иваны ходили в дубовых венках, везде продавались зелёные пучки камыша – им ребята стегали девок по ногам – заигрывали. Откуда-то доносилось: «У Ивана баба пьяна – Лиго-Л-и-и-гг-о-о...» Кто то уже спал, утомлённый, а другие прыгали через костёр. По всему берегу моря пылали костры, и множество людей не уходило отсюда до зари. Тяжёлые волны накатывались на пляж и растекались под ногами, превращаясь в тоненькие весёлые струйки и пену. Этот праздник на самом деле был в Латвии всенародным и соизмеримым разве что с Новым годом – его отмечал поголовно весь люд, в том числе и ответственные партийцы, ещё накануне по долгу службы горячо убеждавшие народ, что сей праздник – пережиток, и праздновать его не следует. Народ кивал: да, пережиток, не следует, а потом шёл варить пиво, готовил головы сыра и ставил мариноваться шашлыки. Я тоже хотел встретить Лиго, хотя на душе было скверно и невесело думалось о детях, о знакомых, о воле. Но вечером всё же отметил праздник несколькими кусочками хлеба, специально оставленными, и холодной водой из чайника. Сердце защемило, на глаза вдруг навернулись слёзы, захотелось заплакать как в детстве – навзрыд, но ничего не получалось... В оконной щели возникла луна. Стали лезть в голову мысли о женщине... как она там... где сегодня, с кем... Тогда я ещё не мог представить, что спустя время моя любимая предаст меня... ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Про Малиновскую в эти минуты не думалось? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Думалось. Но скорее – в силу настроя – как о женщине, а не следовательнице... Наверно, неправильно делает прокуратура, рассуждал я, отводя нам с Малиновской для встреч какой-то кабинет с прожекторами. Лучше бы на недельку посадить меня с Сантой в одну камеру, и мы с ней быстро бы всё выяснили – и непосредственно по моему, «уголовному» делу, и по всем другим делам... 22 Я просидел до рассвета, а утром написал: Ты опять приснилась мне. Почему? Красивых много... Дань порушеной весне? Иль благославенье Бога?.. Полночь. Я опять проснулся. Режет лампы синий свет.... Неужели я свихнулся В эти только сорок лет?.. Засыпаю – вновь приходишь, Не в тюрьме, а в кабаре. Мне мечтать бы о свободе, Я же сдуру – о тебе. Я чувствовал, что моя следователь не верит в мои преступления, жалеет меня и сочувствует. Было ли на тот момент так на самом деле или мне этого лишь очень хотелось – не знаю. Но ведь так нехватало человека – любого, которому можно было бы рассказать о свой беде, своей тоске... Часть четвёртая ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Вам, вроде, разрешили получить посылку из дома? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Да! И однажды прапорщик объявил в кормушку: – Тебе передача. Если что-то отправишь домой – быстрее! Родители ждут. От того, что где-то за стеной, совсем рядом – мои родители, сердце, казалось, вот-вот разнесёт мою грудь. Мне подали одежду – ту, о которой я просил... кусок колбасы, порезанный на дольки... сыр... баночку с сахаром... пару яблок, лук, чеснок... сигареты без фильтра... сухари с изюмом... английский разговорник. Особую радость доставили бритва, зубная паста, щётка, одеколон. Всё! – больше не придётся подвергать себя этой пытке тупой бритвой и паршивым порошком. Правда, бритву, одеколон, щётку и пасту мне только показали – это мне будет выдаваться по утрам, в камере хранить не положено. Как-то раньше, ошалев от невыносимой утренней пытки тупой бритвой, я объявил, что буду отпускать бороду. На это мне сообщили, что генерал Трубиньш бороду запретил, ибо на всех фотографиях я – без бороды, и если сбегу, то как искать?.. что толку с разосланных безбородых фотографий?.. Я хохотал до колик. – Ребята, а отсюда вообще за сто лет кто-нибудь сбежал?! Передайте генералу, что когда меня выпустят, как бы ему не пришлось бежать – за всё, что натворил. И даже борода ему не поможет! 23 Я отдал одежду, в которой был арестован. Стал переодеватся и наткнулся на пуловер, который незадолго до того подарила мне моя Ленка. Он доставил мне особую радость. В моей камере пир стоял горой – давно уже не ел я ничего подобного. И во всём чувствовал тепло и заботу моих родных. Вот это приготовила она... это – мама, а это ломали и резали вертухаи... ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Вы обрадовались сигаретам. Но не курили же! ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Это правда. Если, случалось, и выкуривал сигарету, то лишь за рюмкой, баловства ради. Но теперь, в камере это было хоть каким-то занятием. Сигарета становилась как бы моим собеседником и другом – тем более, что сохранять здоровье было вроде не для кого и не для чего. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Но вам нравились прогулки – они как-никак помогали сохранить соответствующий тонус. Свежий воздух, движение! ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Не торчать же безвылазно в камере! Это надо уж совсем пасть духом, чтобы отказаться от прогулок. И всё же считать их безусловным благом не могу. В сущности, это – одинокое, почти маниакальное топанье по кругу. Так конь ходит на току при молотьбе... Хоть, скажем, и яркий солнечный день, но – вокруг лишь облупленные стены крохотного дворика, да дежурный вертухай наверху. И над ним – редкие, медленные облака... Первое время я пытался бегать по кругу, отжиматься. Но меня остановили: это запрещено. А кто-то, думал я, сейчас гуляет в соседнем дворике, но мне ничего не слышно, тем более – не видно. Вообще за всё время пребывания здесь я так никого не увидел, не услышал – там всё устроено таким образом, что это невозможно. Увидищшь только то, что тебе захотят показать. Я проходил очередной круг и упрямо думал о своём. Должен, должен же быть какой-то выход с этими бракованными парковыми гарнитурами. Я не имел прямого отношения к их изготовлению и отправке, но прекрасно понимал, что доказать это нельзя. Все в самом деле виновные будут подыгрывать Трубиньшу и Костюку, валить всё на меня. Но если всё и так, как хотелось бы обвинению, резонно ли держать меня тут за какие-то парковые гарнитуры – в каземате самого Комитета госбезопасности?.. Ах, да что там им какие-то резоны. Они твердят своё: ты с немцами нормальные изделия выдал за брак, и вы нажились. Надо, значит, доказать, что брак был – был бесспорно. Но как это доказать, находясь в четырёх тюремных стенах, без документов, без доступа к той продукции и возможности найти свидетелей?.. Да и свидетели вряд ли помогут – против них выставят сколько надо контрсвидетелей из бракоделов... Адвоката, сколько ни прошу, ко мне не допускают. Если учесть, что он некогда так кстати появился, то это значит только одно: он – их человек, и расчитывать на его помощь бессмысленно. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Если вы не находили выхода, то надо было так или иначе использовать адвоката. Даже не доверяя ему. Словом, следовало начинать что-то предпринимать, а не сидеть просто так, сложа руки. Тем более, что безделье раздражало и угнетало вас. ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Безусловно. Поэтому я и потребовал встречу с 24 адвокатом. И получив, как и ожидал, неопределённый ответ, объявил голодовку. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Кому объявили? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Сказал Дежурному вертухаю. Тот принёс бумагу: заявление я должен был подать письменно – без официального заявления в советской тюрьме КГБ голодовка не считалась действительной. На мой вопрос, что будет, если и писать откажусь, получил ответ: составят акт с понятыми. Заявление я написал на должность начальника тюрьмы, имя его мне сообщать было не положено. Из моей камеры прапорщик забрал все остатки пищи и приготовился забрать также и сигареты. Я сказал, что от курева не отказываюсь, и мне разъяснили: по правилам при голодовке положено забирать и сигареты – если, конечно, я не передумаю. – Забирайте! – решительно бросил я. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: В советскх тюрьмах голодовки, выходит, в принципе были дозволены? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Эта проблема кординально решилась ещё при Берии. Рецепт был прост, как всё гениальное. Голодающего изолировали, отбирали всё и давали три дня вволю поголодать. А затем начиналась «обеспокоенность за здоровье» голодающего. И чтобы поддержать дрогоценное здоровье зэка, в гуманистическом стремлении помочь ему, приступали к принудительному кормлению. Эта медицинская процедура производилась без наркоза: несколько человек держали заключённого, другие силой вгоняли в глотку жёсткий шланг, по которому потом подавалось питание. Такой экзекуцией повреждался пищевод, и нередко одной процедуры хватало, чтобы человек потом доживал век инвалидом и питался только кашкой. Такая трогательная забота скоро почти сняла в СССР вопрос о голодовках. В моём же случае, при слабости их позиций с арестом и обвинениями, применять подобное было, похоже, нежелательно. И всё-таки поручиться, что она ни в коем случае не была бы применена, не могу. Впрочем, голодалось хорошо и даже весело. И когда вечером прапор начал меня убеждать в бесполезности этой затеи, я понял: результат уже есть. Через двое суток появился и мой адвокат. Когда мы остались в комнате допросов одни, он стал кивать на потолок и жестами намекать: говорить, мол, тут лишнее нельзя. Это было зря – я и без того всё понимал. Мачульский сказал, что принёс передачу от моих близких, и я её получу после его ухода. Он показал мне бумажку, на которой детским почерком моих крох было написано, что меня любят и ждут. У меня подкатил ком к горлу. А Мачульский вынул из кармана шокаладку и подал мне, и я надкусил её. И сразу, как бы невзначай открылась дверь и заглянул прапорщик; он улыбнулся: – Ну что, закончил голодовку? Я промолчал. Поскольку понял: по тюремным правилам моя голодовка действительно закончена: я куснул шоколада. Этот нехитрый трюк адвоката развесилил меня. На самом же деле я добился своего: защитник красовался напротив меня. На мой вопрос, почему он так долго не приходил, ответил, что его не пускали. 25 Он стал внушать мне, как глупо голодать, ничего, мол, это не даст, лучше поберечь силы – они мне ещё понадобятся. Я спросил, как долго мне здесь «париться»; он сказал, что надо ждать. Я был искренне рад хоть какому-то человеку и на радостях чуть не выпалил всё, о чём размышлял в последнее время. К счастью, он сам стал рассказывать, как за ним следит КГБ... Ох, не надо было ему такое говорить – все мои сомнения относительно его настоящей роли в моём деле, все худшие предположения подтверждались. Вида, однако, я не подал, начал распрашивать о близких, о друзьях. Мачульский охотно отвечал. Интересной была одна новость. В практике советских репресивных органов, особенно когда дело фабриковали, был один проверенный приём: по аресту сразу давали в прессу материал, в котором описывались жуткие преступления – человек очернялся по максимуму. То есть, застолблялось общественное мнение, и «виновному» уже трудно было защищаться. Я спросил о прессе, и Мачульский горячо заверил, что про меня никаких таких статей не появлялось, и это, дескать, хороший признак. Значит, подумал я, их аргументы весьма слабы, у них нет уверенности, что я тут останусь. При этом адвокат рассказал и про поездку Трубиньша в Германию и про «улику» – эту злосчастную записку от немца. Однако умолчал, что когда немец узнал о случившемся, то передал обвинению нотариально заверенный документ о том, что я ему всё вернул и никаких претензий ко мне он не имел и не имеет. Много позже, когда я спросил Мочульского, почему он не дал хода этому документу, он объяснил, что держал его для суда. Ах, лепет!.. По ситуации с парковыми гарнитурами он ничего мне не посоветовал, но обещал подумать. Я просил передать приветы близким, он обещал; обещал также, что раз в неделю будет наведываться ко мне, и мы попрощались. Обещаний своих он, разумеется, не сдержал… По пути в камеру прапор заявил, что передачи в голодовку не положены. – Что будем делать с сегодняшней? Отправлять назад? Я написал заявление об отказе от голодовки. Позже многое из того, что происходило в тюрьме КГБ, я вспоминал с улыбкой: эти игры с заявлениями, разговоры с прапорщиком, блаженная тишина, котлеточка на праздник, история с простынью... Та одиночка казалась мне потом тюремным санаторием... Мне принесли передачу и обед. Жаль, не было свечей на столе – ведь я праздновал свою маленькую победу. Да, для меня это, может, и была моя «Курская битва», для остального же человечества – совершенное ничто... Довелось как-то вычитать любопытный факт: где-то в Латинской Америке в джунглях или горах живёт племя странных людей. Никто о их существовании толком не знает ничего. И если так, то для остального человечества этого племени в природе вообще как бы и не существует. Сейчас, значит, для человечества не существую и я, раз оно, человечество, ничего обо мне не знает. Я существую разве что для нескольких моих друзей и близких. С течением времени они, само собой, уйдут, и тогда вообще никаких следов моего пребывания на земле не останется. Как уже нет следов сидевших до меня в этой камере или живших триста-пятьсот лет назад. 26 Так какая разница – выстою я или нет, проживу долго или нет?.. Разница в какой-то мере только для моих близких, ну и – для меня самого. А что будет потом, после смерти – то и для меня, в конце концов, безразлично... Только вот вопрос: кто дал право таким же людям, как и я, регулировать меня, решать, что и почему я должен и чего и с какой стати не должен?.. Мои размышления прервала открывшаяся кормушка. – Читать будешь? – И мне протянули газету. Обрадовался я искренне: ведь с момента ареста я не имел ни малейшего представления о том, что творится в мире. Похоже, с меня теперь сняли полную золяцию – ежедневно с того дня предлагалась газета. Потом разрешили и книги из библиотеки, а следом – и буфет. По всей вероятности, кто-то понял, что я не сомлел от страха и ломаться не собираюсь. То была ещё одна микропобеда. Итак, мне принесли «Правду». И хоть немного было в ней интересного, я проштудировал всё от начала до конца. Всплыла в памяти старая поговорка: в «Правде» нет известий, а в «Известиях» – правды. Как бы там ни было, а газета, даже без правды и известий, была всё-таки какой-то ниточкой, которая связывала меня с волей, с тем, где продолжалась жизнь со своими её страстями и радостями, жизнь без меня. Утром следующего дня меня вдруг как током прошило – эврика, нашёл!!! Видимо, подспудно шла во мне работа по поводу бракованных гарнитуров, и решение вмиг вспыхнуло в сознании. Я мог на сто процентов доказать брак, не выходя из камеры, то есть – выбить их главный козырь. Решение оказалось простым, как оглобля. На мой стук в кормушке появился прапор, и я попросил три листка бумаги на написание заявления следователю. В заявлении я просил назначить заочную экспертизу качества парковых гарнитуров. Разграфил второй лист и обозначил клеточки, которые необходимо заполнить. В принципе, я просил расписать по операциям всю технологию изготовления этих изделий. Просчитать количество и качество необходимых материалов, время на ту или иную операцию, необходимый инструмент и квалификацию рабочих, места изготовления и прочее и всё это сравнить с фактом. Следовало поднять все накладные на выписку материалов, их количество на каждую операцию, сертификаты качества на них. Если всё, требования к материалам по качеству и их выписка со склада по необходимому количеству, как и все необходимые операции по времени производства, инструмент и квалификация рабочих, – если всё совпадёт с требованиями технологии, то продукция была качественной, если же нет, то ни о каком «сговоре» с заказчиками-немцами не могло быть речи... В действительности этого не надо было делать – всё и без того было очевидно: грунтовка была не та, качество краски никакое... И вовсе не были причиной якобы сырые доски, от чего гарнитуры, когда подсохли, пошли «пропеллером». По технологии срок сушки лесоматериалов был в сушилке не менее суток, а наличная мощность – 4 кубометра в сутки. Общий же объём леса, переработанного за 10 суток, составлял более 160 кубометров. Таким образом, высушить из 160 кубометров можно было от силы только 40. 27 Это была жирная клякса на обвинении по парковым гарнитурам. Позднее, попав в сизо, я встретил зэков, которые как разработали над этим заказом. Они и рассказали, что большая часть гарнитуров изготовлялись в тюрьме, и я наслышался анекдотов, как этот процесс проходил. На оставшемся третьем листе я написал: Сердобольные бабушки, Ставте тонкие свечи И молитесь богам, Позабывшим про нас. У проклятой страны Мы проклятые дети, И нам эти этапы Проторяло ЧК. Лагерь наш – соцьялизма, Мы – последние зэки. Доползти бы до края И свободы глотнуть. Но стреляют нам в спины. Закрываются веки... Лагерь наш соцьялизма – Ты надёжный редут. Сердобольные бабушки, Ставте тонкие свечи И молитесь богам, Позабывшим про нас. У проклятой страны Мы проклятые дети, Нам все эти этапы Проторяло ЧК. Вечером заболел зуб, боль становилось нестерпимой, и я постучал в дверь. Мне дали таблетку анальгина – причём, я должен был проглотить её тут же и продемонстрировать пустой рот. Однако боль не проходила, еле-еле удалось заснуть. И утром то же – анальгин не помогал; зуб был жидковат и шатался. Я оторвал пуговицу и попросил у прапора нитку с иголкой. Тот принёс и стоял, торча в окошке, пока я не пришил пуговицу. Тем не менее мне удалось оторвать кусок нитки. Оставшись один, накинул на зуб петельку, другой конец нитки привязал к дужке кровати и с размаху дёрнул головой. Зуб болтался на нитке. Я взял его, сполоснул и положил на полочку над кроватью. Символика. Через два дня прапорщик заявил, что есть возможность попасть к дантисту. Я сказал, что уже не требуется, и показал вырванный зуб. 28 Дёсны, однако, кровоточили и зубы продолжали выпадать – видимо, развивался парадонтоз, и позже я жалел, что не пошёл к врачу. Хотя, скорее всего, толку от этого визита было бы мало... Потом я начал замечать, что пью много воды – это, как выяснилось, начал развиваться диабет. Короче, малоподвижный образ жизни, скудное питание и нервные нагрузки стали хорошей почвой для недугов. Однажды после обычного завтрака, мне было объявлено, что даётся пять минут на сбор вещей и – на выход. Сердце часто забилось, и мелькнула мысль: неужто домой! Но... меня просто перевели в другую камеру... Там стояли две койки, на одной сидел сухощавый человек лет за тридцать, в очках. Я положил свои шмотки, поставил чайник на стол и приподнял чайник соседа: он был пуст! А ведь чайник с водой для зэка – всё: питьё, мытьё, споласкивание кружекложек... И чайники заполняли по утрам. Пустой чайник мог означать одно: этот человек попал в камеру за несколько минут до меня, и – не из другой камеры. Он заметил, что я заглянул в его чайник. – Будем знакомится? – спросил я. – Давид. – Юрис, – ответил он. – Чайник мне заменили, оторвалась ручка. Это не было внятным и исчерпывающим объяснением, и утвердило меня в моей догадке. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: То есть – «подсадная утка»? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Именно. И когда он через некоторое время стал рассказывать, как перед арестом спрятал какие-то документы, сомнений у меня не осталось. Это был намёк, «приглашение к танцу». Однако документы, которые у меня так и не нашли, ничего опасного для меня и не представляли. Но где они находятся, генералу Трубиньшу было неизвестно. И это ограничивало его возможности в фальсификации фактов. Потом, к слову сказать, они всё же очень помогли мне для доказательства моей невиновности. Юрису же я сейчас ответил, что ничего не прятал, потому что, в сущности, и нечего было прятать. Нам предстояло провести вдвоём в этой маленькой камере неизвестно сколько времени, поэтому надо было как-то налаживать сосуществование. Юрис был из земессаргов. Они ещё в досоветское время составляли отряды вроде народного ополчения, что ли. Но за время войны их имидж был подпорчен тем, что некоторые полицаи называли себя так же. В 1991 году эти отряды стали воссоздаваться в Латвии на гребне роста недовольства Кремлём. Они помогали милиции, затем – полиции. Однажды Юрис с товарищами поймали подростка, выворачивавшего из автомобиля магнитолу. Воришку избили, из-за чего он потерял почку, а Юрис оказался со мной в камере. И по пути сюда получил от КГБ спецзадание (об этом он, естественно, умолчал). За время совместного сиденья мы привыкли друг к другу, а много позже он даже пригласил меня к себе домой, и мы распили банальную бутылку водки. Словом, не важно с кем, но в любом случае вдвоём сидеть намного легче, чем в одиночку. И на прогулку нас выводили вдвоём, и мы могли о чём-то говорить. Мы совместно вели общее нехитрое хозяйство нашей камеры. Нередко он отказывался от прогулок – думаю, чтобы делать начальству свои доклады. 29 Я тогда во дворике вышагивал один, и рождались строчки: Солнце не глянет в колодец, Тоски моей солнце не скрасит. Голодный и мрачный колодник, Свобода – четыре на семь. Слюною красною харкну, Тоску не пытаясь унять. Не держат так льва в зоопарке, Как держат в клетке меня. Здесь небо – одетое в сетку. Охранник сонный на вышке. Ни травки-муравки, ни ветки. В патроннике – дремлющий выстрел... ...Вызвали к следователю. Санта была какой-то необычной. На мой вопрос, будет ли произведена заочная экспертиза качества по парковым гарнитурам, она ответила, что в этом нет необходимости – всё для неё уже ясно и без того. Она сказала, что обвинение переквалифицировано: хищение госимущества заменено хищением общественного. Потом она попросила меня рассказать об установке «Искра». Это была домобильная связь, которая устанавливалась на автомобили важным государственным персонам. Радиосвязь эта осуществлялась под контролем КГБ и основная станция находилась в здании КГБ. Рассчитана была на радиус в 25 километров, работала неважно – стоило, скажем, заехать под трамвайные провода, как говорить становилось невозможно. И все-таки телефон в автомобиле был в то время чудом. История о том, как она оказалась в моей машине, была банальной. Так как я руководил предприятием, обеспечивавшим городское хозяйство оборудованием, материалами и механизмами, то ни один городской, особенно неплановый, объект не мог обойтись без моего участия. В то время мэром Риги был Алфред Рубикс – несомненно лучшим и самым активным мэром латвийской столицы всех времён. По его инициативе строилось немало объектов без плана, и я ему был нужен по нескольку раз на дню. Именно он и помог мне переселиться из Каугури в Ригу, и именно он добился через правительство разрешения на установку этой «Искры» в мою автомашину. Когда, после воцарения другого мэра, меня незаконно уволили (не без участия КГБ), я подал в суд на востановление и поэтому не сдавал дела, и эта бандура оставалась в также несданной пока машине. Санта сказала, что мне выставлена претензия о хищении установки «Искра» стоимостью в 1770 рублей плюс абонентная оплата по 1000 за год – итого 12 тысяч рублей. На это я ответил, что обвинения принять не могу: во-первых я не сдал дела по указанной выше причине – моё заявление в находится в суде. 30 Во-вторых, эта установка – самого строгого секретного режима, и даётся не организациям, а персонально ответственным лицам и исключительно под контролем Комитета госбезопасности. «Искра», повторил я, была выделена решением горисполкома персонально мне – Д. Кудыкову – и может быть отозвана только таким же решением горисполкома или КГБ. Никому и ни при каких обстоятельствах я «Искру» передать не могу. Впрочем, всё это есть в инструкции, по которой я давал подписку. Оплатить стоимость установки было поручено негосударственной организации «Комплект» решением Горисполкома, и этот вопрос меня не касается. В-третьих, после прекращения моей деятельности в «Комплекте», «Искру» по моему заявлению сразу отключили, и я при любом желании пользоваться ею не мог – разве что забивать гвозди. Абонентную плату платят, если пользуются услугой, если же услугу «отключили», то и платить больше не за что. Поэтому то, что платил «Комплект» кому-то и за что-то, ко мне не имеет никакого отношения. – Скажите, Санта, у Вас много ещё таких «преступлений», как моё? – спросил я. – Ведь всё это мы могли выяснить в первую же нашу встречу. Почему я здесь, Санта? – Наберись мужества, – ответила она. – Тебе тут ещё долго пребывать. А я сегодня пришла в последний раз. Я больше не хочу этим заниматься и увольняюсь из прокуратуры. – У неё потекли слёзы. – Санта, дорогая! – воскликнул я. – Да должен же в конце концов я что-то понять! Если я не виноват, зачем меня здесь держат, для кого, чёрт возьими, я опасен? – Не всегда дело в вине, – услышал я тяжёлые слова. – Но не уходи хотя бы ради меня! Неизвестно, кто придёт и что опять сфабрикует… – Я готов был на колегнях умолять её. – Это – решённый вопрос. А работать с тобой будет Мельников, он порядочный человек. Я этим больше не могу заниматься, хотя и жаль тебя… – И она заплакала навзрыд. Я не мог представить, что мы встречаемся в последний раз. Сегодня, когда пишуться эти строки, мне очень хочется её найти и низко поклониться. Мне стало нестерпимо стыдно и жалко её, словно не я, а она сидела в тюрьме, и я, мужик, ничем не мог ей помочь. Угнетала мысль, что моя догадка безусловно верна: неважно, виноват я или не виноват – просто меня необходимо посадить любой ценой, в угоду чьим-то амбициям, ублажая чьи-то зависть и аппетиты на нашу фирму. Кое-как Санта успокоилась, утёрла слёзы и вызвала конвой. Расставание наше было грустным и трогательным, насколько это возможно в застенках КГБ. Малиновская уходила из этой истории, а я оставался в ней – без всяких надежд и перспектив. За её уходом и последовавшим затем увольнением из «органов» угадывался её бескомпромиссный и безрезультатный спор о моей судьбе с кемто мне невидимым. Но в то же время оставалось тепло неординарного и благородного человеческого поступка, очень важного для нас обоих. 31 Когда много позже, в связи с угрозами мне, в полиции спрашивали Трубиньша и Костюка обо мне, они заявили, что они не могут припомнить такого – слишком, мол, много народа прошло тогда перед ними. Когда же им напомнили конкретные факты, они всё же вспомнили меня и назвали психом, несущим всякий бред. А лет через десять дали Трубиньшу почитать мою статью об этих событиях, и генерал сказал, что всё было не совсем так. Возможно, из свого кабинета он всё и видел иначе, но скорее всего дело в том, что есть вещи, в которых и самому себе не хочется признаваться, не говоря уже о признании перед другими. У меня нет к вам претензий или обиды, господа. Я не знаю, были ли ваши действия по собственной инициативе или вы выполняли чьё-то поручение, да это и не важно. Во всяком случае, я рад, что вы, товарищ Трубиньш, в первый раз выбрались за границу благодаря моему «делу». Никаких негативных чувств к вам не испытываю, просто вы мне неинтересны, как неинтересна жизнь крыс и тараканов, даже самых лучших из них. И если с вами не поступили, как в Германии с преступниками, то это не моё дело, а дело людей, живущих с вами рядом и созидающих новую Латвию. Раз их устраивает общество бывших участников команды Арайса или Трубиньшей с Костюками, то Бог им судья. До сих пор не могу найти ответа, почему во всей их истерии по поводу окупации, всегда крайним оказывался какой-нибудь прапор музыкального взвода и никогда – Костюки или Трубиньши? Не в том ли дело, что нынешние «праведники» в своём большинстве встречались на конспиративных квартирах с этими ребятами из КГБ и что именно там их, «праведников», согласовывали и благославляли на верную службу – в костёл ли, в газету, в вуз и так далее... ...Не помню, как оказался в камере. Юрису ответил, что всё нормально, был дежурный допрос, и у меня меняется следователь. На душе было тяжко... А умели б – мы оба б молились за себя и за наших родных... Мы – живые, а будто в могиле, наша камера – гроб на двоих. Комары, правда, здесь, а не черви. Ну а стены-надёжно глухи. И в глазок наблюдают нас черти, Стерегущие наши грехи. Да, комары. Лето набирало силу, в камере было невыносимо душно, и донимали неистовые комары. Зато у нас с Юрисом появилась новое занятие: кто больше их убъёт. Росли кучки трупиков и шёл тщательный подсчёт трофеев. Успех был переменным, наше охотничье мастерство росло не по дням, а по часам. Выяснилось, что самцы не кусаются – только самки. И удивляло, как много их разновидностей. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: В это время вы вроде снова объявили голодовку? 32 ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Объявил. С требованием предъявить мне реальные обвинения, если они есть. Ситуация возникла сложная: как объяснил прапорщик, для голодовки меня следовало бы изолировать. – Одиночка занята – там женщина, – разоткровенничался он. Я сказал, что это меня вполне устроит. Прапорщик ушёл, вернулся через полчаса и пообещал, что через два дня прибудет проверяющий прокурор. – Так что просьба: немного подождать. Поломавшись «для приличия», я согласился, хотя мне и без прокурора картина был понятной. Я опять попросил бумагу и стал писать жалобы кое-кому из депутатов сейма и прокурору. На предыдущие жалобы пришёл лишь один ответ – от Янки Аболтиньша, и это для меня стало большой моральной поддержкой. Отрадно было, что кто-то помнит меня и не боится сказать своё слово. Спасибо, Ян, такое не забывается. Злость на тех, кто упрямо держал меня здесь, не оставляла, и с этим надо было что-то делать, что-то придумать, а не ждать покорно усугубления ситуации или расправы. Неужели, чёрт возьми, я не в состоянии изобрести нечто неординарное, новое! Часть пятая ДОПРАШИВАЮЩИЙ: А не остужала мысль, что в тюрьмах всё давныи давно уже придумано и изобреьено, нового ничего быть не может? ДОПРАШИВАЕМЫ: Остужала. И тем не менее я ломал голову – до боли в висках... Идея эта пришла внезапно, вдруг. Я тут же попросил бумагу и аккуратно, каллиграфически вывел: ЗАВЕЩАНИЕ. И далее расписал подробно, кому отдать долги, что из моего скромного имущество передать родителям и что детям. Целый абзац был с просьбой-поручением: выявить в случае моей смерти виновных в моём незаконном аресте. Меня душил смех, но следовало излагать максимально правдоподобно. Включил назидание деткам, просил прощения у родителей. Думаю, мне удалось родить что-то вполне убедительное. Закончив сей труд, я передал его прапорщику, заявив при этом, что раз в тюрьме нет натариуса, то, согласно правилам, висящим в камере на стене, мою подпись должен заверить начальник тюрьмы. Прапорщик забрал ДОКУМЕНТ очень торжественно и тотчас понёс начальству. В тот день никто по поводу «Завещания» не пришёл, только в глазок стали заглядывать раза в два чаще. Зато назавтра меня вызвали к начальнику, и я его впервые увидел. – Ты для чего это написал ? Что ты удумал? – спокойно спросил он. – Гражданин начальник, я ничего не удумал. Просто я человек не молодой и каждому в моём возрасте необходимо иметь завещание, – потупив глаза, грустным голосом пролепетал я. – Так что прошу заверить мою подпись. – Ты мне не крути! Скажи прямо, что удумал? – Гражданин начальник, честное слово, ничего, – невинно бубнил я. Разговор не получался. – Ладно, я подумаю, – сказал он. – Только смотри, без глупостей! 33 – Обязательно прошу вас заверить. Для меня это очень важно, очень!.. Я шёл по коридору под конвоем с убитым видом, но душа моя пела – достал я их! Тюрьма КГБ была маленькой и спокойной, место работы – не бей, как говорится, лежачего, оклад – кэгэбешный, плюс привилегии, включая пенсию с 50 лет, и отпуск 45 суток без дороги. Терять такое никому не хотелось. Подпиши завещание, а этот идиот, причём невиновный, что-нибудь с собой сотворит, и – прощай должность. Да и тому, кто этим спектаклем с арестом и т.д. дирижировал, не поздоровится – может, в случае чего, начаться расследование: за что держали человека?.. Да ещё это внезапное увольнение следователя... Со мной все стали особенно вежливы и предупредительны, прапорщик выспрашивал: для чего мне «Завещание»? Намекал, что лучше бы мне забрать его. Но я упёрся: требовал заверения ДОКУМЕНТА. Через день – опять вдруг адвокат. Мочульский встретил меня широкой улыбкой. Когда мы остались одни, он достал шоколадку и шкалик с коньяком: – Поздравляю тебя с днём рождения! Пей пока никто не видит. Я вылил в себя эти 75 граммов и захмелел. Я прекрасно понимал, что без КГБ сюда не только коньяк, но и скрепку никто не внесёт... Он дал мне почитать письма от родителей, от детей и от неё. И спросил, что я удумал с «Завещанием»? Я ответил, что и прежде: не заверяют, мол, и просил помочь с этим. – Смотри не глупи, – сказал он. – Ты нужен детям. И мы все тебя ждём. А я спросил, сколько меня будут держать тут, если ни одного серьёзного обвинения. Он сказал, что надо потерпеть, что он сделает всё, что можно... Мне потом принесли необычайно обильную передачу – в с вязи с днём рождания, конечно. Мы с Юрисом накрыли стол и отметили это событие. Я никогда не мог себе представить, что буду встречать своё сорокатрёхлетие в тюремной камере. Эта мрачная келья за прошедшее время, вместе с земессаргом и злыми комаринными самками, стала почти родной. Мысли возвращались к моим детям, к родным Отмечают ли они нынешний день? Как переносят свалившиеся на них невзгоды? И сколько ещё дней рождения мне предстоит встречать чёрт те где?.. Утром я написал жалобу прокурору о том, что не заверяют моё завещание, нарушая мои права. Через несколько дней стал ночью, вроде бы прячась, рвать простыню на полосы и плести верёвку. Назавтра, пока я был на прогулке, моё рукоделие изъяли. Потом пришёл прапорщик и заявил: – Ты, парень, уже сполна довёл начальство. Смотри не перестарайся! Сбагрят тебя на Браса – а там полный беспредел, узнаешь по чём фунт лиха. Трюк с завещанием был выжат до дна и стал уже неинтересным. С каждым днём отношение персонала ко мне менялось в лучшую сторону, я чувствовал даже какое-то уважение и до сих пор не могу объяснить почему. На прогулке стали оставлять одного, вертухай не сидел на своём месте, иногда давали погулять дольше положенного часа. 34 Однажды, выпустив из камеры, мне сказали: «АСледуй во дворик сам». И хотя идти было метров десять, это натурально оглушило меня – как сам?!.. как без конвоя?!.. Потом, мысленно я стал называть себя расконвоированым ЗК. Выходит, чем больше волнуется начальство, тем почему-то спокойнее был персонал. Иногда казалось, что вертухаи откровенно подыгрывают мне. Юрис получил передачу – хлеб, лук, колбаса, сыр, редиска, шпроты в пластиковой баночке. Мы всё поделили поплам – мы всякий раз делились побратски. И хотя не особенно симпатизировали друг другу, постепенно как бы сроднились и уже волновались друг за друга. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Передачи, надо полагать, не были частыми? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Раз в месяц. Зато какое было пиршество! И, как правило, заканчивалось обычно долгими разговорами – «за жизнь». ДОПРШИВАЮЩИЙ: Юрис рассказал о себе подробнее? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Думаю, достаточно подробно. Его жизнь была обычной жизнью рабочего рижского парня. Плотничал, работал на стройке, в ЖЭКе, попивал, случались неприятности с дружинниками и милицией. Был комсомольцем, отслужил в Советской Армии, женился, родилась дочь, развёлся... Поругивал власть, завидовал более удачливым, не имел друзей, только сослуживцев и собутыльников, был советским человеком без национальности... В общем, ничего примечательного. Жизнь его резко изменилась, когда ему напомнили, что он латыш, а не хухры-мухры. Тогда он бросил свой ЖЭК и ушёл в земессарги. Там он себя почувствовал весьма значительной личностью. Он, всегда боявшийся милиции и вытрезвителя, сам вдруг стал ментом, да ещё и командиром отделения. И так старался отличиться, что это стоило малолетке почки, а самому Юрису – воли, новой должности и приземления на грешную землю. Вёл он себя в тюрьме вполне покладисто, старался угодить начальству и не понимал моих финтов. Однако всегда с интересом слушал мои рассуждения, задавал много вопросов, редко возражал и спорил. Особенно он пытался понять, почему я был так уверен в неизбежном крахе социализма и прочих «измов», как и в том, что попытки «догнать и перегнать Америку» или Финляндию – пик несусветной паранойи и невежества. Это, говорил я, сродни мечте неумеющего и не желающего работать бомжа о грандиозном блестящем дворце, который сам собой вдруг предстанет перед ним: заходи, пожалуйста, будь хозяином!.. Так мечтают выиграть в лотерею, не желая потратиться на лотерейный билет. Юрис, если ты не кончил ВПШ и прошёл три класса церковноприходской, то всё поймёшь. В стране дефицит всего. Что значит тотальный дефицит, царящий в магазинах (1991 год)? Это значит, старался я растолковать попроще, что страна и система хозяйствования производят продукции с каждым годом меньше, чем потребляют. А при капитализме, кстати, другая беда – производят больше, чем потребляют: перепроизводство. Почему? Товаров на Западе больше, чем надо, и капиталист, чтобы выжить, должен всё делать быстрее и лучше другого, его товары не должны оставаться на полках, а должны быть раскуплены, иначе обонкротишься. И когда таких капиталистов целая страна, то экономика бежит быстрее. 35 Вот потому, Юрис, социалистическое плановое хозяйство не может конкурировать с капиталистическим и должно было рухнуть непременно. Это, может, случилось бы позже, если бы не Афган, но случилось бы неизбежно. Юрис, ты говоришь, что ничего не понимаешь в экономике. Ты думаешь, что экономика – это сплошные цифры, бланки, диаграммы. Нет же, дорогой, экономика – это просто доверие или недоверие и способность этим доверием с толком распрядиться. Если государство честное и справедливое, если оно защищает твою собственность и капиталы, то люди доверяют ему и несут свои деньги в его банки, а не за границу, и не покупают собственность другого государства. Если государство даёт возможность честным трудом многого добиться, то люди и трудятся честно. Так что, Юрис, экономика – это доверие выраженное в цифрах. И напрасно ты записался в земессарги... После моих лекций он говорил, что мне бы – президентом! В его глазах мои дилетанские рассуждения выглядели, наверное, какой-то сверхмудростью. Он добавлял: они тебя не зря арестовали. Нет, Юра, не гожусь я ни в президенты, ни в председатели сельсовета. Мне бы – только не мешали б честно работать да растить моих детей здоровыми и честными. Это и есть самое высокое президенство. А кому, Юра, по-твоему мнению, легче жить на земле: человеку больше понимающему в жизни... или скажем проще: умному или дураку? Легче, Юра, и намного – дураку. А чем больше человек понимает и знает, тем за большее на этой земле отвечает, потому что видит то, что многим сразу не видно. Он много понимает и часто ничего или почти ничего сделать не может. Это, Юра, всегда трагедия. Легче живёт человек, понимающий и знающий что-то не более среднего, или – попросту – дурак. Но даже лишние знания и понимания ему – не беда. Не то что – умному. Представляешь: например, царём ставят человека, который намного умнее своих подданных, и что? Никто его не понимает, никто не поддерживает и в лучшем случае менее умные соплеменники отправят его в дурку. Главное не в том одном человеке, которого поставили главным, а в том насколько само общество готово к благим переменам и насколько глава соответствует этим чаяниям. Один – и в романовской царской постели один… Отбой, Юрис. Потухла жёлтая лампочка, загорелась синяя. Жёлтая-синяя, жёлтая-синяя… Так уходило моё 43 лето... Заснуть не удавалось, жара стояла изнуряющая. «Юрис, а знаешь, какая всё же разница между умным и глупым? Они, конечно, оба поймут всё, что происходит, но умный поймёт это просто раньше, и всё. Умный мыслит быстрее, а до не очень умного доходит намного дольше». Юрис спал... Наступил август 1991-го. И никто ко мне не приходил – ни новый следователь, ни адвокат. В очередное воскресенье уже привычно звучал колокол. А я отправил очередную серию жалоб, в которых не уставал напоминать моим адресатам, что все предъявленные мне на допросах обвинения несостоятельны и держать меня здесь нет оснований. Я писал, что и на свободе никуда не денусь. Но всё уходило куда-то безответно, как в прорву... 36 Я прекрасно понимал: обвинения, предъявляемые мне, – всего лишь гарнир и, в сущности, ничего не меняют в моём положении. Рассыпятся эти мои «реступления» – придумают другие. Меня ведь назначили на эту роль – вот что главное. Я молился: если Ты есть, Господи, будь милостив, вразуми меня! Дай понять, за что мне такое наказание? В чём мои грехи? Кому я сделал плохо или кому помешал? И тем не менее такие минуты слабости всегда кончались как бы моим обновлением, «восстанием из пепла»: не дамся! буду усложнять им задачу, пока дышу! Чистая криница, Небеса молчат. Эх ты, власть-волчица – Вывела волчат. Взвод стволов построен, Тишина кругом. Умираем стоя, Осенясь крестом. Кто мы – Стёпки, Кешки – Вшивота и сор? Прокурору – пешки, Ну а нас – в упор. Кровь бежит водицей, Коршуны кружат. Эх ты власть-волчица, Вывела волчат. ...Беспокойство и тревога не проходили. Мне вспоминались какие-то давнишние заботы и обзяанности, казавшиеся некогда такими важными и серьёзными, и было смешно, насколько ничтожным всё это выглядело сегодня. Жизнь была словно располосована каким-то гиганским ножом – на наивную прошлую и какую-то фантастическую настоящую. – О чём задумался? Лучше что-нибудь интересное расскажи, – оборвал мои рефлексии Юрис. Действительно, надо менять пластинку. Ну что ж, Юра, расскажу тебе один трагикамичный случай. Было это несколько лет назад, когда я работал в санатории «Кемери» заместителем главного врача по технической части, иначе – главным инженером. Как и положено, в санатории была аптека и аптекарем работала старая дева, латышка. Так вышло, что её родственники во время войны «ушли» с немцами и живут давно в разных западных странах. 37 В санатории была легковая автомашина с водителем Володей. Пользовался ею главный врач и – с его разрешения – замы. Не знаю, в чём была причина, но Володя терпеть не мог аптекаршу. Раз в месяц его отправляли с ней в Ригу за пополнением лекарств в аптеке, и каждый раз они возвращались ругаясь. Однажды я услышал их обычный скандал, но что-то было и новенькое: Володя называл аптекаршу людоедкой и канибалкой. Я поинтересовался у ребят, что случилось? И мне растолковали: Наша аптекарша регулярно получала от своих родственников посылки, и доходили они долго, пока содержимое проверяло КГБ. И тут пришла посылка с различной всячиной и кульком серой муки. Женщина покрутила этот кулёк, побурчала, что они там, видно, уже совсем свихнулись, если думают, что в Латвии нет хлеба. Взяла и напекла к паске пирожков. И пирожки вышли отменные! – соседи и коллеги по аптеке, которых аптекарша угостила, не могли нахвалиться: вот, мол, что значит американская мука! А через две недели аптекарше пришло письмо: «Умер твой дядя Модрис. Он завещал похоронить его в Латвийской земле. Переслать прах официально не удалось, и мы его смешали с мукой и выслаем посылкой. Похорони дядю Модриса, как он и хотел, – в родной земле...» Письмо было отправлено раньше посылки, но то ли ответственный кэгэбист ушёл в отпуск, то ли другая какая-то причина сыграла – факт остаётся фактом: дядя уже был съеден... Рвало весь дом, аптекарша слегла и долго болела. Помню Володин крик: «Твой дядя все равно попал в родную землю, только через канализацию». Юрис хохотал долго и раскатисто. И ещё случай, связанный с прахом. Был у меня хороший друг Марис Эйзенберг, сын министра иностранных дел в правительстве Ульманиса. Правда, Марис никогда не говорил об этом. Однажды он позвал меня съездить с ним и получить посылку в порту. Мы приехали и после некоторого ожидания нас пригласили в кабинет к таможенному офицеру. Проверив у Мариса паспорт, он сказал, что пришла посылка с прахом из Западной Германии – кто-то из родственников тоже хотел быть похоронен в родной земле. Офицер достал из шкафа металлическую запаянную банку, повертел в руках – в ней что-то пересыпалось и шуршало. – Будем вскрывать? – спросил таможенник. – Делайте, что хотите, я вскрывпать не буду! – отмахнулся Марис. На лице офицера отображалась явная внутренняя борьба, вопрос был непростой. Он попросил нас обождать и отправился к начальству. А через час вернулся и отдал нам банку невскрытой. Мы заехали в магазин, взяли две бутылки водки и благополучно добрались к Марису домой; банка с прахом покойного ехала в багажнике. Дома сварганили простую закуску – колбаска, огурчики – и только опрокинули за упокой, как пришла с работы супруга Мариса Айна. Когда он объяснил жене причину поминок и сказал, что прах находится в банке на трюмо, Айна взвилась под потолок: она кричала, чтобы немедленно убрали покойника из дома. Ну куда его деть? Марис стал уговаривать, что бы я на время забрал его к себе, я наотрез отказался. Тогда отнесли банку назад в багажник автомобиля. 38 Потом были месяцы хождений по кабинетам за разрешением на захоронение праха на кладбище. Разрешения мы так и не получили. Кончилось тем, что взяли опять пару бутылок и лопату, пришли на кладбище, где лежали родственники Мариса, и там закопали злополучную, красиво оформленную германскую банку. После выпитой бутылки сказали прощальные речи, отметили бренность человеческой жизни и побрели к выходу с кладбища... Мой рассказ прервал голос прапора: – Кудыков, к следователю! Я вскочил. Мне не терпелось узнать, кто заменил Малиновскую?.. В комнате допросов сидел человек лет тридцати. – Мельников, ваш новый следователь, – представился он. – Кудыков, подследственный, – дурашливо «выпалил» я в ответ. – Но если серьёзно, то скажите: за что меня тут держат? И сколько ещё будут держать? Мельников сразу пояснил, что на скорый выход мне настраиваться нечего. И добавил, что пока не может ничего пояснить. И допрос пошёл как-то странно, необычно – то был вовсе не допрос, а, скорее, беседа со знакомым. Мельников сообщил, что моя дочь Наташа поступила в университет при гиганском конкурсе. Новость всколыхнула, пронзила меня радостью. Вот так! Вопреки всем несчастьям, Наташка нашла в себе силы и победила! Вторая новость была не менее приятной: Санта передала из дела копии моих стихов моим друзьям, остальные передаст Мельников: ребята готовят к выпуску сборник моих стихотворений. Мы проговорили очень долго, и наконец выяснилась причина столь странного допроса: следователь сказал, что мы встречаемся в первый и последний раз. Он, как и Санта, подал заявление на увольнение из прокуратуры – иначе не мог отказаться от моего дела. А вести его он не желает. Я стал убеждать его не оставлять, подобно Санте. Но он был непреклонен. – Следователи, – сказал он, – уходят и приходят, а беда остаётся. Он дал мне две пачки сигарет и простился, пожелав стойкости и удачи. Уходил подавленным… Мельников действительно уволился, однако в связи с тем, что следователей катострафически не хватало, его через два месяца уговорили вернуться с повышением, но – не на моё дело. Благодарность и уважение к этому человеку, к его гражданскому мужеству свято храню в душе. Надеюсь, он таким и до сих пор остался. Низко кланяюсь тебе, честный человек!.. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Итак, вы снова оказались без следователя… ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Увы! И когда я вернулся в камеру, чувство было такое, будто потерял близкого человека... ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Итак, по Мельникову, вам надлежало готовиться к длительному сидению. Хотя обвинения и рассыпаются... Вам не приходило в голову, что тот же Трубиньш за что-то вам мстит? Где и когда вы могли перейти ему дорогу? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Я уже говорил о возможных мотивах поведения генерала и его команды. Но дело, по-видимому, не только в этом. ДОПРШИВАЮЩИЙ: А в чём же ещё? 39 ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Так уж устроена психика человека, что больше всего он ненавидит тех, в отношении кого совершает или совершил какоенибудь свинство сам. Человек, которого обидели, оскорбили, может простить своих обидчиков, но обычно никогда не простит того, кому сам сделал пакость. Такое прощение означало бы обвинение самого себя, признание самим низости, мерзости своего поступка. Этим объясняется презрительное и грубое отношение к арестованным со стороны кэгэбистов. Отсюда и поговорка: «КГБ зря не арестовывает». Эта поговорка родилась для того, чтобы оправдать собственное участие в гнусных делах, умаслить свою душу. Чувство внутреннего подспудного несогласия с самим собой перерастает в злость и выливается, в частности, на несчастного арестанта. Тем более – необоснованно обвинённого. С этой точки зрения у них была по отношению ко мне своя правда, которая никак не могла совпадать с моей. Недаром позднее генерал Трубиньш заявит, что было, но не так. Конечно генерал, ты жил в другой стране, нежели я, хотя географически это было одно и тоже место. Я сегодня могу проникнуться христианскими чувствами и простить тебя, но ты вряд ли простишь мне совершённые тобой же непотребства... Открылась кармушка и подали «Библиотеку». Да, раз в неделю приносили такую папку с несколькими листками, исписанными названиями книг. Мы с Юрисом выбирали книги, заказывали, много читали – это уводило от грусной действительности в виртуал других историй и словно бы скрадывало срок. Сам список был удивительным – то были книги авторов, в большинстве запрещённых в СССР. Среди известных имён встречались и совсем неизвестные. На многих были перечёркнутые штампы старых латышских библиотек. Самая старая книга, которую я там видел, была датирована 1954 годом. Мне стало понятно, что здешняя библиотека состояла преимущественно из былого конфиската. Я упивался многими книгами и авторами ранее мне недоступными, мои глаза от развивавшегося диабета видели всё хуже, но я продолжал читать, даже плохо различая буквы. Юрис отвлёк меня от чтения. В то время в опозиционной пресе уже стали раздаваться голоса о необходимости суда над КПСС, и мой сокамерник хотел знать моё мнение на этот счёт. Я сказал, что начинать надо, видимо, с Библии – она призывает к акту покаяния, вернее – к очищению через покояние. Искреннее покаяние есть поступок освобождения своей памяти и сущности от вредных наслоений, наносов зла, гордыни. После покаяния в памяти и нашей сущности остаётся не сам дурной поступок, а лишь воспоминание о покаянии, и мы меняемся к лучшему. Общество же от этих наслоений и наносов, образованных неблаговидными поступками, очищается более длительное время – пока большинство его членов не признает свои неблаговидные дела и не отречётся от них. Пока это не произошло, ни отдельный человек, ни общество в целом не может полноценно двигаться вперёд. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: А что всё-таки касательно суда над КПСС? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: По-моему, он был бы уместен, раз так упрямо не хотят каяться. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Вы представляете себе такой суд, такой процесс? 40 ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Смутно. Ясно одно: многие бы ликовали, искренне радовались... Но хоть я и думал так, на душе было тягостно. Уходили следователи, хорошие люди, не желавшие учавствовать в преступлении, уходили перед невозможностью отстоять своё мнение и букву закона. Какая-то сила стояла выше закона и совести, и она, эта сила, творила из каких-то своих побуждений расправу, и нечего было ей противопоставить, ничего нельзя было сделать. Я вновь и вновь искал причину и объяснение этому. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Выше вы говорили о том, что по всему Советскому Союзу в 1991 году прокатилась волна арестов кооператоров. ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Это правда. И я знал, и позднее это подтвердилось, что в тюрьме КГБ одновременно со мной находилось немало арестованных видных бизнесменов. Это вполне могло быть объяснением и моего ареста. Хотя к тому моменту я уже был вынужден оставить «Комплект» и начал новый бизнес, и начало было вроде бы многообещающим. Как впоследствие выяснилось, в отличие от других арестованных ко мне было проявлено особое внимание. Это – не только поездка первого заместителя КГБ Латвии Трубиньша в Германию, но и то, что в августе 1991-го по ликвидации КГБ в Латвии, я не оказался на свободе вместе со всеми. Я никогда не был членом КПСС, но поскольку состоял на руководящей должности, меня всё время тянули вступить в партию. Главным аргументом было: многие важные вопросы, касающиеся управленцев и руководителей производств, решаются и обсуждаются именно на закрытых партсобраниях и заседаниях бюро, куда вход беспартийным запрещён. Действительно, в СССР беспартийный руководитель – это нонсенс. В 1989 году меня-таки уломали: я стал кандидатом – это было непременным условием для создания арендного предприятия. Но уже в 1990-м, при первых шагах перестройки я подал заявление об исключении меня из кандидатов. В этом заявлении я написал всё, что думаю о данной организации. Это заявление, – не факт самого заявления, а то, что я в нём написал, – могло стать и причиной моего преследования. И дело даже не в этой конкретной причине, а в том, видимо, что я не скрывал своих взглядов на власть, и с этой точки зрения был их идеологическим противником и, следовательно, по сталинско-чекисткой логике, был арестован правильно. И хотя противником я был преимущественно в мыслях и каких-то своих позициях и высказываниях, а активной борьбы никакой не вёл, и по закону арестовывать меня было не за что, они всё-таки пошли на это: мол, если по идеологической причине посадить нельзя, то посадим по чисто уголовной: сделаем из тебя вора. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Странно, что такая знаменитая организация, такой раскрученный бренд, разрекламированный как высокопрофессиональное ведомство, оказалась столь немощной в фабрикации рядового, в общем-то, «уголовного дела». ДОПРАШИВАЕМЫЙ: По всей вероятности, фабрикация любого дела задача всё же не совсем простая: правда всё время пробиваться наружу – сквозь самые малюсенькие щели. К тому же, им никогда не надо было доказывать свою правоту юридическим путём – всё было намного проще: заставить 41 обвиняемого признать свою вину и со своими «юристами», в собственном закрытом «суде» объявить нужный им приговор. Поэтому они остаются всегда беспомощными в независимом честном суде – здесь они полные дилетанты. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Пожалуй. Стоит лишь вспомнить их судейские тройки, растрелы без суда и следствия... Всё свидетельствуют только об одном: виновность или невиновность человека никогда их не интересовали. ДОПРАШИВАЕМЫЙ: А зачем им было тратить средства и время на эти с их точки зрения глупости?.. Человек сам по себе не был им интересен, им необходимо было нагнетать страх, чтобы рабы не бунтовали, чтобы мыслили правильно, то есть не рассуждали о справедливости-несправедливости, а круглосуточно вкалывали и доказывали свою преданность власти. А если кто из быдла – человек или целый народ – будет использован для примера или эксперимента, что ж – не повезло чуваку. Летом 1991-го по страницам газет гуляла перестройка, и привычный механизм КГБ чуть-чуть начал пробуксовывать. Но мысли мои всё равно были невесёлыми, и я читал Юрису вновь рождённые строчки: Поминальная свечка. Побелела щека. Три из дыма колечка – Я расстрелян в ЧеКа. Приговор вынес рьяно Утомлённый матрос. Сам пальнул из нагана, Дав курнуть папирос. Никогда не состарюсь, В яму с трупами свалят. Пролетарская ярость Гробанула в подвале. Три из дыма колечка, А я в белой рубахе. Поминальная свечка, Губы вздрогнули: на хер... Вообще пребывание в камере, прочитанные книги – всё это заставило думать и ломало мою совковость самыми ударными темпами. Я начинал понимать происходящее по-иному, переоценивать свою жизнь, свои поступки. Моя вина вырисовывалась теперь в том, что я сам был совком и непротивлением своим продлевал жизнь этого человеканенависнического монстра-власти. Сегодня совки несут ответственность перед историей той жизни и страны, в которой живут, – за убитых священослужителей, за растрелянную царскую семью, порушенные храмы, за детей, лишённых 42 родителей, за департации народов, грабёж, расстрелы, заморённые голодом деревни, за растреляных польских офицеров, за десятки тысяч русских людей, рассеянных по всему миру, за униженный и почти уничтоженный собственный народ, за беспризорных, калек и растленные души вертухаев. А ты не ходил под разбитыми храмами, Где падали главы, цепляясь крестами... Легко тот смеётся над старыми шрамами, Кто не был ни разу избит или ранен. И рушили Бога, с душою поссорясь, Сегодня нас сделав за всё виноватыми. Летят купола, цепляясь за совесть, С душами нашими, бездушно распятыми… ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Эксцесс с ГКЧП коснулся вас? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Коснулся. В тот день с утра была какая-то странная тишина. И вдруг донёсся рокот кружащих над городом вертолётов. За стенами тюрьмы что-то происходило. Прапорщик проинформировал нас: в Москве – переворот, Горбачёв отстранён от власти и заперт в Форосе. Как заключённые во всём мире воспринимают подобные сообщения с надеждой на свободу, так восприняли и мы. Я тоже не выдержал и дрогнул. Сел и написал заявление о том, что невиновен, преследовался предыдущей властью незаконно и т.д. Ночь прошла тревожно. Утром прапорщик вывел меня из камеры, завёл в соседнюю – видимо, чтобы стукачок не слышал, и, достав мою писанину, сказал, что это я сделал зря. Я и сам уже жалел, что не выдержал, сорвался. С моего разрешения он порвал моё заявление. Помолчал и добавил: – Ты настоящий мужик. Несмотря на моё состояние, слышать это было приятно. Далее он заявил: – Теперь иди и собирайся, тебе – пятнадцать минут. – Домой?! – взвился я, уже заранее ликуя. – Нет, – ответил он. – До дома тебе ещё далеко. Держись, парень. Несколько минут на сборы, прощание с Юрисом, взаимные пожелания скорейшего освобождения. Это было это 19 августа 1991 года. А 20-го августа, с ликвидацией КГБ Латвии, освободят всех, кто находился в тюрьме КГБ. Но там уже не будет меня... По-моему, они специально заранее забрали меня оттуда, чтобы оставался у них в руках... Меня вывели с моим нехитрым скарбом во двор; там стоял уазик цвета хаки с занавесками на окнах – таких тогда много разъезжало по Риге. Я залез вовнутрь, в узкий проход, по обе стороны которого размещалось по четыре металические двери. Одну из них открыли, и меня втиснули в крохотный металлический ящик без окон; вверху были лишь вентиляционные дырки-отдушины. 43 Погода стояла жаркая, и духота в этом железном гробу была невыносимой. Я услышал, как завели ещё одного человека, и автомобиль тронулся. На дорожных выщербинах меня колотило о стенки, путь казался бесконечным... В Рижском КГБ, помнится, был ещё один автозак – грузовая автомашина внешне выглядевшая как хлебовозка. На улице эта движущая тюрьма с надписями «Хлеб» не вызывала сомнений: внутри, считали обыватели, конечно же, багоухает свежая сдоба. Да уж – не любило КГБ афишировать свои дела... Начинался мой следующий этап хождений по мукам. 44 ПРОТОКОЛ № 2 ДОПРОСА ДАВИДОМ ФЕДОРОВИЧЕМ САМОГО СЕБЯ. ДОПРОС Часть первая ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Продолжим, допрашиваемый, ваш рассказ о тех событиях. После одиночки в тюрьме КГБ вы оказались в общей камере тюрьмы Матиса на ул. Браса в Риге. Что было дальше? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Считаю необходимым начать с того, что широко опертые о стену руки и раставленные ноги – безусловное унижение, к каковому я так и не смог привыкнуть за полгода со дня моего ареста. И здесь было то же. А что дальше?... Дальше всё очень просто. Нас – то есть меня и моего «коллегу» (его-то вторым и запихнули вслед за мной в автозак) – привезли, передали из рук в руки, лязг железных засовов – и мы вдвоем входим в «хату», то есть – в общую камеру рижской тюрьмы на ул. Браса. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Продолжайте. ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Камера вытянутая, полумрак, в дальнем конце два окна с намордниками. На всю длину «хаты» – посредине – сплошной стол со скамейками; вдоль стен – по обе стороны стола – два яруса коек с редкими тумбочками. Противоположный от окон угол огорожен метровым бетонным баръером, за которым железная облупленная раковина (надраеная, впрочем, до блеска) и помост с вмонтированным в него очком – для естественных нужд, как вы понимаете. Вид этой камеры вызвал во мне почему-то ассоциации с полевыми станами на целине. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Вы были на целине? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Нет, но я эти станы с длинными столами и скамейками по бокам видел на многих газетных иллюстрациях и в фильмах... Словом, я прибыл, и здесь, как мне потом объяснили, мне предстояло получить моё первое юридическое образованием. Собственно говоря, я уже знал, как в данной обстановке положено себя вести новичку. Я поздоровался с обитателями «хаты», назвал свою статью и сказал, что переведён сюда из тюрьмы КГБ. Я также объявил, что являюсь евреем. Это было не совсем правдой: по всем документам я значился по отцу марийцем, еврейкой же была мама. Однако чтобы сразу нейтрализовать всякие пересуды, я себя с гордостью назвался евреем. И как потом выяснилось, в «хате» это произвело положительное впечатление, было принято уважительно. Мой напарник, бродяга по жизни, был, по всему, не впервые в этих заведениях и проделал то же, что и я. Мы со своими небольшими котомками 45 оставались стоять у двери. По неписанному тюремному закону, нам предстояло отбыть у дверей до вечера, пока «первый стол» во главе с хозяином «хаты» не определят наш статус и – в соответствие с этим – не выделит нам место за столом, место на шконке и время для сна. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Постарайтесь всё же пояснять эти тюремные словечки – не всякому они поняьтны. Что такое, например, «шконка»? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Это – спальное место. В камере их всего шестьдесят, а народу – больше сотни. Если учесть, что угловые койки, где работали «кони», никем не занимались, а воры («первый стол») имели персональные спальные места, и если также исключить зону так называемых «опущенных» (обращенных в гомосексуалисты), то остальные спали в две или три смены на одной шконке и время сна было жестко определено для каждого. А на полу под шконкой – место для «опущенных». Нижние нары считались привилегированным. К тому же, один из двух противоположных рядов шконок был «вшивым», другой – «чистым». Кстати, о вшивости. Принято считать, что эти твари заводятся от грязи, антисанитарии и т.д. Это, однако, далеко не так. Любой зэк знает, что вши появляются также от перенапряжения, стрессов, переживаний, и, как правило, у нервноистощённых людей. Я никогда раньше не подозревал, что существуют столько их разновидностей! Тут вам и постельные вши, и одёжные, которые никогда не полезут в голову, и головные, которые – напротив – не поселятся в бороде, бровях и усах, и так называемые мандовошки, которые не живут на голове, но исключительно – в паху, а то и в бровях, бороде и усах. И этот перечень можно продолжать и продолжать – целая наука. Выводить же вшей у нервноистощённых – дело почти безнадёжное. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Хорошо, достаточно о педикулезе. И далее, пожалуйста, по существу. Вы вошли в камеру, стали у двери. Потом? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Вши – это тоже по существу. Но – согласен, пойдем дальше. Ждать у дверей решения своей судьбы – не просто какой-то тюремный ритуал. Всё это время идет кропотливая работа по каждому вновь прибывшему: о нём наводятся справки, из камеры в камеру «кони» несут малявы (то есть, записки) с запросами, отыскиваются люди, знавшие вас на воле, и – будьте уверены! – к вечеру о вас тут будет известно намного больше, чем знает следствие, чем знает даже любимая ваша матушка. И вот я теперь стоял у дверей камеры новой тюрьмы и думал: так что же на самом деле есть советское исправительное учреждение вкупе со всей системой советского правосудия? Ведь все эти заведения так именно и называются – исправительными учреждениями. В то время, когда даже самые наивные понимают: ничего «исправительского» в них нет. Невозможно себе представить человека, который, встретив отсидевшего зэка, воспринял бы его как исправившегося, перевоспитанного, ставшего после осидки если и не образцом прилежания и поведения – этаким Пьеро другом Мальвины, – то хотя бы болееменее осмотрительным, законопослушным. Ничего подобного! Часто подлые 46 поступки следствия, обман, фабрикация доказательств, мордобой – эти самые «недозволенные методы следствия», практикуемые сплошь и рядом, – непредоставление защиты, обвинительный уклон, унижения, наказания холодом и голодом, непомерными сроками, поддержанием администрацией уголовных «тюремных законов», что царят в камерах, нечеловеческие, скотские условия «хат», насаждение стукачества, всевластие и подлость кумов и вертухаев (то есть оперативников и надзирателей) – словом, весь этот дикий набор превратил тюрьмы и лагеря в гиганские предприятия по дьявольской переработке человеческого материала, в хорошо отлаженные производства зла и человеческой ненависти. Какое тут исправление, какое осознание вины, если таковая и была?! Бессчетное количество этих гигантских «заводов», действовавших на всей территории необъятной страны, круглосуточно и уже многие десятки лет выдававштх «на гора» злобу и ненависть – только злобу и ненависть! – пропускали через переполненные камеры огромную часть населения, и исключительно в качестве сырья. Когда в стране немного ослабили страх, то вся эта наработанная за время советской власти, взлелеяная последователями Феликса Дзержинского негативная энергия высвободилась, и страна стала жить по понятиям камеры, впитав нравы, культуру «хаты», тюремную лексику, как и неверие в дружбу и постоянное ощущении врага рядом. Да, сегодняшняя Россия именно напоминает одну большую «хату», живущую по понятиям с паханами и главным вертухаем во главе, держащим в руках не скипетр, а вертикаль страха. А главный признак «хаты» – это когда никто никому не верит и каждый – только за себя. Разве сегодня в России не так? Разве нет «первого стола» вокруг первого, и – далее – мужиков, приспешников и «опущенных»?.. Особенно если взять российское село. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Эти мысли, как я понимаю, не родились у вас, пока вы стояли у двери – они в вас созрели уже до того, в одиночной камере... ДОПРАШИВАЕМЫЙ: В одиночке под недреманным оком КГБ. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Мы ещё вернёмся к этому. А пока – конкретно о вашем знакомстве с «хатой». Вам с вашим нечаянным напарником-бродягой предстояло дождаться решения Хозяина «первого стола»... ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Мы и, ждали. Только вдруг мои раздумья прервал возглас – «Фёдорович!». И я увидел знакомое лицо – бывший кооперативщик. Он улыбнулся и сказал: – Ты не переживай, всё у тебя будет хорошо. Как оказалось, в камере было немало арестованных кооперативщиков. Ктото лично знал меня – на воле я им не отказывал в помощи, когда была возможность. Правда, пока мне удалось припомнить только двоих – когда-то они были у меня на приеме. Другие, как потом выяснилось, обращались ко мне письменно – через секретаря или начальников отделов, хотя лично я с ними не был знаком. Но в этих условиях главным было, что они знали меня. Значит – «все будет хорошо». Это, конечно, приободрило... 47 Я обратил внимание, что в углу у окна, на втором ярусе кроватей стоял здоровенный зек. Я спросил «коллегу», что он там делает? Тот пояснил: это – «конь». Во всем старом корпусе тюрьмы из камеры в камеру были пробиты дыры и, таким образом, все заключённые свободно общались между собой. Тут я увидел, как из потолка показались ноги, и «конь» подхватил спускающегося сверху зэка и поставил на кровать. Потом он подхватил другого и поднял – мигом из отверстия в потолке показались четыре руки верхних «коней», подхватили приподнятое тело, и зэк исчез в потолке. Я спросил, как же вертухаи и кум это терпят? Да никак, ответили мне: тюрьма-то гнилая, что тут поделаешь? Правда, вначале дыры регулярно замуровывались, но зэки незамедлительно пробивали новые, так что вертухаям в конце концов надоело и они бросили это занятие... Забыл еще такой факт. Как только мы, новички, появились в камере, ко мне подошли несколько человек и вежливо попросили поменяться кроссовками, предложив взамен моих новых какие-то изрядно поношенные. Я молча переобулся – не вступать же в конфликт из-за каких-то кроссовок. Между тем подоспело время ужина, и нам двоим, стоявшим у двери, принесли кашу, хлеб и чай; мы молча поужинали. Потом прошла вечерняя поверка – она, кстати, очень напоминала армейскую. И вот, после поверки меня наконец-то позвали к хозяину камеры. В углу у окна, на территории «первого стола» сидело восемь-девять зэков во главе с человеком похожим на боксера полутяжелого веса (позже выяснилось, что так оно и было). Хозяин «хаты» молчал, вопросы задавали члены этой странной «коллегии». Надо заметить, что все сидели, а я стоял. То была до боли знакомая картина партбюро домоуправления и, как и на том партбюро, чувствовалось, что члены совета хорошо знакомы с моим личным делом и лучше не пытаться сочинять или утаивать что-либо. – Кто ты по жизни? – спросили меня. То есть, мне предлагалось рассказать о себе, изложить биографию, так сказать (чем не партбюро). Далее последовало: «Статья?», «Как там в КГБ?», «В общак отстегивал, бизнесмен?», «Кого знаешь?» (имелись в виду городские авторитеты). И вдруг – резко: «По соленому ходил? Под хвост лазил?» Отвечая на вопросы, я прекрасно понимал, что малейшая ошибка в ответах или неточность могли обернуться для меня бедой, и обостренное подсознание подсказало, что речь идет о сексуальной орентации и пристрастиях. И я не ошибся – ответы мои были чётки. И хотя я был достаточно напряжён, говорил ровно, спокойно – не подавал вида, что волнуюсь или испытываю страх. Старшой, наконец, прервал экзаменаторов и изрёк: – Признаешь тюремные законы? – И после моего положительного ответа добавил: – Будешь мужиком. Определить нижнюю шконку, спать в ночное время. Всё, иди. Партийное бюро это напоминало не только формой, но даже интонациями 48 высказывавшихся. Казалось, остается только застелить стол красной скатертью да посадить девочку-протоколисточку, и тогда вообще никаких отличий не останется. По тому, как оперативно мне было подобрано место на нижней шконке «невшивого» ряда (кого-то перебросили наверх) и как быстро мне вернули забранные до того кроссовки, сходство с партийным бюро лишь усилилось. Чем больше я на эту тему размышлял, тем больше находил здесь похожести на «вольное» советское житьё-бытьё. То же устройство системы власти, то же деление на столы-наменклатуры, те же воровские сходки (партконференции), то же руководство (райкомы, парткомы), те же боссы-паханы (партийные лидеры), и льготы, и фальшивая справедливость с волей якобы большинства, и деление на своих и чужих (воров и фраеров), и поиски врагов и т.д. На воле кого-то выделяло в особую касту и давало право изголяться над людьми пресловутое «пролетарское происхождение», здесь – происхождение воровское и воровская суть, в силу чего «фраера по жизни» обязаны были с ворами делиться и обидеть терпилу-фраера было «не за падло». Комуняки мыслили себя монополистами на правду и спасителями человечества, как и зэки себя – «санитарами леса», людьми правильными, исправляющими дефекты общества и якобы протестующими против несправедливости. Те и другие допускали – ради господства своей «истины» – одну и ту же логику: цель оправдывает средства. Тюрьма, конечно, родилась на свет Божий задолго до появления партии большевиков. Так что КПСС было с чего слизать проект своих структур – потому они и построены однозначно по образу и подобию тюремных вертикалей власти. И философия советской и зэковской власти имеют одни и тот же базис: уверенность в ничтожности и незначимости человека перед этими «властями». И основополагающее воззрение у тех и других одно: «Ты кто такой, чтобы открывать рот? Ты – ноль, пешка. Это мы – власть! А таких, как ты, бабы ещё нарожают!». Именно убеждённость в неценности человека, его жизни, его души, его интересов и устремлений – вот что абсолютно роднит большевисткую власть с властью бандитов и зэков. А во многом первые вторых даже переплюнули: ведь в реальной жизни, как это ни удивительно, зэки нередко оказываются много человечней адептов «чистоты коммунистических идеалов». ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Считается, что тюремные и следственные органы прекрасно осведомлены об этой воровской системе, охотно её поддерживают и используют в своих целях. Вы согласны? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Так оно на сто процентов и есть. В принципе, это один из обязательных элементов «технологии» на фабриках по выработке зла и ненависти на просторах родной страны. Жаль, что никто, кажется, всерьёз не занимался изучением этой идентичности... ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Возможно, ещё займутся. Но – идём дальше. ДОПРАШИВАЕМЫЙ: В общем, началась моя жизни в общей «хате», и здесь я узнал много для себя нового. Например, меня поразил человек-часы. Ему были вручены наручные часы, 49 и он каждые полчаса левитанским голосом выкрикивал точное время. Так же он отвечал и на любой вопрос о времени. Он, рискуя угодить в «опущенные», не мог прозевать срока, выкрикнуть неясно или произвольно отойти от утверждённого текста. В «хате» также трудились уборщики, парикмахеры, библиотекари, «кони» (бывшие вдобавок и кем-то вроде почтовых работников, переправлявшие почту, грузы), сторожевые у глазка, художники и татуировщики, было много и других, крайне необходимых в жизни «хаты» специалистов. Воры с «первого стола» и мужики (каковым я стал) таких служб не несли, но всегда существовала опасность вследствие каких-либо промашек или нарушений поменять свой статус. Достаточно было, скажем, присесть на койку в зоне «опущеных» или подать кому-то из них руку, как немедленно, с той же секунды ты превращался в такого же и отныне уже обязан был оставаться только среди них. В камере круглые сутки одинаково горел свет, тем не менее вся активная жизнь проходила ночью, когда администрация отдыхала и охрана не вмешивалась в жизнь «хаты». А днём народ обычно отсыпался. Знакомые из числа зэков проводили со мной своеобразные «инструктажи». И первой заповедью, которую мне вдалбивали, было: ни с кем и ни чем не делиться, особенно по уголовному делу, без крайности стараться никого ни о чём не просить, ни на кого не надеяться, никогда никому не показывать спину, страх и слабость, а также – никогда не врать и всё делать, чтобы прибиться к «семье». «Семьями» называли группы из трех-шести человек, связанных дружеским взаимоотношением и взаимопомощью, что было разумно и необходимо, чтобы попытаться выжить в этих нечеловеческих условиях. Главное, поучал меня зэк из приютившей меня «семьи», никому не верь. Этого зэка взяли на месте преступления, но следствие не смогло установить его имени – он так и оставался безымянным. «Я сам себе верил, – говорил он, – давеча хотел пёрнуть, а обосрался. Как после этого можно верить другим?» ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Вы до сих пор никому не верите? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Это невозможно! Как бы я смог работать, жить?! В конце концов, я сейчас живу в свободной стране, а не в «хате» и не в зэковской «семье». Никому не верить – это из уголовного «морального кодекса». Часть вторая ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Вы могли бы рассказатьоб этом самом «кодексе», о нравах, царивших в камере? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Извольте. Однажды я услышал какое-то движение в тёмном конце камеры. И увидел: там посадили на стул высокого, очень худого человека и принялись возиться возле него. Я увидел рубашку, скрученную в жгут. – Сейчас туркмена будут вешать, – сказал мой сосед. Вскоре жгут был искустно обмотан вокруг шеи несчастного, свободный 50 конец пропущен через дужку койки верхнего яруса и... действительно: беднчгу в самом деле принялись медленно душить. Тот уже начал хрипеть, синеть. Во мне всё закипело, я изготовился было вскочить, но мой сосед всем телом прижал меня к койке. – Стой! Ничего страшного не будет. Его так душат каждый вечер. Душат не до конца. А встрянешь – могут задушить по-настоящему. И его место сразу займешь ты... Такая «процедура» производилась почти ежевечерне, и довольно скоро это стало довольно скучным и неинтересным зрелищем. Это, оказывается, было именно зрелище, спектакль. Такие, стало быть, нравы, такой «моральный кодекс». А на следующий день, после того как туркмена оставили наконец в покое, в камеру ввели двоих: мужчину лет пятидесяти и молодого парня лет двадцатидвадцати трёх. Вся процедура приёма новичков, через которую прошел и я, повторилась. Вечером «коллегия» зэка постарше определили в мужики (как и меня до того). Это было одним из важных тюремных законов: старших зэков в камере обычно «не нагружали», вообще почти не трогали, уважая возраст. А с младшим началась совершенно мне непонятная возня – то ли он запутался в чём-то, отвечая на вопросы, то ли другая какая-то причина нашлась, но его решили проверить «продуванием». В оцинкованный тазик, в котором зэки обычно стирали свои вещи, налили холодной воды (впрочем, другой в камере не было). Молодца заставили снять штаны и сесть в этот тазик. Назначенный «петух» взял губами у побелевшего парня член и, когда тот возбудился, начал что есть мочи дуть в него. Позади стояла «компетентная комиссия» и внимательно следила за происходящим. Суть испытания заключалась в том, что сзади не должно было показаться пузырьков – пузырьки означали бы, что парень «дырявый», и его тут же отправили бы к «петухам». В камере стояло веселье. Мне было не по себе, но вида показывать не следовало: иначе сделаешь бедняге лишь хуже и сам окажешся в том же тазу, да и «пузырьки», если захотят, обязательно «обнаружат». У парня «комиссия» пузырьков, слава Богу, не увидела, и тот пошел в работники. Повезло... Позже, когда меня уже небыло в камере, я узнал, что в «хату» попал довольно известный и весьма талантливый каратист, имевший чёрный пояс. Он раскидал полкамеры, начисто отвергнув тюремные законы. Спать было опасно, и он крепился, но всё же на четвёртую ночь не выдержал и на мгновенье заснул – этого мгновения-то и хватило, чтобы его задушить. И вертухаи больше недели не могли найти его трупа (хотя искали по всей тюрьме), потому что «кони» передавали его из камеры в камеру. Естественно, не нашли и ни одного свидетеля убийства, поскольку если бы таковой объявился, то тюремный приговор настиг бы и его – причем, в любой тюрьме страны и на воле. Да и не было у властей особого желания искать убийц – на самом деле они всё хорошо знали через своих стукачей. 51 А в какой-то день в воровской части «хаты» работники стали крепить к верхнему ярусу коек одеяла и таким образом занавешивать нижние лежанки. Вскоре в этот импровизированный шалаш проследовала Ирма. Нет, конечно, женщин в камере не было – просто несколько наших «петухов» носили женские имена. Особым спросом пользовалась (или пользовался – ?) Ирма: заявки на неё нередко поступали и из других камер. Я заметил, что странным образом у «петухов» через время начинала округляться фигура, тоньше становился голос и появлялась плавность в движениях. У Ирмы, говорили, на свободе оставались жена и двое детей... «Опущенные» и «петухи» находились в конце камеры, около параши. В их обязанности входило, кроме «петушинных», содержание в идеальном состоянии туалета (они-то и надраивали до блеска облупленную раковину умывальника). Они не имели права свободно ходить по камере – исключительно по вызову, не смели приближаться к столу и т.д. Если им требовалось воспользоваться умывальником, они должны были стоять возле крана, не притрагиваясь к нему, и ждать, пока кто-нибудь из проходивших мимо не откроет кран, а потом – другой проходящий – не закроет его. Вообще дотрагиваться до чего-либо «опущенным» запрещалось. Попасть в данную категорию новичку было совсем не сложно – достаточно допустить лишь одну, хотя бы и самую пустяковую оплошность. Стоило, скажем, пойти на «трон» (сортир), не заметив, что в «хате» в это время кто-то ест, как немедленно вас «переводили» в разряд «неприкасаемых»... ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Но ведь были, наверно, и какие-то умственные развлечения, нормальные традиционные игры, упражнения? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Были, разумеется. Но и тут сказывался чисто зэковский подход. По камере кочевало несколько комплектов шахмат, шашек, были и самодельные – искусно, между прочим, изготовленные из сигаретных пачек – карты. И то и дело находились энтузиасты, готовые сразиться и на таком, как говорится, интеллектуальном уровне. Играли, должен сказать, очень азартно и жестоко. Вам, например, предлагали во что-то «срезаться», и вы, допустим, не отказывались, но если перед игрой вы прямо не предупреждали соперника, что намерены, мол, играть без интереса, то в случае проигрыша полностью попадали под власть победителя: он имел право затребовать с вас что угодно, любой выигрыш, даже вашу жизнь... ДОПРАШИВАЮЩИЙ: А как с прогулками? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Ходили по желанию. Обычно собиралось человек двадцать. Нас выводили из камеры на крышу здания, огороженную стенами и сверху полностью зарешёченную. Над решеткой размещались вышки с часовыми. Ходили зэки по кругу гуськом, любые разговоры были запрещены, нельзя было ни нагнуться, ни остановиться. Охрана с псами на поводках очень напоминала концлагерных эссэсовцев из наших фильмов. Хорошо помню эти прогулки. Я брёл, глядя в затылок впереди идущего, и думал о том, что каждый человек здесь должен принять для себя важное и очень непростое решение: как себя повести, если вдруг попадешь в сложную или откровенно конфликтную ситуацию? 52 Можно подставить, как сказано, вторую щёку, вытерпеть все унижения, ради спасения жизни, поплатиться потерей всего человеческого в себе и превратиться в животное. Но существует ведь и другой вариант: отстаивать своё человеческое достоинство, рискуя при этом потерять не только здоровье, но и жизнь... Для меня ответ был ясен: достоинство выше жизни. Что это за жизнь без достоинства?! Решение это было чрезвычайно важным – опаснейший конфликт мог возникнуть в любой момент, и рано или поздно ты окажешься перед выбором. На кон придётся ставить здоровье и жизнь – других вариантов у меня не было. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Как вы оцениваете атмосферу в камере, накал энергетики в этом замкнутом пространстве, его ауру? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Она была чрезвычайно тяжелой. Люди, населявшие это пространство, находились под неослабевающим стрессом, под гнётом спрятанного внутри каждого страха и накопленной злобы. Для взрыва этой гремучей, дьявольской смеси достаточно было любой мелочи. Царящие несправедливость и жестокость – и в первую очередь со стороны властей – гасились ещё большей жестокостью зэков: именно таким лютым образом оборачивался инстинкт самосохранения, так спасался человеческий организм, чтобы выжить, так интуитивно приспосабливались, чтобы не сойти с ума. Ибо это – полная безысходность, когда от тебя ничего не зависит, и остаётся что-то делать, кому-то мстить. Но кому?.. А кому, как не более слабому?.. В камере находилось немало людей, ждавших суда по два-три года. Были арестованные, которых по полгода не вызывали к следователю и к которым не появлялся адвокат. Многие, впервые попавшие сюда, искренне раскаивались в содеяном и, вероятнее всего, получи они вовремя адекватное содеянному наказание, никогда впредь не решились бы нарушить закон. Наказания у нас, как известно, чрезвычайно суровые, и чем дольше человек находится здесь, чем мучительнее и мстительнее наказание, тем скорее он начинает ощущать, что уже испил полную чашу за содеяное. Я, считает он, уже получил свое сполна. Тогда зачем же его продолжают мучить, изматывают холодом, голодом, грязью, издевательствами?.. И постепенно чувство раскаяния уходит решительно и безвозвратно, и его место занимают злоба, ненависть ко всем и всему. Вот какой была главная «продукция» советских фабрик-тюрем. Неадекватность и суровость наказания – признак жестокости, одичания, болезни общества, и это в действительности намного опасней недонаказания. Именно тут проходит граница между феодальном трусливым сознанием – мстительным и из-за этого черезмерно злобным – и сознанием свободным и оттого милосердным и справедливым. Там, где общество привыкло вырубать какие-то ранки и царапины души тупым топором, на самом деле необходим, возможно, лишь осторожный хирургический скальпель, находящийся в опытных руках. Вырезая грыжу, хирург действует крайне осмотрительно, стараясь ничего рядом не задеть, все аккуратно обеззаразить, применить анестезию. Ремонтируя же душу, у нас порой считают, что чем основательнее проехать по ней катком, тем скорее она оправится. Да и правомочно ли недуг души сопоставлять с каким-то иным недугом – душу и грыжу?.. 53 Жестокостьи неисправимость споткнувшихся или преступивших закон, «исправленных», а в действительности окончательно исковерканных в этих «исправительных» учреждених, – таков закономерный возврат обществу его же чрезмерной нетерпимости и бесчеловечности по отношению к оступившимся или даже падшим. Зэки, при первой же возможности возвращают вам ваши же ожесточение и безжалостность, обеспечивая таким образом круговорот зла в природе и закон сохранения дерьма в ней же. Об этом вам говорит не обиженный зэк, который, благодарение Господу, так истинным зэком и не стал, а отец, чью пятнадцатилетнюю дочь зверски убили по заказу, у которого долгими бессонными ночами непроизвольно дергался указательный (спусковой) палец на правой руке. Уйму надо было выпить карвалолов и валокординов, многое переосмыслить, чтобы наконец уяснить для себя: нельзя бороться со злом преумножением его на земле, и дело не только в падшем. Лишь справедливый гласный суд может не его, падшего, а нас спасти – спасти человеческое в нас самих и прервать этот сатанинский круговорот. И ударение тут следует ставить не на слове «суд», а на слове «справедливый». ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Не слишком ли мы отвлеклись от «прогулки по кругу» на тюремной крыше? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Нисколько! Это – именно «прогулочные» мысли. Хотя, впрочем, не только... Но – прогулка окончена, и нас ведут в камеру. Оглядываюсь на уплывающие облака и так в этот момент хочется превратиться в паршивого воробьишку или навозного жука и освободить свою душу от нестерпимой тоски и боли, перелетев через облупленную стену... Следует отметить, что в «хате» за сравнительно короткое время я стал довольно популярным человеком. Тут был народ в основном со средним и ниже образованием: умели писать, но при этом оставались довольно неграмотными и мыслящий взомбированными в головы стереотипами. Хваленое советское образование напичкивало твой чердак всевозможным хламом из дат, цитат, штампов, виртуальных событий и виртуальной истории, переписываемой и перевираемой регулярно. Запрещая и безжалостно карая любую «отсебятину» – то есть, иной взгляд и иную мысль, кроме властно дозволенной. Да уж! Любой совок всегда знал навязанные и вдолбленные ему «правильные» истины и «верные» ответы на любые вопросы – причем, всё это было старательно, гипнотически внушено и воспринималось, как нечто неоспоримое, в чем сомневаться считалось кощунством. И при этом каждый оппонент совка мгновенно воспринимался как враг, которого следовало не переубеждать, а с которым надо было воевать. Вот и получается, что обучением можно не развить личность, а отупить её. Мы сегодня можем похвалиться только гениальными бандитами и ворами. Но вернёмся в тюрьму. Дело в том, что тут большинству некому и не на что было нанять адвоката. А потребности в подаче апеляций и прочих мудреных документов были ощутимыми, поэтому многие стали обращаться за помощью ко мне. Нарушалась, как видим, тюремная заповедь: никому не доверять и не с кем не делиться. 54 Передо мной проходили незатейливые истории жизни людей, множество несправедливостей и горя. Немало было таких, кто нёс этот нелёгкий крест несправедливо, исключительно для обеспечения ментовской, прокурорской и следаковской отчётности. Ибо без таковой не светили нашим «исправителям» и «охранителям» ни повышение в должности, ни премии, ни ордена и звания. Были и такие, кто стал прикрытием для смягчающих и оправдательных судебных приговоров, которые выносились «по звонкам» и за взятки. Многим достало бы просто штрафа или пятнадцать суток (а для кого-то и это было чрезмерно), а они годами томились в «хатах», познавая эти мерзкие камерные «законы», накапливая зло и ненависть – то есть, чистый негатив. Конечно, были и натуральные воры и насильники, хулиганы с бандитами. Но масса-то заключенных таковыми не являлись! Со временем, однако, для меня уже стало неважно, что я оказался здесь безвинно и по сфабрикованному делу. Для обитателей тюрьмы очень скоро становится безразлично, за что ты здесь торчишь, справедливо это или нет. Несправедливостью или безвинностью тут никого не удивишь, не разжалобишь. Вот и сиди – некому разбираться и вникать в твои проблемы, у начальства, у тех, от кого зависит твоя судьба, более важные дела, да будет вам известно: следственные сроки и планы, отчёты, звания, премии, и ни у кого нет ни времени, ни желания заниматься твоей душой. И в результате, пропустив людей через все процедуры и этапы, тюрьма выдает каждый день сотни и тысячи изувеченных человеческих душ, и уже – больше зверей, чем людей... Однажды открылась кормушка-окошко, и зачитали список зэков на выход – для поездки в город в суды и на допросы. Прозвучала и моя фамилия. Допросы обычно проводились здесь же, в тюрьме, но иногда – по каким-то служебным соображениям – некоторых зэков отвозили в городское управление милиции. И поскольку большинство в «хате» ходили практически в лохмотьях и в пародии на обувь, то отправляемых в город – так уж повелось – одевала вся камера, причём, под тщательным присмотром «первого стола». Зэк не должен был предстать перед управленческим начальством и – там более – перед судом в затрапезном, жалком виде. Нас привели к автозаку, фургон которого был разделен мощной решёткой на дв отджеления: большее – для зэков, меньшее – для охранников с собаками. В фургон нас пресовали в немыслимом количестве, втискивая последних буквально силой, так что получилась одна сплошная масса, и эта масса колыхалась на ухабах и при торможении машины, как холодец, а стоны спрессованных людей глушил скрип тормозов. Невыносимая духота и жара вынудили охрану приоткрыть дверь; автозак стоял в небольшой пробке у рижского вокзала. Свежий воздух опьянил меня. Несколько прохожих остановились, норовили заглянуть в фургон. Кто-то из зэков заорал: – Люди добрые, скажите, какой год на дворе!? Народ шарахнулся от машины, охрана поспешно закрыла дверь. Хохотал весь фургон – смех рвался из сдавленных грудных клеток. И я почувствовал, что всем стало легче. 55 Автозак остановился у здания первого суда, и часть зэков вывели. Далее – остановка у следующего суда; в клетке становилось просторнее. Последних несколько человек, включая меня, привезли к Главному управлению рижской милиции. Нас препроводили в огромный подвал и развели по «обезъянникам» (каморкам). Примерно через час я был вызван на допрос, и по его ходу почувствовал, что в моем деле у них что-то не клеится. На специально приготовленные в ходе этой процедуры провокации и искусные ловушки я не дал себя поймать и своими вопросами и доводами сумел поставить в тупик следовательницу по фамилии Кяпсна. В конце я внимательно и не спеша изучил протокол, попросил переписать несколько фраз, которые можно было трактовать двояко, попросил также внести кое-какие дополнения. И лишь после того, как всё это было выполнено, написал положенную, традиционную фразу: «С моих слов написано верно и мною прочитано». Затем подписал протокол на каждой странице – тоже обязательная бюрократическая операция. Наконец всё закончено, и я снова – в камере. Мне предстояло провести здесь весь день до вечера, пока не окончатся все другие суды и нас вновь не заберёт автозак. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Обеда вы не получали? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Естественно, нет – здесь зэков не кормят, этот день для них постный. Но мы знали: в «хате» наши «семьи» что-то приберегут для нас от обеда, и вечером удастся похлебать хоть баланды. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Вы в камере были один? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Один. И у меня было время обо всём ещё и ещё раз подумать. Я не мог понять, для чего меня вывозили на этот допрос, – ведь ничего нового не было, обычная тягомотина. Но, тем не менее, вывезли и допросили – зачем?.. Не исключено, подумал я, что следствие зашло в тупик. И мои догадки вскоре подтвердились. Открылась кормушка, и появился офицер охраны: – Тебе привет от Виктора Федоровича. О, сам начальник рижской милиции Бугай! Выше я уже рассказывал о нём. Да, раньше мы чуть ли не каждый день встречались на совещаниях у мэра города, обсуждали городские новости, травили анекдоты, даже однажды – по заданию мэра – ездили делегацией от Риги в США. – Виктор Федорович не может к тебе подойти, – добавил офицер, – он очень занят. Но держись – он хлопочет за тебя. Вот – он просил передать. – И подал мне несколько бутербродов с колбасой и сыром – то были настоящие сокровища, давно мной не виденные! Ну, подумал я, Бугай определённо хочет передо мной реабилитироваться за то, что тогда подставил меня в Румбуле – в своей машине уговаривал меня смыться за границу, а гэбэшники записывали этот разговор. Не иначе, совесть замучила! Да, поистине неоднозначный человек... И ещё мне принесли натуральный чай, а не тюремную бурду, и тут, что называется, началось у меня настоящее пиршество, какого не было с тех пор, как я покинул казематы КГБ. 56 Да и эти несколько слов, переданных охранником, были для меня большой поддержкой, и я отгонял мысли о том, что Виктор сам не спустился к камере, потому что поосторожничал. По-видимому, просто следует какой-то избранной для себя тактике. Часть третья ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Вы радовались обычным бутербродам! Разве вы больше не получали передач от родных? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Да, в эту тюрьму также раз в месяц разрешались передачи. Раньше – когда сидел в тюрьме КГБ и в маломестке на Брасе, – я их получал регулярно. В обезьяннике на Брасе мы честно делили всё на четверых, а кое-что шло на обмен с другими камерами: отправляя через «коней» или мешочками – по нитям-верёвочка, протянутым из нашего окна к соседнему. Но когда попал в общую «хату», то передал через адвоката родным, чтобы больше не слали. Потому что все посылки шли «первому столу» (между прочим, подобным же образом отдавались подарки иностранцев в партком). Работникам или «опущенным» от передачи доставалась одна лишь открытка – если, конечно, таковую разрешали вложить в посылку; мужикам «первый стол» оставлял половину передачи. На такое унижение я, понятно, пойти не мог – это, выходит, кто-то грязными лапами станет копаться в посылке, любовно приготовленной моими близкими, и решать, что отдать мне?!.. К тому же, как это я стал бы что-то жевать под голодными взглядами других зэков?.. Да и делиться – одна скромная передача на всю камеру, даже на «семью»?.. И я постарался обходиться тюремным рационом. Потому-то теперь посылка Бугая и стала для меня таким праздником. После этого славного обеда меня перевели в «обезъянник», где уже находилось несколько зэков из других камер нашей тюрьмы. А потом нас повезли назад. По возвращении в камеру любой зэк, вызывавшийся к куму ли, на допрос к следователю или на встречу с адвокатом, должен был подробно доложить хозяину «хаты», где был, о чем спрашивали и т.д., и если его уличали во лжи, следовало суровое наказание. Поэтому нас в «хате», без сомнения, ждали – приехавшие с судов привозили, как правило, много интересных сведений и новостей. Кому надо, мы доложились, после чего долго ещё не затихали разговоры о наших известиях «с воли». А зэки-«путешественники» жадно поглощали оставленный им хорч, хотя кое-кого в судах и подкормили родные. После вечерней поверки мы обычно собирались «семьей» на чефир. Чай был в камере дорогим удовольствием, настоящим богатством – можно сказать, валютой первой категории. Кипяток варили «трактором». Это – два бритвенных лезвия, между которыми прокладывалось несколько спичек, затем всё обматывалось нитками, а от каждого лезвия шло по проводу, которые подсоединялись к сети: просто-напросто соскабливалась изоляция проводки. И затем «трактор» опускался в кружку с водой. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Чефир готовился с помощью «трактора»? 57 ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Нет, этого делать нельзя – тут требуется живой огонь. «Трактор» же – только для кипятка. Разводили и живой. На «дрова» шла одежда, одеяла – словом, всё, что могло гореть. Фраза «пустили на дрова» объясняла недостаток одеял и «пропажу» многого другого – горючего – в «хате». Следующим дефицитом в камере считались спички. В ходу были так называемые колотые спички – обычная спичка искусно щепилась бритвенным лезвием на четыре части. Когда чефир наконец, после всех этих мудрёным процедур, был готов, пять-шесть зэков садились в кружок, и кружка шла по кругу. Зэк делал глоток, затягивался сигаретой и передавал кружку соседу. Раньше я полагал, что чефир – это что-то вроде наркотика, но всё оказалось не так. В условиях, когда нет почти никаких витаминов, когда организм ослаблен, чефир – единственное по-настоящему тонизирующее и доступное средство, способствующее поддержанию сил. Он помогает бороться с простудами, скинуть жар, помогает слабеющему организму в борьбе и с другими хворями. Использованная заварка лечит глаза, угри, фурункулы, дезинфицирует раны, помогает и при многих-многих других болячках. Этот напиток сберёг не одну жизнь в тюрьмах и лагерях. На воле, когда есть масса других доступных и более действенных препаратов и средств, чефир, само собой, не нужен, но в «хате» – незаменим. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: А что же тюремная больница, тюремный доктор? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Чтобы попасть в эту больницу в той же Рижской тюрьме необходимо было находиться натурально при смерти – все другие жалобы, как и повышенная температура, абсолютно не принимались во внимание, то есть не были основанием для препровождения к доктору. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: То есть, медицинский патронаж отсутствовал? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Иногда, после долгих и настырных требований вертухай приносил горсть таблеток и раздавал «всем от всех болезней». Не знаю, что это было, думаю – аспирин, в лучшем случае, или что-то по части психотерапии. Вот и весь патронаж… Поэтому если когда-нибудь в России поставят памятник чефиру – это будет знаменательно и в высшей степени справедливо... ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Что же следствие? Успокоилась Кяпсна после беседы с вам в Управлении милиции? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Оказывается, нет – что-то продолжала «копать». И вот в один, как говорится, прекрасный день меня вызвали из камеры после пяти вечера. На меня сразу же устремилось множество заинтересованных и встревоженных глаз, и неприятный холодок пробежал у меня по спине: в такое неурочное время обычно никого никуда не вызывали, разве что тех, кто «стучал» начальству. То есть, этот вызов бросал на меня закономерное подозрение. Я не на шутку заволновался, подумав, что, по-видимому, кто-то из администрации попросту решил меня подставить. Оправдаться за такой вызов было трудно, если вообще возможно. 58 Когда меня привели в комнату для допросов и я увидел, что там – уже после завершившегося рабочего дня – сидит следователь Кяпсна. Моему удивлению не было предела. И – начался допрос, как обычно с заранее заготовленными вопросами-ловушками, двухсмысленными и коварными просьбами «уточнить» и т.д.. Допрос был тяжелым, явно расчитанным на выуживание какой-либо оговорки или недомолвки. По-видимому, я не попался на ни один из заготовленных крючков, не угодил ни в один из расставленных капканов. Я вообще постарался как бы «отключиться» от следовательцы. Поэтому вздрогнул, когда в конце допроса услышал вдруг, как сквозь вату: – Так вот, Кудыков, мы решили отпустить вас под подписку о невыезде. Я попросил Кяпсну повторить сказанное, машинально вычисляя, в чём тут может заключаться подвох. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Но какой мог быть подвох! ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Чтобы понять мое состояние, необходимо пояснить следующее. В первые дни моего ареста я надеялся, как я уже неоднократно говорил, что в моем деле быстро разберутся – обвинять-то меня не в чем, думал я! И надеялся поэтому, что сразу выяснится, что я ничего не нарушил, не преступил, являюсь совершенно невиновным. А раз так, то меня моментально отпустят. Упорная надежда эта и дальше вынуждала меня оправдываться, доказывать следователю, что я не вор и не преступник. Но скоро я понял, что им этого только и надо было, что пока я себя так веду, я – на верном пути в уготованные мне сети, и всё будет идти по их сценарию. При этом никого на всем белом свете не интересовало, конечно же, честен я на самом деле или прохвост. Просто закрутились шестерёнки большой машины, у которой существовал свой план, предусматривались свои процедуры и было полное безразличие к чьей-либо судьбе. В этой машине было задействовано множество людей помимо КГБ – прокуроры, следователи и прочие. Тюрьме на содержание меня уже были отпущены народные деньги, были выделены соответствующие фонды, я уже прошёл по всем сводкам, был вписан во все показатели, следовательно за так просто отменить это было невозможно. В лучшем случае необходимо было набрать моих грехов как минимум хотя бы на оправдание моего ареста и содержания в тюрьме. А когда я стал, как уже говорилось, прозревать, то это постепенно сделало меня свободным – внутренне свободным. Ибо свобода – это не отсутствие засовов на дверях, а именно внутреннее состояние человека. По-настоящему свободного человека нельзя победить, разве – убить. Свободы нельзя лишить, если она у тебя есть, можно лишь поставить тебя в трудные условия. Так вот, я стал прозревать и бороться со следователями и тюрьмой. Мне было легко и весело это делать, меня не угнетала больше внешняя неволя. Именно поэтому слова следователя Кяпсны прозвучали для меня столь неожиданно – ведь я был внутренне готов к долгим годам неволи, к смерти наконец, но никак не к свободе. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Следователь повторила , что вы отпускаетесь под подписку о невыезде? 59 ДОПРШИВАЕМЫЙ: Да. Но всё дальше было, как в тумане. Я подписывал протокол допроса, давал подписку, м ашинально кивал на пояснения Кяпсны, что мне можно делать и чего нельзя, но повторяю... как в тумане. Потом мне дали пять минут на сборы и строго предупредили, чтобы я ни у кого ничего не брал (то есть, у сокамерников – для передачи на волю). Я плохо помню, как вошёл в камеру. – Мужики... все!.. Домой!.. Сперва была мёртвая тишина – еще бы! такие события здесь случаются невероятно редко – это всё равно как выиграть в лотерею автомашину. Что делало меня в глазах сотоварищей необыкновенным зэком, везунчикрм, родившимся, если не в рубашке, то уж в майке точно. Потом поднялся гвалт, изможденные люди кричали номера телефонов, адреса квартир, имена своих близких и просили, чтобы я кому-то позвонил, куда-то зашел... А я разгребал своё бесценное, по тюремным понятиям, имущество – ручку, бритву, мыло, мочалку, зубную пасту, полотенце, одеколон, запасные трусы, майку, носки... – и кидал все это в толпу: забирайте, ребята! Даже кроссовки снял, даже тренировочные брюки, натянув вместо этого какую-то рвань. Меня уже вызывали на выход, и я прихватил только свои листочки со стихами и записями. Мне бросили половину одеяла – вторая половина ушла, понятное дело, на «дрова», бросили и огрызок подушки: все это я должен был сдать в каптерку... Не помню, как я оказался на «вокзале» – так назывались помещения, куда загоняли всех доставленных в тюрьму до распределения по «хатам», как и тех, кто тюрьму покидал. Вдруг вижу: на «вокзал» завели народ, только что прибывший из судов (как и мы накануне), и среди них – зэки и из нашей «хаты». Им я тоже объявил, что отбываю «Домой». Реакция, конечно, была соответствующей. Знакомому зэку я поспешил сунуть деньги. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Какие деньги? ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Здесь я должен пояснить. Вообще-то в камере никаких денег держать при себе не полагалась, а если таковые у кого-то всё же заводились, то их обязаны были сдать в общак. Для тех, кто от этого уклонялся, последствия могли быть самыми плачевными. Тем не менее, несмотря на «правила», я кое-что на всякий случай припрятал: по моей просьбе адвокат передал мне небольшую сумму, и я держал её вшитой в одежду. Вот в суматохе я быстренько и выпорол эту сумму и отдал приятелю, а также отдал и довольно приличный свитер, который не успел снять в камере. А когда меня уже выводили из «вокзала», я увидел, как более тёртые зэки забрали у моего знакомого эти деньги. Увы, таковы жестокие тюремные реалии! Но для меня важнее было уже другое. Возле входа в тюрьму меня ждали мои замершие Ленка и брат Володя – им ещё за день до того сказали, что меня отпустят (зачем же Кяпсна меня «мариновала», если всё уже было решено?), и они весь день протомились у ворот тюрьмы. Мы ехали домой, я из машины на ходу выбрасывал то подобие обуви, что было на мне, и прочие лохмотья. 60 Когда добрались наконец до дома, на мне остались одни трусы. Перед входом в квартиру я попросил дать мне что-нибудь набросить на себя. Подали плащ, я снял тюремные трусы и тоже выбросил. Короче говоря, от «хаты» остались только мои стихи и тонкий пуловер, который я долго берёг и прятал в тюрьме: его мне когда-то подарила Лена. Пока я отмывался в душе, уже был накрыт стол, подъехали друзья и компаньоны. Встреча, понятно, была весьма бурной. И всё же, как позже выяснилось, не все мои компаньоны были рады моему освобождению... Эта неожиданная перемена, произошедшая со мной за каких-то полутора часа, никак пока мной не осознавалась, не укладывалась в голове. Да, формально я был на воле, но по самоощущению всё ещё находился там, в «хате»; происходящее со мной казалось чем-то нереальным, неестественным – это было как сон. Народ говорил за столом о каких-то делах, событиях, нуждах, а мне всё это представлялось совершенно несущественным и непонятным. А когда начинал говорить я сам, все замолкали и внимательно слушали, но я видел, что теперь они не понимают меня. ДОПРАШИВАЮЩИЙ: Говорят, что многие, пройдя через жернова тюрьмы, ломаются, а иные становятся настоящими затравленными зверями – их «вольные» именно не понимают. ДОПРАШИВАЕМЫЙ: Это так. Но, надо признать, те, кто не ломается, выходят оттуда намного страшней сломавшихся. Таких в тюрьме называют «волками». Для того, чтобы не сломаться, зэк должен принять твёрдое решение и неукоснительно следовать ему – постоянно, упрямо и бескомпромиссно. Тогда какая бы ни сложилась ситуация, что бы с ним ни случилось и что бы ему ни сделали – он не согнётся. И если придётся выбирать – не дрогнет, когда останется выбрать смерть. Когда такое решение становится сутью зэка, то уходит страх перед утратой собственной своей жизни. А значит – и жизни чужой. Ведь ценность человека в тюрьме настолько низка, что перестаёт быть вообще чем-то значимым. Этих людей – «волков» – сразу видно, и им в жизни как бы везёт, они опасны, и их стараются обходить и не задевать. Величайшая ценность – страх. Он – охранитель и страж рубежа, за который заходить человеку нельзя, и если этот страж исчезает, то жизнь обесценивается. Раньше, помню, читая криминальную хронику, я удивлялся, что, например, зэк, только что вышедший из тюрьмы, убил собутыльника, причём – ни за что. Как же так! – думалось. – Только что обрёл свободу и вдруг... убил, да ещё и ни за что. На самом же деле, в этом нет ничего удивительного – это был «человекволк». Когда, кто-то из сидевших у меня за столом сказал, что, в сущности, всё это ерунда, приключение – пробыл, дескать, там всего год, поэтому лучше всего всё забыть и никогда не вспоминать, – я вскочил. Не помню, как в моих руках оказался нож и каким неимоверным усилием воли я в последний момент воздержался, чтобы не всадить его в живот говорившего. А ведь до неминуемого убийства человека оставалась доля секунды... 61 Тогда сразу все стали расходиться, а я забрался под холодный душ – прямо в одежде. Я не мог осознать, что чуть не убил человека. Откуда же у меня это... звериное?.. А когда легли спать, я никак не мог заснуть – ну прямо-таки никак! Потому что на диване невозможно было заснуть. Промучавшись часа два, я сполз на пол, и только тут, на паркете, спокойно отдался, так сказать, в объятья Морфея. После этого случая с ножом, уже опасаясь самого себя, я больше года не притрагивался к спиртному и избегал любых споров. И больше полугода спал на полу... Никто не мог выйти из советской тюрьмы с неповреждённой психикой. Понадобилось много времени, пока мне удалось наконец привести себя в норму. Но даже сегодня, хотя с той поры минуло немало лет, мне кажется порой, что частичка тюрьмы всё ещё живет во мне. С другой же стороны, я не могу привыкнуть к той тюремной лексике, которая стала сегодня частью русского языка, – она мне режет слух, тем более что люди, свободно пользующиеся ею, на самом деле чаще всего не понимают, о чём говорят. Когда президент великой страны заявляет, подобно хозяину «хаты», что будет террористов «мочить в сортире», и родина аплодирует, мне не хочется на такой родине жить. Думаю, что большинство так и не поняло, ЧТО в действительности было сказано. Это выражение у зэков означает, что труп убитого необходимо опустить в выгребную яму туалета и за несколько суток эта среда полностью разъест его – следа не останется. То есть – концы в воду. «Мочить» – это не в переносном смысле «убить», а в самом прямом – вымачивать труп, до полного его растворения. Мне представился юрист Владимир Владимирович, проделывающий данную процедуру с трупом Масхадова под сталинский гимн. И стало очень горько на душе. Что это? Оговорка по Фрейду из «Психопатологии обыденной жизни»?.. Но ведь открыто же было заявлено, что тело Масхадова не будет выдано родственникам. Зачит – «мочить»?.. Возможно, так и поступят... Со слов ДОПРАШИВАЕМОГО остаётся добавить: 22 апреля 1999 года Давид Кудыков признан Генеральной прокуратурой Латвии по всем эпизодам обвинения обвинённым безосновательно. За незаконный арест Латвийским правительством Д.Ф.Кудыкову выплачена символическая компенсация в размере 771 Ls. ______________ Продолжение следует..... 62