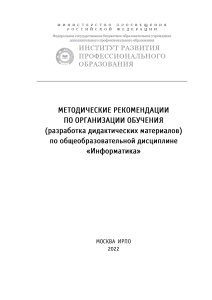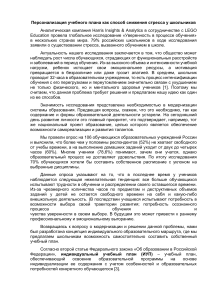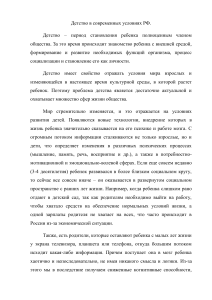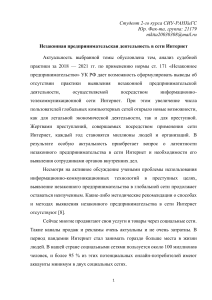ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОСКВА Юриспруденция 2022 УДК 340.11 ББК 67.0 О-75 О-75 Основные тенденции в правовом регулировании цифровых технологий. Сравнительно-правовое исследование / Отв. ред. Х.И. Гаджиев. – Москва: ИД «Юриспруденция», 2022. – 304 с. ISBN 978-5-9516-0908-3 В настоящей работе авторы предприняли попытку рассмотреть основные направления развития законодательства и вытекающей из него правоприменительной практики в области регулирования цифровых технологий. Исследованы три направления регулирования: 1) международное, в рамках которого изучаются тенденции развития международного права и практика международных судов в сфере цифровых технологий; 2) зарубежное, которое включает национальное законодательство и практику его применения; 3) российское, которое представлено в национальных нормативных актах и судебной практике. Благодаря сопоставлению программных документов, а также вытекающих из них конкретных правовых механизмов включения цифровых технологий в сферу правового регулирования, предлагаются новые подходы к установлению круга заинтересованных лиц, обладающих подлежащими защите правами, законными интересами и притязаниями в данной сфере, а также к определению критериев сбалансированного применения ограничений, защищающих публичные интересы, но не приводящих к необоснованному торможению научно-технического прогресса. Работа будет представлять интерес для широкого круга специалистов, заинтересованных в поиске возможных решений в области регулирования цифровых технологий, в том числе научных и практических работников, а также аспирантов и студентов юридических вузов. УДК 340.11 ББК 67.0 ISBN 978-5-9516-0908-3 © Коллектив авторов, 2022 © ИД «Юриспруденция», оформление, 2022 THE MAIN TRENDS IN THE LEGAL REGULATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES. COMPARATIVE LEGAL STUDY Moscow Jurisprudence 2022 The Main Trends in the Legal Regulation of Digital Technologies. Comparative Legal Study / Chief ed. Kh.I. Gadzhiev anlar. – Moscow: Jurisprudence, 2022. – 304 с. ISBN 978-5-9516-0908-3 In this paper the authors attempted to consider the main directions in the development of legislation and law enforcement practice in the field of regulation of digital technologies. Three areas of regulation have been studied: 1) international, within which trends in the development of international law and the practice of international courts in the field of digital technologies are studied; 2) foreign, which includes national legislation and practice of its application; 3) Russian, which is represented in national legislation and judicial practice. By comparing the legal policy documents, as well as the specific legal mechanisms arising from them for the inclusion of digital technologies in the sphere of legal regulation, new approaches are proposed to establish the range of stakeholders with protected rights, legitimate interests and claims in this area, as well as to determine the framework for a balanced application restrictions that protect public interests, but do not lead to unreasonable inhibition of scientific and technological progress. The work will be of interest to a wide range of professionals interested in finding possible solutions in the field of digital technology regulation, including scientists and practitioners, as well as graduate students and law students. ISBN 978-5-9516-0908-3 © Collective of authors, 2022 © Jurisprudence, design, 2022 ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР Гаджиев Ханлар Иршадович – главный научный сотрудник центра судебного права Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ Гаджиев Ханлар Иршадович – главный научный сотрудник центра судебного права Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук (§ 2 гл. 2). Грачева Светлана Александровна – старший научный сотрудник центра судебного права Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук (§ 1–2 гл. 1 – в соавторстве с М.Е. Черемесиновой, § 3 гл. 1). Ибрагимова Юлия Эмировна – младший научный сотрудник центра судебного права Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (§ 4 гл. 2). Поворова Елена Александровна – младший научный сотрудник центра судебного права Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (§ 6 гл. 2). Сидоренко Андрей Игоревич – ведущий научный сотрудник центра судебного права Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук (§ 1, 3, 5 гл. 2). Черемисинова Мария Евгеньевна – заведующий Центром научных изданий Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук (§ 1–2 гл. 1 – в соавторстве с С.А. Грачевой). CHIEF EDITOR Gadzhiev Khanlar Irshadovich – Head of the Department of Judicial Practice and Law Enforcement of ILCL, Doctor of Law AUTHORS Gadzhiev Khanlar Irshadovich – Head of the Department of Judicial Practice and Law Enforcement of ILCL, Doctor of Law (§ 2 Ch. 1). Gracheva Svetlana Aleksandrovna – Senior Researcher of the Department of Judicial Practice and Law Enforcement of ILCL, Candidate of Law (§ 1–2 ch. 2 – in collaboration with M.E. Cheremesinova, § 3 ch. 2). Ibragimova Yuliya Emirovna – Junior Researcher of the Department of Judicial Practice and Law Enforcement of ILCL (§ 4 Ch. 2). Povorova Elena Alexandrovna – Junior Researcher of the Department of Judicial Practice and Law Enforcement ILCL (§ 6 Ch. 2). Sidorenko Andrey Igorevich – Leading Researcher of the Department of Judicial Practice and Law Enforcement ILCL, Candidate of Law (§ 1, 3, 5 Ch. 2). Cheremesinova Maria Evgenievna – Head of the Center for Scientific Publications ILCL, Candidate of Law (§ 1–2 Ch. 1 – in collaboration with S.A. Gracheva). ОГЛАВЛЕНИЕ Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Глава 1. Теоретические и конституционные вопросы регулирования положения личности в условиях влияния цифровых технологий § 1. Правовое регулирование статуса личности и технологическая перспектива его трансформации . . . . . . . . . . . . . 15 § 2. Права и свободы человека в фокусе конституционного переосмысления в связи с фактором цифровой среды . . . . . . . . . . . 28 § 3. Вопросы развития электронной демократии как отражение проблемы цифрового конституционализма . . . . . . . . 54 Глава 2. Направления цифровизации правового пространства в современном мире § 1. Общие тенденции в правовом регулировании отношений в условиях формирования цифровой среды . . . . . . . . . . . 77 § 2. Права человека в уголовном процессе в эпоху цифровых технологий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 § 3. Эволюция подходов к регулированию интеллектуальных прав . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 § 4. Электронные доказательства в гражданском и арбитражном процессе: сравнительно-правовое исследование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 § 5. Цифровизация и современные юридические технологии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 § 6. Медиатизация судебной власти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 TABLE OF CONTENTS Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Chapter 1. T heoretical and constitutional issues of regulating the position of the individual under the influence of digital technologies § 1. Legal regulation of the status of the individual and the technological perspective of its transformation . . . . . . . . . . . . 15 § 2. Human rights and freedoms in the focus of constitutional rethinking in connection with the factor of the digital environment . . . 28 § 3. Issues of the development of e-democracy as a reflection of the problem of digital constitutionalism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Chapter 2. D irections of digitalization of the legal space in the modern world § 1. General trends in the legal regulation of relations in the context of the formation of the digital environment . . . . . . . . . . . 77 § 2. Human rights in criminal proceedings in the digital age . . . . . . . . . . . 119 § 3. Evolution of approaches to the regulation of intellectual rights . . . . . . 175 § 4. Electronic evidence in civil and arbitration proceedings: a comparative legal study . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 § 5. Digitalization and modern foreign legal technologies . . . . . . . . . . . . . 268 § 6. Mediatization of the judiciary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Сonclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 ВВЕДЕНИЕ Постоянное и планомерное сравнительное исследование нормативных актов в сфере цифровых технологий, равно как и опыта их реализации, имеет сегодня существенное значение для установления правового режима на национальном уровне, защищающего государственные интересы и обеспечивающего соответствие общемировым целям устойчивого развития, экономического роста и множеству иных факторов. В условиях стремительного развития цифровой среды общественных отношений, а также снижения стоимости конструирования ее физической основы уровень правовой неопределенности определяется экспоненциальным ростом количества новых технологий, многие из которых служат основой для дальнейших научно-технических разработок. За последние пять лет произошли существенные изменения подходов к соотнесению национальных и общемировых интересов в регулировании цифровых технологий. Например, еще в 2017 г. в журнале Economist рассматривался вопрос о необходимости введения согласованной правовой политики в области контроля за контентом, содержащимся в социальных сетях и иных цифровых платформах1. Сегодня с принятием таких актов, как Общий регламент защиты персональных данных Европейского союза (General Data Protection Regulation, GDPR), Закон Китайской Народной Республики «О защите личных данных» (Personal Information Protection Law, PIPL), В России законодательство о локализации хранения персональных данных в Российской Федерации2, Нормативное регулирование в области цифровой трансформации общественных отношений может осуществляться различными видами правовых актов, начиная целеполагающими, устанавливающими стратегические цели и задачи, заканчивая различными классификаторами и табельными группами. При этом возможность устанавливать отдельные ограничения или приоритеты в данной области во многом определяется экономическими возможностями 1 См.: Internet firms’ legal immunity is under threat. URL: https://www.economist.com/ business/2017/02/11/internet-firms-legal-immunity-is-under-threat (дата обращения: 01.02.2022). 2 Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях». 10 конкретного государства, наличием отечественных технологий, способных предоставить альтернативу зарубежным аналогам, а также исполнимостью принимаемых решений. В отсутствие механизмов обеспечения государственного контроля исполнения подобных норм, а также подчинения им таких «технических гигантов», как Amazon, Alphabet и Meta, их принятие было бы невозможным либо декларативным1. В то же время появление, в частности, возможности осуществления микропрофайлинга, позволяющего определять и направлять поведение конкретных пользователей цифровых платформ, а также влиять на общественное мнение, требует принятия соразмерных мер со стороны государства2. Если рассматривать не потенциальные запреты, а дозволения, то тенденцией современного нормативного регулирования является использование экспериментальных юридических технологий, например регуляторных песочниц (regulatory sandboxes), позволяющих апробировать определенные решения на локальном уровне, прежде чем придать им универсальный характер. Каждое государство устанавливает своего ответственного регулятора в данной сфере. Например, в области финансовых отношений такими регуляторами являются центральные банки (Банк России, Банк Литвы, Банк Таиланда и т.д.) либо иные компетентные органы (Канадские администраторы ценных бумаг, Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям, Лаборатория по регулированию глобального рынка Абу-Даби и т.д.)3, в зависимости от сферы их компетенции. В федеративных государствах такое регулирование в большей степени осложнено также необходимостью принятия регио­нального законодательства, тем более если соответствующая сфера регулирования относится к компетенции региона4. Свои особенности имеют направления регулирования отношений в области частного и публичного права, границы между которыми зачастую провести все сложнее, в связи с чем не исключены различные коллизии. В частности, особое внимание национальные 1 См.: China has become a laboratory for the regulation of digital technology. URL: https://www. economist.com/china/2021/09/11/china-has-become-a-laboratory-for-the-regulation-of-digitaltechnology (дата обращения: 01.02.2022). 2 См., например: URL: https://www.economist.com/business/2021/04/29/a-new-type-of-adis-heading-for-your-iphone (дата обращения: 01.02.2022). 3 См.: Regulatory Sandboxes: a Tool For Fostering Financial Innovation. URL: https://www.cgap. org/topics/collections/regulatory-sandboxes-financial-innovation (дата обращения: 01.02.2022). 4 См., например: URL: https://www.economist.com/finance-and-economics/2019/05/30/ bank-supervision-in-america-is-unfit-for-the-digital-age (дата обращения: 01.02.2022). 11 регуляторы уделяют формирующимся новым притязаниям и интересам со стороны хозяйствующих субъектов и граждан, поскольку в коммерческом обороте появляются новые субъекты, права и обязанности которых нуждаются в нормативном закреплении, а также получающему поддержку перечню «новых прав человека», защита которых становится обязанностью государства, уклонение от которой может нарушить стабильность правового регулирования и повлечь серьезные последствия. Отдельного внимания заслуживает внедрение цифровых технологий в такие сферы, как проведение расследований по уголовным и административным делам, в том числе сбора доказательств, среди которых все чаще встречаются сведения в электронной форме. На сегодняшний день уже сформировалась практика запрета неизбирательной слежки и непредоставления равных прав сторонам защиты и обвинения по делам публичного характера, которая также заслуживает надлежащей имплементации в законодательство. Все названные риски можно соотнести с перечнем «больших вызовов», определенных в разделе II Указа Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации». Подобные программные документы, устанавливающие перечень рисков технологического развития, а также национальных ценностей и приоритетов в данной области, принимаются во всех современных государствах, стремящихся не допустить научно-технологического отставания. Поскольку соотнесение содержания конкретных (законодательных и подзаконных) и целеполагающих нормативных актов является задачей компетентных органов государственной власти в области правотворчества, сравнение актов стратегического характера, а также планов деятельности правотворческих органов предоставляет возможность реализации согласованной правовой и правоприменительной политики в сфере цифровых технологий в общемировом масштабе. Другой важной стороной данной работы является анализ правоприменительных решений, в особенности органов конституционного и международного правосудия, компетентных соотносить основополагающие гарантии прав человека и безопасности государства с потребностями современности. В настоящем исследовании предпринята попытка осмысления нормотворческих мер, принятых и подлежащих принятию в связи с происходящей цифровой трансформацией общественных отношений, с точки зрения общей теории права, конституционных 12 гарантий, а также отдельных стремительно развивающихся областей публичного и частного права с использованием сравнительно-правовой методологии. Работа выполнена в рамках реализации научного проекта РФФИ № 18-29-16051 «Основные тенденции в правовом регулировании цифровых технологий. Сравнительноправовое исследование». Глава 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ § 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТАТУСА ЛИЧНОСТИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА ЕГО ТРАНСФОРМАЦИИ Современное развитие общественных отношений, обеспеченное функционированием цифровых средств информационного взаимодействия, обозначает новые вызовы праву и правоотношениям. Причиной этого является, прежде всего, формирование «цифровой» модели социальной коммуникации (так называемого общества 2.0)1 на основе стремительного технологического прогресса в информационно-коммуникационной сфере и выстраивания социальных взаимосвязей в онлайн-среде (киберпространстве). Как констатируется в научной литературе, «на рубеже XX–XXI вв. доминирующим ориентиром для многих народов стало формирование уклада жизни, получившего доктринальное название «постиндустриального общества», «информационного общества»2, «программируемого общества»3. Такой уклад справедливо характеризуется признанием «ведущей роли высокотехнологичных знаний» (учитывающих «развитие современных промышленных и биотехнологий, технологий социального управления, роботизации»)4, равно как и «особой роли информации, проникающей посредством новейших информационно-телекоммуникационных технологий во все сферы частной и публичной жизни»5 и предопределяющей «новый тип коммуникаций, связанных с компьютером»6. 1 Данное понятие определено выделением идеи Web 2.0 (по определению Т. О’Рейлли), означающей способ и процесс проектирования систем, которые путем учета сетевых взаимодействий становятся тем лучше, чем больше людей ими пользуются. См.: O’Reilly T. What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. URL: https://web.archive.org/web/20080725092148/; http://www.oreillynet.com/go/web2 (дата обращения: 01.02.2022). 2 Невинский В.В. «Цифровые права» человека: сущность, система, значение // Конституционное и муниципальное право. 2019. № 10. 3 Право и закон в программируемом обществе (к 100-летию со дня рождения Даниела Белла): сборник научных статей / Т.Я. Хабриева, В.В. Лазарев, С.А. Боголюбов и др.; отв. ред. В.В. Лазарев. М.: ИЗиСП, 2020. 4 Пашенцев Д.А. Базовые характеристики общества в цифровую эпоху // Право и закон в программируемом обществе (к 100-летию со дня рождения Даниела Белла): сборник научных статей / Т.Я. Хабриева, В.В. Лазарев, С.А. Боголюбов и др.; отв. ред. В.В. Лазарев. М.: ИЗиСП, 2020. С. 196. 5 Невинский В.В. Указ. соч. 6 Цит. по: Право и закон в программируемом обществе… С. 197. 16 Право в связи с этим рассматривается в нескольких ипостасях. Оно объективируется как средство формулирования, внедрения «цифровых» подходов к регулированию общественных отношений, их правовому опосредованию (в том числе связанному с правообразованием и правоприменением). Правовое регулирование в этом отношении первоочередно выступает проводником обеспечения научно-технологического прогресса, значение которого было подчеркнуто и на конституционном уровне в 2020 г.1 (см., например, п. «е» ст. 71; п. «в. 1» ст. 114 Конституции РФ), а также определено специальными правовыми актами, в числе которых Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации2. Важно и признание, прежде всего, на уровне ряда программноцелевых документов развития социально-экономического уклада («информационного общества», «национальной цифровой экономики»), детерминируемого функционированием информационных и телекоммуникационных технологий (ИКТ)3, при этом на данном этапе преимущественно в части обеспечения качественными услугами связи и доступа к информационно-телекоммуникационной инфраструктуре, создания глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных. К настоящему времени цифровая проблематика в том или ином виде отражена во многих законодательных актах, часть из которых определяет ее предметом собственного регулирования4, что проявляет закономерность развития правового регулирования в эпоху так называемого постмодерна и глобальных технологий. Можно подчеркнуть, что такая тенденция (правового регулирования 1 Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». 2 Утв. Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации». 3 См.: Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы»; Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 313 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество»; Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации». 4 В числе недавно принятых актов, в частности: Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации»; Федеральный закон от 1 июля 2021 г. № 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации». 17 в области применения ИКТ) в целом присуща практически всем государствам, но степень концептуальной проработанности и действенности «цифрового» регулирования в разных странах не является одинаковой. На это влияет множество факторов, среди которых на первом плане собственно культурно-юридические и технологические (например, связанные не только с развитием цифровых сервисов, бытовых ботов, но и с обучением искусственного интеллекта). Таким образом, становится очевидной предстоящая трансформация правового регулирования общественных отношений, возникающих в научно-технологической сфере, в ответ на «большие вызовы»1. Немаловажно также внимание к праву и с другого ракурса. Примечательны оценки того, что право как регулятор претерпевает трансформацию и в этом значении становится объектом воздействия цифровой среды – с точки зрения качественной характеристики (свойств) права, учитывая коммуникативно-цифровую сферу (пределы) его распространения и действия. Первично это связано с разрастанием «технического регулирования» (или, скорее, саморегулирования), определяемого высокотехнологичными программами и процессом кодирования как движущей «регуляторной силой» цифрового мира, а также с восприятием права (правоотношений) сквозь призму формирования нового уклада общественных отношений. Это сказывается на так называемой психологии права и в конечном счете на закономерностях правового поведения, правового процесса. Во-первых, основным благом становятся информация (как «абстрактные своды символов») и коммуникация на ее основе. Во-вторых, право предполагается все менее «эмпирическим» (в значении меньшей ориентированности на материальные ценности). В-третьих, оно оказывается более «информационно разобщенным» (связывается с существованием множества факторов и концепций). Кроме того, цифровая среда, учитывая ее технологическое единство и трансграничность, отражается на универсализации права. Признаем, что «сегодня зарождается новое право – «право второго модерна», регулирующее экономические, политические и социальные отношения в контексте мира цифр, больших данных, 1 См.: Гумеров Л.А. Влияние больших вызовов на трансформацию правового регулирования научно-технологической сферы // Трансформация и цифровизация правового регулирования общественных отношений в современных реалиях и условиях пандемии: коллективная монография / Под ред. И.В. Воронцовой. Казань: Отечество, 2020. С. 101. 18 роботов, искусственного интеллекта»1. Вероятно, в перспективе можно будет вести речь о цифровых традициях в праве или же о выделении цифрового права в числе других его областей2. Заслуживает внимания идея о том, что «функцию регулирования общественных отношений могут с успехом выполнять современные цифровые технологии (а конкретнее, лежащий в их основе программный код)»3 вплоть до полного «замещения» существующих средств (источников) регулирования. При этом несомненна важность проблематики обозначения «нового этапа социального контроля средствами программирования»4. Современный «виртуальный» ракурс права, как правило, предполагает приспособление регулирования к отношениям, развивающимся в Интернете и иных зонах цифровой коммуникации, что выражается в социологическом векторе правовой оценки и регулирования – при ориентации на многоликий и динамичный характер общественных отношений, обусловленных технологическим цифровым обрамлением. В этом отношении справедливо прежде всего выделение таких направлений влияния цифровизации, как «расширение границ правового регулирования за счет виртуального пространства, увеличение востребованности более гибких по сравнению с существующими правовых форм и регуляторных механизмов, повышение роли информационной функции права»5. Само право с точки зрения его известных свойств, оснований, границ действия, соответствующих «внутренних» детерминант попрежнему обусловливает координаты собственной стабильности и изменчивости по отношению к внешнему (например, социальноэкономическому, культурно-политическому) контексту функционирования. Между тем, несмотря на неизменность (по крайней мере, на данный момент) основных «технических» параметров 1 Зорькин В. Право в цифровом мире. Размышление на полях Петербургского международного юридического форума // Российская газета. 2018. 29 мая. 2 Особенно если ориентироваться на своего рода футуристические прогнозы видных исследователей социума и социальных взаимосвязей. См., например: Harari Y.N. The World after Coronavirus. URL: https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75 (дата обращения: 01.02.2022). 3 Чаннов С.Е. Цифровые технологии как социальный регулятор // Трансформация и цифровизация правового регулирования общественных отношений в современных реалиях и условиях пандемии: коллективная монография / Под ред. И.В. Воронцовой. Казань: Отечество, 2020. 4 Лазарев В.В. Вступление // Право и закон в программируемом обществе… С. 24. 5 Залоило М.В., Пашенцев Д.А. Национальный правопорядок России в условиях цифровизации // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. Т. 10. Вып. 2. С. 196. 19 права – характеризующих его признаков, нельзя не обратить внимания на переосмысление отдельных концептуальных аспектов его обоснования (понимания) и действия, что может сказываться на предметной, методологической основе обеспечения общих и специальных правовых режимов. Наиболее очевидно в этих процессах проявляется проблема правового статуса личности (и ее правоспособности как отправного условия такого статуса). Подчеркнем, что правовой статус личности, определяемый посредством каталога прав, свобод, законных интересов, обязанностей и ответственности, первоочередно обозначает проблематику субъекта в правовых (соответственно, общественных) отношениях и во многом служит отражением доминирующей концепции правопонимания в конкретном пространственно-правовом контексте. Данная «личностно-юридическая» сфера является наиболее чувствительной к неопределенности, обусловленной технологическими изменениями. Вместе с тем она способна с помощью юридических средств сдерживать происходящие изменения в целях сохранения цивилизационных достижений, приобретших устойчивое ценностное значение в мировом контексте. Справедливо внимание к тому, в какой мере «цифровыми причинами» может объясняться постановка вопроса о развитии (тем более о переоценке) правового статуса (правоспособности) личности. Предпринимаемые доктринальные и юридико-практические шаги вряд ли позволяют уверенно «фиксировать» изменения сложившейся правоспособности применительно к проблематике цифровой среды. Скорее, обоснована сама постановка вопросов: влияет ли и каким образом вовлечение в виртуальное пространство на реализацию правоспособности (меру ее реализации) в сравнении с тем, что имеет место в «обычной» физической среде; требуется ли только развитие гарантий ее обеспечения или важен более комплексный (категориальный) подход к пониманию статуса субъекта правоотношений. В случае последнего очевидна необходимость исследования проблематики прав и их ограничений, вопроса об объеме прав, законных интересов, обязанностей и ответственности в рамках установленных режимов оценки и регулирования положения личности и иных участников правоотношений. Заметим, что изучение института обязанностей (связанной с ними ответственности) развивается в направлении осмысления процессов, протекающих в сетевых 20 и так называемых распределенных структурах. Это соотносится с механизмом распределенной ответственности (как важной составляющей правового статуса)1 в сети, обусловливающим методологический взгляд на так называемое сетевое право. Подчеркнем, что распределенная ответственность (диффузия ответственности), которая может быть применима к субъектам общественных отношений в сети Интернет как распределенной структуре и прочим процессам технологизации, во многом имеющим характер спонтанных и неконтролируемых на этапе внедрения, наряду с отраслевым исследованием требует теоретических разработок. Принципиальным в этом случае может стать решение вопроса о том, какой механизм реализации ответственности станет наиболее эффективным: распределение нагрузки субъектов и снижение в результате этого бремени обязанностей каждого из них либо субсидиарная ответственность субъектов, позволяющая восполнить недостаток возможностей в интернет-пространстве по защите прав и свобод. Еще более сложным станет вопрос о волевом отношении субъектов к своим обязанности и ответственности при наличии возможности их автоматического (автоматизированного) исполнения либо перенесения (распределения) соответствующего бремени на других субъектов. Данные вопросы тесно связаны с изучением структуры цифровой среды, которая развивается при построении и усилении горизонтальных взаимодействий между ее участниками. При этом проблематика контроля, эффективности воздействия рассматривается не только в рамках организации властно-правовых отношений, но и применительно к установлению компенсационно-стимулирующих механизмов при развитии регулирования. Вряд ли можно спорить с общим тезисом о том, что новая (цифровая) среда как пространство, где лица, объединения, акторы гражданского общества организуют и осуществляют свою деятельность, нередко воспринимается как своего рода «естественное благо», соответственно, влияющее на идентичность всех ее участников 1 Данная тема является предметом исследования за рубежом и была рассмотрена, в частности, на международной конференции «Распределенная ответственность в эпоху Больших данных и интернета вещей» (Гетеборг, 2017, URL: http://is4si-2017.org/program/workshops/ distributed-responsibility-times-big-data-internet-things/ (дата обращения: 01.02.2022)). Отмечалось, что стремительный рост объемов данных, прогнозный анализ которых обусловливает их влияние на широкий спектр областей: военное и гражданское наблюдение, социальная робототехника, онлайн-экономика, сферы труда, образования и здравоохранения, управление и контроль в области интернета вещей, интеллектуальные системы дорожного движения, интеллектуальные энергетические системы и различные финансовые системы. 21 (а значит, на их положение в системе социальных и правовых координат). Вместе с тем есть собственно юридические факторы, побуждающие внимание к проблеме идентификации субъекта в цифровой среде. Во-первых, речь идет о недостаточной обусловленности регулирования «цифровых» отношений с позиции определенности «пространства, времени и по кругу лиц», влияющей на его предсказуемость и действенность (с учетом разумных ожиданий по основаниям и последствиям). С точки зрения «круга лиц» предполагается множественность субъектов цифрового взаимодействия, наличие разного рода «цифровых посредников»1. Технологическая «изменчивость» отношений в виртуальной среде (в силу высокой скорости ее трансформации) сказывается на оценке критерия «времени действия» принимаемого правового регулирования. Пространственный аспект действия права в цифровой среде также может «размываться» в силу трансграничности информационнокоммуникационных систем. В связи с этим иногда обозначается тема универсализации цифровой правосубъектности, опосредуемой ее признанием вне зависимости от национальной юрисдикции. Немаловажен и вопрос о недостаточно определенных для права сферах цифрового мира2. Во-вторых, стоит обратить внимание на проблематику субъективной стороны правоспособности в цифровой среде: ее реализация традиционно определена потребностью волеобразования и контроля субъектов права – участников правоотношений. Между тем такие «субъективные компоненты» в меньшей мере могут быть гарантированы при осуществлении прав и обязанностей (по отношению к их роли/ возможностям в физической среде) с учетом центральности не материального, а информационно-виртуального, равно как и по причине особой роли технологического саморегулирования и управления социальными системами. Закономерно, что вопрос идентификации личности в цифровой реальности исследуется в различных отраслях гуманитарных 1 См., например: Гаджиев Г.А., Войниканис Е.А. Может ли робот быть субъектом права? (поиск правовых форм для регулирования цифровой экономики). URL: https://law-journal.hse.ru/da ta/2019/01/14/1146823417/%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2.pdf (дата обращения: 01.02.2022). 2 Хабриева Т.Я., Черногор Н.Н. Право в условиях цифровой реальности // Журнал российского права. 2018. № 1. С. 85–102; Lessig L. Reading the Constitution in Cyberspace. 45 Emory Law Journal. 1996. 3. URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=41681 (дата обращения: 01.02.2022). 22 знаний1. В целом отмечается проблема большей вариативности поведения субъектов «виртуального мира», по меньшей мере, вызывающей потребность в осмыслении возникающих «навыков поведения», соответственно, их регуляторного режима. В научной литературе отмечается так называемый аутопойетический2 характер динамики техносоциальных систем (к которым уже сейчас можно отнести весь спектр взаимодействий на интернет-платформе), что обусловливает слабую подконтрольность такой системы каким-либо институциональным структурам, а значит, повышение рисков, в том числе правовых, при развитии и распространении3. Примечательно наблюдение («транслируемое» в юридической литературе) о важности включения в число основных принципов функционирования Всемирной паутины (Т. Бернеса Ли) следующих: «возможность редактировать информацию Паутины не менее важна, чем возможность просто лазать по ней; компьютеры могут быть использованы для «фоновых процессов», помогающих людям работать сообща; каждый аспект Интернета должен работать как паутина, а не как иерархия; ученые-компьютерщики несут не только техническую ответственность, но и моральную»4. Отметим, что отсутствие осмысления цифровизации в соответствующем юридико-антропологическом ключе закономерно приводит к рассмотрению развития режимов его регулирования с позиции составляющей «социально-технологического эксперимента»5, 1 Это закономерно обусловливает складывающееся правовое регулирование. Наиболее чувствительно это проявляется в институте об ответственности субъектов, осуществляющих деятельность в сети Интернет, рассредоточенных по разным отраслям законодательства (в Уголовном кодексе РФ, Кодексе РФ об административных правонарушениях и в ГК РФ). 2 Аутопойезис означает процесс самовоспроизведения и развития какой-либо автономной системы. В социальной системе форму аутопойезиса приобретает коммуникация. Право в этом случае становится в определенной степени внешней средой, от которой сама система начинает отгораживаться, поскольку там формируются собственные правила регуляции, обусловленные механизмами этой самовоспроизводящейся системы. Подробнее см.: Luhmann N. The Autopoiesis of social systems // Luhmann N. Essays on self-reference. N.Y., 1990; Луман Н. Медиа коммуникации / Пер. с нем. А. Глухов, О. Никифоров. М., 2005. С. 11; Лавренчук Е.А. Аутопойезис социальных сетей в интернет-пространстве: дис. … канд. филос. наук. М., 2011; Орлов Д.Е., Орлова Н.А. Аутопойезис техносоциальных систем как фактор разрастания социальных рисков // Вестник РУДН. Серия «Социология». 2015. № 2. С. 59–67. 3 См. подробнее: Черемисинова М.Е. Судебная практика в условиях социально-технологического эксперимента // Судья. 2021. Апрель. С. 54–59. 4 Цит. по: Трансформация права в цифровую эпоху: монография / Под ред. А.А. Васильева. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2020. С. 15. 5 В настоящее время развитие законодательства идет по пути апробации экспериментальных правовых режимов, что логично в условиях эксперимента так такового. Примечательно, что Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» предусматривает обращение к порядку «судебного урегулирования» только в одном случае – при установлении возможности обжало- 23 что требует специальных исследований, в том числе и на предмет социальных последствий новаций не только в собственно технологической, но и в правовой сфере, обеспечивающей направленность, характер, интенсивность внедрения таких технологий1. Так, без достаточной «включенности» юридической доктрины и практики происходит технологическое наращивание цифровой идентификации индивида в силу прежде всего текущих экономико-технологических и санитарно-эпидемиологических обстоятельств. В отечественной практике происходят постепенное «подчинение» экономических и социальных взаимосвязей цифровому формату (развитие электронных банков значимой информации), создание «информационно-цифрового портрета личности» (увеличение объема относящихся к нему данных), «кодирование» как основание реализации правоспособности (введение механизма QR-кодов) и др. Такая «цифровая трансформация» затрагивает немало концептуальных составляющих статуса субъектов права, например смещение границ при определении частного и публичного пространства, появление «виртуальных» (и в этом смысле не всегда заметных) субъектов влияния и управления, воздействующих на смысловую основу выстраивания (регулирования) отношений в «привычной» схеме «индивид – общество – государство» (ее закономерности, характер, логику взаимосвязи). Еще более наглядны проблемы «легкого» оборота персональных данных, технологических возможностей контроля любого пространства жизнедеятельности, стирания привычных рамок, условий доступа к материальным благам. Налицо ситуация (общемировая тенденция) движения правового регулирования не столько к «человекоцентричному» обеспечению технологического прогресса, когда ключевым в технологизации правового процесса рассматривается благо человека (опосредованного его классической правоспособностью), сколько к самим технологиям и движимому ими прогрессу, в связи с чем человек (его правовой статус) нуждается в осмыслении на предмет учета такого развития. вания решения уполномоченного органа о приостановлении или прекращении статуса субъекта экспериментального правового режима (ч. 3 ст. 12). Полагаем, что роль судебной практики при применении этого Закона будет гораздо шире и станет источником эволюционного развития права. См.: Черемисинова М.Е. Судебная практика в условиях социально-технологического эксперимента // Судья. 2021 (апрель). С. 54–59. 1 Об этом подробнее см.: Черемисинова М.Е. Правовой статус субъектов в виртуальном пространстве: монография. М.: ИД «Юриспруденция», 2020. 24 Можно признать наличие вызовов классическому пониманию положения личности, ставшему ядром парадигмального взгляда на юридические процессы в последние более чем полвека. Такие вызовы предстают как в социально- и биотехнологическом проявлении1, так и в собственно правовом. В частности, заслуживает внимания положение о том, что ««классические» права человека подвергаются новым испытаниям после того, как их удалось «отбить» у тоталитарных режимов»2. Данное наблюдение в целом отвечает мировым тенденциям правовой регламентации в связи с развитием цифровых технологий (этому посвящено все больше исследований). При этом первоначальный и основной взгляд на технологии с точки зрения международного права определен в первую очередь идеями технологического прогресса «во благо человека и человечества»3. Одновременно красной линией в документах обозначалось условие такого «прогресса» – при обеспечении (гарантировании) основной правоспособности индивида. Например, в рамках Декларации ООН об использовании научно-технического прогресса в интересах мира и на благо человечества 1975 г.4 отмечалась потребность в международном сотрудничестве для использования результатов научно-технического прогресса в интересах укрепления мира и безопасности. Подчеркивалась важность составляющей обеспечения прав и свобод, необходимость принятия мер по предотвращению использования достижений науки и техники для ограничения или вмешательства в осуществление прав человека и основных свобод, провозглашенных во Всеобщей декларации прав человека, соответствующих международных пактах и других международных документах. В Хартии глобального информационного общества 2000 г.5 отмечено революционное воздействие информационно-коммуникационных технологий на образ жизни людей, их образование и работу, 1 См., например: Yuval Noah Harari. Why Technology Favors Tyranny. URL: https://www. theatlantic.com/magazine/archive/2018/10/yuval-noah-harari-technology-tyranny/568330/ (дата обращения: 01.02.2022). 2 Ковлер А.И. Права человека в цифровую эпоху // Бюллетень Европейского суда по правам человека. Российское издание. 2019. № 6 (204). 3 Так, в экспертных отчетах информационное общество определялось как то, в котором «развитие компьютеризации предоставит людям доступ к надежным источникам информации и избавит их от рутинной работы, обеспечив высокий уровень автоматизации производства». См.: Смирнов А.И. Информационная глобализация и Россия: вызовы и возможности. М., 2005. С. 29–30. Цит. по: Право и закон в программируемом обществе… С. 48. 4 Принята резолюцией 3384 (XXX) Генеральной ассамблеи ООН от 10 ноября 1975 г. 5 Окинавская хартия глобального информационного общества, принята на о. Окинава 22 июля 2000 г. 25 а также взаимодействие правительства и гражданского общества. Подчеркивается, что все люди повсеместно, без исключения должны иметь возможность пользоваться преимуществами глобального информационного общества, а названный документ является прежде всего призывом ко всем как в государственном, так и в частном секторах ликвидировать международный разрыв в области информации и знаний. Примечательно, что в связи с данной Хартией и другими документами (например, Женевской декларацией «Построение информационного общества – глобальная задача в новом тысячелетии» 2003 г.) заметно внимание к проблематике «глобального информационного общества». Перспектива его развития также по-своему очерчивала определенное направление международного сотрудничества – с позиции «концептуального видения развития общества и его международного измерения в условиях информационно-технологической революции и формирования нового технологического уклада (формации)»1. В этом может усматриваться намеченный вектор на универсализацию правового регулирования применения ИКТ в жизнедеятельности людей, равно как и на обеспечение кибербезопасности правовыми средствами (в качестве своего рода международно-правового обязательства). Не менее отчетливо проявлялась постановка вопроса о расширении технологических возможностей (условий) реализации правоспособности в части информационно-коммуникационного взаимодействия, учитывая (по терминологии Д. Белла) «расширение радиуса связи, когда весь мир находится в сфере пристального внимания любого слушателя»2. Во многом можно отметить даже некоторую «гипертрофию» рассматриваемого взгляда в юридической мысли и практике, особенно на этапе появления глобальной сети и связанных с ней возможностей «естественной самореализации». Примером служит ряд актов в основном модельного, декларативного значения (не имеющих юридически документального статуса) или «индивидуальные программные акты» как ответ на попытки введения цензуры в Интернете (например, Декларация независимости киберпространства 1996 г., Конвенция самодисциплинирования хакеров 2011 г.). 1 Капустин А.Я. Международное право и информационное общество: международные акты «мягкого права» // Право и закон в программируемом обществе… С. 49–50. 2 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Пер. с англ.; под ред. В.Л. Иноземцева. М.: Academia. 26 Технологическое расширение (экспансия) сквозь призму права (правового регулирования) в последнее десятилетие стало рассматриваться в сочетании с правовым статусом личности как своего рода необходимым приоритетом осмысления правоотношений применительно к цифровой среде. Свою роль в этом играет так называемое международное «мягкое» право, в целом развивающее представления о правовом статусе субъектов отношений в цифровой среде с учетом ключевой традиционной координаты, связанной с защитой прав и свобод человека. Этому посвящено немало деклараций, рекомендаций, заключений (докладов), принятых в рамках деятельности международных (межгосударственных) органов. Соответственно развивается и практика межгосударственных (в том числе судебных) органов по правам человека, при этом наиболее полновесную юридическую повестку по стандартам и гарантиям защиты прав в цифровой сфере задает ЕСПЧ. Однако это только с одной стороны дает основу для юридического осмысления трансграничной природы статуса субъекта, реализующего правоспособность в цифровой среде. Так, справедливо отмечаются недостаточность (фрагментарность и неопределенность) международно-правового регулирования ИКТ и начальная стадия концептуальной разработки международного права ИКТ (Интернета, киберпространства), в которой пока находится международное сообщество1. Помимо этого вполне рабочее значение имеет подход, согласно которому «каждое отдельное общество в границах национальных государств будет рассматриваться как часть этого глобального информационного общества в зависимости от степени их включения в использование ИКТ»2. Заслуживает внимания развитие правового регулирования (его стандарты) в целях обеспечения «цифровой экономики», активно прорабатываемого в рамках организаций экономической интеграции, предлагающее прагматичный взгляд на проблематику правового статуса участников цифровой среды – с позиции рискори­ ентированного подхода. Например, при обозначении целевой модели формирования цифрового пространства ЕАЭС3 выделяется 1 Капустин А.Я. Международное право и информационное общество: международные акты «мягкого права» // Право и закон в программируемом обществе… 2 Там же. С. 51. 3 Обзор совместного исследования Всемирного банка и Евразийской экономической комиссии: Цифровая повестка Евразийского экономического союза до 2025 года: перспективы и рекомендации. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/SiteAssets/%D0%9E%D0%B 1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D0%92%D0%91.pdf (дата обращения: 01.02.2022). 27 ряд рисков («игнорирования цифровых технологий»), значимых для развития соответствующего регулирования. В их числе: риск потери цифрового суверенитета граждан, хозяйствующих субъектов, государственных органов и государств – членов Союза; риск, связанный с усилением влияния и контроля над «цифровым» пространством со стороны глобальных игроков; риск подавления и поглощения экономик государств – членов Союза в результате переходов экономических процессов в другие цифровые пространства; риск реализации разрушительных «киберугроз» и др. На этой волне закономерно формирование проблематики не только индивидуальных прав и свобод, но также ограничений и ответственности, равно как и развития правового статуса субъектов отношений с учетом значения «технологической самореализации» для так называемых коллективных и публичных интересов в области хозяйственно-экономической деятельности. Иногда при рассмотрении правоспособности личности в технологическом контексте ограничения могут концептуализироваться как юридически ключевые в свете недостатка соответствующего им регулирования оснований, гарантий реализации правоспособности в цифровой среде1. В связи с этим важной тенденцией в отечественном праве является развитие этического саморегулирования (примером может служить Кодекс этики использования данных 2019 г.), по крайней мере, устанавливающего нормы поведения в целях соблюдения прав участников отношений, обеспечения баланса их интересов и снижения рисков при использовании технологий2. В заключение подчеркнем, что все более заметна потребность юридической идентификации личности в цифровом пространстве. Это отмечается на различных уровнях правового общения и взаимодействия, признается не только в юридической мысли, но и в правотворческой и правоприменительной деятельности3. 1 В настоящем уделено немало внимания анализу рисков, возникающих в современном информационном обществе. Среди них, в частности, выделяются (М.Ю. Родимцевой) следующие: цензура с использованием сервисов крупных информационно-телекоммуникационных компаний; сложность в защите прав пользователей при отсутствии постоянных официальных представительств, оказывающих услуги в сети интернет-компаний на территории стран проживания пользователей; использование персональных данных информационными брокерами без уведомлений субъектов таких данных. Цит. по: Трансформация права в цифровую эпоху: монография / Под ред. А.А. Васильева. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2020. С. 17. 2 См.: Алешкова И.А., Молокаева О.Х. Опасности цифрового развития права: очевидные, скрытые, мнимые // Конституционное и муниципальное право. 2019. № 8. С. 41–45. 3 В настоящее время прорабатывается (по поручению Президента РФ) проект концепции специального и общего регулирования правового статуса личности в цифровой среде. С этим также связано создание Советом при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека рабочей группы по защите прав граждан в цифровой среде. URL: http:// president-sovet.ru/presscenter/news/read/6432/ (дата обращения: 01.02.2022). 28 Осмысление факторов влияния цифровизации на концептуальную основу правового статуса индивида, в том числе посредством мониторинга возникающих правовых режимов, позволило бы обозначить вектор смещения баланса в сочетании ключевых элементов такого статуса, равно как и обеспечить способы согласования «цифровых интересов» субъектов данных отношений. § 2. ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА В ФОКУСЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ В СВЯЗИ С ФАКТОРОМ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ Современное право, будучи детерминированным фактором развития цифровой среды и соответствующей трансформацией социальной коммуникации, по-прежнему ориентируется по своим свойствам и традициям1 на конституционные правоположения. При этом первичной точкой отсчета де-юре является именно сфера прав и свобод личности, формирующая ключевой аксиологический стандарт конституционных правоотношений и являющаяся наиболее знаковой в контексте проблемы правосубъектности (значит, и правоспособности) в цифровой среде. Как показано выше, заданная координата движения «в сторону технологий» не всегда учитывает проблематику правоспособности личности (в том числе пределы ее осуществления и обеспечения), зачастую рассматривая ее как «состоявшуюся» и в основном не требующую специального осмысления (переосмысления) в свете тенденций цифровизации. Такое «принятие», на первый взгляд, начинается с общего посыла о необходимости одинакового гарантирования прав и свобод онлайн и офлайн. Как было отмечено Генеральной ассамблеей ООН, права, которые человек имеет офлайн (англ. offline – вне сети), должны защищаться и онлайн (англ. online – в Интернете)2. Другой вопрос, 1 Для данного контекста среди свойств права особое значение представляет проблема его иерархизации с соответствующей дифференциацией правовых норм с учетом их юридического уровня и юридической силы, при этом, обращаясь к вопросу традиций, наибольшее принятие имеет признание именно конституционных норм правоположения наивысшего правового порядка и юридического влияния. 2 Поощрение, защита и осуществление прав человека в Интернете: Резолюция Генеральной ассамблеи ООН от 7 июля 2021 г. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/ 29 можно ли отметить, что в силу данного принципа все известные права, гарантированные юридически и действующие в реальном мире, по умолчанию экстраполируются на виртуальную среду? Полагаем, что сама постановка проблемы «сочетаемости гарантий прав онлайн и офлайн» на самом высоком уровне (в том числе ООН) свидетельствует о невозможности признания полной аналогичности так называемых прав, реализуемых в цифровой среде, известным правам (прежде всего, в части пределов их осуществления, критериев ограничений). При этом очевидно, что такая «неполная аналогичность» может быть выражена по-разному. В одном случае речь может идти об обеспечении/гарантировании существующей (признанной и урегулированной в правовых нормах) правоспособности, способах ее реализации, в том числе не исключая уточнения пределов вводимых ограничений. Стоит заметить, что именно в этом качестве нередко понимается проблематика внимания к правам и свободам в условиях цифровой среды, которая скорее трактуется как вызов, создающий определенные риски ограниченности их гарантирования в сравнении с режимом их действия и обеспечения в физической среде. В силу этого технологическая повестка в юридической мысли и практике в контексте вопросов объема и пределов реализации основных прав человека фиксируется на этапе сложившейся тенденции их ограничения (порой едва ли не умаления). Наиболее заметно и комплексно это обозначается в рамках юридически рекомендательных актов, принимаемых на международном и региональном уровнях. В преамбуле Декларации Комитета министров о правах человека и верховенстве права в информационном обществе 2005 г.1 признается, что «ограничение или отсутствие доступа к информационным и коммуникационным технологиям может лишить людей возможности полностью реализовывать свои гражданские права». В Докладе Комиссара СЕ по правам человека 2014 г. отмечается: «Цифровая среда может в силу самой своей природы размывать основы частной жизни и фундаментальных G21/173/58/PDF/G2117358.pdf?OpenElement (дата обращения: 01.02.2022); Право на неприкосновенность личной жизни в цифровой век [The right to privacy in the digital age]: Резолюция, принятая Генеральной ассамблеей 18 декабря 2013 г. URL: http://undocs.org/A/RES/68/167 (дата обращения: 01.02.2022). Соответствующая проблематика также находила отражение в последующих специальных актах ГА ООН: Резолюции «Право на неприкосновенность частной жизни в цифровую эпоху» от 16 декабря 2020 г. file:///C:/Users/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B C%D0%B5%D0%BD%D1%82-4/Downloads/A_RES_75_176-RU%20(1).pdf 1 Декларация принята 13 мая 2005 г., CM(2005)56. 30 прав, тем самым подрывая ответственное принятие решений. Здесь кроется потенциальная возможность подрыва верховенства права путем ослабления или разрушения права на частную жизнь, ограничения свободы коммуникаций или свободы объединений, а также произвольного вмешательства»1. Вместе с тем цифровая повестка регулирования прав и свобод может рассматриваться в более конструктивном (для процесса технологизации) ключе – с точки зрения развития или юридико-антропологического условия как сдерживания, так и наращивания технологических возможностей. При этом последние могут повлечь потребность введения новых правовых инструментов оценки: их наполнение иногда прямо предлагается обусловливать собственно цифровой проблематикой (не подразумевающей ее связи с обычной (невиртуальной) средой), что стало характерно для развития «цифровой экономики». Наиболее чувствительной к таким «цифровым изменениям» можно признать конституционную сферу, в которой, во-первых, содержатся исходные позиции по обеспечению прав и свобод человека как ключевой конституционной ценности. Ее «уязвимость», очевидно, может повлечь все риски конституционной определенности и стабильности. При этом вряд ли можно сомневаться в наличии тенденции перехода от в целом либерального взгляда (при признании ценности технологий для расширения действия базовых прав человека) к повсеместному принятию рисков внедрения технологий с точки зрения развития рестрикционистской модели (ее проявлений) оценки положения личности в цифровой среде2. Немаловажно, что ключевое значение сохраняют вопросы преодоления риска «цифрового ослабления» именно гражданских и политических прав, во многом образующих первичный аксиологический стандарт конституционного регулирования прав и свобод человека. Примечательно, что на угрозу именно таким правам человека в связи с научно-техническим прогрессом было указано в Декларации ООН 1975 г.3 В настоящее время это только актуализируется в связи с наличием технических возможностей почти 1 Верховенство права в Интернете и в остальном цифровом мире. Тематический доклад Комиссара Совета Европы по правам человека. Изд. Совет Европы, 2014. URL: https://www. refworld.org.ru/pdfid/553e05174.pdf (дата обращения: 01.02.2022). 2 Струков Н.К. Контрольная функция государства в сфере виртуального пространства (на примере Российской Федерации): автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2019. 3 Декларация об использовании научно-технического прогресса в интересах мира и на благо человечества. Принята резолюцией 3384 (XXX) Генеральной ассамблеи от 10 ноября 1975 г. 31 неограниченного наблюдения, хранения и использования информации. В Резолюции ООН о праве на неприкосновенность частной жизни в цифровой век 2013 г. также подчеркивается, что все государства должны уважать и защищать право на неприкосновенность частной жизни в условиях развития информационно-коммуникационной среды. На возможность «обойти» установленный во многих конституциях запрет на вмешательство в частную жизнь без согласия лица указывалось в получившей известность работе Л. Лессига «Читая Конституцию в киберпространстве»1. В ней показано на примере Четвертой поправки к Конституции США (о гарантиях права на частную жизнь), как конституционные нормы, сохраняя свое формальное значение, могут без затруднений нарушаться в зоне цифровых коммуникаций. Во-вторых, в силу развития различных специально-отраслевых режимов внедрения и регулирования технологий (закономерно затрагивающих элементы статуса личности) именно отрасль конституционного права оказывается юридически наименее просматриваемой, прежде всего, в силу определенной абстракции содержащихся в ней многих общих правоположений, в том числе касающихся сферы прав и свобод человека. Можно согласиться, что конституционное опосредование текущей цифровой реальности требует четкого осмысления проблематики, с тем чтобы определить ее конституционную предметность как с позиции обоснованности, возможности, пределов распространения на нее конституционного регулирования, так и с точки зрения развития конституционных норм. В частности, в первую очередь в уточнении нуждаются вопросы объема и гарантий конституционно предусмотренных прав, реализуемых в цифровой среде, на предмет их определенности и эффективности для развивающейся «многовариантной» среды, ключевым фактором которой являются потребности цифровой коммуникации. В обратном случае возникают риски размежевания юридической Конституции и ее фактического воплощения, которое должно обеспечиваться понятными, юридически определенными идеями и параметрами, ориентирующими практику правореализации. В целом динамика «технологического опосредования» прав и свобод в цифровом контексте (учитывая «большое значение технических 1 Lessig L. Reading the Constitution in Cyberspace. URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id=41681 (дата обращения: 01.02.2022). Также на это обращено внимание в статье: Федотов М.А. Конституционные ответы на вызовы киберпространства // Lex russica. 2016. № 3. 32 решений в области обеспечения и защиты»1), их осмысление в целях обогащения юридического содержания и устранения неопределенности в вопросах объема, гарантий при «цифровом» осуществлении обусловливают потребность «конкретизации прав и свобод человека и гражданина применительно к цифровой реальности»2. В связи с этим стоит обратить внимание на формирование (в какой-то степени оформление) вектора оценки прав и свобод в цифровой среде с позиции выделения такой сущности, как «цифровые права» (которые также именуются на разных площадках общения в рамках правовых и иных документов интернет-правами, сетевыми или коммуникационными правами). В качестве релевантного для их оценки можно рассматривать термин «цифровые свободы» («интернет-свободы»). Полагаем, цифровые права человека как нормативно установленная мера возможного поведения и ее критерии (в собственно правовом отношении) вряд ли можно считать устойчивыми. Очевидно, выделение названной категории прав определено не только понятийно-теоретическими причинами, которые рассматриваются, прежде всего, как связанные с потребностями обобщения и определения относящихся в той или иной степени к цифровой среде совокупности прав и свобод. Первичным является обозначение проблемы так называемых старых новых прав, которую можно рассматривать в нескольких ипостасях. Рассмотрение следует начинать с установления взаимосвязи цифровых прав с признанными основными правами, свободами, которые применительно к цифровой среде могут изменяться по параметрам реализации, в результате чего иногда требуют обновленной оценки в части объема правопритязаний (который может быть гарантирован), его ограничений с точки зрения обязанностей и ответственности. Подобная «проработка» важна, в частности, в свете доказанной осложненности действия ряда основных прав без юридического уточнения параметров их осуществления (гарантирования) в рассматриваемых условиях. Соответственно, закономерен вопрос, являются ли цифровые права совпадающими со сложившимися (применительно к обычной (физической) среде) правами или производными от них. 1 Право на неприкосновенность частной жизни в цифровую эпоху. Резолюция от 14 ноября 2018 г. URL: https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/C.3/73/L.49/Rev.1 (дата обращения: 01.02.2022). 2 Зорькин В.Д. Право в цифровом мире. Размышление на полях Петербургского международного юридического форума // Российская газета. № 115(7578). 33 В ряде случаев нельзя исключать признания в рамках проблематики цифровых прав «новых прав», которые хотя и могут быть похожи на производные права, но по своим существенным признакам более относимы к правам, требующим признания в качестве самостоятельных. Заметим, что в современном правоведении нередко данная проблематика масштабируется – при попытках дать обобщенное представление о том, обладают ли цифровые права как таковые (без контекста конкретных прав, их действия) самостоятельными признаками1. «Внимание» к ним обусловлено выделением всей совокупности таких прав в рамках официально и неофициально (на уровне саморегулируемых сообществ)2 выпущенных документов, имеющих, как правило, разъяснительно-рекомендательный характер3. С этим связано и стремление к обозначению на базе складывающегося каталога цифровых прав и свобод их основного ряда. К последнему можно отнести различные категории прав – от лично политических до социально-экономических, равно как и более «экзотичные» права, до соотносящихся с привычными правами. С одной стороны, в перечень могут включаться права на цифровую идентичность, на цифровое гражданство, на достоинство и свободное развитие индивидуальности в контексте технологического развития, на эффективную защиту при цифровых конфликтах. С другой – права на доступ к электронным устройствам и коммуникационным сетям, на защиту персональных данных, на информационное самоопределение, на анонимность, на забвение, на свободную передачу и распространение информации. 1 См., например: Fetscherin M. CDPresent State and Emerging Scenarios of Digital Rights Management Systems // The International Journal on Media Management. Vol. 4, № 3, 2002, p. 164– 171; Blaschke Y. Digital rights as a security objective: New gateways for attacks. URL: https://edri.org/ donate/ (дата обращения: 01.02.2022). 2 Первичными субъектами, обеспечивающими обращение и распространение категории (идеи) цифровых прав, являются саморегулируемые интернет-сообщества, принимающие акты рекомендательного характера: в их числе, например, объединение European Digital Rights (EDRi), включающее европейские правозащитные организации из более чем двадцати стран, осуществляющие деятельность по продвижению, защите и поддержке фундаментальных прав и свобод человека в цифровой среде, в частности, на основании утвержденного каталога – хартии цифровых прав (URL: https://edri.org/wp-content/uploads/2014/06/EDRi_DigitalRightsCharter_ web.pdf (дата обращения: 01.02.2022)). 3 См., например: Декларация о правах в интернете, одобренная парламентом (от 28 июля 2015 г.). URL: https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/commissione_internet/ TESTO_ITALIANO_DEFINITVO_2015.pdf (дата обращения: 01.02.2022); Хартия о правах граждан в цифровую эпоху, принятая Ассоциацией адвокатов Барселоны. URL: http://www.fbe.org/ barreaux/uploads/2019/06/Barcelona-Charter-of-Citizens-%E2%80%98Rights-in-the-Digital-Era-2. pdf (дата обращения: 01.02.2022). 34 Между тем признание цифровых прав в качестве «целостного явления» в современной правовой жизни (в рамках международноправовой или конституционно-правовой концепции) по-прежнему остается проблемой. И в ее основе – отсутствие единства к определению их производности или отличий по отношению к традиционным (сложившимся) группам прав с учетом их деления по поколениям, отраслевой характеристике, защищаемым благам, степени универсальности. Например, справедливо замечается: «Eсли исходить из… сущностной специфики прав человека разных поколений, то обоснование появления нового поколения предполагает возникновение в результате развития социальной организации прав человека принципиально иной юридической природы по сравнению с правами первого и второго поколений»1. Обращаясь к понятию цифровых прав, нельзя не отметить их определение в научной литературе преимущественно в широком (социологическом) значении: «расширение и применение универсальных прав человека к потребностям общества, основанного на информации»2. Это обусловлено наличием общей модели отношения национальных правовых систем к универсальным или, более юридически точно, общепризнанным правам, обычно утверждаемым в процессе их конституционализации (прежде всего, посредством включения ряда прав во многие конституционные тексты), в целом обоснованной конституционными формулами, связывающими гарантии конституционных прав с общепризнанными правами. Так, согласно ч. 1 ст. 55 Конституции РФ перечисление в ней основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. Именно в этом контексте (в части признания, гарантирования общепризнанных прав применительно к цифровой сфере) звучит утверждение о необходимости увеличения масштаба конституционной среды под влиянием цифровых процессов, поскольку действительно «невозможно представить, что человеческая деятельность путем простого преодоления порога виртуального мира теряет конституционную защиту»3. 1 Варламова В.А. Цифровые права – новое поколение прав человека? // Труды Института государства и права. 2019. Вып. 14. № 4. 2 См., например: Беккер К. Словарь тактической реальности. М., 2004. URL: http://you-books. com/book/K-Bekker/Slovar-takticheskoj-realnosti-Kulturnaya-intellige (дата обращения: 01.02.2022). 3 Celeste Ed. The Irish Constitution and the Challenges of the Digital Age. Is it Time for a Bunreacht na hEireann 2.0? URL: https://ulsites.ul.ie/law/papers-constitution-80-conference (дата обращения: 01.02.2022). 35 Проблема «общепризнанного» применительно к правовому положению личности получает собственное измерение в цифровом мире – при принятии ее естественным в технологическом контексте пространством, обладающим эффектом универсализации положения лиц – участников цифровой коммуникации. Это определено единством технологической природы (соответствующих информационно-цифровых платформ и услуг) коммуникации и, как следствие, во многом трансграничным и внетерриториальным характером сферы возникновения и реализации «цифрового» статуса лиц (для чего достаточно не столько правового признания, сколько технологической доступности). В случае признания вненационального (трансграничного) характера цифровых прав, их можно считать основными в универсальном контексте, в связи с чем вполне закономерно прогнозировать тренд по универсализации правового режима их обеспечения. Между тем соответствующий (трансграничный) ракурс рассмотрения цифровых прав и свобод все же вряд ли позволяет свидетельствовать о разрешении вопроса их общепризнанности по природе (происхождению) и последствиям (хотя бы по причине иного понимания такой общепризнанности в цифровом мире). В то же время юридическое развитие данной проблематики является залогом поступательного функционирования современных технологий, в том числе с учетом общности оценки отдельных рисков в связи с «трансграничным» осуществлением цифровых прав, отмечаемых и в рамках международно-правового регулирования. В числе таких рисков «слежение за сообщениями, включая экстерриториальное слежение за сообщениями и/или их перехват… особенно в массовом масштабе, которые могут иметь негативные последствия для осуществления и реализации прав человека»1. Немаловажно, что региональные и национальные модели гарантирования прав применительно к цифровой среде отнюдь не демонстрируют единства оценки содержания таких прав как «общепризнанных», по крайней мере, в части их расширительного или ограничительного понимания. Чаще встречается более дифференцированное внимание, в том числе к подходам по их юридическому включению, к приоритетам при регулировании прав и свобод 1 Право на неприкосновенность частной жизни в цифровую эпоху. Резолюция ООН от 14 ноября 2018 г. 36 применительно к цифровой среде, со стороны разных правовых режимов. В свете национальных правопорядков стоит отметить тенденцию по развитию специального регулирования, прежде всего, применительно к цифровой среде в целом, значимым принципам и подходам обращения к ней (при ее использовании), в числе которых первостепенное внимание отведено обеспечению гарантий и установлению пределов осуществления прав и свобод в Интернете. Так, в Законе Бразилии о порядке использования Интернета1, именуемом бразильской «интернет-конституцией»2, ключевое внимание уделено принципам и гарантиям использования Интернета с учетом признания его трансграничной глобальной природы и значения. В частности, под Интернетом понимается система, состоящая из совокупности логически связанных протоколов, структурированных в глобальном масштабе для всеобщего и неограниченного использования, в целях обеспечения передачи данных между терминалами посредством использования различных сетей. При этом основным предметом регулирования Закона стали права и гарантии пользователей Интернета, обеспечение доступа к последнему, равно как и формы, пределы ответственности интернет-операторов, регулирование вопросов участия органов публичной власти в соответствующей сфере. Более специальное назначение имеет Акт Новой Зеландии о пагубных цифровых коммуникациях3, устанавливающий условия и пределы кибервоздействия с учетом предупреждения угроз нежелательных цифровых коммуникаций, идентифицируемых посредством обозначенных в законе критериев (принципов) поведения в интернет-среде. В целом закон нацелен на уменьшение вреда, причиняемого физическим лицам с помощью цифровых коммуникаций (в том числе за счет установления ответственности за причинение такого вреда, 1 Закон Бразилии о порядке использования Интернета от 23 апреля 2014 г. (автор перевода М.Б. Касенова). URL: http://pircenter.org/media/content/files/13/14243576660.pdf (дата обращения: 01.02.2022). 2 Предисловие М.Б. Касеновой к тексту Закона Бразилии о порядке использования Интернета. URL: http://pircenter.org/media/content/files/13/14243576660.pdf (дата обращения: 01.02.2022); Касенова М.Б. Закон Бразилии «Marco Civil Da Internet»: основные принципы, понятия и гарантии порядка использования интернета. URL: http://naukarus.com/zakon-braziliimarco-civil-da-internet-osnovnye-printsipy-ponyatiya-i-garantii-poryadka-ispolzovaniya-interneta (дата обращения: 01.02.2022). 3 Harmful Digital Communications Bill, 13.07.2013 (2014 No 168-2). URL: https://www.parliament. nz/en/pb/bills-and-laws/bills-digests/document/50PLLaw21661/harmful-digital-communicationsbill-2013-2014-no-168-2 (дата обращения: 01.02.2022). 37 вплоть до уголовной), предоставление жертвам вредоносных цифровых коммуникаций быстрых и эффективных средств правовой защиты. Тем самым вполне оправданным может быть дифференцированный подход к оценке «общепризнанного» объема цифровых прав (в зависимости от контекста конкретного права, его природы и характера осуществления), определяемого в сочетании их с действующими основными правами с учетом имеющихся режимов и уровней правового обеспечения последних. В частности, цифровые права можно рассматривать с точки зрения их различения (по категориям): сочетаемые с действующими правами и требующие специальных гарантий в цифровой среде; претерпевающие определенную трансформацию по режиму признания и пределам осуществления; требующие собственного юридического признания в рамках каталога основных прав. Такое различение предполагается на основе складывающихся в юридической мысли и получающих оформление/закрепление в правовой практике концептов и представлений о проблематике прав и свобод в цифровой среде1. Так, в числе сочетаемых (практически отождествляемых) по объему содержания с конституционно предусмотренными правами применительно к цифровой среде можно в первую очередь упомянуть право на неприкосновенность частной жизни. Оно во многом определяет квинтэссенцию отношений по поводу оборота и защиты информации, что представляет базовую ценность в условиях развития цифровых технологий. При этом, будучи относимым к правам первого поколения, данное право в обычном контексте его использования прежде всего детерминировано возможностью субъективного контроля за его осуществлением (в этом государству отводится незначительная роль, только по «невмешательству»). Обращаясь к конституционной ценности неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 23 Конституции РФ), Конституционный Суд РФ (далее – КС РФ) подчеркнул, что признание ее на конституционном уровне означает и гарантированную государством возможность контролировать информацию о самом себе, препятствовать разглашению сведений личного, интимного характера2. Между тем такой контроль может утрачиваться, 1 См., например: Черемисинова М.Е. Правовой статус субъектов в сети Интернет: дис. … канд. юрид. наук. М., 2020; Талапина Э.В. Эволюция прав человека в цифровую эпоху // Труды Института государства и права РАН. 2019. Том 14. № 3. С. 122–146. 2 Определение КС РФ от 10 февраля 2016 г. № 224-О. 38 когда речь идет о его реализации с помощью средств цифровой коммуникации. Достаточно обратиться к современным социологическим оценкам технологической угрозы обеспечению приватности и «тайны переписки». Наиболее часто это обсуждается в связи с воздействием технологий наблюдения («слежки») и больших данных, установлением взаимосвязи между получением социальных благ и формированием «цифрового портрета личности». Обеспечение неприкосновенности частной жизни по меньшей мере проявляется в двух аспектах – посредством развития представлений об обязательствах по ее гарантированию, при предметном внимании к «цифровому объему» данного права (с целью недопущения его ограничения). В противном случае (при отсутствии юридических и технологических условий) частная жизнь может утрачивать свою защищенность и, значит, реализуемость, поскольку данное право в связи с масштабом информационно-технологического обеспечения обмена личной информацией, персональными и иными данными относится к категории прав, гарантирование которых в современных условиях невозможно без реализации в интернет-пространстве. Наиболее часто встречаются оценки того, что гарантирование рассматриваемого права в целом развивается за счет обозначения его «цифровых проекций», проявляющих в рамках права на частную жизнь меру правопритязаний индивида в цифровой среде. Каждое из таких притязаний в силу его специфики требует собственного технологического и юридико-регуляторного внимания. Не исключено также, что происходит эволюция права на частную жизнь, в которой информационный аспект становится преобладающим. Это сопровождается постепенным развитием и признанием на основе правовой идеи защиты частной жизни конституционного права на информационное самоопределение (the right to informational self-determination), что в немалой степени также опосредуется и ст. 24 Конституции РФ1. Такое «самоопределение» пронизано идеей конституционного запрета на вмешательство в частную жизнь лица без его согласия, прежде всего в ее информационном выражении (формируемом с помощью средств цифровой связи)2. Также принятие 1 См.: Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный). 2-е изд., пересмотренное / Под ред. В.Д. Зорькина. М.: Норма; Инфра-М, 2011. 2 Например, Федеральный конституционный суд ФРГ в решении от 4 апреля 2006 г. определил границы превентивного систематического розыска террористов с применением 39 получают режимы регулирования права на конфиденциальность (the right to confidentiality), права на защиту данных (the right to data protection), права на анонимность (the right to anonymity), права на забвение (the right to be forgotten). Данные права обозначаются составляющими притязания на частную жизнь, метафорично рассматриваемого как требование быть оставленным в покое (the right to be let alone). Обоснованно признать, что гарантирование неприкосновенности частной жизни в цифровой период сопряжено не столько с негативными, сколько с позитивными обязательствами государства. Последние предполагают установление как на государственно-юридическом уровне, так и в рамках режима саморегулирования (субъектов технологического обеспечения), распространения данных – способов и режимов гарантирования условий «контроля информации о самом себе» со стороны индивидов, их коллективов. Важно, что в рамках проблематики защиты данных установленные принципы и стандарты такой защиты повышаются «до обязательств, возлагаемых на обработчиков данных, с целью соблюдения прав субъектов данных»1. В целом справедливо согласиться, что взаимодействие путем средств цифровой коммуникации может затруднять внимание к информации, подлежащей обмену, с позиции ее рассмотрения в качестве частной или личной. Отдельные сомнения привносит и проблематика персональных данных (определения их статуса в контексте электронной системы обработки данных, обозначив условия совместимости такого розыска с правом на информационное самоопределение. В частности, Федеральным конституционным судом ФРГ отмечено, что такой розыск совместим с основным правом на информационное самоопределение лишь в том случае, если существует по меньшей мере одна конкретная угроза в отношении наиболее значимых правовых благ; в качестве обычной предварительной меры подобный систематический розыск (с применением названной системы обработки данных) не соответствует требованиям Конституции (1BvR518/02). В Решении от 11 марта 2008 г. (1BvR2074/05, 1BvR1254/07) Суд ФРГ отметил, что право на информационное самоопределение учитывает угрозу и вред личности, которые возникают для лица, особенно в условиях современной обработки данных, в связи с информационными мероприятиями. Это право сопутствует защите основных прав и расширяет ее в части свободы выбора варианта поведения и приватности; оно обеспечивает защиту уже при наличии самой угрозы. Объем охраны права на информационное самоопределение не ограничивается информацией, которая по своему виду является конфиденциальной и уже поэтому охраняется Основным законом. См.: Избранные решения Федерального конституционного суда Германии / Сост. Ю. Швабе, Т. Гайсслерю. Представительство Фонда Конрада Аденауэра в Российской Федерации. М.: Инфотропик Медиа, 2018. С. 106. 1 McDermott Y. Conceptualising the right to data protection in an era of Big Data. 2017. URL: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2053951716686994 (дата обращения: 01.02.2022). 40 сферы частной жизни), что становится предметом доктринального1 и юридико-прикладного анализа2. Закономерен вопрос об идентификации пространства частной жизни в связи с основаниями и способами реализации конституционного условия обращения к «личной» информации при условии получении согласия. Известно, что понятие «частная жизнь» включает ту область жизнедеятельности человека, которая относится к отдельному лицу, касается только его и не подлежит контролю со стороны общества и государства, если она носит непротивоправный характер3. При наличии технической возможности получать и распространять (практически из любой точки мира) информацию с момента ее фактического размещения обладателем в сети стало заметно меньше определенности в оценке информации как личной или персональной, требующей конфиденциальности (и не рассматриваемой как сведения публичного характера)4, а значит, исключения распространения такой информации без согласия обладателя5. Полагаем, для обеспечения неприкосновен1 См., например: Телина Ю.С. Конституционное право гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну при обработке персональных данных в России и зарубежных странах: дис. … канд. юрид. наук. М., 2016; Талапина Э.В. Защита персональных данных в цифровую эпоху: российское право в Европейском контексте // Труды Института государства и права РАН. 2018. Т. 13. № 5; Солдатова В.И. Защита персональных данных в условиях применения цифровых технологий // Lex russica (Русский закон). 2020. № 1(2). 2 Так, защита персональных данных в сочетании с обеспечиваемым ею аксиологическим стандартом понимается не единообразно в различных правопорядках. Например, подчеркивается: «Конституционный суд Германии разработал понятие «информационное самоопределение», вытекающее из конституционного принципа достоинства, в то время как во Франции суды начали применять права на защиту данных как компонент права на свободу самовыражения. Все же это появление права было далеко не универсальным для европейских правовых систем и было сформулировано в довольно разных терминах, будучи связанным с различными конституционными концепциями в тех государствах, которые разработали это право… Поэтому уместно изучить, какие ценности лежат в основе права на защиту данных». См.: McDermott Y. Conceptualising the right to data protection in an era of Big Data. 2017. 3 Определение Конституционного Суда РФ от 9 июня 2005 г. № 248-О. 4 Подчеркнем, что, как было отмечено Конституционным Судом РФ, правовое регулирование в России о персональных данных соотносится и с тем толкованием Европейской конвенции по правам человека, которое нашло место в постановлениях Европейского суда по правам человека от 24 июня 2004 г. по делу «Фон Ганновер (Принцесса Ганноверская) (Von Hannover) против Германии» и от 17 октября 2019 г. по делу «Лопес Рибальда (Lopez Ribalda) и другие против Испании» и согласно которому концепция частной жизни, отраженная в статье 8 Конвенции, не поддаваясь исчерпывающему определению, распространяется на аспекты, относящиеся к идентификации личности, не исключая профессиональную и деловую деятельность. 5 См.: Федотов М.А. Конституционные ответы на вызовы киберпространства // Lex russica. 2016. № 3; Lessig L. Reading the Constitution in Cyberspace. 45 Emory Law Journal. 1996. № 3 // URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=41681 (дата обращения: 01.02.2022). Проблематика обработки цифровых данных (имеющих общественно значимый характер) рассматривалась с позиции оценки необходимости (ее отсутствия) получения согласия субъекта таких данных на их обработку и Конституционным Судом РФ (см.: Постановление Конституционного Суда РФ от 25 мая 2021 г. № 22-П). 41 ности частной жизни важны не только ее границы в физическом значении, во многом связанные с характером передаваемой информации и ее сохранностью, но также цели и выбранный субъектом способ размещения, что могло бы свидетельствовать о ее значении для субъекта. Можно обратить внимание на технологическую (и иную ресурсную) сложность таких «установлений», тем более что проблема возможности обезличивания, как и идентификации (персонализации) данных, продолжает прорабатываться. С одной стороны, массовый характер размещения и обработки информации по технологии больших данных усложняет возможность ее «индивидуализации» в цифровой среде. С другой стороны, введение регулирования в отношении механизма идентификации во многом позволяет свидетельствовать о возможности преодоления обезличивания и персонификации любых данных (имеющих первоначальный цифровой источник). В России соответствующая тенденция также проявляется, например, в связи с принятием так называемого закона об «удаленной идентификации»1. В целом режим правового регулирования обеспечения (гарантирования) приватности в цифровой среде вводится не единообразно как в пространственном отношении, так и с точки зрения сфер правового воздействия. При этом «драйвером» такого гарантирования часто является активное развитие цифровой экономики, которая, несмотря на, казалось бы, риски для информационного положения личности (как в случае коммерческого значения оборота данных), во многом обусловлена вовлечением в хозяйственно-экономический процесс личности, способной себя идентифицировать и в конечном счете становиться субъектом такого оборота. Нельзя не отметить, что немалое число вопросов правового положения личности в связи с цифровизацией лежит в плоскости экономико-правового регулирования. Это обусловлено рассмотрением проблематики цифровых прав (понятийно введенных гражданским законодательством) в основном применительно к вопросам имущественного оборота (для защиты субъектов экономической деятельности, при обозначении их имущественных прав). Закономерно, что в российском законодательстве 1 См.: Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. № 482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Также принят Федеральный закон от 29 декабря 2020 г. № 479-ФЗ, посвященный использованию единой биометрической системы для удаленной идентификации при получении финансовых и государственных услуг. 42 получили распространение понятия «цифровые активы», «смартконтракты», «криптовалюта», «блокчейн» и др.1 При этом в свете гарантий первичное значение имеет проблематика защиты данных (в отечественном праве – персональных данных)2, в связи с которой вырабатываются подробные наднациональные (общерегиональные) правовые стандарты регулирования (например, Общий регламент ЕС о защите персональных данных3 или Конвенция Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных)4, а также формируются этические правила (в порядке саморегулирования участниками соответствующих сообществ). Надо отметить, что преобладает критический подход к «предложениям по расширению возможностей по сбору и обработке общедоступных пользовательских данных в сети Интернет и выведению таких отношений за пределы правового режима персональных данных»5. При этом активно развивается законодательство в области обработки персональных данных (получения согласия физического лица (субъекта) на их обработку) с целью предупреждения 1 Примечательно, что, например, во Франции процесс цифровизации экономической жизни, сопровождаемый предметным правовым регулированием, происходил значительно раньше (если сравнивать с российским законодательством). Как подчеркивается, первым законом в ряду актов, непосредственно посвященных цифровизации, стал Закон от 21 июня 2004 г. № 2004-575 о доверии в цифровой экономике, принятый для целей установления ясных правил для поставщиков интернет-услуг и совершенствования защиты пользователей, укрепления доверия к электронной торговле. Более широкое значение имело принятие Закона Франции о цифровой республике от 7 октября 2016 г. № 2016-1321. Его важной составляющей стало «урегулирование оборота данных» при закреплении принципа открытости в случае, когда речь идет о публичных данных (создаваемых при участии государственной власти); установлении подхода по расширению государством прав индивидов в цифровом мире. См.: Пилипенко А.Е. Франция: к цифровой демократии // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2019. № 4. С. 185–207; Талапина Э.В. Цифровая трансформация во Франции: правовые новеллы // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2019. № 4. С. 164–184. 2 При этом согласимся, что «отсутствие в Законе № 152-ФЗ [«О персональных данных»] конкретизированного понятия персональных данных приводит к различному толкованию его содержания и разночтениям при отнесении тех или иных данных к категории персональных». См.: Защита данных: научно-практический комментарий к судебной практике / Отв. ред. В.В. Лазарев, Х.И. Гаджиев. М.: ООО «Юридическая фирма Контракт», 2020. С. 45. 3 General Data Protection Regulation, GDPR; Постановление (Европейский союз) 2016/679. Разработка данного регламента во многом обусловлена Хартией ЕС об основных правах, согласно которой, в частности, данные должны обрабатываться справедливо, для конкретных целей и только на основании согласия заинтересованного лица или на каком-либо другом основании, установленном законом; предусмотрено право доступа и исправления собранных данных, а также контроль со стороны независимого органа (статья 8 Хартии основных прав). 4 Конвенция о защите частных лиц в отношении автоматизированной обработки данных личного характера ратифицирована Федеральным законом от 19 декабря 2005 г. № 160-ФЗ. 5 См., например: Савельев А.И. Направления регулирования Больших данных и защита неприкосновенности частной жизни в новых экономических реалиях // Закон. 2018. № 5. С. 122–144. 43 «отслеживания» поведения субъекта в Интернете1, что также преду­ сматривается в названном общерегиональном регулировании (так, Общий регламент защиты персональных данных ЕС определяет ответственность за «утечку данных»). Важную роль в гарантировании приватности в цифровой период играет судебная практика, в отдельных системах судами формируются специальные доктрины, конкретизируется посредством судебных позиций объем «цифрового содержания» права на частную жизнь, чтобы избежать риска сужения (ограничения) его интерпретации и применения. Согласимся, что «защита личной сферы граждан от вмешательства в нее новых технологий развивалась через толкование общего понятия права на неприкосновенность частной жизни», при этом «гибкий подход к определению содержания этого права особенно ярко проявляется в практике Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ)»2. Например, как отмечено ЕСПЧ, Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ст. 8) предусматривает право на информационное самоопределение в рамках права на уважение частной и семейной жизни. Последнее предоставляет лицам возможность ссылаться на свое право на частную жизнь относительно данных, которые хотя и являются нейтральными, но собираются, обрабатываются и распространяются в совокупности в таком виде или тем способом, которые могут указывать на нарушение этих прав, предусмотренных соответствующей статьей3. В более ранней практике ЕСПЧ развивал позиции о распространении ст. 8 Конвенции на защиту данных, в том числе с учетом принципа, согласно которому данные должны использоваться только для той ограниченной цели, для которой они были собраны4. Практику КС РФ по вопросам обеспечения приватности в Интернете можно считать формирующейся. В числе знаковых его решение о том, несет ли оператор связи (владелец интернет-сервиса), посредством которого осуществляются отправка и получение электронных сообщений, обязанность обеспечивать тайну связи 1 См., например: Интервью с Медведевым С. Offline и online: как бизнесу работать с персональными данными. URL: https://pravo.ru/opinion/233403/?mob_chrono_3= (дата обращения: 01.02.2022). 2 Савельев А.И. Направления регулирования Больших данных и защита неприкосновенности частной жизни в новых экономических реалиях // Закон. 2018. № 5. С. 122–144. 3 Постановления ЕСПЧ от 27 июня 2017 г. «Satakunnan Markkinaporssi Oy»; от 4 декабря 2008 г. «S. And Marper». 4 Постановление ЕСПЧ от 28 января 2003 г. «Пек (Peck) против Соединенного Королевства». 44 (ч. 2 ст. 23 Конституции РФ), является ли он в этом смысле обладателем информации, содержащейся в сообщениях пользователей1. Вкладом в развитие цифровых правоотношений стало признание КС РФ права на забвение в Интернете как производного от прав личности, гарантированных ст. 23 и 24 (ч. 1) Конституции РФ2. В числе наиболее проблемных для регулирования вопросов обеспечения «приватности» (в своем «общепризнанном» объеме правовой оценки) использование технологий мониторинга данных (в том числе в работе правоохранительных органов) с учетом предо­ ставляемого такими технологиями «легкого» доступа к многочисленным сведениям различного уровня конфиденциальности. Именно с этими технологическими условиями связываются риски умаления права на неприкосновенность частной жизни, возвращающего в немалой степени и к теме негативных обязательств государства. Например, Л. Лессиг справедливо задается вопросом: «Что следует делать суду, когда технологии облегчают полиции возможность мониторинга того, что происходит внутри дома? Или когда технологии помогают гражданам прятаться от полиции?»3 В средствах массовой информации все чаще звучат слова о «конце эры приватности»4, о тщетности попыток борьбы за нее, о равноценности обмена приватности на технологические возможности пользования благами, предоставляемые современными цифровыми нововведениями. Однако это не всегда сопровождается принятием такой тенденции, наоборот, в ряде случаев получает обратное выражение – в новой волне внимания к отстаиванию фундаментальных прав, которые в связи с происходящей технологической революцией превращаются в декларативные, несмотря на все попытки обеспечения и сохранения их в качестве правовых достижений на юридическом (конституционном) уровне. Осмысление права на частную жизнь в глобальной сети в конституционно-правовом ракурсе (в том числе при обращении к оценкам Постановление Конституционного Суда РФ от 26 октября 2017 г. № 25-П. Определение Конституционного Суда РФ от 26 марта 2019 г. № 849-О. 3 Lessig L. Reading the Constitution in Cyberspace. 45 Emory Law Journal. 1996. № 3. 4 См., например: Медведовский И. Эра хакеров: почему о приватности можно забыть навсегда. URL: https://www.rbc.ru/opinions/technology_and_media/01/04/2016/56fe59b79a7947b b7cf4b4e4 (дата обращения: 01.02.2022); Легкодимов Н. Конец приватной эпохи. URL: https:// www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/07/09/806225-konets-privatnoi-epohi (дата обращения: 01.02.2022); The End of Privacy as We Know It? URL: https://www.nytimes.com/2020/02/10/podcasts/ the-daily/facial-recognition-surveillance.html?showTranscript=1 (дата обращения: 01.02.2022). Подробнее на РБК: URL: https://www.rbc.ru/opinions/technology_and_media/01/04/2016/56fe 59b79a7947bb7cf4b4e4 (дата обращения: 01.02.2022). 1 2 45 психологических, философских, исторических исследований) является насущным вопросом в связи с важностью учета современного контекста определения (переосмысления) способов достижения баланса частного и публичного в праве, предупреждения и преодоления юридических конфликтов. Более того, стоить учесть, что технологии все активнее внедряются в правовую практику как инструмент развития и поддержания публично-правового порядка1. В наднациональной правовой практике пределы их использования в деятельности государственной власти также становятся предметом правового анализа и стандартизации, как в случае, когда в ЕСПЧ рассматривался вопрос общего применения Конвенции к режиму скрытого наблюдения, используемого разведывательными службами Соединенного Королевства2. Обращаясь к другой важной правовой ценности – свободе самовыражения (свободе слова), необходимо отметить заметное изменение ее объема применительно к цифровой среде, что проявляется с момента некоторой переоценки его наименования, по существу определяемого как право на свободу информации3. Прежде всего, это обусловлено изменением подхода к ключевому благу «свободы самовыражения», которым признается информация, не всегда имеющая ценность (равно как и характерные черты) мнения/убеждения, а являющаяся значимой сама по себе в свете цифрового взаимодействия. 1 В России, например, речь идет о принятии пакета мер по противодействию терроризму: Федеральные законы от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ, от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ. 2 Постановление ЕСПЧ от 13 сентября 2018 г. по делу «Некоммерческая организация Big Brother Watch и другие (Big Brother Watch and Others) против Соединенного Королевства» (жалоба № 58170/13 и другие). В данном постановлении ЕСПЧ подчеркнуто, что важно учитывать меры по надзору за осуществлением процедуры скрытого наблюдения, любой механизм уведомлений и средства правовой защиты, предусмотренные законодательством соответствующего государства. При этом в рамках оценки следует исходить из того, чтобы установленные процедуры сами по себе содержали бы надлежащие и соответствующие гарантии защиты прав данного лица. В области, где так легко допустить злоупотребление полномочиями в индивидуальных случаях и где такое злоупотребление могло повлечь тяжелые последствия для демократического общества в целом, в принципе желательно было доверить надзор судье, поскольку судебный контроль предполагает наилучшие гарантии независимости, беспристрастности и надлежащей процедуры. 3 См., например: Талапина Э.В. Право на информацию в свете теории субъективного публичного права // Сравнительное конституционное обозрение. 2016. № 6; Celeste Ed. The Irish Constitution and the Challenges of the Digital Age. Is it Time for a Bunreacht na hEireann 2.0? URL: https://ulsites.ul.ie/law/papers-constitution-80-conference (дата обращения: 01.02.2022); Roudik P. Freedom of speech, Internet, Protest and dissent, Right of privacy. URL: http://www.loc. gov/law/foreign-news/article/russia-new-legislationrestricts-anonymity-of-internet-users/ (дата обращения: 01.02.2022). 46 Несмотря на свое ценностное признание, информация как благо во многом «нейтральна» в том отношении, что не в полной мере детерминирована отражением субъективных взглядов человека (как в случае мнения, убеждения). Требующих в связи с этим оценки вопросов по теме свободы информации в Интернете немало, в их числе: в какой мере такая информация может быть определена с позиции принадлежности к конкретному лицу (относимости к его «мысли и слову»), с какого этапа (момента) информация считается публично выраженной (например, получает ли информация такой статус при ее опубликовании не в «общих» блогах, а на интернет-страницах личного пользования)? Одновременно все чаще отмечается необходимость учета рисков свободного (без ограничений) «оборота» информации посредством средств цифровой коммуникации с учетом скорости и масштаба (массовости) ее распространения. Несомненно, «Интернет оказывается беспрецедентным инструментом утверждения ст. 19 Всеобщей декларации прав человека, которой признается возможность искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ»1. Конституционный Суд РФ отмечает «существенное изменение способов распространения информации и отвечающих современным условиям ее движения в сети «Интернет», зачастую сопоставимое по широте охвата аудитории с деятельностью средств массовой информации»2. По этой причине принимается идея повышенного юридического внимания к коммуникации и обмену информации в цифровой среде и даже концепция ограничений3, не исключающая признания элементов «мягкой цензуры», которая иногда получает более широкие рамки действия и рассматривается как самостоятельное явление (Internet Censorship). В основном условия вводимых ограничений различны и часто распространяются на противоправные проявления свободы слова. Однако это вряд ли может свидетельствовать о какой-либо 1 Цит. по: Защита данных: научно-практический комментарий к судебной практике / Отв. ред. В.В. Лазарев, Х.И. Гаджиев. М.: ООО «Юридическая фирма Контракт», 2020. С. 95. 2 Постановление Конституционного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 18-П. 3 Так, публикации в Интернете подпадают под сферу действия ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и ее общих принципов, при этом, как отмечено в специальном исследовательском отчете Европейского суда по правам человека, особая форма этого средства передачи информации привела Страсбургский суд к принятию определенных ограничений в отношении свободы выражения мнения в Интернете (Интернет: прецедентная практика Европейского суда по правам человека. Отчет Отдела по проведению исследований ЕСПЧ, 2011. URL: https://www.echr. coe.int/Documents/Research_report_Internet_RUS.pdf (дата обращения: 01.02.2022)). 47 рестрикционной тенденции применительно к цифровой среде. Между тем ограничительно-обязывающее регулирование в аспекте последней все же наблюдается в связи с расширением круга оснований признания по законодательству информации противоправной (хотя цели ограничения свободы самовыражения в основном остаются прежними)1, с уточнением условий распространения информации посредством ИКТ, характеристики субъекта распространения, что также сопровождается установлением мер ответственности в случае несоблюдения регулирования. При этом рестрикционный подход может усиливаться, повышая риски для «субъективно физического» сегмента права на свободу выражения – относительно мнений, убеждений. Названные вопросы актуальны для мировой правовой практики, что связано с реализацией политики информационно-телекоммуникационной безопасности, причем акцент может смещаться с индивидуальной свободы в пользу публичных интересов. Это, несомненно, требует надлежащего механизма контроля. В числе наиболее обсуждаемых направлений регулирования в данном контексте: вопросы распространительной блокировки сайтов в случае обнаружения их противоправного содержания; расширительный подход к проблематике противоправного материала, также сочетаемого с «пагубными» коммуникациями (например, агрессивные высказывания); возможность возложения на субъектов цифровой коммуникации ограничений, определяемых для медиадеятельности. Так, во Франции был подготовлен акт в рамках повышения эффективности в области внутренней безопасности (закон LOPPSI 2)2, уточненный в связи с решением Конституционного совета Франции и предусматривающий административное блокирование 1 По оценке ЕСПЧ, ограничения свободы, предусмотренные ст. 10 (п. 2) Конвенции по правам человека, должны толковаться узко. Вмешательство со стороны государств в осуществление этой свободы возможно при условии, что оно является «необходимым в демократическом обществе», то есть, согласно прецедентной практике Европейского суда, должно отвечать «настоятельной общественной необходимости», быть соразмерным преследуемой правомерной цели по смыслу п. 2 ст. 10 и быть обоснованным судебными решениями, содержащими соответствующую и достаточную мотивировку. Хотя у национальных властей есть определенная свобода усмотрения, она не является неограниченной и сопровождается европейским контролем, проводимым ЕСПЧ. См.: Интернет: прецедентная практика Европейского суда по правам человека. Отчет Отдела по проведению исследований ЕСПЧ, 2011. 2 Закон об ориентации и планировании повышения эффективности в области внутренней безопасности: loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2). URL: https://www.loc.gov/item/globallegal-monitor/2011-03-22/france-new-law-on-internal-security-loppsi-2/ (дата обращения: 01.02.2022). 48 интернет-сайтов (содержащих запрещенную к распространению информацию, которая прежде всего может посягать на права и законные интересы несовершеннолетних). В Германии некоторые нарекания (в связи с ограничительным подходом к свободе слова) вызвал Закон об «охране прав в соцсетях»1, предполагающий наложение больших штрафов на социальные сети, которые не удаляют посты с призывами к ненависти и с иным содержанием, нарушающим немецкое законодательство. Рестрикционная модель регулирования интернет-коммуникаций реализована в Турции, где интернет-ресурсы (по широкому кругу критериев противоправности) могут быстро блокироваться на основании решения контрольно-­ регулирующего органа. Также в Турции получил одобрение закон о регулировании социальных сетей, который требует от компаний – владельцев социальных сетей обеспечить в стране представительство для взаимодействия с властями2. Определенную поддержку получило обоснование ответственности за информацию в сети операторов связи в практике Европейского суда по правам человека. Так, по одному из дел (Delfi AS)3 Суд согласился с национальными властями, что активные интернет-посредники должны нести ответственность за размещенные пользователями комментарии (презумпция осведомленности), при этом не проводились различия между диффамационными высказываниями, языком вражды и другим незаконным контентом4. 1 Netzwerkdurchsetzungsgesetz – NetzDG, Vom. 1 September, 2017. См.: Эванс П. Право на оскорбление в сетях: в Германии разгорелись споры о новом законе. URL: https://www.bbc.com/ russian/features-41311306 (дата обращения: 01.02.2022). 2 Турция приняла закон о регулировании публикаций в социальных сетях. URL: https://drussia.ru/turcija-prinjala-zakon-o-regulirovanii-publikacij-v-socialnyh-setjah.html (дата обращения: 01.02.2022); Соцсетям написали правила. URL: https://rg.ru/2020/08/05/v-turcii-s-1-oktiabriadolzhen-vstupit-v-silu-zakon-o-regulirovanii-socsetej.html (дата обращения: 01.02.2022). 3 См. Постановление ЕСПЧ от 16 июня 2015 г. по делу «Компания «Делфи АС» (Delfi AS) против Эстонии». Между тем, как было замечено Конституционным Судом РФ (Постановление от 25 мая 2021 г. № 22-П), в последующих делах, напротив, ЕСПЧ обращал ключевое внимание на тот факт, что спорные комментарии не могли быть признаны явно противоправными, поскольку они определенно не разжигали ненависть к иным лицам и не содержали призывов к насилию; удаление таких комментариев владельцем (администратором) сайта в течение разумного времени после получения им обращения от пострадавшего лица являлось достаточной мерой (постановления от 2 февраля 2016 г. по делу «Венгерская ассоциация провайдеров интернет-контента и компания Index.hu Zrt (Magyar Tartalomszolgaltatok Egyesulete and Index.hu Zrt) против Венгрии» и от 19 марта 2019 г. по делу «Хейнесс (Hoiness) против Норвегии», а также решения от 7 февраля 2017 г. по жалобе «Рольф Андеш Даниэль Пиль (Rolf Anders Daniel Pihl) против Швеции» и от 19 сентября 2017 г. по жалобе «Тамиз (Payam Tamiz) против Соединенного Королевства»). 4 См. подробнее: Соболева А.К. Свобода выражения мнения в практике Европейского суда: старые подходы и новые тенденции в толковании статьи 10 ЕКПЧ. Т. 21 // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2017. № 2. 49 Отметим, что по ряду других дел подход ЕСПЧ к цифровым коммуникациям имел не столь ограничительный характер1. Особое внимание привлекает проблема режима регулирования распространения (обмена) информации посредством цифровых технологий в связи с развитием блогерства и гражданской журналистики, по аналогии с медиасферой, что не должно сопровождаться механическим применением подходов, разработанных для других средств коммуникации, в том числе традиционных СМИ, к регулированию интернет-коммуникации2. Все названные вопросы правового обеспечения свободы информации в цифровом пространстве также актуальны для отечественной юридической системы. В частности, тенденцией является увеличение объема законодательного регулирования в области информационно-сетевой коммуникации, при этом происходит расширение круга критериев отнесения публично выраженной информации к «противоправной» и соответствующих мер ответственности. Например, принят закон, получивший условное наименование «о неуважении к государственной власти», уточняющий перечень информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено3. Особое внимание уделяется вопросам предупреждения распространения в сети Интернет материалов экстремистской направленности, в том числе с учетом широкого круга критериев отнесения 1 Как было замечено Конституционным Судом РФ (Постановление от 25 мая 2021 г. № 22-П), в последующих делах ЕСПЧ обращал ключевое внимание на тот факт, что спорные комментарии не могли быть признаны явно противоправными, поскольку они определенно не разжигали ненависть к иным лицам и не содержали призывов к насилию; удаление таких комментариев владельцем (администратором) сайта в течение разумного времени после получения им обращения от пострадавшего лица являлось достаточной мерой (постановления от 2 февраля 2016 г. по делу «Венгерская ассоциация провайдеров интернет-контента и компания Index.hu Zrt (Magyar Tartalomszolgaltatok Egyesulete and Index.hu Zrt) против Венгрии» и от 19 марта 2019 г. по делу «Хейнесс (Hoiness) против Норвегии», а также решения от 7 февраля 2017 г. по жалобе «Рольф Андеш Даниэль Пиль (Rolf Anders Daniel Pihl) против Швеции» и от 19 сентября 2017 г. по жалобе «Тамиз (Payam Tamiz) против Соединенного Королевства»). 2 См.: Рекомендации по приведению понимания СМИ в соответствие с международными стандартами в области свободы выражения мнения в цифровую эпоху. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (Бюро Представителя по вопросам свободы СМИ). Подготовлено Е. Шерстобоевой по заказу Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам СМИ. 2017. URL: https://www.osce.org/files/f/documents/e/2/358706.pdf (дата обращения: 01.02.2022). 3 Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 30-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”». Законом вводится статья, предусматривающая возможность принятия мер по ограничению доступа к информации (материалам), предназначенной (предназначенным) для неограниченного круга лиц, выражающей (выражающим) в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации. См.: Комментарий к вопросу применения «пакета Клишаса». URL: http://ilpp.ru/news/ events/2019/03/26/events_1092. html (дата обращения: 01.02.2022). 50 информации к таковой1. В российской практике вызвало дискуссию законодательное введение возможности по предписанию прокуратуры производить без решения суда немедленную блокировку сайтов, распространяющих призывы к массовым беспорядкам и содержащих информацию экстремистского характера2. Это, в частности, в практике применения отразилось на «непропорциональном побочном эффекте блокировки доступа» применительно к другим интернет-ресурсам (не содержащим незаконные материалы)3. Заметен акцент на вопросах ответственного внимания владельцев порталов (сетевых изданий) к размещению информации в Интернете с учетом обеспечения прав и законных интересов других лиц (в том числе в свете ценности защиты данных)4. Определенная практика в этом отношении сложилась у Конституционного Суда РФ5. Наиболее знаковым «новым правом», предложенным в связи с развитием цифровых технологий и в немалой степени юридически обусловливающим их развитие (соответственно, обеспечивающим цифровые условия реализации остальных прав, «сообщенных» с рассматриваемой средой), является право на доступ к Интернету. Несмотря на то что данное право может показаться первоочередной составляющей или производной права на информацию и 1 Защита данных: научно-практический комментарий к судебной практике / Отв. ред. В.В. Лазарев, Х.И. Гаджиев. М.: ООО «Юридическая фирма Контракт», 2020. С. 101–104. 2 Согласно Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. № 398-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”». Как следует из пояснительной записки к проекту данного закона, он был разработан в целях совершенствования механизмов защиты общества от противоправной информации, распространяемой в информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе в сети «Интернет»). Под такой информацией понимается информация, содержащая призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, разжиганию межнациональной и (или) межконфессиональной розни, участию в террористической деятельности, а также в публичных массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. 3 См.: Постановление ЕСПЧ по делу «Харитонов против России», 23 июня 2020. См. комментарий по данному делу, например: Нагорная М. ЕСПЧ присудил 10 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда за блокировку сайта. URL: https://www.advgazeta.ru/novosti/ espch-prisudil-10-tys-evro-v-kachestve-kompensatsii-moralnogo-vreda-za-blokirovku-sayta/ (дата обращения: 01.02.2022). 4 Постановление Конституционного Суда РФ от 25 мая 2021 г. № 22-П. 5 Несколько определений Конституционного Суда РФ вынесено по обращениям о проверке конституционности законодательного порядка признания интернет-сайтов содержащими противоправную информацию, в том числе касающегося гарантий прав владельцев сайтов на распространение информации, не запрещенной к распространению (как в случае массовой блокировки). См.: Определение Конституционного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 3024-О; Определение Конституционного Суда РФ от 17 июля 2014 г. № 1759-О. Знаковым стало дело по жалобе ООО «МедРейтинг», в решении по которому Суд предметно уделил внимание вопросу соотношения иногда конкурирующих правовых ценностей – неприкосновенности частной жизни и свободы информации (интернет-коммуникаций). 51 свободу слова (что справедливо признается на различных площадках правового взаимодействия)1, оно имеет собственно технолого-правовую специфику. Последняя в большей мере позволяет свидетельствовать, что ценностными становятся цифровая коммуникация (обмен информацией посредством информационно-коммуникационных технологий), трансграничность взаимосвязи и информации в Интернете, следование принципу и стандарту сетевой нейтральности. Все чаще ведется речь о конституционном признании права на доступ к сети Интернет, что обосновывается увеличением значения глобальной сети и рассмотрением Интернета, а также коммуникации в его пределах в качестве самостоятельных социальных благ («общественно важных ресурсов»), влияющих на возможность реализации других фундаментальных прав и качество современной жизни. Законодательное признание права на доступ к Интернету (информационным технологиям) в основном сопровождается указанием на позитивные обязательства государства по обеспечению такого доступа. Например, в связи с принятием Закона Франции о цифровой республике (от 7 октября 2016 г.), как подчеркивается, французское законодательство не только обогатилось правом на Интернет, но и обеспечило это право обязательствами государства, введя государственную финансовую помощь на оплату интернетуслуг по аналогии с коммунальными услугами2. Законом Бразилии о порядке использования Интернета комплексная подготовка и иные образовательные практики для безопасного, сознательного, ответственного использования Интернета (являющегося способом осуществления гражданских прав) определены как конституционная обязанность государства по обеспечению обучения на всех образовательных уровнях. Особое значение имеет вопрос собственно конституционной легитимации рассматриваемого права (включения его в национальные конституционные тексты), имеющей место в отдельных 1 Так, принимается подход, согласно которому «право на доступ к Интернету считается неотъемлемой частью права на информацию и связь, защищаемого конституциями государств-членов, и включает в себя право каждого на участие в информационном обществе и обязанность государств гарантировать своим гражданам доступ к Интернету. Соответственно, общие гарантии, защищающие свободу выражения мнения, позволяют сделать вывод, что также следует признать право на беспрепятственный доступ к Интернету». См.: Постановление ЕСПЧ от 18 декабря 2012 г. (жалоба № 3111/10) по делу «Ахмет Йилдырым (Ahmet Yildirim) против Турции». 2 См.: Пилипенко А.Е. Франция: к цифровой демократии; Талапина Э.В. Цифровая трансформация во Франции: правовые новеллы. 52 конституционных системах, что во многом отражает процесс международно-правового признания прав и свобод. Вместе с тем существует мнение о том, что, несмотря на декларирование права на доступ к Интернету, в частности в связи с Докладом специального докладчика по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение, представленным Совету по правам человека ООН, вряд ли это свидетельствует о международно-правовом признании данного права1. Довольно часто данное право рассматривается не более как в контексте информационно-цифровых услуг – с позиции обеспечения технического доступа к Интернету (в основном путем подключения к нему) и получения с помощью последнего (посредством его цифровых платформ) доступа к социально-экономическим благам. Речь идет об использовании интернет-связи при обращении в органы публичной власти (в том числе за судебной защитой). Такой подход во многом развивается в рамках цифровой экономики и реализации мероприятий, предусмотренных соответствующими программными документами2. В отдельных правопорядках гарантии реализации такого правопритязания как предоставляемой услуги могут подробно регламентироваться законодательством. Особенно это проявляется в том случае, если проблематика доступа к Интернету непосредственно определяется в качестве универсальной телекоммуникационной услуги3 и как неотъемлемая составляющая права на свободу слова и информации4, в связи с которым ключевое значение имеет принцип (ценность) сетевой нейтральности (net neutrality). Этот принцип служит критерием обеспечения содержательного аспекта права на Интернет, связанного со свободным доступом к содержащемуся во Всемирной сети контенту (без дискриминации Варламова Н.В. Цифровые права – новое поколение прав человека? См., например: Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утв. Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 4 июня 2019 г. № 7. 3 Согласно Директиве ЕС об универсальной услуге (2009/136/ЕС) каждый в ЕС должен иметь доступ к минимальному перечню электронно-коммуникационных услуг хорошего качества и по доступной цене, включая доступ к Интернету. 4 Соответствующая оценка доступа к Интернету соотносится с важной гарантией свободы самовыражения в современном мире, чему посвящен недавно созданный интернет-ресурс Совета Европы (см.: URL: https://www.coe.int/web/freedom-expression (дата обращения: 01.02.2022)). См. подробнее: Хуснутдинов А.И. Право на доступ в Интернет – новое право человека? // Сравнительное конституционное обозрение. 2017. № 4. С. 109–123; Талапина Э.В. Право на информацию в свете теории субъективного публичного права // Сравнительное конституционное обозрение. 2016. № 6 (115). С. 70–83. 1 2 53 в отношении сервисов и технологий, осуществляемых (применяемых) в рамках информационно-телекоммуникационного пространства)1. Принцип сетевой нейтральности как ключевая идея открытого Интернета получил закрепление в законодательстве ряда государств, а также распространен как стандарт, обес­ печиваемый вне- (надгосударственным) регулированием. Например, законом Бразилии о порядке использования Интернета предусмотрен раздел, посвященный сетевой нейтральности, в рамках которого установлены гарантии обычного режима его использования, основания и условия уменьшения объема и/или скорости интернет-трафика. Подробно регламентированный подход к обеспечению равного и недискриминационного доступа к Интернету и предоставлению соответствующего интернет-трафика применяется в законодательстве Европейского союза2. Сообразно этому признается, что «ограничение доступа к Интернету в качестве санкции является непропорциональным средством ограничения свободы выражения»3. В заключение подчеркнем, что при рассмотрении цифровой проблематики относительно определения содержания основных прав и свобод (перспектив их трансформации) вполне заметны концептуально и юридически обусловленные стремления к их переосмыслению. Это проявляется как в свете возможного режима их обеспечения и действия в цифровой среде, так и с точки зрения обозначения новых прав, требующих понятной корреляции со сложившимися (урегулированными) правами. При этом в условиях поиска юридически оптимальных подходов к опосредованию отношений в цифровой среде закономерны попытки выделения категории цифровых прав и свобод (при обозначении их каталога), равно как и различения публичной и частной правовых концепций таких прав. 1 Доклад специального докладчика по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение, представленный Совету по правам человека ООН. A/HRC/4/27, 2 января 2007 г. 2 См., например: Регламент № 2015/2120 Европейского парламента и Совета Европейского союза «Об установлении мер относительно открытого доступа в Интернет и изменении Директивы 2002/22/ЕС об универсальных услугах и правах пользователей в отношении сетей электронных коммуникаций и услуг и Регламента (ЕС) 531/2012 о роуминге общественных сетей мобильной связи в пределах Союза». 3 См. подробнее: Пазюк А. Доступ к интернету: право человека или универсальная услуга с точки зрения международного права. URL: https://digital.report/dostup-k-internetu (дата обращения: 01.02.2022). 54 § 3. ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ДЕМОКРАТИИ КАК ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОГО КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА 1. Информационно-цифровое развитие, несомненно, служит «главной движущей силой современных трансформаций»1, прежде всего в части социально-коммуникационного уклада. Между тем именно тенденции и процессы цифровизации объясняют обозначение явления так называемой информационной энтропии в настоящее время. В частности, согласимся, что «цифровизация способствует оперированию правовой информацией различного объема… позволяет стирать исторические, языковые, государственно-правовые и корпоративные границы в познании, исследовании и внедрении в практику достижений в правовой области»2. В связи с потребностью «активного участия конституционной юриспруденции в освоении и осмыслении информационно-цифрового пространства»3 очевидно важным является внимание к вопросам конституционализма, современный (иногда именуемый постмодернистским)4 этап которого закономерно соотносится исследователями с проблематикой цифровизации, связанной с этим «размыванием» принятой системы правовых координат5, для которых ключевую роль продолжают играть тексты национальных конституций и учредительных международных договоров. 1 Пашенцев Д.А. Базовые характеристики общества в цифровую эпоху // Право и закон в программируемом обществе (к 100-летию со дня рождения Даниела Белла): сборник научных статей / Отв. ред. В.В. Лазарев. М.: ИЗиСП, 2020. С. 198. 2 Невинский В.В. «Цифровые права» человека: сущность, система, значение // Конституционное и муниципальное право. 2019. № 10. С. 26–32. 3 Кравец И.А. Информационный и цифровой конституционализм и конституционные общественные инициативы в условиях российского правового пространства // Конституционное и муниципальное право. 2020. № 9. 4 Balkin M. Jack. What is a Postmodern Constitutionalism? (1992). Faculty Scholarship Series. Paper. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/7e36/4a0ee83cea5d7ec58da9a2635fac98f0c7d1.pdf (дата обращения: 01.02.2022). 5 Настоящее время (постмодерна) часто связывается с непринятием или отрицанием базовых правовых истин или существованием множества факторов и концепций права как такового. См.: Лазарев В.В. Толкование права: классика, модерн и постмодерн // Журнал российского права. 2016. № 8. 55 Между тем нередко обозначаемая тема «цифрового конститу­ ционализма»1 и вовсе рассматривается как своего рода ценностная идея, служащая обоснованию «цифровых» преобразований в праве, допускающая новую модель конституционного мышления и оценки конституционного развития. Заметим, что, несмотря на то что названная категория стала употребляться сначала неправовыми науками (а в рамках социологических исследований), в последнее время она получает все большее признание в правовом сообществе. При первом приближении содержание цифрового конституционализма в основном рассматривается в связи со следующими характеристиками правового развития2. Во-первых, акцент делается на современной, а не на прошлой социальной динамике (относимой во многом к фазе индустриального общества), когда исторически формировались идеи конституционализма, связанные с правовым определением устройства общества и государства на базе конституционных ценностей, озвученных в XVIII в., обусловленных прежде всего целями ограничения политической власти. Во-вторых, в рамках цифрового конституционализма (по сравнению с традиционной моделью конституционализма) в значительной мере меньше внимания уделено государственному и политическому в целом3. В-третьих, на первое место выходит необходимость гарантирования конституционных ценностей, значимых в цифровую эпоху (как персональные данные, информационное самоопределение). В-четвертых, в силу множественности акторов, участвующих в цифровом общении и нуждающихся в собственной социально-правовой идентификации, особое внимание получают идеи о процедурах определения конституционного равновесия (при установлении «противовесов воздействия» и гарантий положения субъектов цифровой среды)4. Приведенные выводы (характеристики), с одной стороны, не более чем предлагают возможный философско-методологический 1 См.: Gill L., Redeker D., Gasser U. Towards Digital Constitutionalism? Mapping Attempts to Craft an Internet Bill of Rights. URL: https://cyber.harvard.edu/node/99209; Gunther Teubner. Societal Constitutionalism: Alternatives to State-centred Constitutional Theory/ https://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id=876941 (дата обращения: 01.02.2022). 2 Грачева С.А. О конституционном развитии в условиях воздействия цифровой среды: новые вызовы или новые возможности? // Право и закон в программируемом обществе… С. 247. 3 Так, справедливо отмечается: «Постмодерну предписывают определенное освобождение человека от власти политических и экономических структур, которое пока еще не наступило. Возможно, что контуры такого освобождения мы видим в сетевом общении, в появлении виртуальных личностей из виртуального пространства». Пашенцев Д.А. Базовые характеристики общества в цифровую эпоху // Там же. С. 198. 4 Грачева С.А. См. там же. 56 взгляд на развитие (осмысление) современного конституционализма. Это по-своему отражает в общеправовом плане значение подхода (Д. Белла) в связи с обращением к идее постиндустриального общества – рассматриваемой «аналитической конструкцией, а не картиной специфического или конкретного общества», «некой парадигмой, социальной схемой, выявляющей новые оси социальной организации и стратификации в развитом западном обществе»1. С другой стороны, цифровой ракурс позволяет делать выводы и прогнозы относительно перспектив конституционализма, значение и роль которого в современном мире многомерны (и в этом смысле неоднозначны): как с позиции внимания к юридико-пространственному контексту его действия, так и с точки зрения функционального назначения и воздействия на систему общественных отношений. Отметим, что осмысление правовой методологии и средств регуляторного воздействия в конституционно-цифровом аспекте, очевидно, высвечивает вопросы динамики не только самого права, но и государства, обусловливающего направленность правового регулирования в условиях его «диджитализации». Примечательно, что сквозь призму темы цифрового конституционализма, как правило, проблематика взаимосвязи права и государства определяет особое внимание к последнему, что прослеживается в ряде направлений. Наиболее футуристическим можно полагать рассмотрение возможности трансформации модели государства в пользу переоценки сложившегося государственно-центрического вектора политикоправового развития, наиболее устойчиво воспринятого в философско-теоретической мысли и конституционно-правовой теории (State-Centered Constitutional Theory)2. Закономерно, что такие изменения иногда связываются с прогнозами о развитии «небюрократических форм организации» властных отношений, об устаревании пирамидальных моделей и иерархий, изменении оценок общественного выбора и выражения властно-управленческой воли. Такая динамика цифровых технологий и отношений вполне может актуализировать вопрос об источнике и субъекте конституционной власти, конституционных характеристиках публичной власти. 1 Цит. по: Лазарев В.В. Право и закон в системе осевых структур социального программирования // Право и закон в программируемом обществе (к 100-летию со дня рождения Даниела Белла): сборник научных статей / Отв. ред. В.В. Лазарев. М.: ИЗиСП, 2020. С. 33. 2 См.: Teubner G. Societal Constitutionalism: Alternatives to State-Centered Constitutional Theory? / Societal Constitutionalism: Alternatives to State-Centered Constitutional Theory? Constitutionalism and transnational governance, Christian Joerges, Inge-Johanne Sand and Gunther Teubner, eds., Oxford Press, p. 3–28, 2004, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=876941 (дата обращения: 01.02.2022). 57 Но чаще рассмотрение цифрового конституционализма связывается с комплексным взглядом на юридические концепты государственно-политического устройства, в связи с которыми, в частности, обсуждаются вопросы развития и осуществления политических прав, определения средств и стандартов управления и ограничений на осуществление власти в Интернете1. 2. Закономерно, что наиболее ярким и заметным проявлением перспективы динамики конституционализма как определенного конституционного (аксиологически детерминированного) порядка, универсализированного в связи с правовыми практиками многих государств и служащего критерием (показателем) цивилизованного государственно-правового развития, является проблематика «электронной демократии». В целом обеспечение становления и функционирования электронной демократии является одним из наиболее востребованных направлений регулирования вопросов цифровизации, учитывая то, что для современного конституционализма исходное «цементирующее» значение имеет концептуально-институциональная система его обеспечения, к которой принято относить концептуальные и институциональные элементы демократии. Среди них базовыми по-прежнему принимаются как конституционно-ограничительные гарантии (институты) применительно к публичной власти, так и конституционное установление каталога основных прав и свобод, обладающих юридическим верховенством и непосредственной применимостью. Преобладающим вопросом является регулирование электронно-цифровых форм опосредования электронной демократии с тем, чтобы обеспечить функционирование с учетом критериев оптимальности и эффективности, отвечающих основам и тенденциям развития современного конституционализма. Данное явление в общеправовом контексте развивается при разработке международных юридических стандартов его признания в части критериев и форм функционирования, отражающихся как на непосредственной, так и опосредованной (в том числе представительной) демократии. Тенденцией является разработка международных и региональных документов в соответствующей области, принимаемых 1 Gill L., Redeker D., Gasser U. Towards Digital Constitutionalism? Mapping Attempts to Craft an Internet Bill of Rights (November 9, 2015). Berkman Center Research Publication No. 2015-15/ Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2687120 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2687120 (дата обращения: 01.02.2022). 58 в рамках Совета Европы, как в случае резолюции «Электронная демократия: возможности и риски для местных (локальных) властей» 2009 г.1, рекомендации «О стандартах электронного голосования» 2017 г.2 Соответственно, активно прорабатываются подходы о внедрении практики электронной демократии, прежде всего, в части развития электронного голосования (когда идет речь об электронных выборах и референдумах) и форм электронного участия в регулировании и управлении (например, в связи с электронными петициями и правотворческими инициативами, электронными консультациями)3. Несомненно, знаковой тенденцией такой практики может являться развитие конституционносовещательной демократии посредством «выдвижения гражданских инициатив в сфере конституционного устройства, участия граждан в разработке конституционных проектов… с использованием информационных технологий»4. Таким образом, несомненна роль технологизации выполнения публично-властных функций и полномочий в формировании повестки современного конституционализма и ее отражение в проблематике развития электронной демократии. По меньшей мере согласимся, что «в силу определяемых человеком программных установок цифровизация может способствовать качественному и оперативному проведению некоторых юридико-технических действий… аналитических действий относительно сущности, предмета, методов, системы, источников и иных параметров права, в том числе конституционного права и его отдельных институтов»5. Однако стоит отметить и то, что не всегда и не во всем цифровое обеспечение публичной власти позволяет или требует просматривать названную повестку. Более того, тема цифрового конституционализма иногда скорее обозначается как дань (или даже «отголосок») некой общей тенденции и закономерности политико-правового развития 1 E-democracy: opportunities and risks for local authorities. Corapporteurs: A. Cook, United Kingdom (L, EPP/CD) and E. Van Vaerenbergh, Belgium (L, ILDG)/ Резолюция Конгресса местных и региональных властей СЕ (Resolution 290 (2009)). URL: https://search.coe.int/congress/Pages/ result_details.aspx?ObjectId=0900001680718f9c (дата обращения: 01.02.2022)). 2 Recommendation CM/Rec(2017)51 of the Committee of Ministers to member States on standards for e-voting/ 0900001680726f6f (coe.int). 3 E-democracy Handbook. European Committee on Democracy and Governance (CDDG). Strasbourg, 27 August 2020. CDDG (2020)6. URL: https://rm.coe.int/11th-cddg-session-10-11september-2020-e-democracy-handbook/16809f5a72 (дата обращения: 01.02.2022). 4 Конституция и права человека: современная доктрина и практика: монография / Под ред. Т.А. Васильевой, Н.В. Варламовой. М.: ИГП РАН, 2021. С. 68. 5 Невинский В.В. «Цифровые права» человека: сущность, система, значение // Конституционное и муниципальное право. 2019. № 10. С. 26–32. 59 в связи с установлением системы цифровой коммуникации общества и государства прежде всего посредством различных электронных сервисов, инструментов цифровой экономики. Соответственно, в числе «принципиальных подходов» к цифровизации государственно-правовой сферы – инструментально-технологический, при котором «цифровизация – это использование законодательной, исполнительной и судебной властью информационно-коммуникационных технологий, а также новый способ взаимодействия органов власти и населения»1. Очевидно, это получает неодинаковое обеспечение в правовом регулировании государств и часто реализуется в рамках проработки специальной доктрины цифрового (электронного) государства (что, однако, вряд ли можно сочетать в полной мере с электронной демократией). В отдельных государствах встречается комплексное законодательное оформление последнего, также предполагающее проработку базовых правовых идей развития концепции цифрового государства, в связи с чем, например, нередко приводится французский опыт специального регулирования в данном отношении2. Обращаясь к российскому опыту, в основном рассматривается несколько юридических аспектов обеспечения цифровизации публичной власти. Во-первых, цифровизация в целом задана экономически ориентированными правовыми актами (в частности, программой «Цифровая экономика»), что образует повестку современного реформирования публично-властных органов с точки зрения технических способов предоставления ими государственных услуг. Во-вторых, в основном цифровизация с учетом сложившихся моделей развития публичной власти, предполагается, связанной требованиями «типичного» целеполагания (при проведении административной реформы) – усиления доступности, повышения доверия, обеспечения транспарентности (прежде всего, при документообороте). В-третьих, процесс цифровизации важно определять с позиции унификации критериев развития информационных систем (например, при обороте соответствующих данных), используемых при осуществлении различных публично-властных функций, что в немалой степени 1 Цит. по: Дорская А.А. Трансформация права в условиях цифровизации общественных отношений: кризисные явления и новые возможности // Трансформация и цифровизация правового регулирования общественных отношений в современных реалиях и условиях пандемии: коллективная монография / Под ред. И.В. Воронцовой. Казань: Отечество, 2020. С. 11–12. 2 См. подробнее: Пилипенко А.Е. Франция: к цифровой демократии // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2019. № 4. С. 185–207. 60 определяет предметную направленность современного информационного права. На этой основе в Российской Федерации также складывается тенденция по развитию и обеспечению доктрины электронного государства, между тем пока происходит формирование комплексного видения данного явления, в основном получающего прямое закрепление в программных документах, а также при обеспечении внедрения электронных форм функционирования публичной власти (как в случае «электронного правительства»1, «электронного правосудия», равно как и при «цифровизации законодательных (представительных) органов власти»), в связи с чем обсуждаются вероятные риски появления технократической бюрократии. В целом опосредование цифровизации публичной власти в юридическом ракурсе позволяет в большей мере делать акцент на рассмотрении ее как важного направления цифровизации и «приобретаемых» в рамках данного процесса технических средств социально-политического воздействия на общественные отношения, их регулирование и управление. Вместе с тем комплексного внимания отечественной доктрины к возможностям использования ресурсов Интернета для усиления в рамках правового регулирования технико-управленческой составляющей функционирования органов публичной власти (с момента их формирования, избирательного процесса до принятия публично-властных решений) по-прежнему можно считать недостаточным, что связано во многом со следующими обстоятельствами. Согласимся, что доктрина цифрового государства должна предполагать его рассмотрение как отвечающий «современным вызовам способ организации государственной власти, в основе которого лежит использование информационно-коммуникационных технологий»2. При этом также важно, в какой мере происходит развитие демократических основ публичной власти в рамках развития электронного государства, заключающей в себе существенную сторону проблемы 1 Как замечается в литературе, понимание электронного правительства в зарубежной правовой доктрине различается: для правовой доктрины стран континентальной Европы характерен узкий подход, согласно которому электронным правительством является использование информационных и коммуникационных технологий исполнительными органами государственной власти для оказания государственных услуг гражданам; для правовой доктрины стран общего права характерен широкий подход к пониманию электронного правительства, в соответствии с которым под электронным правительством следует понимать трансформацию организационных основ аппарата государства. См.: Данилов Н.А. Правовое регулирование электронного правительства в зарубежных странах: дис. ... канд. юрид. наук по специальности 12.00.01 – теория и история права и государства; история учений о праве и государстве. М.: ВШЭ, 2013. 2 Дорская А.А. Трансформация права в условиях цифровизации общественных отношений: кризисные явления и новые возможности. 61 электронной демократии. Очевидно, для более целостного представления о «демократии» в электронном виде требуется установление правовых условий обеспечения цифрового взаимодействия (при обес­ печении прямой и обратной взаимосвязи) государства, институтов гражданского общества, бизнес-сообщества, отдельных лиц на протяжении всего цикла формирования и функционирования институтов непосредственной и опосредованной демократии. В действительности речь может идти о постепенном признании необходимости цифрового взаимодействия частью механизма осуществления публично-властных функций на основе принципов демократического регулирования и управления, что, очевидно, не исчерпывается обеспечением открытости и доступности информации о деятельности органов публичной власти, развитием государственных цифровых услуг. Отражение в повестке развития электронного государства вопросов о конституционализме, прежде всего, могло бы требовать внимания к обеспечению политико-управленческих гарантий положения личности в этом деле. В числе направлений проработки таких гарантий в части онлайн-формы опосредованной демократии – связанных с повышением качества внимания и обработки позиций (общественных и индивидуальных) в рамках решения вопроса органами власти (посредством информирования, консультирования, обращения, дебатов, публичных слушаний и т.д.) или с реализацией электронной непосредственной демократии с точки зрения обеспечения конституционных принципов проведения, в частности, в случае выборов, референдума. Примечательно внимание к тому, в какой мере цифровые изменения могут обусловливать возникновение рисков исходной аксиологической основы и целеполагания при функционировании механизма осуществления власти, в том числе с учетом подходов к вопросу ее разделения. По меньшей мере, возможно понимание «разделения властей» в технолого-технократическом ключе: как обусловливающее дифференцированный подход к электронно-цифровым формам функционирования ветвей государственной власти в зависимости от их функций и способов организации1. 1 Обостряется вопрос при обозначении проблемы субъектного состава конституционноправовых отношений в целом и субъекта конституционной власти в частности. Так, справедлива следующая постановка вопроса: «при разработке проекта закона, проекта конституции кто будет выступать субъектом, если указанный проект предлагается не народом, группой лиц, собравших установленное количество подписей посредством использования информационнокоммуникационных технологий, а специальной программой, составленной определенным разработчиком?». Масловская Т.С. Цифровая сфера и конституционное право: грани взаимодействия // Конституционное и муниципальное право. 2019. № 9. 62 Важно внимание и к перспективе обеспечения (внедрения) технологий электронного управления и принятия политико-правовых решений1. 3. Несмотря на преимущественно технолого-прикладные вопросы электронной демократии, равно как и концептуальные условия обеспечения с помощью ее инструментария устойчивого политикоправового развития государства, восприятие данной идеи вполне может быть и шире, учитывая, прежде всего, фактор трансграничной природы интернет-платформ и информации в сети Интернет. Справедливо подчеркивается, что информация, распространяемая посредством сети Интернет, размещается на сайтах, ресурсы которых, как правило, технически и технологически объективно доступны неопределенному кругу лиц2. В связи с этим не исключено, что электронная демократия может восприниматься с позиции проявления цифрового конституционализма, ориентированного на универсальные правовые оценки и формулы развития правоотношений применительно к цифровой среде. При этом учитывается перспективная юридическая ценность (с позиции юридической защиты) распространения любой информации, независимо от места и способа ее производства, передачи и распространения, включая сведения, размещаемые (передаваемые, распространяемые) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет3. В свою очередь, это активно поддерживается концептами доступности (открытости) Интернета, сетевой нейтральности и другими, в целом обеспечивающими юридические условия тенденции цифровой глобализации, что открывает «окно возможностей» преобразований, но не только в сторону вектора на ультрасвободу в сфере цифровой коммуникации4. 1 Риски особенно видятся в том, что «процесс принятия решений вплоть до своей финальной точки стремительно выносится куда-то вовне – в сети, распределенные сервера, облака данных и прочую виртуальность, новым явлениям которой мы и названия-то едва успеваем придумывать». Каспэ С.И. Выступление на Тридцать первых Губернаторских чтениях «Цифровая экономика и искусственный интеллект: состояние и вызовы». Тюмень. 5 декабря 2017 г. URL: http://politeia.ru/content/ gubernatorskie-chtenija/tridcat-pervye-gubernatorskie-chtenija/ (дата обращения: 01.02.2022). 2 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 18-П. 3 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 26 октября 2017 г. № 25-П. 4 В рамках доклада – информационного отчета «Создание и продвижение цифрового суверенитета: национальная и европейская юрисдикция» (представлен Национальному собранию Франции, № 4299) обозначалось следующее: технологическая революция, очевидно, не может пощадить государства, которые исторически создавались как монопольные регуляторы жизни в обществе и определяют свою власть, то есть свой суверенитет, как осуществление автономной нормативной власти над населением на данной ограниченной территории. URL: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/souvnum/l15b4299-t1_rapport-information#_ Toc256000006 (дата обращения: 01.02.2022). 63 Это по-своему отражается на процессе международно-правового измерения цифровизации (наиболее одиозной идеей можно рассматривать развитие мирового сообщества неограниченных информационных возможностей). Так, заметно «признание международниками необходимости формирования, развития и внедрения глобальной культуры кибербезопасности в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами и компетентными международными организациями»1. Примечательно, что в Докладе специального докладчика по вопросу о свободе мнений и их свободном выражении, представленном Совету по правам человека ООН, обозначено, что одним из приоритетных направлений деятельности Организации Объединенных Наций и всего международного сообщества является создание межправительственного органа, который будет управлять Интернетом на основе четкого правозащитного подхода2. Наиболее «чувствительно» такая тенденция воспринимается с позиции национальных систем публично-правового управления и регулирования, для которых риск заключается не только в таком общем проявлении, что «невозможно установить верховенство российского права на «виртуальной территории»3, но и в более конкретных вопросах функционирования, например, учитывая хотя бы то, что идея целеполагания (сущностных аспектов) разделения властей также не исключается как возможная к трансформации. В связи с этим могут обнаружиться обратные («ответные») тенденции, связанные с необходимостью учета и сдерживания регуляторных границ и правовых юрисдикций. В частности, все больше внимания в национальном праве уделяется проблеме обеспечения «суверенного Интернета», с чем связано принятие юридических актов, предметом которых в той или иной 1 См.: Право и закон в программируемом обществе (к 100-летию со дня рождения Даниела Белла): сборник научных статей / Отв. ред. В.В. Лазарев. М.: ИЗиСП, 2020. С. 22. 2 Доклад специального докладчика по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение, № A/HRC/4/27 от 2 января 2007 г. При этом, как отмечено выше, наиболее четко и последовательно такой правозащитный подход отражается в вопросах развития «стойкой инфраструктуры, содействия всеохватной и устойчивой индустриализации и инноваций» при «существенном расширении доступа к информационно-коммуникационным технологиям и стремлении к обеспечению всеобщего и недорого доступа к интернету в наименее развитых странах». См.: Резолюция ГА ООН, от 25 сентября 2015 № Л/ЯБ8/70/1. Также см.: Стратегия Генерального секретаря в отношении новых технологий. 2018. URL: https://www.un.org/en/newtechnologies/images/pdf/SGs-Strategy-on-NewTechnologies-RU.pdf (дата обращения: 01.02.2022). 3 Волков В.Э. Конституционные ценности в информационном обществе: пространство и время // Юридический вестник Самарского университета. 2018. № 4. С. 13–17. 64 степени становились вопросы возможностей (путей) «обособления» информационно-коммуникационной взаимосвязи в цифровой среде в связи с основаниями и границами, предполагаемыми национальной правовой юрисдикцией. Центральным документом в этом свете является Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 90-ФЗ1, принятый в рамках разработки защитных мер для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети Интернет в России, повышения надежности работы российских интернет-ресурсов (как отмечено в пояснительной записке). Данный закон направлен на определение необходимых правил маршрутизации трафика, организацию контроля их соблюдения, создание возможности для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи, а также установление порядка централизованного реагирования на угрозы работоспособности сети Интернет и сети связи общего пользования. Во исполнение данного закона принимаются подзаконные акты, например Правительством РФ установлено положение о проведении учений с целью повышения информационной безопасности, целостности и устойчивости функционирования единой сети электросвязи Российской Федерации2. Другим знаковым актом является Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 242-ФЗ, посвященный вопросам локализации баз персональных данных российских граждан на территории России. Так, законопроектом предлагается вменить в обязанность оператора обеспечение записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения персональных данных граждан Российской Федерации в базах данных информации, расположенных на территории Российской Федерации, а также указание сведений о месте расположения таких баз данных3. Также с точки зрения изменения правового режима деятельности иностранных интернет-компаний особое внимание получил 1 Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (получивший неофициальное название – закон «О суверенном интернете»). 2 Постановление Правительства РФ от 12 октября 2019 г. № 1316 «Об утверждении Положения о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сети связи общего пользования». 3 О практике применения закона см.: Краткий FAQ о Федеральном законе № 242-ФЗ. URL: https://habr.com/ru/company/cloud4y/blog/338882/ (дата обращения: 01.02.2022); Особенности применения закона о локализации персональных данных на практике: рекомендации для бизнеса. URL: https://www.garant.ru/article/748180/ (дата обращения: 01.02.2022). 65 Федеральный закон от 1 июля 2021 г. № 236-ФЗ1, определивший процедуру оформления официального присутствия зарубежных компаний, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, затрагивающую интересы российских граждан. Это связано с введением обязанности соответствующих владельцев информационных ресурсов по созданию филиалов, открытию представительства, учреждению российских юридических лиц, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России2. В результате речь также идет о возможности и риске переоценки (и даже «частичной отмены») ключевого юридического стандарта функционирования интернет-коммуникации – сетевой нейтральности3. В этом свете справедливо обостряется внимание к «другому направлению в современной российской юриспруденции», при котором «критический рационализм сочетается с обоснованными сомнениями в том, что Россия останется открытой для мирового информационного пространства, а граждане не будут ограничены в возможностях использования интернет-ресурсов, программ и сайтов»4. Подчеркнем, что в связи с интернет-вызовами проблематика цифрового суверенитета5 получает освоение в различных правопорядках, при этом с разной степенью наполнения и осмысления. Например, в рамках получившего известность одноименного доклада во Франции закономерно немаловажное внимание было отведено следующим вопросам: каким образом понятие суверенитета как политическая или философская концепция, по своему происхождению и природе никак не связанная с идеями цифровизации, 1 Федеральный закон от 1 июля 2021 г. № 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации». 2 «Закон об интернет-заложниках»: чем новая инициатива депутатов грозит зарубежным и российским ИТ-компаниям. URL: https://www.forbes.ru/tehnologii/430049-zakon-ob-internetzalozhnikah-chem-novaya-iniciativa-deputatov-grozit-zarubezhnym (дата обращения: 01.02.2022). 3 См.: Интервью с М. Демином «О частичной отмене сетевой нейтральности речь идет уже сегодня». URL: https://www.kommersant.ru/doc/3954857 (дата обращения: 01.02.2022). 4 Кравец И.А. Информационный и цифровой конституционализм и конституционные общественные инициативы в условиях российского правового пространства // Конституционное и муниципальное право. 2020. № 9. С. 9–15. 5 Согласимся, что цифровой суверенитет – это, прежде всего, сильное политическое стремление к достижению стратегической автономии конкретной рассматриваемой политико-правовой единицы в отношении цифрового оборудования и технологий. См.: Информационный отчет «Создание и продвижение цифрового суверенитета: национальная и европейская юрисдикция». Представлен Национальному собранию Франции, № 4299. 2021. URL: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/ souvnum/l15b4299-t1_rapport-information#_Toc256000008 (дата обращения: 01.02.2022). 66 может применяться к цифровой сфере (иными словами, каким образом должен утверждаться цифровой суверенитет: путем отказа от классического национального политического суверенитета и границ государств либо посредством сосуществования с ними)? Могут ли концепции и практики национального суверенитета гармонизировать с планетарными системами циркуляции цифровых данных, которые, похоже, ведут к моральному устареванию принципа территориальности?1 Примечательно, что в названном докладе сделан вывод, что вопрос о цифровом суверенитете следует рассматривать не столько с точки зрения «прибылей» и «потерь», сколько с точки зрения перераспределения силы действий государственных и частных субъектов в цифровом и физическом пространстве2. Поэтому в этом вопросе важно «сбалансировать положение вещей» между многочисленными вкладами цифровых технологий, необходимостью найти новые удовлетворительные балансы в цифровой сфере, где правила работы другие, а также запретами и задачами, которые государство должно в обязательном порядке сохранять за собой, в частности компетенцию защищать национальные интересы и основные права граждан3. По крайней мере, этим в определенной части обеспечивается учет того, что «по целевому предназначению конституционализм в информационной и цифровой среде уже не сосредоточен исключительно на поддержании ограниченных сфер государственного регулирования, ограниченного правления в классическом варианте либерально-демократического подхода»4. Интересен опыт по содействию Российской Федерацией приданию международно-правового статуса рассматриваемой проблематики. Так, к настоящему времени разработан проект Конвенции по кибербезопасности, в рамках которого отдельное внимание уделено 1 Информационный отчет «Создание и продвижение цифрового суверенитета: национальная и европейская юрисдикция». Представлен Национальному собранию Франции, № 4299. 2021. См. также: Пилипенко А.Е. Франция: к цифровой демократии // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2019. № 4. С. 192–193. 2 Там же. 3 Материалы Глобальной встречи заинтересованных сторон по вопросам будущего управления интернетом (Global-MultistakeholderMeetingontheFutureofInternet-Governance) «NETMundial 2014». URL: https://www.icann.org/ru/blogs/details/panel-on-global-internet-cooperationand-governance-mechanisms-builds-on-netmundial-momentum-21-5-2014-ru (дата обращения: 01.02.2022); Информационный отчет «Создание и продвижение цифрового суверенитета: национальная и европейская юрисдикция». 4 Кравец И.А. Информационный и цифровой конституционализм и конституционные общественные инициативы в условиях российского правового пространства // Конституционное и муниципальное право. 2020. № 9. С. 9–15. 67 положению о суверенитете государства. В рамках преамбулы проекта Конвенции предложено указать, что каждое государство обладает суверенитетом и осуществляет юрисдикцию в отношении информационного пространства в пределах своей территории в соответствии со своим внутренним правом1. Между тем внимание к теме суверенного Интернета, в основном продолжающей идею суверенитета государства2, побуждает необходимость осмысления (возможно, переосмысления) других ипостасей суверенитета как конституционно-правовой проблематики. Так, требуется также внимание к суверенитету личности (т.е. его правового положения как первичной конституционной ценности) и суверенитету народа (как источнику власти в Российской Федерации) в связи с их проявлением и обеспечением в цифровой среде, определению соответствующих им ценностей и благ, требующих повышенной (конституционной) правовой защиты. Таким образом, две вышеприведенные (малосвязанные на первый взгляд) проблематики являются значимыми для вектора современного конституционализма, поскольку одинаково способны определять и трансформировать его основу, особенно если под конституционализмом понимать режим обеспечения юридически признанных и получивших конституционализацию ценностей. Во-первых, речь идет о риске «размывания» (возможно, подмены) принятого аксиологического стандарта каталогом ценностей, значение которых обусловлено прежде всего технологическим фактором. В этом отношении особенно важно сочетание интересов в контексте личности – общества – государства при построении «электронной демократии». Во-вторых, специального внимания заслуживает проблема суверенитета применительно к цифровой среде как с учетом ее трансграничной информационной основы, которая принимается как естественная и во многом обусловливающая признание основным права на доступ к Интернету, так и с позиции определенных вызовов в аспекте сложившихся отношений национального и международного права. И это тоже определенный ракурс электронной 1 См.: Россия внесла в ООН первый проект конвенции о противодействии киберпреступности. URL: https://lenta.ru/news/2021/07/27/cyber_project/ (дата обращения: 01.02.2022); Синдром киберответственности // Коммерсантъ. 30.07.2021. № 133 (7095) (kommersant.ru). 2 См.: Бондарь Н.С. Информационно-цифровое пространство в конституционном измерении: из практики Конституционного Суда Российской Федерации // Журнал российского права. 2019. № 11. С. 25–42; Кравец И.А. Информационный и цифровой конституционализм и конституционные общественные инициативы в условиях российского правового пространства. 68 демократии: с данной стороны она рассматривается в свете рисков перспективы глобального управления и регулирования или с позиции вызовов, обозначаемых привычному пониманию и границам осуществления публичной власти. 4. Довольно продуктивно обратиться к собственно конституционно-регуляторной повестке, позволяющей свидетельствовать о направленности внимания к явлению цифрового конституционализма. Поскольку содержание последнего только получает осмысление (как и ключевые идеи положения личности в цифровой среде), стоит подчеркнуть роль вектора конституционализации цифровой проблематики, происходящей, прежде всего, на первичном нормативном уровне, в текстах национальных конституций. Можно обозначить несколько возможных конституционных моделей обеспечения названного вектора. Во-первых, речь идет о конституционной позитивации технологических вызовов как конституционно значимых, равно как и об установлении приоритетных для защиты правовых ценностей, прав и законных интересов в связи с ними. В-вторых, возможно распространение конституционного регулирования (его основных принципов, подходов) на правоотношения, обусловленные и происходящие в цифровой среде, что преимущественно связано с принятием одинакового действия конституционных норм о правовом статусе личности в онлайн- и офлайн-среде. В-третьих, допускается конституционное признание специфики сферы прав и свобод в цифровой среде, что может быть выражено в «обновлении» конституционной трактовки основных прав применительно к цифровой среде, в том числе при признании новых так называемых цифровых прав (соответствующего их опо­ средования на конституционном уровне). До поправок Конституции РФ 2020 г.1 как возможно проектируемые звучали преимущественно варианты конституционализации цифровой проблематики, касающиеся собственно конституционно-правового положения личности, которые условно можно разграничить на распространительный и легитимирующий подходы. В основе первого подхода могли быть причины как непризнания новизны для конституционного регулирования названной проблематики при экстраполировании конституционных гарантий на правоотношения в связи с цифровой средой («по умолчанию»), 1 Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». 69 так и признания такой специфики при одновременном нежелании множить новые «конституционные сущности» с учетом принятия неизменности концептуальных подходов, наиболее полно и системно просматриваемых не только в конституционном тексте, но и в доктрине. В связи с последним, в частности, звучало предложение о дополнении конституционных норм о некоторых правах положениями о технолого-цифровых платформах (в том числе интернет-сетях) как о средстве осуществления таких прав, например в случае права на обращение в органы государственной власти через Интернет1. Между тем много обсуждалось и о развитии конституционного каталога основных прав, вплоть до признания своего рода «билля цифровых прав»2. Это объяснялось по меньшей мере тем, что нормативное закрепление конституционных прав изначально детерминировалось только условиями необходимости регулирования отношений в обычной физической среде с соответствующей системой общественных координат и социального уклада3. Обусловливаемая технологиями потребность «расширения конституционной среды» (для ее распространения на цифровые отношения) связывалась и с «постмодернистским» переосмыслением сложившихся ценностей и норм права, имплицитно обозначающим проблему достаточности конституционных средств воздействия в свете потребности регулирования, гарантирования конституционно значимого вектора развития права. В рамках конституционной реформы 2020 г. законодатель пошел по пути, во-первых, признания применимости информационных технологий, оборота цифровых данных в качестве конституционно значимого блага; во-вторых, указания на необходимость обеспечения безопасности личности, общества и государства при «применении информационных технологий», «обороте цифровых данных» как конституционной обязанности, относящейся к ведению Российской Федерации (п. «м» ст. 71 Конституции РФ). Тем самым конституционно актуализируется (принимается) значение цифровой проблематики, равно как предлагается идти по пути 1 См., например: Федотов М.А. Конституционные ответы на вызовы киберпространства // Lex russica. 2016. № 3. С. 164–182. 2 См.: Шахрай С.М. Цифровая конституция: основные права и свободы личности в тотально информационном обществе // Вестник Российской академии наук. 2018. № 12. С. 1075–1082. 3 Стоит признать, что разработчики конституционного текста (начала 1990-х гг.) не могли учитывать стремительное развитие информационных технологий, современные скорости передачи информации, обусловившие обеспечение «всеобщего» доступа к ней. 70 определения баланса интересов основных участников (субъектов) конституционно-правового общения, что являет собой определенную закономерность конституционно-правового развития. Согласимся с тем, что «предоставление практически всех видов услуг посредством сети Интернет уже давно стало реальностью… [п]оэтому наряду с обороной и безопасностью в ст. 71 Конституции РФ теперь включены вопросы обеспечения безопасности личности, общества и государства при применении цифровых технологий, обороте цифровых данных»1. Отсутствие такого внимания к проблематике (признания на конституционном уровне) может, в свою очередь, усиливать вероятность возникновения угроз конституционному регулированию в целом – его соответствию как аксиологического стандарта правового регулирования современным условиям развития общественных отношений, определяемых возможностями цифровой среды. Важно и то, что названный вектор конституционного регулирования проявил себя в большей мере с позиции проблематики публичной власти и акцента на ней (ее регулятивных возможностях и рисках) в рамках обеспечения цифрового конституционализма в настоящее время. Так, предусмотренное регулирование обозначает вызовы безопасности не только в аспекте правового положения личности, а в отношении всех ключевых (известных) субъектов конституционноправового общения – личности, общества, государства, предположительно требуя согласования их взаимных прав и обязанностей. Стоит учесть и способ закрепления соответствующих вопросов – применительно к сфере исключительного ведения Российской Федерации (в свете вопросов «обеспечения безопасности», что касается во многом развития регулирования электронной демократии). Несомненно, что объективные изменения в социально-гуманитарной сфере требуют отражения (оценки) прежде всего с позиции конституционного текста с целью избежания «конституционной аномии, когда граждане воспринимают существующие конституционные рамки как устаревшие и они более не рассматриваются как руководящие принципы»2. Между тем очевидно и то, что любые проявления конституционной динамики (в том числе цифровые) должны быть 1 Хабриева Т.Я., Клишас А.А. Тематический комментарий к Закону Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». М.: Норма; ИНФРА-М, 2020. 2 Celeste Ed. The Irish Constitution and the Challenges of the Digital Age. Is it Time for a Bunreacht na hEireann 2.0? URL: https://ulsites.ul.ie/law/papers-constitution-80-conference (дата обращения: 01.02.2022). 71 сбалансированы и в конечном счете ориентированы на идею обеспечения стабильности и поступательности конституционного процесса в целом1. Соответственно, по-прежнему требуется внимание к базовым правовым подходам к соотношению требующих баланса (согласования) частных и публичных интересов, равно как и учета особого значения основных характеристик правового положения личности (конституционно провозглашаемой «высшей ценностью»). Стоит подчеркнуть, что Конституционный Суд РФ стал включать рассматриваемое конституционное нововведение прежде всего в аспекте идеи безопасности личности. Так, в недавнем его постановлении отмечено: «Обеспечение безопасности личности при применении информационных технологий, обороте цифровых данных относится к предметам ведения Российской Федерации, по которым принимаются федеральные конституционные и федеральные законы. При этом осуществление лицом конституционных прав и свобод имеет своим объективным пределом реализацию прав и свобод другими лицами и гарантируется правом каждого на судебную защиту»2. Наряду с этим в конституционно-правовой доктрине и практике все более просматриваемой становится идентификация статуса новых субъектов правового общения, развивающих социально-экономические взаимосвязи только в пределах цифрового пространства (так называемые виртуальные личности и структуры, природа интересов которых зачастую определяется недостаточно), что, в свою очередь, может влечь проблему цифрового равенства, возможности злоупотребления в связи с этим3. В целом, обращаясь к конституционному обеспечению проблемы электронной демократии, как было приведено выше, последняя видится многоплановой. Ее значение в цифровых условиях состоит не только в повышении уровня «обслуживания» своих задач (с чем связаны ожидания по развитию цифровых сервисов и платформ), но также в обеспечении конституционных координат развития, определяющих целостность политико-правового функционирования, что по меньшей мере требует предупреждения утраты внимания к ключевым (конституционным) принципам организации государственного механизма управления и регулирования. 1 См.: Хабриева Т.Я., Андриченко Л.В. Конституционные реформы на постсоветском пространстве: тенденции развития // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2017. № 3. 2 Постановление Конституционного Суда РФ от 25 мая 2021 г. № 22-П. 3 См. подробнее, например: Бондарь Н.С. Информационно-цифровое пространство в конституционном измерении: из практики Конституционного Суда Российской Федерации // Журнал российского права. 2019. № 11. С. 25–42. 72 Наиболее заметные (обсуждаемые) соответствующие вызовы для публичной власти проявляются в отношении правосудия. Прежде всего, активно обсуждается форма устройства и процессуальной организации правосудия при комплексном внедрении в решение его задач цифровых технологий, в связи с чем закономерна постановка вопроса о концепции электронной демократии и ее соотнесении с конституционными принципами организации публичной власти. Подчеркнем, что правосудие наиболее среди других ветвей (органов) государственной властной деятельности приближено к разрешению конкретных вопросов жизнедеятельности в связи с возникающими спорами и конфликтами, соответственно любые преобразования касательно вектора технологизации, охватывающие его демократические основы и принципы функционирования, «чувствительно» сказываются на разрешении юридических дел, положении участников спорных правоотношений. Развитие цифрового правосудия в связи с переходом большей части коммуникаций по вопросам судебной деятельности (реализации процессуальных прав) в цифровую среду, в том числе обусловившее тенденцию «расширения дистанционного взаимодействия граждан и организаций с судом на всех этапах судопроизводства»1, вполне побуждает постановку вопроса о существе права на судебную защиту и доступа к суду с точки зрения преимуществ и рисков его «электронной» трансформации (когда происходит определенная корректировка способов обеспечения принципов непосредственности, гласности, состязательности правосудия). В конечном счете знаковым остается вопрос о надежности такого «цифрового посредничества» (в том числе по электронному документообороту, формированию электронного дела, проведению судебного разбирательства посредством онлайн-платформ, получению соответствующим способом судебного решения) в свете потребности в качественном правосудии2, эффективности судебной системы и осуществления судебной власти, 1 См., например: Выступление председателя Совета судей Российской Федерации В.В. Момотова на заседании Клуба имени Д.Н. Замятнина по теме: «Электронное правосудие в Российской Федерации: миф или реальность». URL: http://www.ssrf.ru/news/vystuplieniia-intierviu-publikatsii/42272 (дата обращения: 01.02.2022). 2 Такое правосудие вполне сочетается с целью «обеспечения каждому заинтересованному лицу реальной возможности в случае возникновения спора... защитить свои права, свободы или охраняемые законом интересы в суде, т.е. реализовать свое право на судебную защиту,…которое включает в себя право на беспрепятственное, без каких-либо ограничений, обращение в суд, на справедливое рассмотрение его дела в разумный срок беспристрастным, независимым и законным составом суда, а также на исполнение судебного решения, вступившего в законную силу». Жуйков В.М. Судебная реформа: проблемы доступа к правосудию. М.: Статут, 2006. 73 чему призваны служить конституционно установленные принципы в соответствующей сфере, гарантии их обеспечения1. Стоит также отметить, что развитие конституционных представлений об устройстве электронной демократии, в том числе на примере правосудия, позволяет задаться вопросом о проблеме уровней его регулирования и реформирования. Согласимся, что тенденцией стала централизация регулирования вопросов электронного правосудия2, что прослеживается и в поправках к Конституции РФ 2020 г., поскольку проблематика информационных технологий в основном отнесена к предметам исключительного ведения Российской Федерации. Подводя итог, согласимся, что именно в связи с названным «многослойным» контекстом конституционализма (а не собственно технократическим) в настоящее время «современная характеристика демократии с прилагательным «цифровая» переходит из области умозрительных заключений в предмет правового регулирования»3. При этом определенную разновекторность обусловливает и сложившийся философско-методологический взгляд на конституционноправовое развитие в настоящее время, что также находит поддержку и воплощение в правовом регулировании. Между тем по-прежнему ключевым ориентиром в принятии тех или иных юридических оценок в рассматриваемой области является их связь с решением вопроса цифровой идентификации личности, ее соответствующего правового отражения (в регулировании), очевидно, воплощающего специфику традиций, подходов 1 Согласимся, что перспективным является вопрос «не просто об использовании информационных технологий в судебной деятельности или об электронном правосудии, а о качественно новом этапе информатизации – о цифровизации» (см.: Гриценко Е.В., Ялунер Ю.А. Право на судебную защиту и доступ к суду в условиях информатизации и цифровизации: значение опыта стран общего права для России). В данном случае особое значение приобретает внимание к использованию технологии искусственного интеллекта в судебно-производственной деятельности. В связи с постепенным распространением данной идеи в мировой правовой практике принимаются стандарты такого использования, как, в частности, Европейская этическая хартия об использовании искусственного интеллекта в судебных системах и окружающих их реалиях (принята на 31-м пленарном заседании Европейской комиссии по эффективности правосудия. Страсбург, 3–4 декабря 2018 г.). В рамках «стандартов», с одной стороны, сделан акцент на необходимости уважения основополагающих прав и идеи контроля пользователем (в связи с выступлением им в роли информированного лица, ответственного за свой выбор) и, с другой стороны, обозначена потребность в развитии безопасной технологической среды, что в целом предъявляет к судебной системе высокие требования при обращении к таким технологиям, безотносительно к проблематике процессуальных стадий применения таких технологий. 2 См.: Гриценко Е.В., Ялунер Ю.А. Право на судебную защиту и доступ к суду в условиях информатизации и цифровизации: значение опыта стран общего права для России. 3 Пилипенко А.Е. Франция: к цифровой демократии // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2019. № 4. С. 190. 74 социально-культурных пространств. В то же время проблематика статуса личности – в измерении цифрового конституционализма – хотя и обращает к классической схеме рассмотрения конституционных процессов и их аксиологического контекста, но не является единственной приоритетной, при этом все чаще актуализируется «вопрос о гармонизации интересов государства и человека в информационно-телекоммуникационной среде»1. Собственно ракурс публичной власти как субъекта цифровизации, обладающего определенными координатами функционирования (с учетом конституционно обусловленных ценностей, целей, интересов), требует его рассмотрения в сочетании с рядом знаковых категорий и концептов, детерминирующих современное развитие юридико-управленческого мышления, как, например, социальная информатика и информационная безопасность, цифровая открытость публичной власти, доступность цифровых сервисов как опосредующих проблематику эффективности цифрового государственного управления и др. 1 Невинский В.В. «Цифровые права» человека: сущность, система, значение // Конституционное и муниципальное право. 2019. № 10. С. 26–32. Глава 2 НАПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРАВОВОГО ПРОСТРАНСТВА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ § 1. ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ Формирование нового технологического и экономического общественного уклада, существующего наряду с привычным, давно сложившимся, требует поиска основ правопорядка в условиях изменения среды обитания человека. С онтологической точки зрения можно именовать такую среду по-разному: «киберреальность», «цифровая реальность» и т.д. Указанная среда преобразуется в ходе эволюции поддерживающих ее технических устройств. Искусственная цифровая реальность как альтернатива физической реальности уже сформировалась, и все больше обособляется, зачастую противопоставляя себя реальности физической, выступая в качестве мира, свободного от власти государства. Э. Ласло утверждает, что человечество находится сегодня в критической («хаотической») фазе так называемого макросдвига, когда общество как система становится чувствительным к флуктуациям внешней среды, приобретающей искусственный, технозированный и неравновесный характер. Философами утверждается новая парадигма – «парадигма сложности», согласно которой строятся синергетические концепции всеобщего развития в условиях квантовой неопределенности1. В.Г. Буданов предлагает в качестве новой антропологической сборки представлений о человеке использовать «квантово-синергетическую антропологию», которая укладывается в «квантово-синергетическую парадигму»2. По его мнению, такая новая холистическая сборка не должна противоречить уже известной антропологической феноменологии, «…но должна дать возможность разным направлениям, дисциплинам и культурным традициям более свободно и самосогласованно взаимодействовать на новом, быстроменяющемся онтологическом ландшафте»3. Кроме того, новая антропология призвана учитывать особенности тонких 1 См.: Синергетическая парадигма: синергетика инновационной сложности: к 70-летию В.И. Аршинова: сборник / Отв. ред. В.И. Аршинов. М., 2011. 2 Буданов В.Г. Квантово-синергетическая антропология и проблемы искусственного интеллекта и трансгуманизма // Векторы цивилизационного развития. № 9. М., 2013. С. 26 (25–37). 3 Там же. 78 синхронизмов общественной жизни, учитывать аномалии развития антропной сферы1. Современная юриспруденция, поспевающая за научно-техническим прогрессом, опирается на познавательные и объяснительные возможности социальных и естественных наук. В этой связи в юридической литературе можно встретить множество заимствованных понятий, приспособленных под потребности юридической науки. Так, понятия «среда» и «ландшафт», изначально обозначавшие соответственно биологические и географические условия обитания живых организмов, используются в научных работах по общей теории права2, что отражает стремление ученых к объединению научного знания и построению синтетических теорий. В биологии среда обитания (биотоп) означает относительно однородный участок природного пространства, занятый определенным биоценозом (совокупностью живых организмов). С философской точки зрения любая среда обитания является системой, в которую вовлечены объектно-субъектные связи внутри системы, преобразующиеся под влиянием внешней среды, а также развивающиеся внутри системы по законам движения материи. Системный подход в исследовании природных и социальных явлений, имевший большую популярность в советской науке, актуален и сегодня, поскольку предлагает комплексность таких исследований, возможность построения научной картины исторического процесса с учетом многовекторных сценариев общественного развития, детерминируемого множеством факторов. Исследования динамики национального правопорядка с учетом системного подхода необходимо производить по двум направлениям. С одной стороны, рассматривать цифровой ландшафт как обособленную систему, сеть взаимодействующих элементов, а с другой – как часть единой системы киберфизического пространства. Указанным образом возможно познание общего и особенного в названных системах для определения наилучшего порядка их правового обеспечения. При этом в физическом пространстве ландшафт может быть представлен как естественный (природный) и искусственный (городской)3. 1 Буданов В.Г. Квантово-синергетическая антропология и проблемы искусственного интеллекта и трансгуманизма // Векторы цивилизационного развития. № 9. М., 2013. С. 26 (25–37). 2 См.: Общее учение о правовом порядке: восхождение правопорядка: монография. Т. 1. Гл. 3 / Н.Н. Черногор, Д.А. Пашенцев, М.В. Залоило [и др.]; отв. ред. Н.Н. Черногор. М., 2019. 348 с.; Карцхия А.А. Цифровое право как будущее классической цивилистики // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2018. № 5. С. 35–46. 3 См.: Общее учение о правовом порядке: восхождение правопорядка: монография. Т. 1. С. 85–98. 79 Формируемый в ходе развития человеческих способностей к преобразованию природы искусственный ландшафт сохраняет связь с ландшафтом естественным в силу ограниченности человеческих возможностей и объективной неспособности человека противостоять всем силам природы. Современные экологические проблемы являются ярким тому подтверждением и во многом формируют основы будущего правопорядка, где право является одним из средств поддержания биологической и географической систем, средством «возврата кредита», взятого человеком у природы. Если естественный и городской ландшафты могут иметь определенные географические очертания, то формируемый цифровой ландшафт оторван от физических ориентиров и существует практически автономно. Безусловно, цифровое пространство, создаваемое естественным человеческим разумом (пока искусственный интеллект не подключился к данному процессу), несет на себе отпечаток человеческой истории, традиций и представлений о должном. Построение цифровой экосистемы предполагает использование аналогии на основе опыта обращения с физическими объектами. Полная оторванность цифрового ландшафта от ландшафта физического противоречила бы основным законам диалектики. Вместе с тем организация и управление в рамках цифрового ландшафта строятся по принципиально отличной, знаково-семантической системе управления, в основу которой не положено материальных атрибутов в качестве элементов реальности. Глобальная информационная сеть, согласно учению М. Кастельса, дошедшего значительно дальше в исследованиях сетевых эффектов информационного общества, чем апологеты постиндустриализма (Д. Белл, Э. Тоффлер, А. Турен), представляет собой систему взаимосвязанных структур и узлов их сообщения, обладающую гибкостью, адаптивностью и самообучением (самоорганизацией). Поскольку любые социальные структуры, имеющие сетевую организацию, являются динамичными в силу отсутствия четкой вертикали власти, в условиях цифровой среды взаимоотношения субъектов также строятся на основе горизонтальных связей в силу отсутствия единого авторитетного центра управления. М. Кастельс также утверждает, что в цифровом пространстве отсутствуют временные ограничения, поскольку информационные потоки в различных часовых поясах осуществляются непрерывно и одномоментно, независимо от местоположения серверов, на которых располагаются узловые элементы глобальных сетей. Информационное общество 80 в коммуникационных сетях цифрового ландшафта осуществляет обмен единицами информации, содержащей элементы технологий, капитала, символов и звуков, в отсутствие биологического ритма и жизненных циклов. По утверждению М. Кастельса, такие условия формируют «вневременное время»1. Таким образом, гибкая система управления в совокупности с гибкой темпоральностью задают векторы существования общества в рамках цифрового ландшафта. Кастельс утверждает, что в данных условиях сформированная архитектура Интернета в академических и военных кругах явилась благодатной почвой для развития культуры хакеров и интернет-пиратов, которые в условиях цифрового ландшафта смогли реализовать свой творческий потенциал2. В рамках цифрового ландшафта справедливо выделение следующих особенностей, детерминирующих взаимодействие индивидов: 1. Отсутствие физических границ цифрового ландшафта. 2. Невозможность точного соотнесения конкретного физического лица с действиями, совершенными им в цифровом пространстве. 3. Возможность точного установления перечня совершенных в виртуальном пространстве действий «по цифровым следам» их совершения. 4. Отсутствие единого центра управления, саморегулируемость, возможность построения исключительно горизонтальных межсубъектных отношений. 5. Сложность долгосрочного прогнозирования моделей развития цифрового ландшафта, невозможность учета факторов динамики развития отдельных элементов его системы. 6. Неопределенность развития цифрового ландшафта, порождаемая перспективами внедрения прорывных технологий в сфере искусственного интеллекта и квантовых вычислений на основе кубитов информации, которые могут обесценить современные разработки в области социального регулирования. Благодаря развитию информационных технологий коммуникационная сфера общества стала всеобъемлющей в социальных пространстве и времени. Стремительно развивается медиапространство. Происходит дифференциация способов распространения и Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М., 2000. Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе. Екатеринбург, 2004. 1 2 81 получения информации, трансформируются сами информационные технологии. Современный Интернет предоставляет множество инструментов для коммуникации, язык которой устанавливает новые универсальные правила общения. С появлением Интернета цифровые права не имели большого значения, потому что он был доступен только для высших образовательных учреждений. Картина изменилась в начале 1990-х, когда Интернет стал доступен всем. И для того, чтобы Всемирная сеть функционировала глобально, необходимо было наладить ее инфраструктуру. Например, необходимо было урегулировать вопрос с регистрацией доменных имен, которые имеют решающее значение для навигации по сайтам1. С технической стороны стремительное развитие Интернета также сопряжено с вызовами и неопределенностью, что необходимо учитывать при построении правовых прогнозов. Например, считается, что 1 января 1983 г. состоялось «третье рождение» Интернета с переходом с протокола ARPANET на протокол TCP/IP версии IPv4. Указанный протокол имеет возможность подключения до 4 млрд систем (компьютеров, маршрутизаторов и т.д.). Однако с 1990-х гг. началась разработка решения проблемы ограниченности ресурса IPv4. В 2006 г. был предложен протокол IPv6, который надолго должен решить проблему ограниченности возможностей подключения к Интернету стремительно растущего числа систем. Высказываются предположения, что эффективное использование IPv6 способно породить новый виток информационной революции. Однако его использование сопряжено с так называемым «сетевым эффектом», в силу которого ценность технологии зависит от числа вовлеченных пользователей. Пока пакет IPv6 не будет распространен между всеми пользователями Интернета, нельзя просто переключиться на него с IPv4. Указанная проблема еще подлежит окончательному разрешению2. С развитием интернет-экономики возникало все больше вопросов регулирования прав интеллектуальной собственности. В начале 2000 г. с появлением платформ для обмена файлами, таких как Napster, возникла проблема нелегального скачивания авторских произведений в сети Интернет, что привело к созданию системы 1 С самого начала Американская организация ICANN играла ведущую роль в разрешении таких вопросов. 2 См.: Интернет изнутри: Экосистема глобальной Сети / Андрей Робачевский. М., 2017. 272 с. 82 управления цифровыми правами (Digital Rights Management – DRM), поскольку компании, обладающие авторскими правами исполнителей, были заинтересованы в защите своих цифровых продуктов. Возникло противостояние между бизнесом (компаниями) и гражданским обществом, что способствовало созданию движения Creative Commons1 в 2006 г., которое придерживалось принципа «добросовестного использования» цифровых продуктов: производители цифрового контента могут сами определять свою лицензию и использование своего контента. В это же время Ассоциацией прогрессивных коммуникаций был разработан первый проект по цифровым правам человека – Хартия прав в Интернете2. Хартия была направлена на расширение сферы цифровых прав, отмечая, что цифровые права должны обладать следующими характеристиками: – доступ в Интернет для каждого; – свобода выражения мнений; – доступ к знаниям; – совместное обучение и творчество; – бесплатное и открытое программное обеспечение с открытым кодом и развитием технологий; – конфиденциальность, наблюдение и шифрование; – управление Интернетом; – осведомленность, защита и реализация прав3. Хартия также показывала, как сфера цифровых прав была приспособлена к растущей активности в Интернете. На протяжении многих лет существенная часть частной и трудовой жизни мигрировала в онлайн-пространство. Три года спустя аналогичная стратегия была применена Динамической коалицией за права и принципы Интернета (IRPC) в Хартии прав человека и принципов Интернета4, которая сфокусировалась на схожих принципах: универсальность и равенство; права и социальная справедливость; доступность; выражение мнения и объединения; конфиденциальность и защита данных; жизнь, свобода и безопасность; разнообразие; сетевое равенство; стандарты и правила; правовые и нормативные основы. Данные принципы легли в основу концепции «Свободы слова в сети URL: https://www.wired.co.uk/article/history-of-creative-commons (дата обращения: 05.09.2019). Хартия прав человека «Интернет за социальную справедливость и устойчивое развитие». 2006 г. URL: https://www.apc.org/sites/default/files/APC_charter_RU_1_2.pdf (дата обращения: 01.02.2022). 3 Там же. 4 URL: http://internetrightsandprinciples.org/site/ (дата обращения: 05.09.2019). 1 2 83 Интернет». Неправительственные организации, такие как Freedom House International, принялись оценивать уровень свободы в интернет-пространстве отдельных государств1. По мнению некоторых авторов, на сегодняшний день не существует глобальных цифровых прав человека. Прежде всего не ясно, почему помимо существующих прав человека должны быть дополнительные права для цифрового пространства. Председатель Конституционного суда РФ В.Д. Зорькин также считает, что цифровые права – это конкретизация конституционных прав человека в обществе, основанном на информации2. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР), «32 из 36 стран – членов организации, а также 6 стран-партнеров имеют национальные электронные стратегии. Масштабные программы по развитию цифровой экономики действуют в США, Китае и странах Европейского союза»3. Так, в Европейском союзе действует Стратегия единого цифрового рынка4, призванная разрешить проблему отставания ЕС в области цифровых технологий. Указано: «Фрагментация и барьеры, не существующие на физическом Общем рынке, сдерживают ЕС». В развитие данной стратегии Европарламент и Совет предложили проект Директивы 2019/790 от 17 апреля 2019 г. об авторском праве и смежных правах на едином цифровом рынке и поправках к Директивам 96/9/EC и 2001/29/EC, где подчеркивается необходимость направленности национальных законодательств на будущее, чтобы не тормозить технологическое развитие. Хотя цели и принципы права интеллектуальной собственности ЕС остаются неизменными, имеется правовая неопределенность, которую испытывают правообладатели и пользователи работ и иных объектов цифровой среды (п. 3)5. В аналитических материалах Европейского парламента отмечается, что данная Директива включает в себя: 1 URL: https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2018 (дата обращения: 05.09.2019). 2 Зорькин В.Д. Право в цифровом мире. URL: https://rg.ru/2018/05/29/zorkin-zadachagosudarstva-priznavat-i-zashchishchat-cifrovye-prava-grazhdan.html (дата обращения: 06.09.2019). 3 См.: Титов Б. Россия: от цифровизации к цифровой экономике. URL: http://stolypin. institute/wp-content/uploads/2018/09/issledovanie_tsifrovaya-ekonomika-14-09-18-1.pdf (дата обращения: 01.02.2022). 4 URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52015DC0192#docume nt1 (дата обращения: 01.02.2022). 5 См.: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content. 84 1) поставки цифрового контента потребителям в строгом смысле слова, то есть поставку программного обеспечения, цифровой музыки, электронных книг, фильмов или изображений; 2) цифровые услуги, в частности аренду доступа к компьютерным программам, облачные вычисления и платформы социальных сетей1. Указанный проект Директивы ЕС 2019/790 направлен на принятие общих правил заключения контрактов, объектами которых являются результаты интеллектуальной деятельности, а также иные объекты виртуального мира. Уделяется внимание доступу к ресурсам как одному из ключевых направлений развития правового регулирования. Именно проблемы доступа к контенту, идентификации пользователей и их волеизъявления являются краеугольным камнем дальнейшего развития правоотношений. Более того, стремительно набирают обороты такие сферы правоотношений, для которых внедрение технологии распределенных реестров является возможностью необходимого развития. Так, компания ReDigi в США предоставляла услуги по перепродаже цифровых копий музыкальных альбомов. По иску Capitol Records Окружной суд Нью-Йорка предписал прекратить данную деятельность2. В подобных делах нарушение авторского права видится в невозможности проконтролировать факт удаления со всех носителей продавца электронных копий произведения. При этом в случае обеспечения возможности безвозвратного удаления из информационной системы приобретенного музыкального альбома проблем для осуществления данной деятельности не останется. Компании Amazon и Apple сегодня уже ведут разработки в области вторичных продаж на цифровом рынке, причем не только музыки, в надежде на то, что законодательство может эволюционировать3. Можно утверждать, что глобальные изменения в законодательстве в связи с обменом цифровой информацией в различных формах являются насущной мировой потребностью. Успешная реализация данного направления имеет стратегическое значение. В России 1 См.: Contracts for supply of digital content. A legal analysis of the Commission’s proposal for a new directive // European Parliamentary Research Service. Brussels, May 2016. 39 p. 2 См.: Capitol Records, LLC v. ReDigi Inc. URL: https://www.leagle.com/decision/ inadvfdco140116000515 (дата обращения: 01.02.2022). 3 См.: Folding shelves. E-books mean a plot twist for public libraries and publishers. URL: https://www.economist.com/international/2013/03/23/folding-shelves (дата обращения: 01.02.2022). 85 большой шаг навстречу мировым тенденциям был сделан путем внесения изменений в гражданское законодательство путем внедрения понятия «цифровые права». Видными российскими цивилистами отмечается, что вводимая Федеральным законом от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации», вступившим в силу 1 октября 2019 г., категория «цифровые права» является настолько обтекаемой, что она не принесет по существу ничего нового в гражданский оборот. Спорным видится включение цифровых прав в перечень объектов гражданских прав (ст. 128 Гражданского кодекса РФ)1. Вызывает вопросы указание на возможность осуществления цифрового права или ограничения распоряжения таким правом только в информационной системе без обращения к третьему лицу: не излишне ли ограничивать возможность участия в подобных правоотношениях посредников? С другой стороны, в коллективной монографии под редакцией И.А. Цинделиани указано: «Цифровая экономика как объект правового обеспечения еще недостаточно представлена в законодательстве и поэтому не нашла своего должного осмысления в правовой науке. В то же время уровень востребованности этой темы позволяет сделать прогноз о появлении в ближайшее время цифрового права, определяющего особенности правотворчества и правоприменения с учетом использования цифровых технологий, тенденция проникновения которых все сильнее заметна в практике юридической деятельности»2. В названных условиях требуют ответов вопросы о юридической природе виртуальных объектов, средств идентификации пользователей, правилах информационных систем, неподконтрольных государственному регулированию, роли операторов обработки данных и защите их интересов, защите интересов правообладателей и появлении новых видов объектов интеллектуальных прав. Поскольку инструменталистские предложения о точечном регулировании отдельных правоотношений не позволяли обеспечить стабильность обращения информации в сети Интернет, во многих государствах 1 См.: п. 1 экспертного заключения Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. URL : https://zakon.ru/Tools/ DownloadFileRecord/23871 (дата обращения: 01.02.2022). 2 Финансовое право в условиях развития цифровой экономики: монография / К.Т. Анисина, Б.Г. Бадмаев, И.В. Бит-Шабо и др.; под ред. И.А. Цинделиани. М., 2019. С. 64. 86 разрабатываются концепции цифровых прав (токенов) с целью внедрения цифровых объектов в законодательство как обособленных от объектов материального мира, а также средств фиксации прав и обязанностей. Усиливается влияние технологий распределенных реестров, повышающих привлекательность совершения онлайнтранзакций. Таким образом, цифровой ландшафт, в отличие от ландшафта естественного, в отсутствие классических пространственно-временных координат имеет сетевую структуру, в рамках которой межсубъектное взаимодействие реализуется непрерывно и оставляет цифровые следы. С внедрением в широкий оборот технологии распределенных реестров возможно будет повысить уровень саморегулирования данной системы, но невозможно обеспечить физическое принуждение к исполнению правовых предписаний. Определение совокупности методов регулирования отношений в сетевом сообществе должно быть основано на исходных общефилософских методологических посылках, позволяющих определить векторы правового воздействия. А. Турен, рассуждая о грядущем общественном сдвиге, задавался вопросом: будет ли новое общество обладать более высокими способностями воздействия на самого себя?1 Автор назвал общество постиндустриальной эпохи программируемым, поскольку оно привыкло к изобилию и не готово им рисковать, сопротивляясь всеобщему движению в сторону будущего. В такой ситуации человек рассматривается как потребитель, которым можно манипулировать. Ценность технологий в новом обществе определяется их рыночной стоимостью, напрямую коррелирующей с количеством вовлеченных в ее использование лиц. Имеющееся изобилие различных технологических платформ и устройств создает иллюзию выбора, искусственность которого обнаруживается в однообразности предлагаемых технологических новинок и методов их использования. Так появление принципиально новых решений в области коммуникаций в сети Интернет влечет ажиотаж со стороны пользователей, а также изготовителей производного контента и приложений. Привлечение внимания к определенному цифровому ресурсу позволяет не только эффективно рекламировать товары и услуги, но также влиять на принятие решений. Данная тенденция впервые широко проявила себя с появлением крупных индустриальных компаний, 1 Турен А. Возвращение человека действующего. Очерк социологии. М., 1998. С. 86. 87 получивших возможность предоставлять политическим партиям финансовые дивиденды и поддерживать своим общественным признанием. При этом, например, известно, что производители напитка Coca-Cola спонсируют на американских выборах республиканцев, а Pepsi-Cola – демократов. Руководствуются данные компании исключительно интересами конкуренции, поскольку принадлежность к партии избрана исходя только из соответствующих фирменных цветов. Однако ситуация с манипулированием мнением пользователей в ходе американских выборов 2016 г. со стороны Facebook (путем передачи личных данных английской компании Cambridge Analytica) повлекло многомиллиардные штрафы и необходимость публичных извинений со стороны руководства социальной сети. Причина тому в осознании обществом масштаба возможностей манипулирования общественным сознанием. Сегодня получают распространение технологии Deep Fake, которые позволяют в цифровом формате с использованием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения создавать видеозаписи публичных выступлений известных личностей, которые произносят заявления, никогда ими не сделанные1. Человечество вступило в эпоху «электронной цифры», которая, по образному выражению одного из основателей компании Microsoft Билла Гейтса, «способна порождать мысли и действия». Развитие информационно-коммуникационных технологий придало новый импульс научно-техническому прогрессу и обусловило переход общества к информационной, постиндустриальной (базирующейся на генерации знаний) стадии социально-экономического развития, формируя новую реальность. В этой реальности преломляются действие и образ многих социальных институтов и регуляторов, в том числе права. Оно становится не только средством, инструментом, обеспечивающим развитие цифровых технологий и их использование в различных сферах общественной жизни – экономике, управлении и других сегментах социального бытия, но и объектом воздействия «цифровизации». Изменяются содержание, форма, механизм действия права. Как в доктрине, так и в юридической практике пока нет достаточно четкого понимания ни вектора, ни закономерностей, ни 1 См.: URL: https://www.economist.com/the-economist-explains/2019/08/07/what-is-a-deepfake (дата обращения: 01.02.2022). 88 механизма этих трансформаций. В зарубежной науке цифровизация в контексте права рассматривается как естественный феномен, возникающий на пути развития правовой системы в современную эпоху. В работах западных ученых затрагиваются преимущественно практические аспекты цифровизации законодательства и правоприменительной практики1, в частности: удобство пользования электронными нормативными источниками; возможность хранения большого объема информации; физическая долговечность и устойчивость к взлому электронных баз данных; электронное образование для будущих поколений юристов; развитие рынка правовых услуг; продвижение методов экономического регулирования, основанных на электронном праве. Распространены также работы по прогнозированию электронных правовых систем, авторами которых принимаются в расчет возможности искусственного интеллекта, машинного обучения и метода процедурной генерации сквозь призму права2. В российской науке также заметен интерес к этой теме. Исследования нацелены на освоение отдельных, относительно узких, хотя бесспорно важных и требующих решения проблем, связанных с использованием цифровых технологий в правовой сфере. Дискуссии ведутся главным образом в направлении поиска оптимальных решений и разработки моделей правового регулирования общественных отношений, сопряженных с применением цифровых технологий в области финансов, публичном управлении, создании искусственного интеллекта3. Для эффективного решения обозначенных стратегических задач развития российского государства и права необходимо представить общую картину происходящего. В настоящее время она 1 См., например: Bastin R., Hurtaud S., Senequier L. Senequier Digitisation of documents and legal archiving // Inside – Luxemburg: Deloitte, 2014. 2 См., например: Germain Claire M. Digitizing the World’s Laws // Cornell Law Faculty Working Papers, Paper 72. Ithaca, 2010. 3 Радченко М.Ю., Горбунов В.П. Цифровое право будущего // II Всероссийская конференция «Право и Интернет: теория и практика» (28–29 ноября 2000 г., Россия, Москва). Доклады. URL: http://www.ifap.ru/pi/02/r09.htm (дата обращения: 01.02.2022); Терещенко Л.К. Модернизация информационных отношений и информационного законодательства: монография. М., 2013; Хлебников П. Цифровизация права как следствие цифровизации жизни // Жилищное право. 2017. № 1. № 9. С. 93–101; Ломакин А. Цифровизация права // Жилищное право. 2017. № 1. № 9. С. 103–111; Гурко А. Искусственный интеллект и авторское право: взгляд в будущее // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2017. № 12. С. 7–18; Понкин И.В., Редькина А.И. Искусственный интеллект с точки зрения права // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки 2018. Т. 22. № 1. С. 91–109; Понкин И.В., Редькина А.И. Искусственный интеллект и право интеллектуальной собственности // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2018. № 2. С. 35–44; и др. 89 характеризуется заметным нарастанием объема законодательства, регулирующего отношения, связанные с цифровизацией. Хотя они регламентируются преимущественно актами, принятыми прежде, чем вопросы цифровизации вошли в число первоочередных1. В соответствии с Планом мероприятий2 по направлению «Нормативное регулирование» программы «Цифровая экономика Российской Федерации»3 (далее – План) на сегодняшний день принят только один законодательный акт – Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. № 482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», установивший механизм удаленной биометрической идентификации. Несколько законопроектов приняты Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении: проекты федеральных законов № 373645-7 «О системе распределенного национального майнинга», № 419059-7 «О цифровых финансовых активах», № 419090-7 «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ», № 369029-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», № 424632-7 «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации». Всего же, согласно упомянутому Плану, предусмотрено: 1 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ 1994. № 32. Ст. 3301; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 52 (ч. I). Ст. 5496; Федеральные законы от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. I). Ст. 3448, от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» // СЗ РФ. 2017. № 31 (ч. I). Ст. 4736, от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» // СЗ РФ. 2011. № 15. Ст. 2036, от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» // СЗ РФ. 2003. № 28. Ст. 2895; акты так называемого «антиотмывочного законодательства». Всего насчитывается более 50 законодательных актов, регулирующих различные сферы жизни российского общества, подверженные «цифровизации». 2 План мероприятий по направлению «Нормативное регулирование» программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. Правительственной комиссией по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (протокол от 18 декабря 2017 г. № 2)). URL: http:// static.government.ru/media/files/P7L0vHUjwVJPlNcHrMZQqEEeVqXACwXR.pdf (дата обращения: 01.02.2022). 3 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р) // СЗ РФ. 2017. № 32. Ст. 5138. 90 – принятие федеральных законов по 38 сферам правового регулирования, которыми будут внесены изменения в общей сложности более чем в 50 действующих федеральных законов; – принятие национальных стандартов по восьми сферам технического нормирования и стандартизации; – разработка концепции комплексного регулирования отношений, возникающих в связи с развитием цифровой экономики и концепции организации процесса управления изменениями в области цифровой экономики1. В целом для российского законодательства характерно: 1) использование традиционных инструментов – нормативных правовых актов, в общей массе которых преобладают законы. В то же время практика демонстрирует потребность в расширении арсенала используемых регуляторов. Проведенные исследования приводят к выводу о том, что инструменты «доцифровой эпохи» следует сочетать с новыми. Возможно, стоит задействовать квазиправовые регуляторы; 2) повышение роли актов стратегического планирования, таких как Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»2; 3) отсутствие официальной и научной концепций развития законодательства в данной сфере. Первая государством провозглашена, но пока не подготовлена. О необходимости создания второй, которая логично должна быть положена в основу первой, российские ученые уже заявили, однако работа над ней еще не завершена; 4) отсутствие корреляций с устоявшейся международно-правовой регуляцией в этой области. Законодательство зарубежных стран демонстрирует различные векторы развития. Общественные отношения, связанные с «цифровизацией», регламентируются широким кругом актов, в числе которых: – акты стратегического планирования (Республика Беларусь, Республика Казахстан)3; 1 Планов в отношении разработки и принятия законов для целей дальнейшего продвижения цифровизации различных сфер жизни российского общества еще больше. 2 Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 3 См., например: Декрет Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики», который регулирует внедрение в экономику страны технологии реестра блоков транзакций (блокчейн), иных технологий, основанных на принципах распределенности, децентрализации и безопасности совершаемых с их использованием операций. Реализация проектов возможна на условиях государственно-частного партнерства // Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь. Декрет № 8 от 21 декабря 2017 г. 91 – программные и прогнозные документы (Республика Казахстан, Республика Армения); – специальные законы (Франция – Закон «О цифровой республике» (2016 г.), Великобритания – Закон «Об электронной экономике» (2017 г.), Европейский парламент одобрил нормы гражданского права о робототехнике (16 февраля 2017 г.), Германия признала биткоин в качестве платежного средства (27 февраля 2018 г.)); – подзаконные акты. Многие государства, как и Россия, в регулировании общественных отношений, связанных с цифровизацией, опираются прежде всего на законодательство. Учитывая, что отношения в данной сфере весьма динамичны, на наш взгляд, преобладание законодательных актов снижает эффективность правовой регламентации, сокращает возможность оперативно реагировать на изменения, происходящие в предмете регулирования. Для того чтобы адекватно отражать динамику развития современной правовой сферы, правовые регуляторы должны быть чрезвычайно гибкими. Стремление государства регулировать едва ли не весь спектр отношений, связанных с цифровизацией, при помощи законодательных актов лишает соответствующий правовой массив этой гибкости. В условиях масштабной цифровизации возможность регулирования многих общественных отношений в пределах юрисдикции национального государства становится весьма относительной. В связи с этим заметно повышается роль международно-правовых регуляторов, хотя степень их воздействия на международные отношения и правовая природа инструментов отличаются большим разнообразием. Международно-правовое регулирование отношений в сфере цифровизации осуществляется как на универсальном, так и на региональном уровнях. На универсальном уровне происходят процессы: – международной стандартизации (в рамках Международного союза электросвязи – МСЭ), наращивания «мягкого» регулирования (принятие международных стандартов в форме рекомендаций МСЭ); «О развитии цифровой экономики». URL: http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/ dekret-8-ot-21-dekabrja-2017-g-17716/ (дата обращения: 25.06.2018); Государственная программа «Цифровой Казахстан» от 12 декабря 2017 г. № 827, определяющая отрасли экономики, в которых совершенствование цифровых технологий должно привести к развитию конкурентоспособности и повышению эффективности производства // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет». Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2017 г. № 827 «Об утверждении Государственной программы «Цифровой Казахстан». URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000827 (дата обращения: 25.06.2018). 92 – международной унификации национального законодательства в частноправовой сфере (в рамках работы Комиссии ООН по праву международной торговли – ЮНСИТРАЛ) посредством сочетания рекомендательных (типовые законы «О правовых аспектах электронного обмена данными» (1995 г.)1, «Об электронной торговле (1996 г.)2 и др.) и юридически обязательных (Конвенция ООН об использовании электронных сообщений в международных договорах) актов (гибридного регулирования); – международно-правового программирования, осуществляемого путем принятия декларативных актов и экспертных проектов по мировой электронной торговле в рамках Всемирной торговой организации (ВТО)3, Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН), Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). На региональном уровне предпринимаются усилия для интеграционного сближения и программирования законодательства национальных государств. Для целей интеграционного сближения законодательства используются акты «вторичного права» Европейского союза. Так, приняты предложения по Регламенту Европейского парламента и Совета, устанавливающему Креативную европейскую программу (2021–2027 гг.) и отменяющему Регламент ЕС № 1295/20134. Интеграционное программирование национального законодательства осуществляется посредством решений высших органов интеграционных объединений, заявлений глав государств – членов этих объединений, декларативных и программных документов стратегического характера5. Примером может служить 1 Проект Типового закона о правовых аспектах электронного обмена данными (ЭДИ) и соответствующих средствах передачи // Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной торговли. Двадцать восьмая сессия, Вена, 2–26 мая 1995 г. Компиляция замечаний правительств и международных организаций. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/ UNDOC/GEN/V95/513/23/IMG/V9551323.pdf?OpenElement (дата обращения: 25.06.2018). 2 ЮНСИТРАЛ: Типовой закон об электронной торговле и Руководство по принятию. 1996 г. // Издание Организации Объединенных Наций. В продаже под № R99.V.4. 2006 г. URL: https:// www.uncitral.org/pdf/russian/texts/electcom/05-89452_Ebook.pdf (дата обращения: 25.06.2018). 3 Digital Economy and the WTO // The E15 Initiative. URL: http://e15initiative.org/events/e15engagement-day-e-commerce-and-the-digital-economy/ (дата обращения: 25.06.2018). 4 Proposal for a regulation. Multiannual Financial Framework: Creative Europe programme for the period 2021-2027 // About this initiative: URL: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/ initiatives/com-2018-366_en (дата обращения: 25.06.2018). 5 См., например, заявление глав государств – членов ЕАЭС о цифровой повестке ЕАЭС от 26 декабря 2016 г. // Цифровая повестка ЕАЭС. URL: http://www.eurasiancommission.org/ ru/act/dmi/workgroup/materials/Pages/docs.aspx (дата обращения: 25.06.2018); Решение Высшего Евразийского экономического совета от 26 декабря 2016 г. № 21 «О формировании цифровой повестки Евразийского экономического союза». URL: https://docs.eaeunion. org/docs/ru-ru/01413546/scd_11042017_21 (дата обращения: 25.06.2018); Решение Высшего 93 «Цифровая повестка» Евразийского экономического союза (ЕАЭС), для реализации которой предусмотрены: – формирование единого цифрового пространства ЕАЭС; – интенсификация процессов интеграции государств – членов ЕАЭС; – включение стран в процессы глобальной цифровой трансформации в целях создания новых ландшафтов экономических процессов и международно-правовых регуляторов. В качестве механизмов обеспечения интеграционных процессов в рамках ЕАЭС запланированы: – информационное взаимодействие с использованием информационно-коммуникационных технологий и трансграничного пространства доверия в рамках ЕАЭС, а также интегрированной информационной системы Союза; – разработка нового поколения интеграционных регуляторов (вместо нормативных правовых актов), учитывающих возможности цифровой трансформации, а также кросс-отраслевой (в том числе межведомственный) характер экономических процессов, при обес­ печении глубокой безбарьерной интеграции; – уточнение и формирование новой компетенции ЕАЭС и разграничение полномочий между Союзом и государствами-членами для реализации целей единого цифрового рынка. Приступая к выполнению «Цифровой повестки» ЕАЭС, важно оценить перспективы и риски формирования проектируемого цифрового пространства данного объединения и обобщить их в научной концепции цифровизации интеграционного права. Она синтезирует научные подходы к разработке нового поколения интеграционных нормативных правовых актов ЕАЭС, призванных обеспечить цифровую трансформацию интеграции, а также к гармонизации национального законодательства в цифровой сфере, что даст синергетический эффект в достижении интеграционных целей в смежных областях. Таким образом, наблюдается многообразие реакций как национального законодательства, так и международного права на цифровизацию. Очевидно, что на всех уровнях есть понимание необходимости правового воздействия на протекающие процессы, однако применение четких стратегий пока не прослеживается. В мире идет Евразийского экономического совета от 11 октября 2017 г. № 12 «Об Основных направлениях реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года». URL: https:// docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01415213/scd_10112017_12 (дата обращения: 25.06.2018). 94 поиск оптимальной модели нормативного правового регулирования общественных отношений, возникших в связи с цифровизацией. Поэтому пока предполагается сосредоточиться на разработке актов стратегического планирования и использовании гибких регуляторов – подзаконных актов, правовых экспериментов. Цифровизация оказывает заметное воздействие на право не только как на систему общеобязательных правил поведения, установленных государством, но и как на процесс и результат его деятельности, правовой порядок с реальными правоотношениями, действиями субъектов права и видами юридической деятельности. Она становится важным фактором, обусловливающим динамику права. Однако ее значение не следует преувеличивать. Наряду с цифровизацией важными условиями происходящих преобразований являются глобализация, межгосударственная интеграция, возрастание роли наднациональных институтов и международного регулирования и др. В то же время влияние развития и распространения цифровых технологий на современную трансформацию права является наименее изученным и осмысленным правовой доктриной. Цифровизация влияет в первую очередь на сферу правового регулирования. В нее вовлекаются новые общественные отношения, которые прежде либо не существовали, либо не требовали правового регулирования или объективно не могли быть урегулированы правом. Так, в сфере правового регулирования наблюдается появление отношений: 1) субъектами которых являются виртуальные или цифровые «личности»; 2) связанных с юридически значимой идентификацией личности в виртуальном пространстве; 3) возникающих в связи с реализацией прав человека в виртуальном пространстве (право на доступ в Интернет, право на «забвение», право на «цифровую смерть» и др.); 4) ориентированных на применение робототехники; 5) складывающихся по поводу нетипичных объектов – информации, цифровых технологий (финтех, регтех и др.), создаваемых посредством применения новых цифровых сущностей (криптовалюты) и объектов материального мира, а также связанных с использованием и оборотом того и другого; 6) сопряженных с использованием оцифрованных информационных массивов – информационных баз данных; 95 7) связанных с переводом в цифровую форму действий и операций, посредством которых реализуются государственные функции, оказываются государственные и муниципальные услуги, обеспечивается электронное участие граждан в управлении обществом и государством; 8) обусловленных совершением действий в виртуальном пространстве, направленных на возникновение, изменение и прекращение правоотношений, реализацию прав и исполнение обязанностей, образующих их юридическое содержание; 9) сопряженных с применением автоматизированных действий (интернетом вещей), обеспечением информационной безопасности и др.1 Сфера правового регулирования становится мультисодержательной: в ее пределах не просто возникают новые отношения, но существенно изменяется ее структура, модифицируются сложившиеся связи2. Указанную сферу образуют как типичные, так и нетипичные для нее с точки зрения субъектного состава, объектов и среды существования общественные отношения, включая те, которые практически исключают непосредственное участие человека. Все чаще возникают общественные связи и отношения, составы фактических обстоятельств, а также события, происходящие помимо воли людей. В структуре сферы правового регулирования появился новый элемент – отношения, которые должны быть, но на данном этапе объективно не могут быть урегулированы правом в необходимом объеме. Сложность правового воздействия на отдельные общественные отношения связана не столько с их спецификой или ограниченными возможностями права, сколько с отсутствием в распоряжении государства цифровых технологий, обеспечивающих привычную взаимосвязь нормативного и индивидуального правового регулирования. Например, всем известная ситуация с блокировкой мессенджера Telegram на территории России. Очевидно, что потребность в обеспечении правового регулирования необходимым высокотехнологическим инструментарием, прежде всего позволяющим осуществлять контроль за деятельностью субъектов права, существует. Вопрос в том, как ее удовлетворить? 1 См. подробнее: Хабриева Т.Я., Черногор Н.Н. Право в условиях цифровой реальности // Журнал российского права. 2018. № 1. С. 85–102. 2 Там же. 96 Вероятно, ответ на него не может быть дан только юристами. Тем не менее юридическая практика нуждается в ответе на поставленный вопрос, а это нацеливает на совместную работу представителей юридической науки и специалистов в области информационных технологий. Последуют ли за развитием и интенсификацией использования цифровых ресурсов расширение границ сферы правового регулирования, появление в ней новых сегментов? Полагаем, что ответы на эти вопросы не так однозначны, как это может показаться на первый взгляд. Действие цифровизации может привести как к расширению, так и к сужению области правового регулирования, изменению ее глубины и других параметров, в частности соотношения законодательного и подзаконного регулирования, действия частного и публичного права. В современном обществе усиливаются тенденции к укреплению самоуправленческих начал и саморегулированию в управлении различными общностями и процессами. Особенно это заметно в коммуникациях в сети Интернет. Появление разного рода виртуальных сообществ, финтеха и регтеха – это не что иное, как свидетельство стремления определенных групп людей выйти из-под жесткой государственной регуляции. В этих условиях оказалась весьма востребована общинная и кооперативная модели организации человеческого взаимодействия. Именно по их образу и подобию нередко формируются сетевые сообщества, потенциально способные образовывать саморегулируемую «криптосреду». Современные государства воспринимают это по-разному. Многие из них – как угрозу, поэтому реагируют, активно усиливая регулятивное воздействие преимущественно посредством установления новых юридических обязанностей и запретов. Не отрицая необходимость воздействия права на соответствующую область общественных отношений, полагаем, что важно не просто преумножить обязанности, а применять такие средства и методы, которые бы дополняли и укрепляли иные формы социального регулирования. Во многом решение этой задачи будет зависеть от реального соотношения частного и публичного интересов в рассматриваемом сегменте правового регулирования. Вслед за изменением сферы правового регулирования меняется и содержание права. Появление новых общественных отношений вызывает к жизни новые юридические нормы, ведет к изменению 97 или отмене уже действующих. Сейчас можно констатировать наличие следующих тенденций и процессов: 1) в праве появляются новые понятия и легальные дефиниции, фиксирующие цифровые личности и сущности, образующие ядро будущих правовых институтов; 2) более интенсивно задействована регулятивная статическая функция права, обеспечивающая закрепление и оформление новых правовых институтов; 3) конкретизируются права человека, что создает иллюзию возникновения нового вида прав – «цифровых»1; 4) для целей создания цифровой экономики широко применяются инструменты публичного права; 5) динамично изменяется композиция модели нормативного правового регулирования (соотношения в ней законов и подзаконных актов и соответствующего регулирования); 6) по сути, происходит перенастройка законодательства на решение задач, возникших в связи с цифровизацией, посредством «цифровой прививки» гражданскому, трудовому, административному, уголовному и многим другим отраслям законодательства. Изменения наблюдаются и в сфере реализации права. Многие юридически значимые действия совершаются в виртуальном пространстве: заключение сделок, удостоверение юридически значимых фактов и др. В процессе реализации права все чаще используются цифровые технологии (блокчейн, умные самоисполняющиеся контракты и др.), изучается возможность применения вновь возникающих технологий, например в РАН, Сколково. При осуществлении отдельных видов деятельности людей постепенно заменяют роботы, происходит роботизация и технологизация юридической деятельности. Коренные изменения зафиксированы в познавательно-доказательственной составляющей судебного процесса, вводятся новые виды доказательств (электронные доказательства, например цифровые следы), а также судебных экспертиз. Особого внимания заслуживает практика использования технологии блокчейн, функционирование которой подчинено машинному коду. Тем самым все участники «цифровой экономики» 1 См., например: Зорькин В.Д. Право в цифровом мире. Размышление на полях Петербургского международного юридического форума. URL: https://rg.ru/2018/05/29/zorkinzadacha-gosudarstva-priznavat-i-zashchishchat-cifrovye-prava-grazhdan.html (дата обращения: 01.02.2022). 98 фактически становятся «заложниками» программных алгоритмов, которые выполняют регуляторную функцию. При отсутствии (или неадекватности) соответствующего правового регулирования машинный код начинает оказывать мощное воздействие на содержание и характер соответствующих общественных отношений и становится чуть ли не главным их регулятором. В связи с этим важно определить пределы регулирующего воздействия программных алгоритмов, обозначить линию их соприкосновения с правом. Новые технологии существенно трансформируют не столько частный, сколько публичный сектор, сферу государственной деятельности. В результате происходят существенное изменение привычной культуры юридической и государственной управленческой деятельности, уход от личного общения и обмена документами на бумажных носителях, отказ от услуг целого слоя ранее незаменимых управленцев. На фоне технологизации и роботизации юридической деятельности многих юристов тревожит судьба их профессии. Существует множество прогнозов – от самых пессимистичных до вполне оптимистичных. Юристы ведут дискуссии об использовании роботов в юриспруденции. Компьютеры могут выполнять ряд типовых юридически значимых процедур, в том числе подготовку различного рода документов, и, следовательно, стать эффективными помощниками юриста. Первые роботы-юристы уже есть и в России. Однако возможности использования роботов в юридической профессии все же ограничены серийными операциями. При выполнении творческого труда юриста робот в обозримом будущем едва ли способен заменить человека. Юридическая деятельность – это искусство! Эта мысль вселяет надежду на то, что юридическая профессия не исчезнет. Существенное влияние цифровизация оказывает на форму права. Электронные версии формально-юридических источников права уже давно размещаются в сети Интернет, создаются соответствующие электронные базы и информационно-справочные системы (такие как «Гарант», «КонсультантПлюс» и др.). В настоящее время эти системы приобрели большую популярность как у практикующих юристов, так и у граждан. При этом социологические исследования показали высокую степень доверия пользователей к текстам, размещенным в этих системах. Именно к ним, а не к официальным источникам опубликования обращаются юристы, 99 включая следователей, прокуроров, судей и др., при осуществлении профессиональной деятельности, разрешении конкретных юридических ситуаций. Хотя при этом существует понимание того, что упомянутые системы не являются официальными источниками опубликования нормативных правовых актов, судебных решений и т.д., могут содержать ошибки и неточности. Однако удобство использования подобных информационных ресурсов является главным аргументом в пользу обращения именно к ним. В результате мы наблюдаем любопытное явление: у формальноюридических источников права, таких как нормативный правовой акт, договор нормативного содержания и др., появляется «виртуальный дублер», «цифровой двойник», который может совпадать по форме и содержанию с официальным тестом, изданным, оформленным и обнародованным по всем правилам, а может и отличаться от оригинала. Это уже не просто цифровая копия, а нечто большее, так как электронная версия текста формально-юридического источника права выполняет функции последнего. Именно в нем «черпают право» юристы при разрешении юридического дела. При этом, как было отмечено, точного соответствия цифровой копии оригиналу никто не гарантирует, а практика свидетельствует о наличии ошибок и неточностей в электронных версиях нормативных правовых актов и других источников права. Безусловно, это не способствует повышению качества правореализационной деятельности. Важно заметить, что за поиском правовой основы государственно-властного решения юристы обращаются к неофициальным ресурсам, держатели которых теоретически могут не только допускать ошибки в текстах электронных версий формально-юридических источников права без какого-либо умысла, по неосторожности, но и сделать это сознательно. Следовательно, такого рода информационно-справочные системы, будучи весьма популярными у пользователей, могут превратиться в инструмент манипулирования. К тому же ошибки в электронных версиях текстов могут быть привнесены со стороны – в результате действия третьих лиц, хакеров, а может быть, владельца сети – частного субъекта – держателя информационного ресурса. Интересно также и то, что оцифровка формально-юридических источников права приводит к формированию новых приемов и способов юридической техники, в частности отсылок к ранее действующей редакции нормативного правового акта или его части, к другим 100 нормативным правовым актам, судебным решениям, официальным письмам и др. Именно в виртуальном пространстве существует такое явление, как «актуальная версия» нормативного правового акта, чего нет в реальном мире (хотя этот вопрос неоднократно поднимался как учеными-правоведами, так и практиками). Заметим, что нынешняя «актуальная версия» нормативных правовых актов при всех ее достоинствах – только прототип будущей цифровой модели. Разница между ними в том, что современная «версия» построена по принципу базы данных, а цифровую версию надо создавать по принципу «базы знаний», в которой будет собрана, систематизирована, структурирована и приспособлена для автоматизированного использования более объемная и разноплановая (правовая, экономическая, социологическая и др.) информация, позволяющая без участия человека осуществлять толкование правовых норм, юридическую квалификацию деяний и правоотношений, разрешать юридические коллизии, совершать сделки, выносить правоприменительные решения, определять эффективность правовых норм, формулировать правотворческие решения в целях оптимизации правового регулирования и т.д. Например, Конституция РФ в «базе знаний» предстанет как актуальное на данный момент времени единство: 1) ее текста; 2) федеральных конституционных законов; 3) законов Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации; 4) правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации; 5) общепризнанных норм и принципов международного права, ставших частью российской правовой системы; 6) комментариев ученых; 7) правоинтерпретационных актов международных органов (например, Европейской комиссии за демократию через право) и организаций. Сама идея такого представления конституции не нова, но в практике она так и не получила широкого распространения. Формирование подобных «баз знаний» повысит статус правовой доктрины, приблизив ее к положению источника права, изменит роль ученых-правоведов. При этом правовой режим этих баз должен будет обеспечить «легальное бытие» цифровых двойников источников права. Прогнозируя перспективы формы права, можно предположить, что в будущем будет легализован «цифровой двойник» и установлены способы его верификации. Возможно, появится «гибридный источник» права. При этом одно не исключает другого. В связи с этим 101 надо ставить вопрос о развитии юридических технологий создания формально-юридических источников права. Отдельно следует остановиться на вопросе о «цифровой судьбе» юртеха. С развитием цифровых технологий обостряется противоречие между, с одной стороны, потребностью в качественных с точки зрения формы и содержания нормативных правовых актах и способностью указанных технологий ее удовлетворить, а с другой стороны, невысоким качеством нормативного материала, произведенного «вручную» без применения хай-тека. Преодоление этого противоречия видится в «оцифровке» юридических технологий, применяемых в правотворчестве, разработке и использовании юртеха при создании проектов нормативных правовых актов. Речь идет о технологиях правового мониторинга, юридического прогнозирования, юридического моделирования, проектирования юридических норм, экспертизы проектов нормативных правовых актов, оценки регулирующего воздействия и др. Это позволит не только вывести правотворчество на новый качественный уровень, но и существенно снизить нагрузку на аппараты правотворческих и иных органов, задействованных в правотворческом процессе. Применение юртеха не ограничится только правотворчеством. Он может и должен внедряться в сферу правореализации. Опыт зарубежных стран показывает, что это перспективный путь повышения эффективности правореализационной, в том числе правоприменительной, деятельности. Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы. 1. Цифровые технологии способны менять образ права, влиять на его регулятивный потенциал и эффективность, открывать дорогу или блокировать его действие в новых измерениях социальной реальности. Векторы и пределы таких изменений до конца не ясны. Вероятно, это подтверждение зарождения нового права – «права второго модерна»1. 2. Анализ процессов цифровизации позволяет прогнозировать изменение механизма правообразования и композиции существующей модели социального регулирования, коррекцию границ известных социальных регуляторов и образование в ней ниши, которую займет программный код. 1 Зорькин В.Д. Право в цифровом мире. Размышление на полях Петербургского международного юридического форума. 102 3. Видится несколько вариантов дальнейшего развития событий: – право трансформируется в иной социальный регулятор, допуская появление программного кода или некой гибридной формы; – право сохранит свои субстанциональные признаки и будет мирно сосуществовать с программным кодом; – появится новая нормативная система, которая займет свое место в системе социальных норм наряду с правом, моралью, религией. Однако этот вариант можно прогнозировать на самую отдаленную перспективу. В культурных традициях современного общества глубоко укоренился ряд опасений по поводу искусственного интеллекта1, которые можно разделить на два основных страха: 1) перед превосходством машины над человеком; 2) перед причинением страданий роботу как субъекту. Если отвлечься от научной фантастики, современное состояние робототехники и разработок в области искусственного интеллекта не вызывает впечатления, достаточного для того, чтобы рассуждать о правовом регулировании указанных крайностей. Уровень интеллекта автономного робота-манипулятора, как правило, сводится к определению своего местоположения в установленной оси координат по отношению к препятствиям, что, по существу, сравнимо с интеллектом таракана2. ГОСТ Р ИСО 8373–2014, которым установлены базовые определения в сфере робототехники, предлагает под автономностью понимать деятельность без участия человека, в то время как роботу он отводит «некоторую степень» автономности, что соответствует описанной реальности. Говорить о полной автономности робота даже в ближайшей перспективе некорректно, что задает определенный вектор нормотворчества в данной сфере. Сам по себе искусственный интеллект, обеспечивающий автономность, по утверждениям специалистов, не следует отождествлять с сознанием, присущим человеку, а также с теми уровнями 1 Даже один из апологетов внедрения искусственного интеллекта в широкое потребление И. Маск в одном из интервью заявил: «С искусственным интеллектом мы вызываем демона. В этих историях, где есть парень с пентаграммой и святой водой, кажется, что он сможет контролировать демона. Но это не работает». URL: https://www.washingtonpost.com/news/ innovations/wp/2014/10/24/elon-musk-with-artificial-intelligence-we-are-summoning-the-demon (дата обращения: 01.02.2022). 2 С тараканом сравнил робота ASIMO (Advanced Step in Innovative Mobility), а также другие разработки в области робототехники популяризатор науки Мичио Каку. См.: Каку М. Физика будущего. М., 2012. С. 65, 67, 73, 86. С другой стороны, он не исключил возможностей резкого скачка в данной сфере. См. там же. С. 91. 103 сознания, которыми современная наука, в частности зоопсихология, наделяет животных. Интеллект, в отличие от сознания, означает лишь способность выполнять задачи по заданному алгоритму, а также обучаться, не испытывая по этому поводу эмоций1. С другой стороны, пока человечество не дало итогового научного определения понятия сознания, то и окончательно сбрасывать со счетов данную тему будет неверно. Кроме того, выделяют общий и специальный (предметно-ориентированный) искусственный интеллект. Современные роботы, как и роботы ближайшего будущего, могут обладать внушительным специальным ИИ, который, однако, бесполезен за пределами их узкой специальности2. В этой связи решения в сфере защиты человека от порабощения роботами, равно как и защиту прав роботов, следует оставить фантастам и прогрессивным футурологам. Однако специализация роботов, количество которых стремительно возрастает, требует точечного правового регулирования, исходя из функций робота, потенциальных пользы и вреда от его использования. Очевидно, что существующий подход к роботу как к вещи является недостаточным, поскольку не учитывает никакой степени автономности такой вещи от обладателя вещных прав на нее. По этой причине не только юристами, но и представителями иных социальных наук ведутся разработки в области правового регулирования отношений человека и робота с использованием различных экспериментальных методов. Виды решений в диалоге «человек – робот» В наиболее общем виде проблема современного регулирования робототехники – это проблема отсутствия должной стандартизации и режимов юридической ответственности, которые были бы основаны на фундаментальных концепциях развития национального законодательства. В специальном номере журнала Foreign Affairs, посвященном данной проблеме, отмечается, что если тенденцией XX века было максимальное отграничение робота от человека, в частности, в области промышленного производства, то сегодня указанный барьер сломлен и трендом является вовлечение 1 2 См.: Харари Ю.Н. Homo Deus. Краткая история будущего. М., 2018. С. 413–429. Джордан Д. Роботы. М., 2017. С. 8. 104 роботов в коммуникацию с человеком. Известный специалист в области робототехники И. Норбакш (I. Nourbakhsh) заметил, что порядок взаимодействия робота с человеком определяется тем, насколько хорошо в вопросах этики, морали и нравственности разбираются создатели автономных единиц. И. Норбакш подчеркнул: «Существует надежда, что политические и правовые институты заполнят данный пробел, установив правила, благодаря которым будет уменьшен возможный вред. Идеальный вариант, если стремительная экспансия роли роботов в обществе поддерживалась бы аналогичным впечатляющим ростом регулирования в области деликтного права… но развитие робототехники неумолимо ускользает от правоведов»1. Помимо отсутствия надлежащего регулирования ответственности в сфере робототехники существует риск, что созданное регулирование, основанное на неполном или ошибочном прогнозе развития правоотношений, может возыметь «эффект колеи». В этом случае все последующие разработки придется создавать исходя из заданной изначальной посылки, которая в перспективе может оказаться ограничивающей важную с точки зрения экономики или национальной безопасности отрасль. В этой связи нормативное оформление управленческих решений должно предоставить разработчикам и пользователям робототехники известную свободу действий. Одной из тенденций регулирования общественных отношений также является внедрение этических норм. Данная тенденция была отмечена Ю.А. Тихомировым: «Государственное управление расширяет сферы регулирования и путем использования профессиональных этических кодексов. Их появление и действие позволяет сочетать нравственно-специфические правила деятельности с соответствующими правовыми регуляторами»2. Число нормативных актов в мире, предметом которых является правовое регулирование искусственного интеллекта и робототехники, стремительно множится. Многие исследователи данного вопроса сходятся во мнении, что четвертая промышленная революция предполагает переосмысление традиционных способов регулирования общественных отношений, а может даже и иной взгляд на 1 Nourbakhsh I. The Coming Robot Dystopia. All Too Inhuman // Foreign Affairs “Hi, Robot. Work and Life in the Age of Automation”. № 94, 2015. P. 24. 2 Тихомиров Ю.А. Векторы управления в фокусе права // Вопросы государственного и муниципального управления. 2019. № 1. 105 сложившуюся систему права1. Данное замечание вполне логично, учитывая, что система права, как и любая другая система, в условиях неопределенности, вызванной научно-техническим прогрессом, становится нестабильной. Возрастает потребность в повышении качества прогноза развития системы права путем постепенного конструирования новых регулятивных рамок. Для этого требуется оценка всей совокупности правовых актов как элементов системы права в целом, а также каждого из них по отдельности в качестве подсистем, имеющих вертикальные и горизонтальные связи внутри системы права. Именно различные виды связей правовых актов внутри системы права способны обеспечить ее стабильность, планомерность развития2. Необходимые исследования в области развития российского законодательства о робототехнике и киберфизических системах, в том числе в части определения понятия киберфизических систем, порядка ввода их в эксплуатацию и гражданский оборот, определения ответственности были обозначены в Плане мероприятий по направлению «Нормативное регулирование» программы «Цифровая экономика Российской Федерации»3 (далее – План мероприятий). А.В. Незнамов, В.Б. Наумов, одни из участников названных исследований, рассуждая о потребности в эффективном регулировании, положительно оценили действие закона Южной Кореи «О развитии и распространении умных роботов»: «…само по себе принятие Закона позволило увеличить общий объем производства роботов в Корее на 79%, а общий прямой эффект Закона (по сравнению с расчетом, как если бы его не было) на 2014 г. составил более 4 млрд долл.»4. Однако для Российской Федерации данными авторами предлагается не принятие базового стимулирующего федерального закона, но четырехуровневая стратегия регулирования робототехники и искусственного интеллекта: 1 Например, концепция «циклических правовых массивов», краткий обзор идеи которой представлен в статье: Хабриева Т.Я., Черногор Н.Н. Право в условиях цифровой реальности // Журнал российского права № 1 (2018) С. 85–102. DOI: 10.12737/art_2018_1_7. 2 См.: Уманская В.П. Правовые акты органов исполнительной власти: системный подход: монография. М., 2014. С. 134, 146. 3 План мероприятий по направлению «Нормативное регулирование» программы «Цифровая экономика Российской Федерации» утв. Правительственной комиссией по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (протокол от 18 декабря 2017 г. № 2). 4 Незнамов А.В., Наумов В.Б. Стратегия регулирования робототехники и киберфизических систем // Закон. 2018. № 2. С. 69–89. 106 Уровень 1. Государственная программа (концепция) развития технологий робототехники и искусственного интеллекта. Уровень 2. Основы законодательства о киберфизических системах. Уровень 3. Пакетные адресные изменения федеральных законов. Уровень 4. Пакетные адресные изменения подзаконных актов. Названные уровни предполагают поочередность реализации, а также определение круга органов власти, ответственных за их принятие. В известной степени эффективность управленческой деятельности обеспечивается ее формой. При этом результатом исследования в Плане мероприятий обозначены следующие предполагаемые результаты исследования: «1) анализ и предложения по установлению иерархии правовых понятий в сфере создания, использования и распространения киберфизических систем, классификация таких систем, основной состав прав и обязанностей лиц, участвующих в отношениях, связанных с применением систем; 2) предложения по определению ответственности в сфере использования киберфизических систем, системы страхования рисков, связанных с использованием киберфизических систем; 3) предложения по определению порядка: использования персональных данных различными формами киберфизических систем (чат-ботами, устройствами в интернете вещей и т.д.); деятельности по сбору, передаче, хранению, обработке и доступу к данным, генерируемым в связи с использованием информационных технологий физическими и юридическими лицами, в том числе в части сбора таких данных в зависимости от волеизъявления субъектов; 4) предложения по определению условий по обработке и коммерческому использованию таких данных, механизмов сбора и использования больших массивов данных; 5) предложения по определению порядка раскрытия информации, режима открытых данных, принципов раскрытия данных по умолчанию, порядка обеспечения сохранности сведений, охраняемых законом (тайна связи, тайна личной жизни и т.п.), обрабатываемых при использовании киберфизических систем; 6) предложения по определению порядка использования отдельных категорий сервисных роботов, минимальных требований к введению в эксплуатацию отдельных категорий роботов и роботизированных устройств, направленных на обеспечение безопасности и контролируемости устройств; 107 7) предложения по определению требований к используемым датчикам, средствам измерений и измерительным системам с учетом положений законодательства об обеспечении единства изме­ рений»1. Реализация приведенного плана мероприятий позволит в известной степени очертить будущее нормативно-правового регулирования робототехники. Важнейшими вопросами при этом остаются юридическое оформление требуемых управленческих решений, установление порядка развития системы не только вертикального, как это следует из Плана мероприятий (п. 1), но и горизонтального регулирования от уровня федерального законодательства до уровня правовых актов федеральных органов исполнительной власти и правовых актов региональных органов власти. Принятие управленческих решений согласно классическим теориям менеджмента в первую очередь должно быть связано с ответом на вопрос: кто является заинтересованным лицом? В этой связи необходимо осуществлять мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, которая связана с производством и эксплуатацией роботов. Д. Джордан верно отметил: «Люди зачастую не знают, чего хотят, когда им показывают ряд готовых вариантов на выбор. Фокусгруппы и другие технологии исследования рынка не срабатывают для оценки «сверхновых» продуктов»2. Как указал Дж. Балкин, зачастую способ использования новой технологии определяется уже после ее внедрения в эксплуатацию3. Поэтому следует с осторожностью подходить к регулированию процесса производства готового продукта и предоставлять производителю разумную свободу в выборе компонентов робота и способов их планируемой эксплуатации. Таким образом, среди наиболее важных проблем, которые могут возникнуть при определении порядка правового регулирования, можно выделить появление новых незапланированных способов использования технологий, в частности так называемых побочных продуктов. В одном из самых известных российских дел в области Big Data по иску ООО «ВКонтакте» (Истец) к резиденту Сколково ООО «ДАБЛ» См.: План мероприятий по направлению «Нормативное регулирование»… Джордан Д. Указ. соч. С. 8. 3 J. Balkin. The Path of Robotics Law // California Law Review Circuit. 2015. V. 6. P. 47. 1 2 108 (Ответчик 1) и АО «Национальное бюро кредитных историй» (Ответчик 2) об использовании сведений, размещенных Истцом в открытом доступе, Ответчик 1 ссылался, помимо прочего, на то, что информация о пользователях, содержащаяся на сайте Истца, является побочным продуктом “spin off”, в связи с чем его эксплуатация не нарушает интеллектуальных прав Истца как автора базы данных (Постановление от 24 июля 2018 г. по делу № А40-18827/2017). Приведенный пример из судебной практики в области новых технологий является скорее единичным. Дела по искам, связанным с использованием искусственного интеллекта или роботов, практически не рассматриваются российскими государственными судами. Однако, в условиях неопределенности правовых режимов эксплуатации робототехники, возникновение подобных вопросов неизбежно. План мероприятий, рассмотренный выше, также предполагает для разрешения проблем, связанных с неопределенностью порядка использования новых технологий, применение при нормотворчестве «регулятивных песочниц» (regulatory sandbox), механизма, успешно апробированного на сегодняшний день Банком России1. Данное понятие в российскую практику было официально внедрено решением Высшего Евразийского экономического совета от 11 октября 2017 г. № 122, согласно которому под регулятивной песочницей понимается специально согласованный режим проработки и пилотирования решений, в том числе регуляторных, для определения эффективной модели взаимодействия и построения бизнес-процессов в какой-либо новой сфере. Регулятивную песочницу целесообразно использовать для проработки механизмов и правил регулирования экономических процессов в рамках цифровых инициатив и проектов. В России внедрение регуляторных песочниц запланировано на 2019 г., в случае принятия соответствующего законопроекта, разработанного Минэкономразвития РФ3. Использование механизма регулятивной песочницы рекомендуется к применению Генеральным секретарем ООН по вопросам 1 См.: Андронова Т.А., Тарасенко О.А. Регулятивная песочница: традиции vs. инновации // Банковское право. 2018. № 3. С. 31–36. 2 Решение Высшего евразийского экономического совета от 11 октября 2017 г. № 12 «Об Основных направлениях реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года». 3 URL: http://static.government.ru/media/files/3b1AsVA1v3VziZip5VzAY8RTcLEbdCct.pdf (дата обращения: 01.02.2022). 109 инклюзивного финансирования развития (UNSGSA). Размещенная на сайте данной организации брошюра, посвященная краткой истории данного метода, описывает его как подход, который позволяет в режиме тестирования в настоящем времени испытать инновации под надзором регулятора1. Новые финансовые продукты и технологии, а также бизнес-модели могут тестироваться согласно установленному своду правил, требований поднадзорности и необходимым гарантиям безопасности. Регулятивная песочница создает рамки благоприятного пространства, где сотрудники и иные заинтересованные лица экспериментируют с инновациями на грани или даже за пределами существующего регулирования. Такой подход позволит внедрить повсеместную практику использования методов brainstorming и think tank при обсуждении новаций в области коммерческого использования робототехники, решать на ходу вопросы многопрофильной эксплуатации роботов. Благодаря регулятивным песочницам планируется наладить диалог государства и бизнеса, предоставив хозяйствующим субъектам возможность мотивированного требования изменения механизма правового регулирования, связанного с цифровыми технологиями, для нужд их наиболее эффективного внедрения. На основании изложенного можно спрогнозировать, что формы управленческих решений в отношениях «человек – робот» будут определяться по трем основным направлениям: 1) «сверху вниз» – путем принятия наиболее общих концепций и декларативных норм, задающих ракурс развития правоотношений и определяющих содержание конкретных правовых актов; 2) «снизу вверх» – путем влияния правовых актов на акты более высокого уровня в вертикальной системе правовых актов и равнозначные акты в горизонтальной системе правовых актов с последующей конкретизацией норм более высокого порядка; 3) в ходе применения экспериментальных правовых режимов – путем формирования нормативных актов по итогам оценки предоставления специального правового режима заинтересованным лицам. При этом наибольшее внимание следует уделить низшим элементам системы права, в частности подзаконным нормативным актам и правовым актам органов исполнительной власти. 1 URL: https://www.unsgsa.org/files/1915/3141/8033/Sandbox.pdf (дата обращения: 01.02.2022). 110 Указанные акты, как правило, подразделяются на следующие группы: – целеполагающие акты (целевые программы, концепции и планы действий); – регламентирующие акты (правила, порядки, методики и инструкции); – статутные акты (положения об учреждении органов исполнительной власти, а также об осуществлении отдельных видов деятельности, например ведении специальных реестров); – табельные группы (перечни, списки, реестры, классификаторы, номенклатуры)1. Правовые режимы подготовки, принятия и реализации решений Как было отмечено выше, перспективы правового регулирования в сфере робототехники подразумевают принятие базовой концепции, основ законодательства, пакетных изменений федеральных законов и подзаконных нормативных актов, разработку новых правовых актов Президента РФ, Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти. Также по вопросам совместного ведения Федерации и субъектов Федерации, по вопросам исключительного ведения субъектов Федерации возможно принятие региональных правовых актов уровня регионального закона и соответствующих подзаконных актов. Если порядок принятия федеральных законов является формально определенным и стабильным, то порядок подзаконного, в том числе ведомственного, регулирования нуждается в детальном рассмотрении ввиду его изменчивости. Такая изменчивость предо­ ставляет системе правового регулирования требуемую мобильность, но может привносить неопределенность в случае рассогласованности системы подзаконных правовых актов, что ведет к риску отсутствия необходимой юридической силы соответствующих норм права. Так, согласно ч. 1 ст. 90 Конституции РФ Президент РФ издает указы и распоряжения. Нормативные указы Президента РФ принимаются в упрощенном порядке по сравнению с федеральными законами и могут служить средством оперативного правового 1 См.: Уманская В.П. Указ. соч. С. 167–195. 111 регулирования высокого уровня, восполняя пробелы в данной сфере. Указами Президента РФ также, как правило, утверждаются целеполагающие документы. Вместе с тем следует заметить, что на практике такие документы, как концепции1, перечни2, доктрины3, основы государственной политики4, стратегии5, национальные планы6, могут не утверждаться ни одним из названных документов, но содержат указание на то, что они утверждены Президентом РФ. Статьей 115 Конституции РФ предусмотрено принятие Правительством РФ постановлений и распоряжений. Правительство РФ также утверждает планы мероприятий (дорожные карты)7, комплексы мер8, порядки (в том числе временные порядки)9, методические указания10, регламенты11 и иные документы без принятия для целей утверждения постановлений и распоряжений. Акты Правительства РФ зачастую содержат оговорку о том, что они принимаются во исполнение актов высшей юридической 1 См., например: Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Президентом РФ 30 мая 2018 г.); Концепция «Русская школа за рубежом» (утв. Президентом РФ); Концепция участия Российской Федерации в объединении БРИКС (утв. Президентом РФ). 2 См., например: Перечень поручений по вопросам реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. Президентом РФ 28 февраля 2019 г. № Пр-300). 3 См., например: Морская доктрина Российской Федерации (утв. Президентом РФ 26 июля 2015 г.); Военная доктрина Российской Федерации (утв. Президентом РФ 25 декабря 2014 г. № Пр-2976). 4 См., например: Основы государственной политики в области использования результатов космической деятельности в интересах модернизации экономики Российской Федерации и развития ее регионов на период до 2030 года (утв. Президентом РФ 14 января 2014 г. № Пр-51). 5 См., например: Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года (утв. Президентом РФ). 6 См., например: Национальный план противодействия коррупции на 2010 – 2011 годы (утв. Президентом РФ от 31 июля 2008 г. № Пр-1568). 7 См., например: План мероприятий («дорожная карта») по поэтапному замещению в течение трех лет средств граждан, привлекаемых для создания многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, банковским кредитованием и иными формами финансирования, минимизирующими риск для граждан (утв. Правительством РФ 21 декабря 2017 г.). 8 См., например: Комплекс мер по обеспечению организованного отдыха и оздоровления детей на 2019–2023 годы (утв. Правительством РФ 28 февраля 2019 г. № 1814п-П8). 9 См., например: Временный порядок ввоза на территорию Российской Федерации подержанных праворульных автомобилей жителями Дальневосточного федерального округа для собственных нужд (утв. Правительством РФ 21 ноября 2018 г. № 9525п-П9). 10 См., например: Методические указания по разработке национальных проектов (программ) (утв. Правительством РФ 4 июня 2018 г. № 4072п-П6). 11 См., например: Регламент Правительственной комиссии по импортозамещению (утв. Правительством РФ 28 января 2016 г. № 740п-П9). 112 силы: Конституции РФ, федеральных законов, нормативных указов Президента РФ. Зачастую целеполагающие акты Правительства РФ предусматривают создание дополнительных правовых актов Правительства РФ, в частности федеральных целевых программ1. В отдельных случаях нормативные акты Правительства РФ принимаются на основании индивидуальных актов Правительства РФ. Федеральная целевая программа является актом наиболее общего характера, принимаемым Правительством РФ. В отличие от концепций, носящих методический характер и разрабатываемых обычно для органов государственной власти, и планов действий, программ действий, принимаемых Правительством РФ, целевые программы охватывают проблему в целом и фокусируют внимание на потребности в дальнейшей конкретизации нормативного регулирования. Следует заметить, что на практике установить отличия плана действий и программы действий, утверждаемых Правительством РФ, невозможно, поскольку оба названных документа подразумевают в содержании наличие перечня определенных конкретных действий, а также сроков их исполнения. Таким образом, логичным порядком подзаконного регулирования в сфере робототехники является утверждение Правительством РФ федеральной целевой программы – уровень 1, концепции – уровень 2, плана действий (программы действий) – уровень 3. Указанные документы в совокупности должны обладать системным единством и обеспечивать юридическую силу актов более высокого уровня в вертикальной иерархии правовых норм, поскольку именно акты Правительства РФ могут предусматривать конкретный механизм воплощения предписаний закона. Можно также спрогнозировать большую значимость регламентирующих и статутных актов Правительства РФ по общим и отраслевым вопросам робототехники. Кроме того, Правительством РФ отдельные частные вопросы правового регулирования робототехники могут быть переданы на уровень федеральных органов исполнительной власти, что также обеспечит исполнение закона с необходимым уровнем мобильности. Нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (далее – ФОИВ) разрабатываются согласно правилам, преду­ смотренным Постановлением Правительства РФ от 13 августа 1 См., например: Раздел III Постановления Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 594. 113 1997 г. № 1009 «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации» (далее – Правила). Пунктом 1 Правил предусмотрено, что нормативные правовые акты ФОИВ издаются на основе и во исполнение федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ, а также по инициативе федеральных органов исполнительной власти в пределах их компетенции. При этом органы исполнительной власти ежегодно составляют план подготовки проектов нормативных правовых актов, включая в него нормативные правовые акты, разработка которых прямо не предусмотрена законодательными актами Российской Федерации, поручениями или указаниями Президента РФ, а также поручениями Председателя Правительства РФ. Пунктом 2 Правил закреплены формы нормативных правовых актов ФОИВ: постановления, приказы, распоряжения, правила, инструкции и положения. Издание нормативных правовых актов в виде писем и телеграмм не допускается. Не могут также издавать нормативные правовые акты структурные подразделения и территориальные органы ФОИВ. Допускается издание совместных нормативных актов ФОИВ. Следует также отметить, что п. 5 Правил установлено, что в процессе работы над проектом нормативного правового акта должны быть изучены относящиеся к теме проекта законодательство Российской Федерации, договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ, практика применения соответствующих нормативных правовых актов, научная литература и материалы периодической печати по рассматриваемому вопросу, а также данные социологических и иных исследований, если таковые проводились. При подготовке нормативного правового акта проводится его правовая экспертиза, а также антикоррупционная экспертиза. По отдельным вопросам осуществляется оценка регулирующего воздействия (п. 3(1) Правил). Помимо Правил, утвержденных Правительством РФ, ФОИВ могут также принимать собственные правила разработки нормативных правовых актов. Такие специальные правила, в частности, утверждены Министерством внутренних дел РФ1, Федеральной 1 Приказ МВД России от 27 июня 2003 г. № 484. 114 таможенной службой РФ1. При этом названные специальные правила могут отличаться от Правил, утвержденных Правительством РФ, по содержанию. Например, п. 5 Приказа МВД России от 27 июня 2003 г. № 484 установлены следующие виды нормативных правовых актов, принимаемых данным министерством: приказы, положения, уставы, инструкции, правила, наставления и иные нормативные акты. Отношения, связанные с реализацией ФОИВ функций по подготовке и оформлению решений, подготовке и рассмотрению проектов актов, вносимых в Правительство РФ, по разработке законопроектов, урегулированы Типовым регламентом внутренней организации федеральных органов исполнительной власти, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28 июля 2005 г. № 452 (далее – Типовой регламент). Так, согласно п. 3.1 Типового регламента, решения ФОИВ оформляются в виде приказа или в случаях, установленных законодательством, в виде иных актов. При этом ФОИВ не лишен права давать письменные пояснения в сфере своей компетенции по правовым вопросам в иной форме, в том числе в форме письма, при наличии в нем необходимой оговорки об отсутствии в таком письме нормативного содержания. Если на федеральные службы и федеральные агентства возложена функция правоприменения, то федеральные министерства осуществляют выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере своей компетенции в силу Указа Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»2. Однако не исключено наделение федеральных служб и агентств нормотворческими полномочиями в силу специальных указов Президента РФ или постановлений Правительства РФ. На основе анализа существующей практики издания правовых актов ФОИВ В.П. Уманская сделала вывод: «Фактически издаются два вида актов – приказы и распоряжения, которые утверждают различные по форме и содержанию акты. Многие ФОИВ издали свои правила подготовки НПА, которые во многом дублируют Постановление Правительства РФ № 1009, но некоторые либо выборочно закрепили виды правовых актов, либо дополнили их. Следовательно, федеральные министерства, службы и агентства самостоятельно решают проблемы правотворческой деятельности. 1 2 Приказ ФТС России от 1 декабря 2016 г. № 2266. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314. 115 …Правовые акты федеральных министерств занимают особое место в системе законодательства. Прежде всего, это предопределено положением данных органов в государственном механизме, а также характером выполняемых функций и задач. Акты министерств многочисленны, так как они призваны осуществлять детальное регулирование по оперативным вопросам. Особое место правовых актов федеральных министерств определяется их статусом и обширными полномочиями по выработке государственной политики»1. В.П. Уманская, рассматривая практику подготовки и реализации правовых актов ФОИВ, полагает причиной возможной неэффективности правового регулирования несоответствие реальных общественных отношений действующим правовым нормам, которые могут возникать по следующим основаниям: «Во-первых, правовые акты органов исполнительной власти могут отставать от экономического развития, что сразу же отражается на складывающихся правоотношениях. Во-вторых, нормативные правовые акты могут недопустимо обгонять реальные общественные отношения или просто их не учитывать. Как правило, правовые акты принимаются органами исполнительной власти с учетом определенной перспективы изменения общественных отношений для того, чтобы создать некий ресурс для их развития. Однако в случае ошибки прогнозирования правовой акт может оказаться малоэффективным. В-третьих, правовые акты органов исполнительной власти могут либо отставать от вышестоящих действующих норм, например федеральных законов, либо, наоборот, сдерживаться ими в развитии. В обоих случаях результатом будет низкая эффективность или бездействие таких актов»2. Изложенное поднимает значимость внедренной в 2010 г. системы оценки регулирующего воздействия нормативных актов, которая на сегодняшний день известна в двух вариантах: перспективном3 и ретроспективном4. См.: Уманская В.П. Указ. соч. С. 195. Там же. С. 211–212. 3 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»; Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. № 1318 «О порядке проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и проектов решений Евразийской экономической комиссии, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 4 Постановление Правительства РФ от 30 января 2015 г. № 83 «О проведении оценки фактического воздействия нормативных правовых актов, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 1 2 116 Несмотря на кажущуюся привлекательность создания специализированного министерства робототехники и технологий искусственного интеллекта, подобные действия были бы преждевременными. Однако можно попытаться спрогнозировать возможные действия ряда министерств, ответственных за выработку государственной политики в сферах своей компетенции, по подготовке предложений по нормативному закреплению актуальных правил эксплуатации робототехники. Действующий перечень федеральных министерств утвержден Указом Президента РФ от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Представляется, что наиболее востребованными будут проекты нормативных актов, представленные следующими министерствами. Министерство внутренних дел Российской Федерации – в части обработки информации в целях получения аналитических сведений о состоянии преступности и методах борьбы с ней, об эффективной пропаганде правомерного поведения, а также о преду­ преждении совершения отдельных видов преступлений. Важным является урегулирование вопросов применения робототехники в оперативно-­разыскной деятельности, в том числе по сбору оперативной информации и информации, используемой в качестве допустимых доказательств на стадии судебного следствия. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – в области поисково-спасательных операций с использованием автоматизированных аппаратов (дронов, беспилотных летательных аппаратов), прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Министерство здравоохранения Российской Федерации – в части внедрения роботов-помощников, роботов, ответственных за прием и обработку входящих сообщений о вызове скорой медицинской помощи, роботов-аналитиков, формирующих перечни возможных диагнозов исходя из выявленных симптомов, а также варианты лечения, исходя из утвержденных данным министерством правил. Также в ведении данного министерства находятся области обязательного медицинского страхования, обращения лекарственных средств, фармацевтической деятельности. Перспективными являются разработки внедрения роботов-­ ассистентов в указанные сферы. Например, прогнозируется, что робот-фармацевт позволит исключить даже тот низкий процент 117 ошибок в подборе лекарственных средств, который имеется на сегодня и составляет около 2% в год от общего числа проданных лекарств. Министерство культуры Российской Федерации – в части определения порядка использования результатов интеллектуальной деятельности, полученных с использованием роботов, в том числе с использованием современных концепций распределения прибыли между собственником робота, собственником домена, провайдером и т.д. Отдельного внимания названного министерства заслуживают разработки в области блокирования несанкционированного доступа к охраняемым законом персональным данным и результатам интеллектуальной деятельности. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации – в части разработок в области научно-технической и инновационной деятельности, нанотехнологий, развития федеральных центров науки и высоких технологий, государственных научных центров и наукоградов, интеллектуальной собственности1. Министерство обороны Российской Федерации – в части использования роботов в военных целях, а также в области эффективного использования имущества Вооруженных сил Российской Федерации. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации – в части использования робототехники для целей государственного мониторинга радиационной обстановки, а также охраны окружающей среды. Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики – в части использования роботов для обеспечения бесперебойных поставок грузов на данные территории, а также мониторинговых и иных действий, осуществляемых на территориях Арктики и Дальнего Востока. Министерство юстиции Российской Федерации – в части внедрения роботов-ассистентов, применяемых для целей административного правоприменения. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации – в части внедрения робототехники в сферы промышленного и оборонно-промышленного комплексов, промышленности строительных материалов (изделий) и строительных конструкций, 1 Вопросы внедрения робототехники в образовательные практики подробно освещены в статье: Малинецкий Г.Г., Сиренко С.Н. Робототехника и образование: новый взгляд // Вестник Российской Академии Наук. Т. 87. № 12. 2017. С. 1101–1109. 118 энергосбережения и повышения энергетической эффективности при обороте товаров, а также в области развития авиационной техники и экспериментальной авиации, технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений, науки и техники в интересах обороны и безопасности государства, внешней и внутренней торговли, в сфере машиностроения, металлургической, химической, фармацевтической, биотехнологической, медицинской, легкой, лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей, электронной, авиационной и судостроительной промышленности, промышленности средств связи, радиопромышленности, промышленности боеприпасов и специальной химии, химического разоружения, промышленности обычных вооружений и т.д. Одной из наиболее важных функций Министерства промышленности РФ является функция федерального органа по техническому регулированию. Как верно отмечено в работе «Глобальное административное право», технические нормы в условиях научного прогресса имеют большую подвижность, эффективность методов их принятия растет, но при этом увеличивается и необходимость в отчетности о реализации нужд потребителей, операторов и властей1. Федеральными законами «О техническом регулировании» «О стандартизации в Российской Федерации» установлено, что до принятия технического регламента действующими являются государственные стандарты, применящиеся на добровольной основе (ст. 16.1 Закона о техрегулировании, ст. 26 Закона о стандартизации). Принимая во внимание, что число вновь принимаемых государственных стандартов растет гораздо стремительней, чем новых технических регламентов, а данные стандарты являются рекомендациями, за исключением специально указанных положений для обязательного применения, данный способ регулирования можно считать приоритетным. Производитель товара, работы или услуги вправе реализовать положения ГОСТ свободно, исходя из спроса и экономической целесообразности. Данный вывод также подтверждается судебной практикой2. Следовательно, нормативное регулирование и техническое регулирование должны быть тесно взаимосвязаны. Техническое Global Administrative Law. Cases, Materials, Issues. San Francisco, 2008. P. 162. Решение Верховного Суда РФ от 11 августа 2016 г. № АКПИ16-560; Постановление 9 ААС от 24 апреля 2017 г. по делу № А41-77125/16. 1 2 119 регулирование должно предусматривать рекомендации в области разработки и эксплуатации робототехники, за нарушение которых законами и подзаконными актами может быть преду­ смотрена ответственность. При этом перспективной видится разработка государственных стандартов в отдельных отраслях робототехники. § 2. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Уголовный процесс можно рассматривать в качестве реакции государств на такое социальное явление, как правонарушение, и его опасную форму выражения в виде преступления. Существует, естественно, много способов реагирования государств, которые вовсе не связаны с уголовным судопроизводством, поскольку проявление мудрости как раз заключается в широком применении превентивных мер. Они включали в себя простое освещение улиц или обычное поддержание видимого присутствия сил правопорядка, но постоянно эволюционировали с развитием технологий, поскольку и правонарушения становились все более изощренными и требовали адекватных ответов на новые вызовы. Уголовный процесс – только часть общего устремления по поддержанию демократического правопорядка. Он заключается в применении уголовного законодательства к гражданам, преступившим или стремящимся преступить установленный законом порог. Уголовное преследование выражается в процессе, который не всегда завершается судебным разбирательством, а в случае, когда оно состоится, – обязательным вынесением обвинительного приговора. Между тем и широкое использование технологий по наблюдению, сбору, хранению и обработке данных также не основано на презумпции сомнения в добропорядочности граждан, хотя и затрагивает неприкосновенность их личной жизни. Основная функция уголовного судопроизводства состоит в определении и достижении целей самого процесса: выяснении того, совершило ли лицо, представшее перед судом, вмененное ему конкретное преступление, соблюдая при этом справедливость, поддерживаемую реализацией надлежащих правовых процедур. При этом все этапы уголовного процесса предполагают, чтобы они 120 как в досудебной, так и в судебной стадиях, состоящие, к примеру, в сборе доказательств, их допустимости, отвечали принципам демократии, верховенства права и защиты прав человека. Очевидно, что любое расследование связано с наличием определенных прав по сбору доказательств, начиная от простых отпечатков пальцев и образцов ДНК. Главным достижением человечества считается соблюдение гарантий прав человека, среди которых особое или, можно сказать, центральное место занимает достоинство человека. Эффективный уголовный процесс включает в себя в качестве составляющего элемента принудительный аспект. Однако и он должен применяться при условии соблюдения уважения к достоинству человеческой личности. Фактически это одна из ключевых проблем уголовно-процессуального права: каковы бы ни были достижения технологий и их использование как части принуждения, может быть не в столь очевидной форме, они должны тем не менее соотноситься с требованиями защиты прав человека и фундаментальным условием справедливого судебного разбирательства. С учетом этого уголовный процесс должен обес­ печивать гарантии допустимости доказательств, которые и могут лечь в основу эффективного судебного разбирательства, исключая неприемлемые. Широкое использование современных технологий играет существенную роль в усилении безопасности, защите правопорядка и раскрытии преступлений. Парадокс заключается в том, что реализация достижений информационных технологий может как способствовать усилению защиты прав человека, к примеру, за счет сокращения числа неосновательных преследований и улучшения качества расследования и рассмотрения дел, так и сопровождаться ростом ущемления прав и свобод. Частную жизнь человека следует рассматривать в качестве составной части свободы, и любое ущемление отражается на ней. Социальный эффект от необоснованных ограничений может быть иным, когда вмешательство в осуществление прав может посягать на баланс между государством и гражданином, потенциально нарушая эффективное функционирование, основанное на широком и активном участии каждого человека. Очевидно, что защита прав человека – основная задача государства. Успешному разрешению возможного потенциального конфликта в рассматриваемом нами аспекте служит прогрессивная система юстиции с соблюдением демократических принципов 121 судопроизводства. Речь идет о том, как государство будет способно сочетать внедрение технологий с целью повышения эффективности расследования и судебного разбирательства с гарантиями прав человека, то есть уважительным отношением к достижениям человечества в области судопроизводства на протяжении всей истории. Следует признать, что сложная задача выдвигается в цифровую эпоху, когда требуется постоянное поддержание баланса прав человека, а именно прав на защиту частной жизни, свободу выражения мнений, конфиденциальность и многих иных прав, включая право на свободу и необходимость использования конкретной технологии, нарушившей эти права. Таким образом, судам предстоит в каждом случае проверять соразмерность примененного средства, выбранного для достижения обозначенной цели. Следовательно, необходимо признать значение уравновешивания различных прав. Заметим, что применяемые государством современные методы наблюдения не всегда направлены на преследование подозреваемых, а исходят из задачи защиты людей, общественной безопасности. По сути дела, мы рассуждаем о требованиях, которым они должны отвечать, причем, как и любое вмешательство, оно обязано быть предусмотрено законом, то есть быть легитимным. Здесь необходимо пояснить, что действие конституционного принципа презумпции невиновности продолжается, просто происходит требуемая корректировка подходов с учетом технологической эволюции. Используемые технологии составляют основу современной методологии следствия, и не все тонкости, разновидности, способы влияния на права человека изучены до конца. Изложенное касается в первую очередь проблемы их влияния на презумпцию невиновности. На наш взгляд, следует признать, что широкое распространение технологий наблюдения диктует необходимость изучения связи между самим наблюдением и презумпцией невиновности. Общеизвестно, что указанная доктрина применяется в основном в рамках уголовного процесса и выступает в качестве процессуальной гарантии для лиц, обвиняемых в правонарушении как в досудебной, так и судебной стадии процесса. Презумпция невиновности не применяется вне контекста расследования и судебного разбирательства, то есть до того, как формально предъявлены обвинения. Задача государства заключается в получении точной и полной информации о деятельности лиц, потенциально представляющих опасность при наличии конкретных фактов с целью их 122 последующего уголовного преследования и сбора доказательств. В то же время определенные ограничения в применении презумпции невиновности соприкасаются с массовым использованием различных технологий наблюдения, сбора и обработки данных, их хранения с целью применения для обнаружения и предупреждения правонарушений. Законодатель постоянно стремится ставить неограниченное вмешательство в личную жизнь в определенные цивилизационные рамки. Однако зависимость в росте правовых гарантий несоизмеримо увеличивается. Судебная практика ясно показывает осознание возможностей нарушения презумпции невиновности на ранних стадиях уголовного процесса. В правовой литературе излагалась позиция, согласно которой существующее положение ведет к изучению презумпции невиновности в двух измерениях или аспектах: 1) правовая презумпция и 2) моральная презумпция. Так, первая позиция обеспечивает защиту обвиняемого от осуждения, когда еще не доказано вне разумных сомнений, что поведение лица образует правонарушение. Моральная же презумпция защищает обвиняемого от осуждения в уголовном правонарушении, поскольку его поведение не является преступлением1. Моральная презумпция в широком смысле ограничивает круг лиц, подлежащих уголовному преследованию. Существует значительная разница между упомянутыми аспектами. Правовая презумпция в немалой степени зависит от закона и определяет границы и стандарт доказывания относительно преступления и защиты. Моральная презумпция вовлекает суд в этическую и социальную оценку законности материального уголовного права. В итоге правовая презумпция признается и регулируется законом, моральная же – нет. Вопрос в том, может ли последний аспект иметь какую-нибудь значимость на досудебной стадии уголовного процесса2. Думается, актуальность и востребованность моральной презумпции диктуется ростом использования технологий, и задача судов – выработать практику по их легитимизации путем правовой интерпретации. Моральная презумпция служит установлению самой виновности лица. Связь между ст. 6 § 2 Европейской конвенции по 1 Tadros v. Rethinking the Presumption of innocence. Criminal Law and Philosophy. 2007. Vol. 1. № 2. P. 193–213. 2 Galetta A. The Changing Nature of the Presumption of Innocence in Today`s Surveillance Societies: Rewrite Human Rights or Regulate the Use of Surveillance Technologies? European Journal of Law and Technology. 2013. Vol. 4. № 2. P. 12. 123 правам человека (далее – Конвенция) и ст. 8 Конвенции и моральной презумпцией показана в деле «S. and Marper v. The United Kingdom», рассмотренном Европейским судом по правам человека (далее – Суд). Указанное дело касалось двух лиц, Mr. S. и Mr. Marper, которые были взяты под стражу, а затем им было предъявлено обвинение в совершении преступлений. У них были взяты отпечатки пальцев и образцы ДНК. После оправдания заявителей они обратились с просьбой об уничтожении взятых у них отпечатков пальцев и образцов ДНК. Их обращения были отклонены, поскольку, согласно закону, эти данные могли храниться бессрочно. Суд подчеркнул, что закон не оговаривает условия и порядок хранения названных данных, не предоставляет гарантий, исключающих их нецелевое использование, а также не предусматривает возможности принимать во внимание индивидуальные особенности каждого дела. Заявители обратились в Суд по ст. 8 Конвенции, не упоминая ст. 6 § 2. Установив нарушения ст. 8, Суд указал, что хранение упомянутых данных без срока создает восприятие виновности, риск порицания и видимости обращения с оправданными как с осужденными лицами1. Хочется отметить, что названные выводы Суда подтверждали, как использование технологий может подорвать презумпцию невиновности. Суд говорит об общественном восприятии и его важной роли в идентифицировании лица в качестве невиновного. Он указывает на гарантии защиты лица от ошибочного восприятия публикой. Таким образом, названное решение Суда демонстрирует, что презумпция невиновности не просто правовая реальность, имеющая первостепенное значение с точки зрения прав человека, но и нравственная ценность, требующая правовой защиты. Надежная и адекватная защита в изложенном смысле могла бы служить контр­ балансом использованию без достаточных оснований различных технологических устройств и ограничению его возможных отрицательных последствий. Представляется важным обратить внимание и на такой аспект моральной презумпции, как ее роль в определении приемлемости полученных в результате применения цифровых технологий данных, возможностей их использования, если вызывает сомнение правовая регламентация. Моральная презумпция служит также 1 См.: S. and Marper v. The United Kingdom, no. 30562/04 and 30566/04, Постановление от 4 декабря 2008 г., § 124, 125. 124 развитию судебного правотворчества, когда судьи решают вопрос на стыке нормы права и морали, обнаруживают пробелы в правовом регулировании и предпринимают действия по их преодолению. Мы затронули пока только одну фундаментальную доктрину – презумпцию невиновности, понимая, что в основе справедливой правовой системы лежит уважение к таким важнейшим принципам, как состязательность и равенство сторон. В нашей повседневной жизни используется множество цифровых устройств, к которым можно подходить и с точки зрения источников, генерирующих доказательства, когда придется решать вопрос не просто приемлемости, но и равенства прав сторон в процессе. Сами правоохранительные органы, как мы подчеркивали, все активней задействуют передовые технологии для предотвращения и расследования правонарушений, и их усилия приводят к получению цифровых доказательств. В результате их распространения возникают проблемы не просто с законностью их получения, обработки и хранения, но и появляются новые вызовы для обвинения и защиты. Эти доказательства должны быть доступными сторонам. По мере расширения объема информации, хранящейся в электронном виде, ее обработка, раскрытие и анализ представляются непростой задачей для обвинения и защиты. Как терабайты доказательств сделают их доступными для поиска? Если имеются цифровые файлы с записями прослушивания телефонных разговоров и видеонаблюдением для поиска, должно ли обвинение классифицировать или индексировать их? Как быть, если потребуется судебное преследование? Следует определить метод обработки метаданных, который важен с точки зрения сторон информации. Каков принцип предоставления доступа к цифровым открытиям обвиняемым, содержащимся под стражей? Как видно, возникает множество проблем, и может не хватить времени, ресурсов и опыта для обработки и анализа объемных цифровых доказательств. Каково бремя ответственности сторон в поиске потенциально оправдывающих лицо документов? Заслуживают внимания дела, в которых обвиняемые, содержащиеся под стражей, испытывают, как мы отметили, особые трудности, потому что эти люди имеют ограниченный доступ к электронным доказательствам в местах лишения свободы или вообще не имеют доступа к ним, и им сложно помогать своим адвокатам в выработке тактики эффективной защиты, поиске особо значимых аргументов. Необходимы четкие 125 юридические нормы, регламентирующие вопросы доказывания, в особенности цифровых доказательств, отражающих по определению любую информацию, хранящуюся и передающуюся в цифровой форме, которую каждая из сторон может использовать, в том числе в судебном разбирательстве. Можно отметить одновременно, что предполагаемые сложности в цифровую эпоху выражаются в определенных устремлениях, направленных на улучшение методов расследования уголовных дел. Во-первых, объем, сложность и возможная дороговизна в достижении цифровой информации будут стимулировать стороны, обвинение и защиту к более тесному сотрудничеству по делам с большим массивом хранящегося цифрового материала и желанию постижения правды. Во-вторых, даже такое сотрудничество не всегда позволяет точно и справедливо разрешать дела, и нужен стандарт доказывания. Наиболее испытанным и подходящим представляется стандарт «вне разумного сомнения». Такой стандарт доказывания может следовать из сосуществования достаточно сильных, ясных и согласующихся выводов либо схожих, но не опровергнутых презумпцией относительно факта. Как видно, изложенный стандарт обязан доктрине права, по которому презумпция невиновности является элементом доказывания, устанавливая правила стандартов решения о виновности. Следуя этому правилу, бремя доказывания ложится на сторону обвинения, которая определяет стандарты в отношении границы требуемого доказательства: презумпция невиновности преодолевается доказательствами вне всякого сомнения, которые устанавливаются и служат основанием для осуждения. Известно, что информационные технологии задействованы в основном в двух целях: для предупреждения правонарушений, в особенности их активной составляющей, а также для преследования подозреваемых и сбора доказательств. Выбор со вторым аспектом не связан с растущей актуальностью превентивной информации по сбору и тайным ее анализом, что и происходит вне рамок уголовного разбирательства, но все же в определенной мере чувствуется вовлеченность уголовных процедур. Каждая национальная правовая система признает различную степень возможности использовать секретную информацию в уголовном процессе, ее значение для инициирования уголовного преследования, или применения принудительных мер, либо использования ее в качестве доказательства в судебном разбирательстве. Можно отметить наблюдаемую в 126 отдельных странах тенденцию по снижению порога для инициирования уголовного расследования, что влияет на традиционное восприятие права на защиту под воздействием активной эксплуатации IT после начала уголовного преследования. Заметим, что современная концепция уголовной юстиции отражает влияние информационных технологий довольно широко, и они связаны не только с компьютерами и цифровыми доказательствами, а с технологиями в общем. Можно назвать видеоконференции, судебные и цифровые файлы, базу данных ДНК, применение устройств для записи прений сторон и т.д. Каждый аспект уголовного процесса, следовательно, затрагивает в определенной мере IT. Сложно найти стадию процесса, включая досудебную, где бы эти технологии не эксплуатировались. Главная их черта – универсальность. Вместе с тем ключевая роль принадлежит процессуальной справедливости, которую должны гарантировать национальные правопорядки. Оценки на различном уровне, международном со стороны Суда и национальном, должны включать тест на процессуальную справедливость. Названная оценка подразумевает проверку не просто легитимности применения технологий, но и состояния законодательства. С учетом важности вопроса хотелось бы остановиться вкратце на роли Европейского суда по правам человека как стража национальной процессуальной справедливости, который неоднократно выражал свою обеспокоенность и основное внимание уделял вопросу процессуальной справедливости посредством соблюдения процессуальных прав человека. Европейская конвенция по правам человека предусматривает непосредственно в ст. 6 гарантию беспристрастности. В прецедентной практике Суд установил высокий стандарт, в частности с помощью объективного теста, который требует отсутствие законных сомнений беспристрастности судей. Суд постоянно развивает право на эффективное участие в слушании дела как аспект права на справедливое судебное разбирательство. Указанное включает его право не только на присутствие, но и на активное участие. Следовательно, речь идет о существенном и серьезном участии в процессе. В деле «Perez v. France» Суд посчитал, что право на справедливое судебное разбирательство может считаться эффективным только в том случае, если мнения сторон действительно «выслушиваются» и должным образом рассматриваются судом. Иными словами, действия ст. 6 Конвенции выражается в том числе в реализации полномочия в осуществлении должной проверки 127 представлений, аргументов и доказательств, выдвинутых сторонами1. Указанное положение Конвенции в определенной мере служит последовательности в рассмотрении гражданских и уголовных дел, связывая этот критерий с требованиями определенности и справедливости. В деле «Vincic v. Serbia» Суд подчеркнул, что, хотя некоторые расхождения в толковании могут быть приняты во внимание как неотъемлемая черта любой судебной системы, которая, как и сербская, состоит из судов обычной юрисдикции различных инстанций, однако противоречивые подходы должны исключаться в одинаковых ситуациях. Продолжающаяся практика неопределенности может снижать уровень доверия к правосудию. Такое доверие – важный компонент государства, основанного на верховенстве права. Суд поэтому считает, что судебная неопределенность сама по себе лишает разбирательство главного элемента – справедливости2. В рекомендациях для судов обычно отражают четыре различные разновидности принципов процессуальной справедливости, которые судьи должны принять во внимание: участие, нейтралитет, уважение и доверие3. Критерий участия означает, что люди должны иметь возможность рассказать свою версию событий собственными словами перед тем, как решение будет вынесено. Изложенное имеет позитивное значение в опыте общения людей с правовой системой безотносительно вывода по их делу, поскольку они укрепляются в своей вере к правосудию, что высказанные ими аргументы будут учтены при принятии решения. Очень важно, что люди в поисках аргументов, включая их обращения к цифровым выражениям, верят в возможность и необходимость установления правды. Нейтральность судей требует, чтобы они основывали свои решения на праве, а не на личном мнении. Это обусловлено восприятием независимости и беспристрастности, а также равным отношением ко всем участникам процесса. Указанное связано с прозрачностью, последовательностью в применении закона к людям, в том числе с течением времени. Данный критерий важен для понимания того, что, несмотря на эволюцию технологий, критерии должны оставаться неизменными для восприятия смысла правосудия. Мы понимаем, что жизнь вносит свои коррективы, но не в фундаментальные См.: Perez v. France, № 47287/99, от 12 February 2004, § 80. См.: Vincic and Others v. Serbia, № 44698/06 и др. от 1 декабря 2009 г., § 56. 3 Tom R. Tyler. Procedural Justice and the Courts // Court Review: The Journal of the American Judges Association. 2007. Vol. 44. 1 2 128 принципы осуществления правосудия. Важную роль играют также элементы точности и правильности: судьи основывают свое мнение на надежной информации, при этом цифровые технологии вносят существенную лепту. К людям следует относиться с уважением их достоинства. Они должны чувствовать, что их проблемы серьезно воспринимаются правовой системой1. Относительно доверия важно указать, что оно связано с качествами правоприменителя, насколько он мотивирован действовать справедливо. Ключевым элементом этой оценки являются вопросы искренности и заботы. Понимание мотивов властей и чувствование общих социальных связей между сторонами являются хорошими предпосылками для доверия. В контексте суда доверие связано с восприятием того, насколько судьи прислушиваются к мнению людей, учитывают его в своей практике, действуя в интересах сторон, а не из личных предрассудков2. Рассуждения о принципах процессуальной справедливости, изложенные нами вкратце, следует оценивать через право будущего, причем, как его видит В.Д. Зорькин, это не про то, будут ли роботы писать судебные решения или заменит ли профессию юриста искусственный интеллект. Кроме того, как он считает, разговор о праве будущего не должен сводиться и к проблемам Интернета или иных посредников для общения между людьми. Право будущего, как продолжает В.Д. Зорькин, это все те же ценности свободы и справедливости, о которых говорил во II веке Ульпиан и до наших дней спорят юристы во всех странах мира… Но право, как providentia, помогает нам находить наиболее оптимальные решения для регулирования общественных отношений и тем самым предугадывать наиболее благоприятный и справедливый исход возможных социальных конфликтов. Практика органов конституционного контроля свидетельствует в пользу такой точки зрения, ссылаясь при анализе спорных ситуаций, связанных с новыми технологиями, на все те же категории достоинства человека и справедливости3. Заметим, что российское законодательство стремится к надлежащей реакции на происходящие изменения в странах с развитыми правовыми системами, применяющими активно информационные технологии для предупреждения правонарушений и преследования незаконопослушных Tom R. Tyler. Why People Obey the Law. Princeton University Press, 2006. P. 149. См.: Tom R. Tyler. Procedural Justice and the Courts. P. 31. 3 Зорькин В.Д. Право будущего в эпоху цифр. Индивидуальная свобода или сильное государство? // Российская газета. 15.04.2020. 1 2 129 граждан. С момента принятия УПК Российской Федерации законодатель проводит реформирование нормативного регулирования использования информационных технологий. Вместе с тем анализ УПК РФ показывает, что содержащиеся в нем положения о применении технических средств не полностью соответствуют реалиям современной жизни, многие аспекты проблемы не учтены и не всегда отвечают потребностям практического применения. Произошедшие изменения в современном мире требуют разработки уголовнопроцессуальных норм, регламентирующих копирование, изъятие, сохранение, обработку, передачу и представление в суде электронной информации, имеющей доказательственное значение, а также, что наиболее важно, модернизации процессуальных норм с учетом современных технологий таким образом, чтобы они отвечали классическим требованиям уголовного процесса. В то же время достаточно обратиться к материалам «Информационные технологии в правосудии, состояние и перспективы, Россия и мир», чтобы понять значительные успехи в активном введении IT-технологий для информатизации судопроизводства, использования опыта успешного внедрения технологий в различных правовых системах1. В правовой литературе подчеркивалось, что конкретные информационные технологии достаточно редко находят свое отражение в УПК РФ, и в качестве примера ссылаются на использование видеокамеры. Особо отмечается, что использование информационных технологий в уголовном процессе должно осуществляться при строгом соблюдении конституционных прав и свобод граждан, принципов уголовного процесса2. На указанные требования обращал внимание Конституционный Суд Российской Федерации, в результате чего была определена правомерность применения информационных технологий для рассмотрения жалоб с использованием видео-конференц-связи при удаленном участии осужденного в контексте соблюдения прав и свобод человека в уголовном судопроизводстве3. 1 См.: Информационные технологии в правосудии. Состояние и перспективы. Россия и мир. М.: ВШЭ, 2020. 2 См.: О федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России на 2013– 2020 гг.»: Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. № 1406 (ред. от 14 декабря 2017 г.) // Собрание законодательcтва Российской Федерации. 2013. № 1. Ст. 13; 2017. № 52 (ч. I), ст. 8135. 3 См.: Медведева М.О. Уголовно-процессуальная форма информационных технологий: современное состояние и основные направления развития: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2018. С. 20. 130 Ключевое значение для процесса, причем как гражданского, так уголовного, имеет то, что судьи могут способствовать более эффективному и справедливому ходу раскрытия информации, активно направляя его течение с самых ранних этапов. Судьям следует сосредотачивать усилия сторон по своевременному представлению плана открытия собранных цифровых доказательств. Они должны вмешиваться, чтобы минимизировать несоответствие ресурсов сторон, которые могут подорвать справедливость процесса. Такое участие суда особо важно с точки зрения права на надлежащую про­ цедуру и эффективную помощь защиты. Цифровой век вызвал фундаментальные преобразования в государственном наблюдении в двух направлениях: в том, как он осуществляется, и понимании его предназначения, то есть типов информации, которая собирается. Примером может служить использование технологий массовой передачи данных, которые включают значительный сбор, хранение и анализ данных. Эти методы стали теперь неотъемлемой частью государственного контроля. Например, в Великобритании по сообщению служб разведки и безопасности использование массовых коммуникационных данных «необходимо» и является ключевым инструментом в выполнении своих обязательств по защите прав человека1. Однако есть и критики, которые подчеркивают наличие серьезных проблем с правами человека, особенно в отношении таких прав, как право на неприкосновенность частной жизни, свобода выражения, право на свободу собраний и ассоциаций, а также запрет дискриминации. В праве прав человека ссылаются в качестве обязательных условий на трехступенчатый тест. Во-первых, наличие правовой базы в национальном праве для вмешательства, причем его качество должно быть надлежащим, чтобы защитить против произвольного вторжения в права человека. Во-вторых, наблюдение должно преследовать законную цель. И, наконец, в-третьих, быть необходимым в демократическом обществе, то есть соответствовать насущной социальной потребности и быть соразмерным преследуемой законной цели. Прежде чем углубиться в тему телекоммуникационного наблюдения, необходимо определить, что на самом деле означает наблюдение в рассматриваемом контексте. Существует несколько различных определений, которые особо определяют наблюдение как общую концепцию либо больше сосредотачиваются на его 1 Government of the United Kingdom, «Operational Case for Bulk Powers», 2016, para 1.7. 131 конкретных областях. Однако одно общее определение формулирует его как «сбор и анализ информации о населении с целью управления его деятельностью»1. Приведенное определение, на наш взгляд, далеко не всеобъемлющее и скорее относится только к определенной части функций, ради которых осуществляется наблюдение. Представляется вместе с тем, что это очень широкая концепция, поэтому каждое государство инициирует свой собственный подход к наблюдению, поскольку существуют различные формы методов расследования. В контексте наблюдения принято считать, что когда люди воздерживаются от участия в определенных формах деятельности из-за осознаваемых последствий, если эта деятельность включена в осуществляемый надзор, то это результат воздействия принятой меры. Любой эффект, выразившийся в предупреждении совершения определенных действий, касается осуществления таких прав, как свобода выражения, собраний, поскольку оказывает влияние на получение информации. Взятые вместе доступные доказательства предполагают, что превентивный эффект не может быть все же опровергнут. Наиболее важные доказательства могут быть созданы на мобильном устройстве. Информационные технологии вызвали сдвиг парадигмы в способах общения отдельных лиц и организаций – создания, сбора, обмена и хранения данных и информации. Устройства на спутниках предоставляют изощренные способы документирования повседневных событий, в результате чего создается обширная коллекция бесценных записей. Миллионы людей создают документацию, которая в любой момент может стать «доказательством» в разных делах по всему миру. Наблюдатели на месте происшествия теперь могут документировать подробности событий с помощью фотографий, видео- и аудиозаписей со своих мобильных телефонов и камер, а также размещать комментарии, которые могут передаваться посредством мобильных устройств, используя также вебсайты, глобальные социальные сети, включая электронную почту и текстовые сообщения, ранее недоступные в реальном времени, с точностью до минут. Теперь в судебных процессах традиционные свидетельские показания очевидцев могут быть значительно расширены и подтверждены путем введения цифровых доказательств. 1 См.: Kevin D. Haggerty and Richard V. Ericson, The New Politics of Surveillance and Visibility. Toronto, University of Toronto, Press Incorporated, 2006, p. 3. 132 Глобальные организации создают веб-архивы, что не просто усложняет процесс, но и создает новые веб-архивы; веб-сайты регулярно фиксируются, а цифровые материалы сохраняются и берегутся на будущее. Широкое использование мобильных устройств создало значительные проблемы в судебных разбирательствах, поскольку суды решают, как правильно аутентифицировать цифровую информацию в соответствии с действующими судебными правилами и процедурами. Основные требования для создания базы для допустимости доказательств существуют в настоящее время, и судебная практика установила критерии их применимости к цифровым данным и устройствам, с помощью которых создаются электронные доказательства, порождающие одновременно множество сложных доказательственных проблем и вопросов, в результате чего суды применяют совершенно разные стандарты для аналогичных типов доказательств при представлении в суд компьютерной информации и цифровых изображений. Согласно судебным процедурам, чтобы доказательства были допустимыми, они должны быть аутентифицированы. Изложенное означает, что данные и информация представляются таким образом, чтобы они соответствовали тому, как их предлагает выдвинувшая сторона. Основы цифровых доказательств зиждутся на установленных принципах аутентификации и приемлемости, которые возникли с использованием «бумажных» доказательств. Как правило, обсуждают несколько отдельных оснований: релевантность доказательства, когда оно должно иметь отношение к утверждению претензий, то есть быть способным подтвердить или опровергнуть факт в судебном процессе. Аутентичность или подлинность – процесс для установления того, что цифровые данные или документ представляют собой. Следующим важным аспектом являются показания с чужих слов, подтверждающие правдивость заявленной позиции. Это применяется, если инициатор планирует использовать содержание записи в качестве вещественного доказательства. Доказательство не может основываться на слухах (hearsay) или быть признано допустимым в порядке исключения. Наилучшее доказательство – этот стандарт применяется, если условия документа являются предметом спора; нет никаких «оригиналов» цифровых доказательств. Доказательная ценность должна перевешивать любые вредные последствия. Суд может исключить определенные доказательства в соответствии с правилами, если их значение существенно перевешивается опасностью несправедливого предубеждения или 133 соображениями неоправданной задержки, траты времени или ненужного представления совокупных доказательств. В то время как многие американские и европейские суды допускают использование компьютерных данных в качестве доказательств с 1970-х гг., когда компьютерные системы стали доступны для деловых операций и некоторого личного использования, «традиционные» основы электронных доказательств были сосредоточены на взаимосвязи между информацией и компьютером. Существует презумпция, что информация, полученная с помощью компьютера, по своей природе надежна и основана на документах. Стандарт допустимости доказательств, как правило, имеет низкую планку. Необходимо только создать основу, которая позволит определить факты, разрешающие сделать вывод о том, что доказательства являются таковыми, как утверждает сторона. Судья рассматривает доказательства защиты, чтобы оценить рациональную достаточность основополагающих доказательств с точки зрения права. Таким образом, для цифровых доказательств, чтобы быть допустимыми, должна быть установлена только их достоверность или имеющая разную окраску аутентичность. Теперь, когда природа цифровых доказательств значительно отличается от первых дней своего существования, традиционные основы компьютерных записей могут больше не подходить для решения сложных задач современных информационных систем, из которых генерируются электронные доказательства, поскольку цифровая информация может быть создана легко и без каких-либо достоверных записей о том, кто это сделал, и может быть изменена чаще всего без обнаружения. Для проверки подлинности цифровых доказательств следует уделять большее внимание ключевым компонентам информационной системы: люди – процессы – технологии. Факторы, которые подлежат учету при оценке целостности цифровых данных, включают в себя: создателей доказательства, какие процессы и технологии использовались и какова была цепочка хранения на протяжении всего цикла цифровых доказательств. Стратегии обеспечения допустимости цифровых доказательств требуют заблаговременного планирования для систематического документирования ключевых аспектов электронных доказательств. В эпоху цифровых технологий все же существуют способы, чтобы поставить под сомнение подлинность цифровых доказательств. Хотя многие суды продолжают бороться с аутентичностью цифровых доказательств, включая электронную почту, информацию 134 на веб-сайтах и в социальных сетях, большинство, как мы уже отмечали, признают информацию допустимой. В действительности, несмотря на реальный риск ненадежности из-за взлома или других подобных изменений, суды все же признают их. Поскольку объем цифровых доказательств продолжает расти в геометрической прогрессии, а их важность для исхода дел все еще критически значительна, потребуется более глубокое понимание природы этих записей, чтобы принимать значимые решения относительно их подлинности. Необходимо применять методы корпоративного управления, чтобы определить, соответствуют ли доказательства юридическим требованиям в отношении подлинности, надежности и целостности. Интересно обратиться к сравнительно-правовому исследованию сложных правовых вопросов неотъемлемой части взаимодействия между национальной безопасностью, государственной тайной и судебной ответственностью специальных служб, а также правовых и практических мер, которые были приняты для решения спорных вопросов в ряде стран Европейского союза. Естественно, исследования часто происходят в рамках обсуждений отношения между спецслужбами, утверждения при этом верховенства права и изучения различий между странами. Подходы и решения, выбранные для разрешения противоречий между аргументом в пользу национальной безопасности и одновременным использованием секретности, а также необходимостью судебного контроля для обеспечения демократической ответственности, являются результатом долгих исторических траекторий в различных правовых системах. Великобритания и Нидерланды относятся к числу государств, законодательство которых официально разрешает формальное использование секретной разведывательной информации в судебных процессах. Великобритания образует исключение ввиду существования часто оспариваемой процедуры закрытого характера в секретных судебных заседаниях, на которые доступ имеют только специальные адвокаты, и им разрешено иметь отношения с тайными разведывательными материалами. В Нидерландах действует система защищенных свидетелей в судах, позволяющая сотрудникам разведки быть заслушанными перед специальным магистратом. В ряде государств (Германия, Швеция и Испания) имеется косвенная судебная практика, согласно которой определенные доказательства могут быть скрыты от стороны в ходе судебного разбирательства при определенных условиях. Тем не менее изучение 135 показывает, что секретные доказательства не всегда признаются с правовой точки зрения. В таких странах, как Германия, Италия или Испания, право на защиту и право на справедливое судебное разбирательство не могут быть «сбалансированы» с требованиями охраны национальной безопасности или государственных интересов, поскольку это непосредственно противоречило бы конституционным нормам. Почти все государства Европейского союза сталкиваются с рядом проблем, связанных со сложным и нередко спорным рассекречиванием или раскрытием разведывательных материалов, что слишком часто не требует надлежащего судебного контроля и допускает непропорциональную свободу усмотрения со стороны государственных органов1. В Германии, к примеру, секретные доказательства запрещены в судебных процессах. Однако определенные свидетельские показания или анонимная информация, основанная на секретных доказательствах, могут быть приняты судом при наличии некоторых условий. Основной принцип состоит в том, что, в противоположность к описанным ситуациям в Великобритании и Нидерландах, суды Германии не могут основывать свои решения на секретной информации. Такой вывод был подтвержден Федеральным конституционным судом в 1981 г.2 Статья 103 Конституции Германии гарантирует каждому быть выслушанным, из чего Федеральный конституционный суд сделал вывод о праве всех сторон в судебном разбирательстве знать все доказательства, на которых суд основывает свое решение, а также праве комментировать такие доказательства. Как следствие реализации конституционного права быть выслушанным и следования юриспруденции Федерального конституционного суда в отношении данного основного права, использование закрытых судебных процедур в Германии запрещается, и введение их путем законодательных новелл противоречило бы Конституции. Как мы указывали, доказательства «из вторых рук», основанные на секретной разведывательной информации, могут быть использованы в суде, например, в форме свидетельских показаний анонимного осведомителя или сотрудника разведки, описывающего секретный документ. В качестве примера обычно демонстрируют дело Фридриха Кремера (1980) о косвенном использовании секретной 1 См.: National security and secret evidence in Legislation and before the Courts: Exploring the Challenges. Study for the LIBE Committe, 2014 (European Parliament), p. 7. 2 См.: Federal Constitutional Court, 26.5.1981, 2 BvR 215/81. 136 информации. Ф. Кремер был осужден на основании допроса бывшего восточногерманского разведчика, который так и не был вызван в суд из-за отказа спецслужб Германии раскрыть его местонахождение по соображениям национальной безопасности. Суд согласился с использованием протокола допроса разведчика в качестве доказательства против Кремера. Федеральный конституционный суд признал такое обращение ко вторичному доказательству при условии, что суд принял во внимание его меньшую доказательственную силу. По существу, Федеральный конституционный суд постановил, что «необходима конкретная угроза для оправдания какого-либо посягательства на основные права»1. Заметим, чтобы сравнить методы и требования, свидетельствующие о развитии законодательства Германии, к примеру, вопросов несоблюдения, нужно оценить развитие, которое происходило в соответствии с принципами пропорциональности и законных ожиданий. Изменения, внесенные посредством, как они называют, «Grozer Lauschangriff» («большое подслушивание»), были очень серьезными и привели к изменению прецедентного права судов2. Тем самым суды напомнили законодателю о том, что технология и, следовательно, способы, к которым подозреваемые могут обращаться, быстро меняются. Необходимо об этом помнить, чтобы не переусердствовать с законами, которые могут потенциально нарушать права на неприкосновенность частной жизни. Интересно поэтому, что законодатель в настоящее время проявляет большую осторожность, когда дело доходит до пропорциональной адаптации новых законов о наблюдении. В то же время это не всегда успешно реализуется3, но такие ошибки в большинстве случаев впоследствии исправляются судебной властью посредством судебных решений. Сбор и анализ информации с целью разрешения уголовного дела или предупреждения правонарушений – важная часть работы органов правопорядка. Информация включает различные данные, начиная от свидетельских заявлений и таких доказательств, как, к примеру, записи прослушанных телефонных разговоров или других сообщений, а также разные формы судебно-медицинских доказательств. Последняя категория представляется довольно широкой, составляющей суть разного рода доказательств, и См.: Op. сit. Federal Constitutional Court, 26.5.1981, 2 BvR 215/81. B VerfGE 109, 279. 3 B VerfGE 125, 260. 1 2 137 некоторые из них, например отпечатки пальцев, распознавание лиц, анализ голоса или судебная стоматология, могут использоваться для идентификации подозреваемого или обвиняемого в преступлении лица. Еще одним, вероятно, сейчас самым важным методом идентификации посредством судебно-медицинской экспертизы является метод ДНК дактилоскопии. Он позволяет сравнивать следы профилей ДНК, которые могут быть извлечены из образцов крови, кожи, волос, слюны или спермы человека. Эта форма идентификации стала возможной только в ходе технологического развития и все еще является относительно новой, хотя и очень популярной, и, как считается, чрезвычайно эффективной или даже надежной. Между тем названный прогресс в использовании ДНК в качестве доказательства сопровождается и озабоченностью защиты фундаментальных прав человека, таких как право на частную жизнь и право на справедливое судебное разбирательство. Совет Европы, национальные законодатели установили ряд требований для защиты названных прав. Образцы ДНК нельзя брать, хранить или использовать произвольно. Каждая страна ввела в действие национальный режим, предусматривающий требования и обстоятельства, при которых национальные власти могут это сделать. В Российской Федерации принят закон от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации». Закон предусматривает, что целью геномной регистрации является идентификация личности человека. Обязательной она установлена для осужденных и отбывающих наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также для неустановленных лиц, биологический материал которых изъят в ходе производства следственных действий. В ст. 15 закона указывается, что право на использование геномной информации имеют суды, органы предварительного следствия, органы дознания и органы, осуществляющие оперативно-разыскную деятельность. Обсуждаемый законодателями законопроект по совершенствованию законодательства о государственной геномной регистрации предполагает уточнить перечень обязательной регистрации за счет всех осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам, а также лиц, подвергнутых административному аресту. 138 В связи с этим вносятся изменения в законы «О порядке отбывания административного ареста» и «О персональных данных». Как мы уже отмечали, Совет Европы остается одной из немногих международных организаций, разрабатывающих правила и стандарты геномных исследований и внедрения их результатов на практике. Важно указать на Конвенцию о правах человека и биомедицине, принятую в 1997 г. в Овьедо, а также дополнительные протоколы к ней. В целом правила ЕС и Совета Европы направлены на усиление требований, чтобы права человека, в особенности достоинство личности, нашли свою эффективную защиту и учитывались в глобальном развитии. В то же время не все страны являются участниками договора. Ряд государств при этом заняли более консервативную позицию в отношении изучения генома и возможностей генной терапии, в то время как другие опасаются, что Конвенция может послужить барьером для продолжения важных исследований. Статья 2 названной Конвенции заложила основополагающий принцип, согласно которому «интерес и благо отдельного человека превалируют над интересами общества или науки»1. Необходимо указать и на значение Конвенции № 108 Совета Европы «О защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных» 1981 г. и протокола, вносящего изменения в названную Конвенцию. К важным новшествам относятся требования к принципам пропорциональности, минимизации и законности сбора, обработки и хранения персональных данных. Эти принципы содержатся в статье 5 Федерального закона «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ. Статья 10 (Специальные категории персональных данных) названного Федерального закона модернизирована и приведена в соответствие с международными стандартами. Обращаясь к законодательству и практике ряда европейских стран, хочется подчеркнуть, что уравновешивание индивидуальных прав и публичных интересов для индивидуума в Германии более благоприятное, чем, к примеру, в Великобритании. Первым признаком является тот факт, что перечень правонарушений, по которым может быть взят образец ДНК, в определенной мере в Германии ограничены, когда в Великобритании его возможно 1 Калиниченко П.А., Косилкин С.В. Геномные исследования: стандарты Совета Европы и правовое регулирование в России // Вестник университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). 2019. № 4. С. 110. 139 получить при задержании за любое правонарушение1. Следующее различие заключается в том, что законодательство Германии требует для взятия пробы без согласия лица судебной санкции или по крайней мере разрешения прокурора. В Великобритании изложенное может быть осуществлено по приказу офицера полиции определенного ранга. Следовательно, такое решение является менее независимым и с большей вероятностью может способствовать нарушению права на справедливое судебное разбирательство. Следующий критерий, позволяющий судить о подходе Германии как страны, наиболее защищающей права человека, – хранение данных. Если в Великобритании хранение профилей ДНК бессрочно, то в Германии их необходимо удалить не позднее, чем через 10 лет2. Следует напомнить, что ЕСПЧ в упомянутом деле «S and Marper v. The United Kingdom» (постановление Большой палаты Суда от 4 декабря 2008 г.) указал, что в вопросе хранения образцов ДНК права заявителей были нарушены. Продолжая традиции поддержания последовательности судебной практики, Большая палата Суда в деле «Gaughran v. The United Kingdom» (постановление Большой палаты Суда от 13 февраля 2020 г.) подчеркнула, что хранение отпечатков пальцев и профиля ДНК нарушало право заявителя на личную жизнь. Суд одновременно постановил, что фотографирование и хранение фотографий также является вмешательством, что служит новеллой по сравнению с «S and Marper v. The United Kingdom», и оно, по его мнению, хотя и осуществлялось в соответствии с законом и преследовало легитимную цель, в то же время с точки зрения пропорциональности создает проблемы. Последняя связана с бессрочным хранением биометрических данных заявителя и фотографий безотносительно к серьезности совершенного правонарушения, что происходит в нарушение требований ст. 8 Конвенции. Европейские правовые стандарты по контролю (и по внедрению мер наблюдения) основаны на конфиденциальности и защите данных, которые обеспечиваются прежде всего ст. 8 Конвенции. Условно ее можно отнести к трем различным категориям: 1) нежелательное наблюдение за людьми; 2) нежелательное прослушивание людей; 3) нежелательное опубликование личных данных. 1 Carole McCartney, The DNA Expansion Programme and Criminal Investigation. British Journal of Criminology 46(2), 2006, p. 177. 2 Schneider P.M., Martin P.D. (2001) Criminal DNA databases: the European situation, Forensic Sci Int, Volume 119, Issue 2, 2001, p. 237. 140 Мы остановились уже на последней категории, когда наблюдение выражается в сборе и хранении таких данных, как ДНК. В то же время постановление Суда по делу «Copland v. The United Kingdom» (от 3 апреля 2007 г.) показало, что сбор и хранение персональной информации, связанной с телефоном заявителя (в особенности набранные номера), а также электронной почты и Интернета, представляют собой нарушение ст. 8, Конвенции, если они обрабатываются без согласия соответствующего лица. Обстоятельство, основанное на том, что личная информация может быть собрана без использования навязчивых или секретных средств, недостаточно для исключения применимости ст. 8 и, таким образом, нарушения могут иметь место и в этих ситуациях (см. постановление «P.G. and J.H. v. The United Kingdom» от 25 сентября 2001 г. § 57). Необходимо лишь добавить, что правовая ценность доктрины согласия, примененной в деле Copland, чрезвычайно важна в регулировании вопросов наблюдения и представляет собой одну из самых дискуссионных проблем. С правовой точки зрения простой факт согласия в сравнении с практикой наблюдения не обязательно оправдывает его. Для действительности согласие должно быть реальным, полным и свободным1. Однако при рассмотрении системы, к примеру, видеонаблюдения, мы замечаем, что согласие не является явным, а подразумевается (при входе в общественные места согласие предполагается и производится с учетом того, что наблюдение в таких местах неизбежно). Кроме того, непросто признать, что согласие в реальности свободное, когда оно – как плата за доступ к товарам и услугам2. Неоднозначная правовая природа доктрины согласия в целом объясняет, почему она часто ассоциируется с такими фундаментальными доктринами, как достоинство и пропорциональность. В деле «Lopez Ribalda and Others v. Spain» (постановление от 17 октября 2019 г.) Суд отметил, что от работодателя не требуется сообщать сотруднику о планируемом наблюдении, если он действует в целях защиты интереса, имеющего повышенное значение. Поскольку данное дело предполагает вовлеченность государства в выполнение позитивных обязательств по регулированию и обеспечению доступа к возмещению причиненного частной компании ущерба, Суд рассмотрел вопрос об адекватности действий Alexander Larry. The Moral Magic of Consent. Legal Theory, Vol. 11, 1996, pp. 165–174. Gras Marianne L. The Legal Regulation of CCTV in Europe. Surveillance and Society, Vol. 2, № 3, 2004, pp. 216–229. 1 2 141 государства по защите прав заявителей. Суд установил, что заявители в соответствии с национальным правом также имели иные доступные средства правовой защиты, выраженные, в частности, в обжаловании действий работодателя на отсутствие своевременной информации о применении видеонаблюдения в Агентство по защите данных, а также об осуществлении наблюдения (§ 136). Вместе с тем оставшиеся при особом мнении судьи отметили, что Суду не удалось найти справедливый баланс между правами работодателя и правами сотрудников, разрешив неограниченное использование скрытого видеонаблюдения на рабочем месте без предоставления достаточных правовых гарантий лицам, чьи личные данные будут собираться и применяться в неизвестных им целях. Суд признает существование своего рода частного измерения личности в публичной сфере, которое необходимо защищать в соответствии со ст. 8 Конвенции. В упомянутом постановлении «P.G. and J.H. v. The United Kingdom» он подчеркнул, что названное измерение соответствует «зоне взаимодействия человека с другими» (§ 56). Суд разъяснил там же, что сознательно или умышлено люди участвуют в деятельности, которая регистрируется или может быть записана или сообщена публично, и что в этих обстоятельствах «разумные ожидания человека в отношении конфиденциальности» могут быть поставлены под сомнение (§ 57). Тем не менее Суд сравнил наблюдение, которое, по всей видимости, применено, к примеру, к человеку, «идущему по улице», и наблюдение с помощью видеонаблюдения, то есть с применением технических средств, осознавая, что обе ситуации имеют одинаковый характер. Следовательно, Суд считает, что материалы, собранные службой безопасности в отношении конкретного лица, охватываются пределами ст. 8 Конвенции независимо от того, собирается ли информация интрузивным или скрытым способом. Необходимо указать, что Суд проводит четкое различие в использовании систем и инструментов наблюдения. В деле «Perry v. The United Kingdom» Суд дифференцировал наблюдение за действиями человека в общественном месте с использованием фотооборудования (которое не записывает визуальные данные) и записи данных, а также отмечал систематический или постоянный характер записи. По его мнению, только последнее может повлечь нарушение ст. 8 Конвенции (постановление от 17 июля 2003 г., § 38). Он также рассматривает, что простое и обычное использование видеонаблюдения как такового, как на улице, так и в помещениях, 142 поднимает автоматически вопрос о применении ст. 8 § 1 Конвенции. Напротив, эти системы наблюдения служат законной и предсказуемой цели (там же, § 40). Таким образом, систематическая запись данных посредством видеонаблюдения не нарушает требования ст. 8 при условии, что мера наблюдения производится в соответствии с законом и необходима в демократическом обществе. Начиная с 1970-х гг. прецедентная практика ЕСПЧ по ст. 8 Конвенции, касающаяся тайного прослушивания, постоянно эволюционировала. Среди многочисленных мер надзора названная мера образует вмешательство в право на уважение личной и семейной жизни каждого, его жилища и корреспонденции. В относительно раннем в практике Суда постановлении по делу «Klass v. Germany» было признано, что нарушение по ст. 8 § 1 Конвенции в таких случаях предполагает перехват сообщений, почты и телекоммуникаций (постановление от 6 сентября 1978 г.). Последующие дела касались перехвата телефонных звонков («Kopp v. Switzerland», постановление от 25 марта 1998 г.), снятия показаний и выдачи записей учета в полицию («Malone v. The United Kingdom», постановление от 2 августа 1984 г.), прослушивания и перехвата телефонных разговоров («Khan v. The United Kingdom», постановление от 12 мая 2000 г., «Roman Zakharov v. Russia», постановление от 4 декабря 2015 г.) и др. В проведенном Судом исследовании в связи с делом «Popescu v. Romania» (постановление от 2 марта 2004 г.) и по вопросу прослушивания и использования в ходе судебного разбирательства незаконно полученных доказательств указывалось, что Суд еще в упомянутом деле «Klass v. Germany» заявил: вмешательство исполнительной власти в права человека следует эффективно контролировать со стороны судебной власти. В «Kruslin v. France» (постановление от 24 апреля 1990 г.) Суд посчитал, что одного судебного контроля недостаточно для выполнения требований ст. 8 Конвенции. В том же исследовании Суд осветил проблему незаконно полученных доказательств в ходе судебного разбирательства по ст. 6. Как он подчеркнул в «Perry v. The United Kingdom» (см. решение о приемлемости от 26 сентября 2002 г.), использование в судебном разбирательстве незаконно полученных материалов, как правило, не нарушает стандарт справедливости в соответствии со ст. 6, если имеются надлежащие процессуальные гарантии, а источник и характер материалов сохранились. Можно добавить, что до сих пор 143 в делах, в которых оспаривалось использование таких материалов в суде, или было объявлено о недопустимости, либо рассмотрение привело к выводу об отсутствии нарушения. Рассматривая для сравнительного изучения проблему прослушивания, обычно обращают внимание на следующие вопросы: правовые основания, по которым может быть обращение для применения прослушивания; кто может его запрашивать; какой орган вправе разрешать прослушивание; формальные и сущностные критерии для обращения; длительность его осуществления и возобновление; гарантии средств защиты и минимизация последствий; раскрытие целей; хранение и уничтожение; независимый контроль и жалобы. Как видно, эти критерии вырабатывались на протяжении многих лет, и Суд их обычно использует для собственных выводов. Представляется, что они актуальны для нацио­нального правоприменения и служат защите демократического правопорядка. Согласно решению по делу «Konstantin Moskalev v. Russia» (постановление от 7 ноября 2017 г.), заявитель в своей жалобе утверждал, что его телефон был использован в нарушение ст. 8 Конвенции, а также указывал на отсутствие эффективного средства правовой защиты в этой связи и на то, что уголовное дело против него было незаконно. Суд сослался в своих выводах на постановление «Zubkov and Others v. Russia» (постановление от 7 ноября 2017 г., § 40–57, 58–76), указав, что в нем изложен обзор правовых норм, регулирующих порядок прослушивания средств связи и использования полученных таким образом данных в судебном разбирательстве, а также краткий обзор норм Российской Федерации, регулирующих порядок проведения судебной проверки оперативно-разыскных мероприятий. По мнению Суда, скрытое видеонаблюдение за заявителем в частном помещении, где его ожидания неприкосновенности личной жизни были высокими, запись персональных данных, использование видеозаписей в качестве доказательства в уголовном разбирательстве составляли вмешательство в «личную жизнь» заявителя в значении ст. 8 § 1 Конвенции. Как подчеркнул Суд, стороны не оспаривали, что скрытое наблюдение заявителей имело основу в законодательстве Российской Федерации, а именно в применяемых положениях Закона «Об оперативно-розыскной деятельности». В то же время ответчик не представил доказательств, в частности копии санкций на разрешение и проведение наблюдения за заявителями, 144 что сделало невозможным для Суда выяснить, являлись ли санкции основаны на разумном подозрении в совершении заявителями преступлений. Суд не мог также удостовериться, являлись ли причины, оправдывающие меры наблюдения, «относимыми» и «достаточными», то есть было ли прослушивание коммуникаций заявителей необходимым в демократическом обществе и, в частности, пропорциональным соответствующей преследуемой законной цели. Кроме того, отказ в раскрытии санкций на наблюдение заявителям в отсутствие уважительной причины лишил их возможности проверки данного обстоятельства независимым судом в свете принципов ст. 8, то есть законности меры и ее «необходимости в демократическом обществе» (см. § 121–132). Продолжая тему идентификации голоса, хотелось бы обратить внимание, что данная проблема всегда интересовала криминалистов и актуализировалась в связи с развитием и использованием новых технологий. Между тем исследователи постоянно отмечали многозначительность проблемы, которая вызвана голосовой и визуальной идентификацией: ошибки могут быть даже со стороны свидетелей, отличающихся уверенностью в показаниях1. По мнению указанного исследователя, процедура идентификации должна быть проведена в соответствии с положениями Кодекса Д, принятого для решения вопросов идентификации лиц, и не только голосовой, но и визуальной, офицерами полиции, утвержденного в 1984 г. в Великобритании. Точное название документа – Закон о полицейском и уголовно-процессуальном доказывании (Police and Criminal Evidence Act (PACE)), который сохраняет свою актуальность и сегодня. Данный закон предоставил полиции широкие полномочия ареста, задержания и обыска, чем они имели раньше. Он также формализовал режим содержания под стражей в полицейском участке. Важная часть свода законов под заголовком Code D была посвящена процедурам идентификации. Все эти меры процессуального характера имеют целью обеспечение законности действий и легитимности будущего судебного акта. Законность приговора – крайне важный элемент завершающего судебное разбирательство акта наряду с обоснованностью и справедливостью, и для этого необходима оценка использования различных устройств для преследования лица на досудебной стадии уголовного процесса. 1 См.: Jeremy Robson. A Fair Hearing? The Use of Voice Identification Parades in Criminal Investigations in England and Wales. Criminal Law Review, Issue 1 (2017), p. 38. 145 Справедливо отмечается, что судебный процесс – это не просто точное установление фактов. Его цели всегда сопровождаются задачей уважения прав и защиты других важных ценностей1. Он должен характеризоваться точностью своих подходов, сравнивающих голос правонарушителя, записанного в процессе совершения деяния, к примеру, с голосом, отраженным на пленке, в ходе перекрестного допроса. Он также указывает, что за 20 лет, прошедших с тех пор, как начали применяться голосовые проверки и одновременно упомянутый Кодекс Д эволюционировал и стал более приспособленным к использованию, был достигнут незначительный прогресс в стандартизации их использования в полиции. Если необходимо избежать судебных ошибок, следователи, адвокаты и законодатели должны серьезно рассмотреть механизмы, с помощью которых могут быть проверены идентификационные доказательства, и устранить последствия невыполнения этого требования. Существующие надежные процедуры для обес­печения того, чтобы доказательства, которые могут иметь решающее значение в ходе судебного разбирательства, были должным образом изучены, заслуживают быть примененными ко всем доказательствам этого типа, независимо от органа чувств2. Технологии имеют огромный потенциал развития, с чем традиционно связано продвижение обеспечительных мер прав подозреваемых. С увеличением мер видеонаблюдения, включающих прослушивание, растут и угрозы в манипуляции с изображениями или непосредственно звукозаписью. Поскольку система уголовной юстиции в современную эпоху требует большей ответственности в обеспечении прав человека, необходимо усилить реализацию принципа добросовестности с его акцентом на справедливость, что к тому же должно стать главным соображением для гарантирования таких подходов, которые исключают ошибки в идентификации. Отметим также, что защита личной жизни как фундаментальное право, особенно применительно к частной коммуникации в цифровом пространстве и развитое как ЕСПЧ, так и Судом ЕС, укрепив гарантии охраны прав при наблюдении, может быть четко определена как вклад в защиту демократических ценностей в период усиления использования электронных средств в условиях пандемии. В этом смысле повышение роли судебной власти зависит от того, 1 Andrew Ashworth, Mike Redmayne. The Criminal Process. Third Edition. Oxford University Press. 2005, p. 25. 2 Ibid, р. 50. 146 насколько она сможет перестроиться, исходя из общего понимания, что усиление защиты частной жизни предполагает весомый вклад в защиту демократического правопорядка. Проблемы, связанные с использованием технологий, подняты в интересной статье Ilia Siatitsa – программного директора и сотрудника по правовым вопросам, касающимся конфиденциальности, посвященной проблеме права на справедливое судебное разбирательство в цифровую эпоху и угрозе дестабилизации баланса властей, что может представлять интерес для каждой правовой системы, включая российскую1. В сентябре 2013 г. власти Дании приняли решение об освобождении 32 заключенных, осужденных на основании доказательств, включающих данные о местоположении, полученных от мобильных операторов. Датские власти обнаружили, что записи мобильного телефона были неточными. Программное обеспечение, которое преобразовало исходные данные с телефонных устройств в пригодные для использования доказательства, имело несколько сбоев, и, как сообщалось, более 10 700 дел подлежат рассмотрению, поскольку использовалась та же технология для извлечения данных. Главный прокурор Дании даже объявил о двухмесячном прекращении обращения к таким данным о местоположении мобильного телефона в качестве доказательства в судебных процессах, заявив: «Мы просто не можем жить с мыслью, что неточная информация отправляет людей в тюрьму»2. Приведенные благородные заявления между тем поднимали не менее серьезные проблемы о том, насколько права оказавшихся в таком положении лиц были соблюдены в ходе судебного разбирательства: информированы ли они полностью о данных, собранных с их мобильных телефонов; могли ли они оспорить сам процесс извлечения и целостность собранных данных; помогали ли им независимые эксперты, которые могли оценивать и подвергать сомнению доказательства. Дискуссии проблем применения цифровых технологий в судах и обеспечения принципов справедливого судебного разбирательства нередко сосредоточены на аспектах, демонстрирующих их влияние на облегчение проведения самого судебного 1 См.: Fair Trial: Regional and International Perspectives. Liber Amicorum Linos-Alexandre Sicilianos. Ilia Siatitsa. The Right to a Fair Hearing in the Digital Age: The Power Balance Destabilized. 2020. Anthemis, pp. 547–558. 2 The Guardian. URL: www.theguardian.com/world/2019/sep/12/denmark-frees-32-inmatesover flouted-geolocation-revelations (дата обращения: 15.01.2020). 147 процесса. Использование оценки риска при вынесении приговоров является примером того, как алгоритмы все чаще используются для информирования при принятии решений в уголовном процессе. Нередко ссылаются на факт всеобщей датафикации, вызванной тем, что люди все больше генерируют и собирают данные и происходит это постоянно. Органы правопорядка и специальные службы обязаны поспевать за этим и оснащаются новыми, все изощренными инструментами, которые позволяют им отслеживать, извлекать, анализировать и выводить информацию о подозрительных действиях и последнем местонахождении преследуемого. Это напоминает своего рода гонку за данными, и сбор не ограничивается просто преступлениями, для раскрытия которых их информация считывается своевременно. Технологии используются широко в киберпреступлениях, экономических и экологических преступлениях и т.п. В этих условиях трудно поддерживать баланс правовой оснащенности судей в поддержании принципов справедливого судебного разбирательства. Под правовой оснащенностью мы понимаем способность ответить свое­ временно и эффективно на новые вызовы. Относительно новые технологические разработки, внедренные в основном для использования на стадии расследования в отношении сбора и обработки данных, которые будут применяться в качестве доказательств, требуют своевременных ответов с целью обеспечения равенства сторон и состязательности процесса. Гарантии защиты права на справедливое судебное разбирательство требуют интеграции технологических достижений в систему уголовного правосудия. Как пишет упомянутый датский специалист, это касается и алгоритмически сгенерированных «доказательств». Так, чтобы образцы ДНК использовались в качестве доказательства в уголовном процессе, стороны должны следовать определенному протоколу. Например, сохраненный образец должен быть внушительных размеров, чтобы позволить защите получить независимый анализ. Вместе с тем эквивалентные процедуры не применялись для каждой новой технологии, которая используется или проверяется в ходе уголовного процесса. Как считает упомянутый автор, несмотря на быстрый рост цифровых доказательств, нет четкой стратегии решения проблем, которые возникают в системе уголовной юстиции. Алгоритмически сгенерированный сбор «доказательств» кажется беспроблемным, и 148 в результате его внедрения в уголовное судопроизводство происходит значительная экономия временных затрат1. Правоохранительные органы используют информационные технологии в превентивных целях. Параллельно с этим государства пытаются модернизировать действующее уголовное и процессуальное законодательство. Несмотря на принципиальную активность, правильно подмечено, что базовые принципы остаются прежними: право государства на криминализацию и установление конкретной меры наказания на данной территории как выражение суверенитета. Развитие современных технологий и перенос повседневной деятельности из физического и нефизического мира в киберпространство ставят под сомнение ряд основных принципов, на которых разрабатывалось то или иное законодательство: принцип территориальности вряд ли применим в пространстве «нетерриториальном»; принцип вины подвергается сомнению в свете юного возраста киберпреступников; принцип законности (nulla poena sine lege) проверяется на основе новых форм компьютерных преступлений. В то же время существует распространенное и небезосновательное мнение, что цифровая революция не принесла значительных изменений в области уголовного права и процесса, за исключением некоторых обвинений и нескольких международных документов, целый ряд из которых носят символический характер2. Кроме того, очевидные доводы в пользу того, что использование информационных технологий повысило потенциал органов преследования, требуют признания принципиальной возможности, которая уже реализуется, в частности эффективности защиты. Защита, столкнувшись с обвинением, оснащенным мощными ITсредствами, имеет две потребности: во-первых, она должна быть информирована о доказательствах, собранных противоположной стороной; во-вторых, иметь возможности по сбору новых доказательств для их использования в судебном процессе. Названные аспекты имеют тенденцию развиваться, поскольку знания о собранных обвинением доказательствах представляют собой обычно только часть их, и для проверки требуются усилия по поиску абсолютно новой информации. Возможность сбора оправдывающих Ilia Siatitsa. Op. cit., p. 557. См.: Vanja Bajovic. Criminal Proceedings in Cyberspace: The Challenge of Digital Era // Cybercrime, Organized Crime and Societal Responses. International Approaches. Springer, 2017, p. 87. 1 2 149 доказательств – необходимый вклад в обеспечение равенства сторон, что является частью концепции справедливого судебного разбирательства. Статья 6 Конвенции не предусматривает каких-либо явных гарантий в отношении возможности защиты добывать доказательства, расследовать факты или допрашивать свидетелей на стадии расследования. Вместе с тем ЕСПЧ прогрессивно интерпретирует положения Конвенции по вопросу равенства сторон, который в качестве принципа требует, чтобы каждая сторона имела не просто необходимые ей средства и полномочия, а разумную возможность представить свою позицию на условиях, которые не ставят ее в существенно невыгодное положение по отношению к другой1. Вместе с тем ст. 6 п. 3 (d) Конвенции не содержит четких указаний по вопросу расследования дела, а говорит о возможности «иметь право на вызов и допрос свидетелей в его пользу на тех же условиях, что и для свидетелей, показывающих против него». Суд также не дает окончательного определения «равенства сторон», проявляя осторожность и не затрагивая некоторые особенности национальных систем, оставляя за ними широкую «свободу усмотрения». Существует мнение, что задача Суда заключается в обеспечении минимального уровня защиты фундаментальных прав, а не в гармонизации национальных систем, в частности в отношении вопросов доказывания2. Лишь в исключительных случаях Суд может упомянуть это, как он сделал в деле «Dayanan v. Turkey», подчеркнув, что сбор доказательств в пользу обвиняемого находится среди основных аспектов защиты лица3. Такой осторожный подход понятен, поскольку «традиционный» состязательный процесс и концепция равенства сторон являются требованиями, выходящими за пределы различия между обвинительной и инквизиционной системами, и они должны применяться к обеим из них, даже если расследование не может проводиться защитой. Вместе с тем изучение правовых систем показывает на различие в подходах по вопросу активного участия защиты в осуществлении расследования. В случае положительного отношения законодательства к проблеме активного выяснения фактов и сбора доказательств защитой, IT было 1 См.: Corcuff v. France, постановление от 4 октября 2007 г., § 31; G.B. v. France, постановление от 2 октября 2001 г., § 58. 2 См.: Allegrezza S., Critical Remarks on the Green Paper on Obtaining Evidence in Criminal Matters from one Member State to another and Securing its Admissibility, in Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik, 9, 2010, p. 569. 3 См.: Dayanan v. Turkey, постановление от 13 октября 2009 г., § 32. 150 бы сильным инструментом в его руках. В то же время даже в этих случаях защита ограничивалась допросом свидетелей, не прибегая к помощи современных технологий1. По мнению автора (Микеле Симонато), правовая система Италии в этом плане представляет особый интерес, поскольку с 2000 г. Уголовно-процессуальный кодекс непосредственно предусматривает право защитника искать оправдывающие доказательства, обращаясь даже к услугам экспертов. Хотя в законе нет особого указания об использовании в ходе расследования IT со стороны защитника, тем не менее имеются три аргумента в пользу такой возможности. Во-первых, ст. 431 УПК Италии предусматривает, что все «неповторимые действия», осуществляемые защитой, также включаются в «судебное дело». Во-вторых, хотя нет особых правил в этом отношении, аудио- и видеозаписи, сделанные частными лицами, в том числе адвокатами, могут считаться документальными доказательствами и допускаться в судебном разбирательстве, если они не подпадают под действие какоголибо конкретного исключающего правила. В-третьих, Закон о частной жизни Италии в соответствии с правилами о применении Директивы ЕС о хранении данных предусматривает, что защита может напрямую получать доступ к данным, относящимся к подозреваемому, которые хранятся у частных лиц, выступающих в качестве поставщиков услуг. Действующий в ЕС общий Регламент защиты данных 2016 г., подобно предыдущей Директиве, предусматривает право государственных органов в соответствии с правовыми обязанностями по осуществлению их деятельности раскрывать данные. Они не должны рассматриваться в качестве бенефициаров данных, если получают персональные данные, которые в соответствии с правом Союза или государства-члена необходимы для проведения конкретного расследования в общих интересах2. Необходимость для защиты иметь доступ особенно возрастает, когда существует очевидная потребность в «оправдывающих данных», доступ к которым не разрешается. Ограничены также возможности обращения к системе IT для сбора оправдывающих доказательств. Такое ограничение доступа к результатам активного наблюдения за лицом нередко остается неурегулированным на международном или национальном уровне. Обычно подобный запрет понятен и вызван частыми попытками вмешательства в личную жизнь другими лицами. 1 Michele Simonato. Defense Rights and the Use of Information Technology in Criminal Procedure. International Review of Penal Law, Vol. 85, Issue 1-2, 2014, p. 290. 2 Regulation (EU)2016/679, Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). 151 Как мы указывали, IT-революция влияет на способ расследования правонарушений. Очевидно, она воздействует и на многие аспекты уголовного судопроизводства, в особенности на работу защитника. Современные технологии используются и для модернизации зала суда, и они, естественно, также отражаются на праве на защиту, оказывая воздействие на конкретные процедуры. Это выражается, к примеру, в графическом представлении для объяснения сложных вопросов, обращении к визуальным инструментам, которые могут в реальности быть более эффективными, чем долгие словесные разъяснения. Многие правовые системы допускают подобное представление доказательств, но они не отрегулированы с правовой точки зрения окончательно, поэтому их не всегда можно считать приемлемыми. Хочется подчеркнуть, что отсутствие в процессуальном законодательстве подробной регламентации процесса допустимости доказательств, как, впрочем, и других пробелов, не означает их обязательного исключения или игнорирования. Судьи могут восполнять эти пробелы, проявляя уровень допустимого их преодоления путем судейского правотворчества. Однако и этот процесс имеет определенные пределы, представляя собой меньшую степень усмотрения, в отличие от преодоления пробелов в материальном праве. Вместе с тем существует позиция, что использование современных компьютерных технологий визуализации может исказить восприятие, повлиять на память и, соответственно, на последующее принятие решения судом. Однако представляется, что они не оказывают серьезного воздействия на права защиты. Другая, не менее интересная позиция связана с задействованием специального программного обеспечения для реконструкции уголовных событий на основании различных доказательств, которые позволяют независимым экспертам виртуально воссоздать общую картину, в основе которой череда фактов. К названным методам обычно обращается сторона обвинения, однако и защита должна быть готова к опровержению. Речь идет о наличии у защиты соответствующих ресурсов. Существует также еще одна категория мер, связанная с осуществлением правосудия и облегчающая доступ в суд, способствуя быстроте и наименьшим затратам1. Новшество касается увеличения цифровых файлов, гарантирующих высокое качество документов, 1 См.: J. Barret, Vice-President of the European Commission and Commissioner Responsible for Justice, Freedom and Security (from 2004 to 2010), press-release: Towards a European Strategy on e-justice, IP/08/821, Brussels, 30 May 2008. 152 предусматривающего эффективный доступ защиты к электронной информации. Названные меры включают также контакты адвоката с подзащитным посредством видеоконференции. Как отмечали исследователи вопроса видеоконференции Johnson и Wiggins, она может уменьшить представления подсудимого о серьезности судебного разбирательства, как и о самом правосудии, негативно влияя на его или ее поведение и, таким образом, на право на надлежащую правовую процедуру. Она воздействует, по мнению названных авторов, на восприятие справедливости разбирательства, поскольку подсудимый продолжает находиться под надзором тюремной охраны и может не совсем точно оценивать роль судьи как нейтрального арбитра. С другой стороны, это же отражается на способности самого судьи достоверно воспринять обвиняемого, поскольку техническое изображение лица, позы, жестов обвиняемого могут не совсем точно передаваться через видеотехнологии и воздействовать на подсознательном уровне на судью. Не следует умалять и то, что присутствие камеры вызывает нервозность1. Практические меры должны уравновешивать отсутствие физического присутствия подсудимого. К ним относится возможность свободного и конфиденциального общения обвиняемого с защитником в необходимое для них время. Видеоконференции могут ограничивать способность защиты представлять на обычном уровне интересы обвиняемого, поскольку он не всегда может одновременно присутствовать в зале суда с другими сторонами и в удаленном месте с обвиняемым. Возможно, что обвиняемый и адвокат будут находиться в разных местах и возникнут сложности в их общении2. Во многих странах существует правило, устанавливающее возможность допроса свидетелей посредством видеоконференции. В этом процессе ключевым элементом является противостояние обвинения и защиты, но главным фактором служит ведение процесса судьей, а также контекст судебного сотрудничества. Другим интересным аспектом проведения перекрестного допроса свидетелей посредством видеоконференции является определение причин ее проведения. К ним специалисты относят, в частности: а) эффективность и уменьшение затрат, что позволяет сэкономить финансовые 1 См.: M. Treadway Johnson – Elizabeth C. Wiggins. Videoconferencing in Criminal Proceedings: Legal an Empirical Issues and Directions for Research. Law and Policy. 28 (2), May 2006, p. 215–216. 2 Ibid, p. 216–217. 153 ресурсы (связь путем видеоконференции дешевле, чем затраты на транспортные средства) и время (сокращение задержек); б) защиту несовершеннолетних и других уязвимых свидетелей от очной ставки с подозреваемым; в) безопасность судебных заседаний и охрану общественного порядка; г) снижение риска побега1. Современное уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации регулирует особенности допроса свидетеля путем использования систем видео-конференц-связи. Согласно ст. 278.1 УПК РФ суд, рассматривающий уголовное дело, при необходимости может вынести решение о проведении допроса свидетеля путем использования систем видео-конференц-связи. Закон предполагает судебное сотрудничество, предусмотрев поручение судам по месту нахождения свидетеля организовать проведение допроса свидетеля путем использования систем видео-конференц-связи. В соответствии с ч. 2 ст. 401.13 лицо, содержащееся под стражей, или осужденный, отбывающий наказание в виде лишения свободы, вправе участвовать в судебном заседании непосредственно либо путем использования систем видео-конференц-связи при условии заявления или ходатайства об этом. Между тем важно обратить внимание на постановление ЕСПЧ по делу «Sakhnovskiy v. Russia», в котором Суд подчеркнул, что любые ограничения на отношения между клиентом и адвокатом, как внутренне присущие, так и привнесенные, не должны препятствовать эффективной помощи защитника, право на участие которого имеет обвиняемый. Несмотря на возможные трудности и ограничения, важность, придаваемая праву на защиту, такова, что право на эффективную помощь защитника должно соблюдаться при любых обстоятельствах. Суд обратил внимание, что заявитель имел возможность общаться с вновь назначенным адвокатом пятнадцать минут прямо перед началом заседания, что с учетом сложности дела явно недостаточно. Кроме того, по мнению Суда, вызывает сомнение, обеспечивала ли видеосвязь достаточную конфиденциальность общения. Заявитель пользовался системой видео-конференц-связи, установленной и обслуживаемой государством, и Суд считает, что он мог испытывать законное чувство неловкости при обсуждении своего дела с адвокатом. С учетом названных обстоятельств Суд признал, что меры, предпринятые Верховным Судом, были недостаточными и не обеспечили заявителю эффективную 1 См.: Michele Simonato. Op. cit. Р. 298. 154 помощь защитника на втором кассационном слушании1. В постановлении по делу «Медведев против России» Суд вновь указал, что заявитель на законных основаниях мог чувствовать себя некомфортно при общении с назначенным государством адвокатом посредством видеосвязи. Власти не объяснили, почему было невозможно обеспечить иные меры для проведения апелляционных слушаний. По существу, как и в деле Sakhnovskiy, предложенная система видеоконференции была установлена и эксплуатировалась государством2. Думается, нелишне также напомнить об обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19), № 2, утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ от 30 апреля 2020 г. В нем Верховный Суд, сославшись на Постановление ЕСПЧ от 16 февраля 2016 г. по делу «Евдокимов и другие против Российской Федерации», напомнил: использование в ходе судебного разбирательства системы видео-конференц-связи не противоречит понятию справедливого и публичного слушания дела при условии, что подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, находящийся под стражей и участвующий в судебном заседании, имеет возможность следить за ходом судебного процесса, видеть и слышать участников процесса, а также быть заслушанным сторонами и судьей беспрепятственно. Использование названной системы не препятствует подозреваемому, обвиняемому, подсудимому осуществить права, изложенные в ст. 6, п. 3, подп. (с), (d) и (e) Конвенции. В связи с изложенным, а также учитывая, что постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. № 66 новая коронавирусная инфекция внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в условиях действия ограничительных мер, связанных с противодействием ее распространению, в целях обеспечения в том числе санитарно-эпидемиологической безопасности участников уголовного судопроизводства, суд по каждому уголовному делу или материалу, требующему безотлагательного рассмотрения, вправе с учетом проведения карантинных мероприятий в следственных 1 2 См.: «Сахновский против России», № 21272/03, постановление от 2 ноября 2010 г., § 102–106. См.: «Медведев против России», № 5217/06, постановление от 27 июня 2017 г., § 30. 155 изоляторах и установленного для всех граждан режима самоизоляции в целях недопущения распространения инфекции принять решение о проведении всего судебного разбирательства с использованием систем видео-конференц-связи, что позволит обеспечить личное участие и соблюдение процессуальных прав подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и других лиц в судебном заседании. С учетом приведенного без сомнения своевременного решения о расширенном использовании системы видео-конференц-связи возникает вопрос о правовой природе обзоров судебной практики. В соответствии со ст. 7 Федерального конституционного закона «О Верховном Суде Российской Федерации» Президиум Верховного Суда РФ публикует обзоры в целях обеспечения единства судебной практики. Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 17 октября 2017 г. № 24-П обратил внимание на то, что факт включения в утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ обзор судебных актов, вынесенных судебными коллегиями Верховного Суда РФ, не изменяет их свойства, поскольку при решении вопроса о включении в обзор того или иного судебного акта рассмотрение самого дела в процедуре, предусмотренной процессуальным законом, не происходит. Бесспорно, указанная позиция Конституционного Суда РФ отражает правовые реалии, хотя и свидетельствует о влиянии обзоров на судебную практику. Вместе с тем она выявляет пробел в законодательном регулировании, особенно необходимый для последовательности и стабильности судебной практики. Как уже отмечалось, использование, к примеру, показаний по видеосвязи не противоречит ст. 6 Конвенции, хотя определено, что оно должно служить законной цели. Порядок представления доказательств следует применять в соответствии с требованиями, которые отвечают задачам надлежащей процедуры. Порой это связывают с принципами соразмерности и необходимости, к которым Суд часто обращается, когда: это должно быть важно для защиты определенных интересов, уравновешивающих отсутствие перекрестного допроса; сама организация демонстрирует уважение к сути права на очную ставку со свидетелем. В целом Суд предлагает по возможности мало отступлений от принятой модели дачи показания, сохраняя основания права задавать вопросы свидетелям независимо от формы и способов связи. Названный подход обусловлен тем, что положения Конвенции «следует рассматривать в контексте как 156 обвинительной системы, когда стороны, находящиеся под контролем суда, решают, каких свидетелей они желают вызвать, так и системы инквизиционной, когда непосредственно суд решает, каких свидетелей ему следует выслушать. В первой системе свидетели допрашиваются сторонами, хотя судья может и сам задать дополнительные вопросы. Во второй же свидетели допрашиваются судом»1. В течение многих лет в состязательной системе США подход к показаниям по видеосвязи был неоднозначным, и связано это было с толкованием Шестой поправки к Конституции, по которой во всяком уголовном преследовании обвиняемый имеет право… на очную ставку со свидетелями, дающими показания против него. Она интерпретировалась как требование о присутствии свидетеля в зале судебного заседания. В деле «Coy v. Iowa», к примеру, Верховный Суд интерпретировал оговорку как предоставляющую право на физическую конфронтацию лицом к лицу, чтобы гарантировать справедливость и целостность процесса установления фактов, затрудняя дачу показаний недобропорядочных свидетелей2. Однако немногим позднее, начиная с дела «Maryland v. Graig» некоторые возможности продолжения процесса посредством видео-конференц-связи были допущены на федеральном уровне3. Упомянутое решение касалось свидетеля-ребенка по делу о сексуальном насилии. Суд разъяснил, что такая методика допускается только в каждом конкретном случае, когда того требуют важные общественные интересы, например защита свидетелей детского возраста. В последующем наблюдалась непоследовательность в правовом положении в отношении дачи показаний по видео-конференц-связи в уголовном процессе на федеральном уровне США. На уровне же штатов нефедеральные суды придерживались либерального подхода в отношении разрешения показаний по видеосвязи, не ограничивая их использование там, где это необходимо для продвижения публичной политики, как это было заявлено ранее в решении «Maryland v. Graig». В то же время дебаты о конституционности свидетельских показаний по видеосвязи все еще актуальны, тем более что в 2002 г. Верховный Суд отказал принять предложенное дополнение процессуальных норм, разрешающих дачу показаний по видеосвязи4. 1 Francis Geoffrey Jacobs, Robin C.A. White. Jacobs, White and Ovey: The European Convention on Human Rights. Oxford University Press, 2010, p. 234. 2 Coy v. Iowa, 487 U.S. 1012 (1988). 3 Maryland v. Graig, 497 U.S. 836 (1990). 4 См.: Amendments to Rule 26(b) of the Federal Rules of Criminal Procedure, April 29, 2002, Statement of Scalia, J., p.1. 157 Можно сказать, что показания по видеосвязи все же не являются настоящей очной ставкой между обвиняемым и свидетелем, и их не следует проводить в случаях, когда нет серьезных на то оснований. Присутствие в зале свидетелей и возможность их увидеть производит совершенно иной эффект. Исследователь в этой области А. Гарофано считает, что федеральные суды признают видео-конференц-связь в качестве инструмента, не полностью удовлетворяющего положение об очной ставке. В то же время это ценный фактор для представления свидетельских показаний в суде, максимально приближенный к показаниям, данным физически присутствующим свидетелем. Из-за своей значимости при определенных обстоятельствах свидетельские показания посредством видеосвязи не должны запрещаться. Вместе c тем, поскольку они не предусматривают реальной конфронтации лицом к лицу, должны быть строгие ограничения на их использование. Лучшее правило разрешало бы обращаться к ним, когда они необходимы для защиты физического здоровья и благополучия свидетеля или же с согласия обвиняемого. Любой меньший стандарт недопустимо жертвует правом обвиняемого на конфронтацию и основной важностью показания физически присутствующих свидетелей. Между тем абсолютный запрет на показания по видеосвязи игнорирует ценность ограниченного и осторожного применения этой мощной технологии1. Очевидно, что использование технологий изменило различные аспекты нашей жизни, и невозможно ожидать, что система уголовной юстиции, включая видео-конференц-связь, останется в стороне от технологической революции. Следует признать, что этот процесс представляет собой вторжение в осуществление тех прав на защиту, которые были признаны всеми и закреплены в международно-правовых документах. Каждое новшество, а тем более такое, как использование технологий, несет в себе и позитивные элементы в осуществление правосудия. Они, в частности, стремятся к построению более эффективной системы, состоящей из разумного использования человеческих ресурсов и сокращения судебных издержек. «IT сегодня многие считают если не панацеей, то, по крайней мере, фундаментальным строительным блоком в любой заслуживающей доверия попытке реформировать систему уголовного правосудия»2. 1 Garofano A. Avoiding Virtual Justice: Video-Teleconference Testimony in Federal Criminal Trials. In Catholic University Law Review, 56, 2007, p. 712. 2 Susskind R., Information Technology and the Criminal Justice System, in P.Mirfield – R.Smith (eds.), Essays for Colin Trapper, Oxford University Press, 2003, p. 160. 158 По мнению этого же автора, несмотря на возникновение порой чувствительных вопросов, преимущества кажутся более важными, чем недостатки. IT, по существу, новый образ жизни юриста, а результат технологического развития и эти будущие новшества трудно даже предсказать1. Хотелось бы показать эволюцию концепции защиты частной жизни на примере развития доктрины разумных ожиданий. Определение того, что составляет обыск по смыслу Четвертной поправки к Конституции США, до 1967 г. было тесно связано с концепциями права собственности. Действия полиции считались бы обыском, если бы они представляли собой нарушение норм общего права. По мере того как методы наблюдения и подслушивания становились более технологически изощренными и могли выполняться без необходимости физического вторжения, это определение устарело и стало недостаточно исчерпывающим2. Модернизация Четвертой поправки берет свое начало с дела «Katz v. United States»3. Согласно материалам дела федеральные агенты, заподозрив Чарльза Каца в букмекерстве, поставили подслушивающее устройство у стены телефонной будки, которую он использовал. Поскольку в будку не было проникновения и, следовательно, вторжения, суд низшей инстанции постановил, что агенты не проводили никаких действий, когда они подслушивали компрометирующую беседу Каца. Верховный Суд, не соглашаясь с такой позицией, постановил, что данная Поправка «защищает людей, а не места» и ее действие не может зависеть исключительно от того, произошло ли физическое вторжение. Скорее применимость проистекает из концепции конфиденциальности: «Деятельность правительства по прослушиванию и записи с использованием электронных средств нарушила частную жизнь, на которую, как указал Верховный Суд, Кац справедливо полагался при разговоре из телефонной будки, и, таким образом, представляла собой обыск и арест имущества по смыслу Четвертой поправки». Хотя в начале казалось, что решение по делу Каца представляет собой расширение конституционной защиты от необоснованного обыска, в решениях последующих лет этот критерий не интерпретировался 1 Susskind R., Information Technology and the Criminal Justice System, in P.Mirfield – R.Smith (eds.), Essays for Colin Trapper, Oxford University Press, 2003, p. 166. 2 Criminal Procedure. The Constitution and the Police. Eighth Edition. Robert M. Bloom and Mark S. Brodin. Wolters Kluwer, 2016, p. 33. 3 Katz v. United States. 389 U.S. 347 (1967). 159 широко. Четвертая поправка применяется в том случае, если: 1) гражданин проявил субъективное ожидание конфиденциальности и 2) это ожидание именно то, которое общество (посредством подхода Суда) принимает как объективно разумное1. Другими словами, для лица недостаточно поверить в то, что он действует конфиденциально; это убеждение должно считаться разумным. Верховный Суд придерживается, как правило, несколько сдерживающего подхода к тому, что общество считает оправданными ожиданиями конфиденциальности. Расширяя действия анализируемой поправки, Верховный Суд принял единогласное решение о нарушении ее требований полицией прав подозреваемого установкой устройства слежения (GPS) на его автомобиль, посредством которого контролировалось его передвижение в течение месяца. Судья Скалиа подчеркнул, что установка устройства незаконным путем на собственность подозреваемого активировала защиту Четвертой поправки2. В дальнейшем практика расширения действия Четвертой поправки благодаря ее интерпретации продолжилась, включая, к примеру, такие области, как разновидности электронного наблюдения и компьютерного поиска. Учитывая центральную роль компьютеров и информационных технологий в современном обществе, сотрудники правоохранительных органов, расследующие преступления, все чаще ищут возможность заглянуть в киберпространство подозреваемого. Какие ограничения применяются здесь? Как известно, Четвертая поправка требует ордер на обыск, выданный по вероятной причине и с подробным описанием места, подлежащего обыску, и предметов, которые должны быть изъяты. Но что это означает, когда поиск ведется на жестком диске и файлах компьютера? Насколько конкретным должен быть ордер с описанием предметов, подлежащих изъятию из компьютера? Допускает ли доктрина открытого обзора следователям доступ к файлам, относящимся к преступлениям, отличным от описанных в ордере, если они сталкиваются с ними в ходе обыска? Имеют ли удаленные файлы право на какую-либо защиту в соответствии с поправкой или они находятся вне ее рамок? На эти и другие не менее важные вопросы отвечает судебная практика. Интересно также, что обыск компьютера поднимает уникальные проблемы, связанные с их особенностями. В отличие от физических 1 2 См.: California v. Greenwood, 486 U.S. 35, 39 (1988). См.: United States v. Jones, 132 S. Ct. 945 (2012). 160 объектов, которые могут быть идентифицированы в ордере и обнаружены исполнителями, цифровыми файлами можно манипулировать способами, скрывающими их истинное содержание1. Следует учесть также огромные возможности хранения, которыми обладают современные компьютеры, предоставляющие заманчивые условия для поисков, то есть того, чего не удалось избежать их разработчикам. Добавим, что в деле «United States v. Stabile» суд признал, что точные рамки доктрины открытого обзора применительно к компьютерам варьируются от случая к случаю, основываясь на здравом смысле и фактах дела. «Существуют три требования для действительного изъятия доказательств в открытом доступе. Во-первых, офицер полиции не должен был нарушать Четвертую поправку, во всяком случае в том месте, откуда можно было бы ясно увидеть доказательства. Во-вторых, инкриминирующий характер улик должен быть очевиден сразу. В-третьих, офицер должен иметь законное право доступа непосредственно к объекту»2. Несмотря на активность судов в поисках ответов на вызовы технологических новаций, самая большая угроза для частной жизни исходит из стремления использовать наиболее изощренные новейшие цифровые достижения для слежки за людьми. Тепловидение, инфракрасные камеры и газовая хроматография могут открыть наши дома (и все виды деятельности в них) для любопытных глаз. Системные устройства (GPS) могут отслеживать каждое движение человека, а профилирование ДНК может выявить самые сокровенные детали о человеке: прядь волос или выброшенный окурок – источник информации о нашем состоянии здоровья, ожидаемой продолжительности жизни и семейном анамнезе. Все эти глобальные достижения и процессы хотя и оптимизируют методы следствия и облегчают раскрытие преступлений, но они явно идут за счет прав на неприкосновенность частной жизни, которые лежат в основе Четвертой поправки. Достижение надлежащего баланса здесь остается постоянной проблемой, которую суды будут испытывать в нашем столетии3. Сбор доказательств в европейском контексте по-прежнему является значительным инструментом судебного сотрудничества. На общеевропейском уровне нет ясного различия между доказательствами, собранными на этапе предварительного расследования, См.: United States v. Evers, 669 F. 3d 645 (6th Ciz 2012). См.: United States v. Stabile, 633 F. 3d 219, 240 (3rd Ciz 2011). 3 Robert M. Bloom, Mark S. Brodin. Оp. cit., p. 298. 1 2 161 и доказательствами, собранными в ходе судебного разбирательства. Такое четкое отличие не принято европейским законодательством потому, что это актуально только в некоторых правовых системах, таких как итальянская и английская, которые основаны на разделении между этапом расследования и судебным разбирательством, концентрируя сбор доказательств на последнем. Некоторые системы сохранили смешанную, в основе своей все же инквизиционную парадигму, основанную на сборе доказательств на досудебной стадии процесса. С учетом этого в европейском контексте предпочтительно использовать общее выражение «сбор доказательств», преимущество которого состоит в его применимости ко всем формам. Хотелось бы остановиться на двух средствах сбора доказательств, основанных на использовании технологий, наносящих существенный вред фундаментальному праву на неприкосновенность частной жизни, которое защищено национальными конституциями и является предметом уже упомянутой ст. 7 Хартии Европейского союза об основных правах и ст. 8 Европейской конвенции по правам человека. Речь идет о перехвате разговоров, а также о расследованиях, связанных с получением цифровых доказательств, которые можно найти в информационных системах и сетях, а также телефонного и сетевого трафика данных, хранимого поставщиками услуг. Последние полезны для отслеживания и идентификации источника и пункта назначения связи, определения соответствующей даты, времени и продолжительности, а также определения местоположения устройств. Отметим также, что имеется очевидный конфликт с конфиденциальностью лиц в результате использования таких средств расследования. Познавательная ценность перехвата основана на том обстоятельстве, что общающиеся люди не знают, что их разговор подслушивается и следствие, как правило, получает конфиденциальную информацию. Кроме того, цифровые доказательства часто смешиваются с личными данными, которые не имеют отношения к уголовному преследованию. Потенциально анализ информационных систем и сетей может раскрыть содержание всей жизни: привычки, политические взгляды, различные предпочтения. Сегодня перехват и цифровые расследования приобретают транснациональный характер, по существу, в двух ситуациях: когда они не могут быть осуществлены государством без помощи другого государства или когда их объектом являются источники доказательств или части 162 доказательств, расположенные за пределами национальной территории1. Относительно правовой регламентации необходимо указать, что транснациональный перехват и электронные расследования регулируются Конвенциями о судебных нарушениях (в частности, Конвенцией ЕС о взаимной помощи по уголовным делам 2000 г.) в отношении государств, не входящих в ЕС, и Директивой 2014/41/ EU о Европейском порядке расследования (EIO) в отношении стран ЕС. Цифровые расследования являются также особой дисциплиной в Конвенции Совета Европы о киберпреступности, разработанной в Будапеште в 2001 г. Будапештская Конвенция включает в себя некоторые минимальные положения, касающиеся цифровых расследований, которые должны применяться в соответствии с национальным законодательством отдельных стран с целью гармонизации их правовых систем. Названные положения о транснациональном перехвате и цифровых расследованиях критиковались ввиду их неполноты, в особенности относительно аспекта допустимости доказательств. В то же время очевидно, что эти положения должны применяться в интерпретации ЕСПЧ, как это Суд продемонстрировал в деле «Roman Zakharov v. Russia» (постановление от 4 декабря 2015 г.) касательно прослушивания и в деле «Robathin v. Austria» (от 3 июля 2012 г.) по вопросу цифровых расследований. Значение практики Суда заключается в том, что перехват и цифровое расследование должны регулироваться законодательством достаточно точно и ясно и должны подлежать судебному контролю. Сбор доказательств не может производиться произвольно, а должен быть основан на определенных причинах о том, что совершено преступление и существуют разумные подозрения в существовании основания для перехвата или в наличии компьютерной системы или в сети цифровых данных, имеющих отношение к судебному разбирательству. Важно, чтобы защита могла реализовать свое право, вплоть до участия в следственных действиях, во всяком случае более активного участия, реализуя право обращаться в суд в случаях установления непропорциональных пределов. Названные гарантии следуют из требований критериев п. 2 ст. 8 – «необходимо в демократическом обществе» – и п. 1 ст. 52 1 Handbook of European Criminal Procedure. M. Daniele and E. Calvanese. Evidence Gathering. Springer. 2018, pp. 371–372. 163 упомянутой Хартии о том, что любое ограничение «должно быть предусмотрено законом и должно уважать сущность названных прав и свобод». Цифровые доказательства способны предоставить соответствующую информацию для установления любых уголовных преступлений, имея потенциально неограниченную оперативную сферу действия. Это объясняет, почему ст. 14.2 Будапештской Конвенции о киберпреступности предусматривает процессуальные правила, применимые не только к пресечению компьютерных преступлений, но и к исследованию цифровых доказательств других преступлений. Необходимо подчеркнуть, что ст. 15.2 Будапештской Конвенции подчеркивает важность соблюдения минимальных гарантий, предусмотренных ст. 8 Конвенции и ст. 7 Хартии ЕС: национальные законодатели должны установить судебный или иной независимый контроль, основания, оправдывающие применение и ограничение объема и продолжительности таких полномочий или процедуры. В то же время они должны учитывать влияние цифровых расследований на права, обязанности и законные интересы третьих сторон. В ст. 18, как и в других, Будапештской Конвенции определены особые средства сбора цифровых доказательств, в особенности порядок производства, который суд может адресовать юридическим лицам и поставщикам услуг, проживающим на его территории лицам, обладающим соответствующими доказательствами для целей уголовной юстиции и содержаться в системе или на компьютерном носителе данных, с возможностью создания и хранения копии данных. Последние должны быть сохранены в неприкосновенности. Перехват цифровых данных, относящихся к содержанию сообщений на территории судебного органа, передаваемых с помощью компьютерной системы, будет разрешен для списка серьезных уголовных преступлений, которые должны быть указаны во внутреннем законодательстве, если только последнее допускает такое расследование и сбор данных о трафике в режиме реального времени при условии, что это не противоречит национальному законодательству. Данные о трафике должны были сохраняться с помощью методов и мер безопасности, предусмотренных ст. 4 Директивы 2006/24ЕС, которая обеспечивала доступ к таким данным компетентным органам в случаях, специально указанных во внутреннем законодательстве, и на основе процедур, соответствующих гарантиям Европейской Конвенции по правам человека и правилам Европейского союза. 164 Интересно, что в решении от 8 апреля 2014 г. Digital Rights Ireland Суд ЕС постановил, что названная Директива недействительна из-за нарушения прав на уважение частной жизни, защиты личных данных, свободы слова. Суд подчеркнул, что в отсутствие правил, которые обязывали бы установить, что сохранение данных действительно необходимо для борьбы с преступностью, Директива допускает такое хранение неограниченного количества данных, касающихся частной жизни людей, в течение необоснованного периода времени. В последующей практике Суд ЕС принял решение от 21 декабря 2016 г. Tele 2 Sverige AB, указав, что ст. 15 Директивы 2002/58/ЕС об обработке персональных данных, которая позволяет национальным государствам принимать законодательные меры для ограничения объема основных прав, задействованных для предотвращения, расследования, выявления и преследования уголовных правонарушений, должна рассматриваться в свете решения Digital Rights Ireland. Это означает, что такая норма должна интерпретироваться как исключающая указание в национальном законодательстве, которое в целях борьбы с преступностью предусматривает общее и неизбирательное хранение всего трафика и данных о местоположении всех подписчиков и зарегистрированных пользователей, относящихся ко всем средствам электронной связи. Суд ЕС подчеркнул также необходимость того, что доступ к данным подлежал предварительному рассмотрению судом или независимым административным органом. Еще на одном аспекте Будапештской Конвенции, на которую мы уже обращали внимание, хотелось бы остановиться. Он касается взаимопомощи, которую государство обеспечивает, когда поиск доказательств выходит на наднациональный уровень. Особым инструментом служит для этих целей судебное поручение или Европейский порядок расследования, который может выдать суд государства, если ему необходимо получить цифровые доказательства, находящиеся на территории другого государства. Речь идет о действиях по сбору доказательств и обязанности соответствующей стороны обосновать необходимость для него такой информации. Указанная Конвенция предусматривает одновременно дополнительные распоряжения, направленные на удовлетворение потребностей в целесообразности, которые характерны для цифровых расследований. Имеется в виду возможность отправки судебного поручения с помощью мгновенных средств связи, таких как факс и электронная почта (ст. 25.3 Будапештской Конвенции). 165 На запрос о поиске и изъятии данных, хранящихся с помощью компьютерной системы, выданный одним государством другому, должен быть дан ответ в ускоренном порядке, если есть основания полагать, что соответствующие данные особенно уязвимы для потери или изменения (ст. 31 Конвенции). Цифровые расследования между государствами посредством взаимопомощи, вероятно, устареют как метод подхода, когда из-за использования облачных вычислений цифровые доказательства не будут доступны в отдельных физических системах хранения, а будут обнаружены в информационных сетях, доступных из любого места. Особое место в европейском сотрудничестве в регулировании вопросов расследования преступлений отводится использованию профилей ДНК, что также признают в качестве важного вклада науки в судебный процесс. Характер доказательства весьма деликатный, и его познавательный вклад нельзя отделить от использования строгих научных методов. В наднациональном регулировании в качестве значительного источника рассматривается Прюмская Конвенция о трансграничном сотрудничестве 2005 г., которая была реализована законодательством ЕС 2008/615/JHA (так называемое Решение Прюм). Особенно выделяются полномочия по расследованию, предоставленные в соответствии с распоряжениями, которые предназначены для содействия распространению генетических профилей людей, подозреваемых в совершении преступлений, между различными государствами, представляя собой общие правила, касающиеся судебных поручений в этом отношении. Результатом является образование единой системы сбора и передачи профилей ДНК между отдельными государствами, часто не предоставляющими полиции или судебной власти необходимой информации, а также для определения государств, в которых можно было бы получить соответствующие профили, с возложением на запрашиваемые органы обязанности выполнять все необходимые действия по выявлению и сравнению таких профилей. Принципу пропорциональности уделяется особое внимание, поскольку именно этот принцип предполагает передачу профилей ДНК от одного государства другому в строго необходимых целях уголовного расследования. Исходя из этой задачи ст. 2 Прюмской Конвенции и Решения предусматривают, что передача должна охватывать несколько этапов. Государства должны создавать файлы анализа ДНК исследований и управлять ими, а также выбирать национальный контактный пункт, то есть орган, уполномоченный 166 передавать данные, содержащиеся в файлах, чтобы обеспечить полную их доступность. Каждое государство должно разрешать контактной единице других государств доступ к файлам с помощью онлайн-связи и сравнивать профили ДНК, когда это необходимо для уголовного расследования. Как мы уже отмечали, с делами в сфере Интернета и социальных сетей главным образом сталкиваются национальные суды, и любое лицо может обратиться в Европейский суд по правам человека после исчерпания средств правовой защиты. Изложенное означает, что временной фактор может сыграть определенную роль в несвоевременной реакции на актуальную проблему. Можно согласиться с мнением судьи Европейского суда по правам человека Шифра О’Лири, что в настоящее время Суд ЕС находится на переднем плане в вопросах защиты персональных данных, в частности массового наблюдения1. Верховенство европейского права для национальных судов ЕС и непосредственное действие процедуры преюдициального запроса привели к тому, что в последние годы Суд ЕС первым высказывался по проблемам, возникающим в этой области2. В то же время справедливо и то, что истоки и основы преце­ дентного права Суда ЕС по-прежнему находятся в Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Не менее важное значение имеют и решения ЕСПЧ, который вместе с Судом ЕС вырабатывает стандарты для общей системы защиты прав человека. Десятилетия развития прецедентного права Европейского суда по правам человека по вопросам неприкосновенности частной жизни и защиты данных, которые теперь нашли отражение в недавней практике Суда ЕС, сформулировали следующий основополагающий принцип: учитывая риск того, что система тайного или массового наблюдения для целей обеспечения национальной безопасности может подорвать или даже упразднить демократию под предлогом ее защиты, должны быть предусмотрены соответствующие и эффективные гарантии против злоупотреблений3. По мнению того же автора, анализ практики национальных судов и ЕСПЧ 1 Шифра О’Лири. Обеспечение баланса прав в эпоху цифровых технологий // Права человека. 2021. № 4. С. 18. 2 T. Ojanen. Rights-based Review of Electronic Surveillance after Digital Rights Ireland and Schrems in the European Union. In D. Cole, F. Fabbrini and S. Schulhofer (Ets.) Surveillance, Privacy and Transatlantic Relations, Hart Publishing. 9 February 2017, Oxford, pp. 13–30. 3 См.: Шифра О’Лири. Указ. соч. С. 25. 167 демонстрирует, что они показывают свою относительную неподготовленность для ответа на вызовы, которые создают Интернет и социальные сети для неприкосновенности частной жизни и свободы выражения мнения, а также ответа на вопрос о том, как сбалансировать эти два конкурирующих права в эпоху цифровых технологий. В контексте изложенного хотелось бы специально остановиться на анализе Постановления Большой палаты ЕСПЧ по делу «Big Brother Watch and Others v. the United Kingdom» от 25 мая 2021 г., которое действительно оказалось долгожданным. Постановление имеет жизненно важное значение для будущего государств – членов Совета Европы, все больше полагающихся на режимы массового наблюдения, поскольку они оправдывают их общую полезность в качестве инструмента борьбы с международной преступностью и терроризмом. Оно также впервые устанавливает новые процессуальные гарантии, которых должны придерживаться национальные законодатели при регулировании вопросов массового наблюдения. Критики решения отмечают, что победу сторонников конфиденциальности следует признать в определенном смысле мнимой, и связано это с тем, что обеспечивается не только стремление европейских правительств к большей безопасности, но само решение закрепляет разные уровни защиты от неоправданного государственного вмешательства в зависимости от того, является ли перехваченный материал внутренним или иностранным по своей природе, устанавливая тем самым отдельные стандарты для целевого и массового перехвата коммуникаций. Как известно, ранее ЕСПЧ в своей практике по массовому прослушиванию (см. упомянутые дела «Roman Zakharov v. Russia» и «Szabó and Vissy v. Hungary») не только проверил их соответствие правам по Конвенции, но также установил жесткое требование существования разумных подозрений в отношении человека до того, как будет разрешено наблюдение. Еще до постановлений Большой палаты Суда в решениях Палаты в 2018 г. по делам «Centrum För Rättvisa v. Sweden» и «Big Brother Watch v. the United Kingdom» Суд, по существу, признал целесообразность массового перехвата иностранных сообщений (или стратегического наблюдения), подчеркнув, что это ценное средство для достижения преследуемых законных целей, в особенности в нынешних условиях, с учетом реального уровня угроз со стороны глобального терроризма и серьезных преступлений (§ 386 постановления Палаты по делу «Big Brother Watch» от 13 сентября 2018 г.). Палата обосновала 168 к тому же, что «массовый перехват по определению не является целевым и требование» разумного подозрения «сделало бы работу такой схемы невозможной» (§ 317). Большая палата отказалась от обязательного требования судебного разрешения, отметив, что достаточно санкционирования массового перехвата независимым от исполнительной власти органом. Суд одновременно определил восемь критериев, необходимых для проверки и оценки соответствия меры по массовому перехвату требованиям Конвенции: 1) основания, по которым может быть разрешен массовый перехват; 2) обстоятельства, при которых сообщения отдельных лиц могут быть перехвачены; 3) процедуры, которые необходимо соблюдать для предоставления разрешения; 4) процедуры, необходимые для выбора, изучения и использования перехваченных материалов; 5) меры предосторожности, которые следует предпринять при передаче материала другим сторонам; 6) ограничения на продолжительность перехвата, хранения перехваченного материала и обстоятельства, при которых такой материал должен быть стерт или уничтожен; 7) процедуры и условия для надзора со стороны независимого органа за соблюдением вышеуказанных мер безопасности и его полномочия по устранению несоблюдения; 8) процедуры независимой проверки ex post facto такого соблюдения и полномочия, предоставленные компетентному органу по рассмотрению случаев несоблюдения (§ 361). Основная критика решения была высказана в частично несовпадающем особом мнении судьи Пинто Де Альбукерке, отметившего, что решение «коренным образом меняет существующий в Европе баланс между правом на уважение частной жизни и интересами общественной безопасности, поскольку оно допускает нецелевое наблюдение» (§ 59). Как указал Марко Миланович, решение представляет собой окончательную нормализацию массового наблюдения на десятилетия вперед1. Анализируемое постановление Большой палаты согласуется с судебным мышлением со времен предыдущих решений Суда по вопросу иностранного наблюдения. В то же время Суд признает, что прошел значительный период (более десяти лет), 1 См.: Ejil: Talk. The Grand Normalization of Mass Surveillance: ECtHR Grand Chamber Judgments in Big Brother Watch and Centrum för rättvisa. Marko Milanovic. May 26, 2021. 169 и, следовательно, установленные правила должны быть скорректированы с учетом новых методов связи и достижений в области цифровых технологий. Принято отмечать три ключевых момента: во-первых, Суд признал массовый перехват и сбор иностранных сообщений законной государственной практикой; во-вторых, он подтвердил два правила для целевого и массового наблюдения и изложил новую концептуальную основу, состоящую, как мы указали, из восьми критериев для оценки совместимости массовых режимов с правилами по ст. 8 Конвенции; в-третьих, как подчеркнуто в упомянутом частичном особом мнении, решение Суда просто открыло двери для электронного, как он указал в «Big Brother», наблюдения в Европе. В контексте общеевропейской внутренней политики, направленной в поддержку наблюдения, решение вовсе не удивляет, а просто вызывает сожаление у сторонников гражданских свобод1. С другой стороны, вряд ли можно себе представить сегодняшний мир без массового наблюдения. Суд в названном постановлении подтвердил, что массовый перехват имеет жизненно важное значение для государств при выявлении угроз национальной безопасности, признанных таким же образом и Венецианской комиссией Совета Европы. Одновременно Большая палата указала, что власти пользуются «широкой свободой усмотрения при выборе наилучшего способа достижения законной цели защиты национальной безопасности» (§ 228). Прав, вероятно, Оресте Полличино в том, что Интернет способствовал формированию общественной сферы. Было бы ошибкой рассматривать новые каналы связи просто в качестве угрозы. Цифровая среда действительно была важным инструментом для развития демократических ценностей, таких, к примеру, как свобода выражения мнений. Это, однако, не означает, что угрозы не появляются на горизонте… Область непостижимых алгоритмов, характерных для современных обществ, ставит под вопрос защиту основных прав и демократических ценностей, побуждая законодателей найти нормативную базу, уравновешивающую риск и инновации. Глобальная пандемия не только увеличила доверие государственных субъектов к инструментам наблюдения, но и усилила озабоченность в отношении онлайн-платформ как транснациональной власти, выполняющей различные формы общественных 1 Strasbourg Observer. Much Ado About Vass Surveillance – the ECtHR Grand Chamber «Opens the Gates of an Electronic «Big Brother» in Europe» in Big Brother Watch v. the United Kingdom. 28 June 2021, Eliza Watt. 170 функций. Автор бесспорно прав в естественном стремлении достижения баланса между рисками и инновациями, как бы тяжело ни было поддержание такого равновесия. Представляется, что анализируемое постановление Большой палаты ЕСПЧ является подтверждением стремления Суда постичь такой баланс. Еще, пожалуй, некоторые мысли О. Полличино, ввиду их чрезвычайной актуальности, хотелось бы процитировать. Он утверждает, что рост частной власти бросает вызов традиционным характеристикам конституционного права, что побуждает нас задаться вопросом, как противостоять требованиям, связанным с появлением новых форм власти в алгоритмическом обществе. Конституции были призваны ограничить публичные, точнее властные, полномочия, чтобы защитить людей от любых злоупотреблений со стороны государства. Однако в последние годы рост алгоритмического общества привел к парадигматическому изменению, при котором публичная власть больше не является единственным источником беспокойства по поводу соблюдения основных прав и защиты демократии. Это привело бы к пересмотру отношений между конституционным правом и частным правом, включая обязанности по регулированию кибернетического комплекса, как в пределах юрисдикции, так и за ее пределами1. Определенно, потребуется время, чтобы столь точно подмеченная концепция была бы одобрена для движения вперед в исследованиях, требующих адекватного реагирования на технологические изменения. Думается, что было бы своевременным обратить внимание также на точно подмеченную аналитиками проблему, связанную с прогрессом технологий, происходящим в период затянувшихся процедур рассмотрения дела «Big Brother». Изложенное подтверждает актуальность проблемы дальнейшего развития судебного права, способного быстро и точно реагировать на происходящие процессы. Задача судей – адекватно отвечать на них путем правовой интерпретации, направленной на развитие права. Право – результат коллективных усилий всего общества, а обеспечение его верховенства – фактор, отражающий уровень развития культуры, включая правовую. Основное положение в демонстрации роли и места права в обществе принадлежит судам и судьям. 1 Oreste Pollicino. Digital Private Pouters Exercising Public Functions: The Constitutional Paradox in the Digital Age and its Possible Solutions. Strasbourg, ECtHR, Rule of Law Conference, 15 April 2021, p. 1–18. 171 Однако по мере роста вовлеченности цифровых технологий, в том числе в качестве доказательств, становится все более очевидным то, что человеческий мозг имеет определенные пределы, и в принятии решений необходимо обращаться к алгоритмическим методам. Судебная власть, сохраняя свою традиционную роль, становится зависимой в определенной мере от мощного интеллекта, и все это требует осмысления и абсолютно новых подходов. В последние десятилетия искусственный интеллект превратился из фантастической мечты в важную часть повседневной жизни человечества. Поскольку люди продолжают его развивать, то очевидно, что он не только все больше заменяет человеческий труд, вызывая к тому же социальные проблемы, но также думает и действует как единое целое. Алгоритмы, которые могут отслеживать и обрабатывать огромный объем информации и делать выводы на основе закономерностей в этих данных, готовы изменить все стороны жизни. Следует признать корректность позиции о том, что мы живем в эпоху угроз… и возможность является важной отправной точкой для обсуждения потенциального риска, присущего алгоритмической технологии1. С одной стороны, быстрый рост технологических инноваций, феномен больших данных, а также COVID-19 служат катализатором для размышлений об областях, в которых искусственный интеллект может быть развернут2. С другой стороны, быстрый рост технологических инноваций в сочетании с большими данными и чрезмерной зависимостью от алгоритмов создает новые проблемы для системы правосудия, поскольку работа судов связана с печатанием, обработкой огромного количества документов3. К числу серьезных проблем функционирования искусственного интеллекта в судах, по мнению Эндрю Мюррея, который делает выводы на основе анализа работ многих экспертов, можно отнести вопросы применения права. Одна из них связана с интерпретацией правовой нормы, когда искусственный интеллект может выдать искаженную или предвзятую информацию, отличающуюся от той, которую допускают судьи. Теоретически искусственный интеллект способен устранить предвзятость, но на практике это 1 Richard Susskind, The Future of Courts. 2020, 1. URL: https://thepractice.law.harvard.edu/ article/the-future-of-courts (дата обращения: 01.02.2022). 2 Там же, п. 12 (1). 3 См.: Orna Rabinovich – Einy and Ethan Katsh, The New New Courts, (2017) 67 American University Law Review 165, 184. 172 зависит от степени честности запрограммированной в нем человеком информации. Поэтому он будет обуславливаться субъективными факторами, а также технической предвзятостью, учитывая, что данные могут теряться при переводе, при попытке согласовать язык закона, или, что еще хуже, функционировать предвзято и непредсказуемо1. Описывая сложности использования искусственного интеллекта, в особенности связанные со своего рода ловушкой перевода написанных слов в код, R. Crootof видит проблему также в нерегулярном обновлении системы, запрограммированной на прогнозирование будущих результатов на основе прошлых данных. Она, по ее мнению, не может адаптироваться к новым ситуациям, создавая состояние технологической правовой блокировки за счет роста. R. Crootof рассматривает возможность комбинации совместного принятия решений, включающей сочетание искусственного интеллекта и судьи-человека. Однако и в этом случае функционирование системы приведет к тому, что человеческая сторона либо чрезмерно, либо вообще не доверяет машине. Названный автор приводит и другие проблемы, которые возникнут при совместном управлении процессом2. А.Э. Мюррей считает, что, чрезмерно полагаясь на алгоритмические решения и не подвергая сомнению мотивы таких решений, внедрение искусственного интеллекта в судебную систему может привести к открытию ящика Пандоры, создавая проблемы, связанные с законностью таких решений, подотчетностью, а также с вопросами конфиденциальности и хранения данных. Он заключает свой анализ выводом о том, что датафикация и использование алгоритмов изменяют человеческую деятельность и это происходит особенно, когда они используются для принятия судебных решений, что может представляться фундаментальной угрозой верховенству права3. Как мы отмечали, естественным знамением времени стало увеличение использования достижений науки в уголовном судопроизводстве, что требует более глубокого изучения проблемы, поскольку, кроме таких устаревших методов судебной экспертизы, технологии стали приобретать более фундаментальную роль. 1 См.: Andrew Murray. The Rule of (Human) Law in the Digital Age. Strasbourg, ECtHR, Rule of Law Conference, 15 April 2021. 2 См.: Rebecca Crootof. «Cyborg Justice» and the Risk of Technological Legal Lock-in» 119 Columbia Law Review Forum, n. 14, 242–245. 3 Andrew Murray. Op. cit. 173 Среди них можно упомянуть отпечаток пальца дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) в ее последних и более продвинутых разработках. Широкое применение научных доказательств поднимает проблему их оценки. Судьи, как и правоприменители в целом, должны знать основные научные принципы и их гносеологию, чтобы осознанно использовать новые технологии и избегать неосновательного «научного увлечения». В общей сложности эволюция отношения заключается в целостном подходе, который должен включать: содействие сильной образовательной подготовке юристов и судей по основным принципам науки и научных знаний; распространение среди судей стандартов и протоколов, утвержденных научными организациями; принятие стратегии для предотвращения когнитивных предубеждений во время сбора и оценки доказательств; содействие сильному среди экспертов привязыванию их к квалификационным и этическим руководствам; обеспечение реальной независимости (от правоохранительных органов) научных лабораторий. Можно подумать, что это долгий путь. Тем не менее необходимо начать работу, если судебная система хочет поддерживать высокий уровень доверия граждан1. Интересный подход продемонстрировал Верховный суд Японии в деле Ашикага, подчеркнув, что существенная ценность доказательств должна оцениваться тщательно с учетом вновь обнаруженных фактов в результате последующего развития науки и технологий, стимулируя тем самым динамичное отношение к проистекающим процессам и меняющемуся контексту, в котором право применяется. В то же время Верховный суд отклонил просьбу о повторном тестировании типа ДНК на основе более продвинутой и развитой науки. Таким образом, наиболее важное обстоятельство в работе с научными доказательствами для всех, кто имеет отношение к уголовной юстиции, – это необходимость осознания возможности ошибки в оценке или принятии решения, а также важность при этом честности и смелости, чтобы своевременно признать ошибки в случае их обнаружения2. Как видно, отсутствие четких правил прибавляет сложности в работе всех участников уголовного судопроизводства, когда они 1 См.: Giuseppe Gennari and Takeshi Matsuda. Scientific Evidence and Criminal Proceedings: The Italian and Japanese Experience. 2018, The Italian Law Journal, Special Issue, pp. 120–121. 2 Ibid, pp. 127–128. 174 встречаются с цифровыми открытиями в ходе процесса. Судьям предоставляется широкое поле для правотворчества. Реализация именно судейских функций в будущем будет стимулировать стороны процесса предлагать наиболее оптимальные методы реагирования на вызовы времени с целью защитить фундаментальные принципы правосудия: равенство сторон и состязательность. Расширение цифровых доказательств влияет на то, как сторона обвинения выполняет свои конституционные обязанности по раскрытию оправдывающих и обвиняющих доказательств стороне защиты. Интересно в этом отношении решения по делу «Brady v. Maryland» из практики Верховного суда США, согласно которому прокуроры обязаны тщательно проверять имеющиеся у них доказательства, чтобы убедиться в раскрытии всех их, как оправдывающих, так и обвиняющих, защите1. Здесь вопрос заключается также не просто в доступе к определенным материалам в результате кибервторжения, но и в обладании специальными техническими познаниями. При этом возникает вопрос о том, кто должен нести бремя обеспечения безопасности, неприкосновенности частной жизни и конфиденциальности информации? Думается, что стороны должны разделить названное бремя при сохраняющемся судебном контроле. Благодаря технологическому прогрессу объем доказательств по уголовным делам будет постоянно расти. Все большее количество преступлений совершается в киберпространстве или оно им содействует. Правоохранительные органы с целью борьбы с преступлениями вынуждены все больше полагаться на технологии цифрового наблюдения и расследования с помощью программного обеспечения. В результате раскрытие и проверка электронных доказательств не являются исключительной заботой юристов, занимающихся уголовным преследованием. Судьи, адвокаты и прокуроры в системе уголовной юстиции сталкиваются с уникальными проблемами, связанными с цифровыми технологиями. Интернет и цифровые инициативы также трансформируют практику и процессы уголовного правосудия. Между тем не все ученые в области криминологии и уголовного правосудия полностью осознали, как цифровизация меняет преступность, законы, правоприменительную деятельность, судебное преследование, наказание и саму социальную жизнь в более широком смысле. Что касается цифровых 1 См.: Brady v. Maryland, 373 U.S. 83, 87 (1963). 175 технологий, то они рассредоточены по различным исследованиям в области криминологии и уголовной юстиции. Представляется, что онлайновые и цифровые инициативы должны быть в центре внимания криминологии и междисциплинарных исследований проблем правосудия. Признание существования права присуще природе человека и стало необходимостью его бытия. Имеется взаимность между человеком и обществом в представлениях о технологиях и их возможностях, в том числе в достижении баланса между укреплением без­опасности и защитой фундаментальных свобод. Право – постоянный спутник эволюции как самого человека, так и того прогресса, который должен соотноситься с разумными ожиданиями общества. Будущее процессуального права настоятельно требует быстрого преодоления искусственной отдаленности различных отраслей права, других областей науки, одновременного взаимопроникновения и обогащения научного познания. Это вызвано ростом использования информационных технологий и их влиянием на систему уголовной юстиции, требующей особого комплексного подхода с целью эффективного реагирования на возникающие сложности в обеспечении фундаментальных прав человека. Основная идея, глубоко укоренившаяся в демократической системе юстиции, заключается в том, что государству со всеми его ресурсами и властью нельзя позволять предавать забвению основную задачу, согласно которой целью уголовного процесса является получение точных определений с помощью справедливых процедур и достижения правды как основной цели правосудия. § 3. ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ К РЕГУЛИРОВАНИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ Изменения в составе правоотношения (субъектах, объекте или содержании) часто влекут ущемление чьих-то интересов. Динамизм общественных отношений в области создания и использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации требует пересматривать устоявшиеся подходы в области их правового регулирования, развивать существующие 176 правовые доктрины. В силу ст. 44 Конституции РФ интеллектуальная собственность охраняется законом, что означает не просто потребность в создании соответствующего правового механизма, но и его эффективность. Конституционный Суд РФ неоднократно отмечал: «Федеральный законодатель призван исходить из необходимости соблюдения баланса конституционно значимых для сферы рыночных отношений ценностей – экономической безопасности, свободы предпринимательства, охраны прав потребителей и деловой репутации производителей товаров (работ, услуг) путем предоставления участникам гражданского оборота эффективной государственной, в том числе судебной, защиты нарушенных прав и свобод, обеспечивая тем самым определенность и устойчивость вводимого им правового регулирования и способствуя развитию экономики. В свою очередь, правоприменители, прежде всего суды, обязаны применять положения законодательства об интеллектуальной собственности не только исходя из их системной связи с основными положениями гражданского законодательства, но и в контексте общеправовых принципов равенства и справедливости, а также принимая во внимание вытекающие из этих принципов требования соразмерности (пропорциональности) и соблюдения баланса конкурирующих прав и законных интересов – частных и публичных»1. Во многом цель правовой охраны исключительных прав заключается в стимулировании литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества. Новаторская деятельность поощряется в общественных интересах. К.П. Победоносцев писал: «…право собственности есть власть в порядке, установленном гражданскими законами, исключительно от лица постороннего владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом вечно и потомственно, доколе хозяин не передаст сей власти другому. И по этому определению право собственности является совершеннейшим и полнейшим из всех прав – правом исключительного и полного господства»2. Полноту К.П. Победоносцев полагал положительной стороной права собственности, а исключительность – отрицательной. Об исключительности он писал: «…имеющий право может запретить всякому постороннему лицу 1 См., например: Постановление от 13 февраля 2018 г. № 8-П; Постановление от 13 декабря 2016 г. № 28-П. 2 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть первая. М., 2004. URL: http://civil. consultant.ru/elib/ books/15/page_27.html (дата обращения: 01.02.2022). 177 всякие действия относительно вещи»1. Как видится, запросом ближайшего будущего будет пересмотр объема запретов, гарантируемых обладателям исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Сдвиги в области субъектного состава правоотношения могут быть продемонстрированы на известном примере из практики Верховного суда США (далее – ВС США). В решении по делу «Impression Products v. Lexmark International» от 30 мая 2017 г. данный суд установил возможность повторного использования картриджей принтера путем заполнения его чернилами, как для целей личного потребления, так и для целей последующей продажи. Общее содержание прав патентообладается в США определяется запретом на федеральном уровне для третьих лиц изготовления, использования, предложения о продаже, продажи изобретения на территории США или его импортирования на территорию США2. Производитель принтеров Lexmark полагал нарушением патентного права действия Impression Products, связанные 1) с повторной заправкой картриджей на территории США, принадлежащих Lexmark; 2) с импортированием картриджей в США, которые были экспортированы ранее Lexmark. По мнению Impression Products, продажа принтеров, в состав которых входили указанные картриджи, означала исчерпание исключительного права Lexmark на материальный объект – картридж. Формально-юридический подход позволяет сделать вывод о правоте Lexmark, что и было сделано в по существу совпадающих мнениях районного и апелляционного судов США. ВС США решил иначе. В качестве аргумента он привел две известные доктрины. Первая доктрина – запрет отчуждения (restraint on alienation), в силу которой собственник вещи не должен связывать руки будущим поколениям. Вторая доктрина – исчерпание (exhaustion). Когда патентообладатель решает продать физический объект, на техническое решение в отношение которого у него имеется патент, на него перестает распространяться соответствующая монополия, гарантируемая государством на время действия патента, но возникает право индивидуальной собственности покупателя вместе с правами и обязанностями, соответствующими такому измененному статусу. При Там же. U. S. C. §1 54(a). URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/154 (дата обращения: 01.02.2022). 1 2 178 этом ни контракт, ни лицензионное соглашение не могут ограничивать указанного исчерпания1. Последняя оговорка об императивности исчерпания обеспечила отказ в удовлетворении требований Lexmark. Однако если отвлечься от примера с материальным объектом и обратиться к цифровому объекту, то ситуация иная. Изготовить картридж, аналогичный картриджу Lexmark, незатруднительно, но такое копирование будет прямым нарушением прав патентообладателя. Аналогично, покупка цифрового объекта, например музыкального альбома, не дает права его копирования и передачи третьим лицам. Но, с другой стороны, почему покупка музыкального альбома не дает права им распорядиться, как в ситуации с объектом материального мира: передать в собственность третьему лицу так, чтобы у изначального собственника такого объекта не сохранилось? Иными словами, передать безвозвратно за плату2. Если звучит недостаточно противоречиво, то как быть библиотекам, число посетителей помещений которых сегодня стремится к нулю, с возможностью предоставления в пользование цифровых копий книг? Требуется ли приобретать у издательства такое число цифровых копий, которое соответствует числу возможного предоставления их в пользование? Негативный опыт открытия рынка вторичной продажи музыкальных альбомов в цифровом формате имел место также в США со стороны компании ReDigi. По иску Capitol Records, музыкального лейбла, заявившего, что перепродажа цифровых копий является нарушением исключительных прав, окружной суд Нью-Йорка предписал прекратить такую деятельность3. Однако такие компании, как Amazon и Apple, ведут разработки в области вторичных продаж на цифровом рынке с учетом того, что закон в этой области может эволюционировать4. В российской правоприменительной практике сложился следующий подход: «Принцип исчерпания права, предусматривающий 1 См.: Impression Prods., Inc. v. Lexmark Int’l, Inc. URL: https://www.supremecourt.gov/ opinions/16pdf/15-1189_ebfj.pdf (дата обращения: 01.02.2022). 2 См.: The music man. A New York court rules that the «first sale doctrine» does not apply to digital media. URL: https://www.economist.com/schumpeter/2013/04/02/the-music-man?zid=317&ah=8a 47fc455a44945580198768fad0fa41 (дата обращения: 01.02.2022). 3 См.: Capitol Records, LLC v. ReDigi Inc. URL: https://www.leagle.com/decision/inadvfdco140116000515 (дата обращения: 01.02.2022). 4 См.: Folding shelves. E-books mean a plot twist for public libraries and publishers. URL: https:// www.economist.com/international/2013/03/23/folding-shelves (дата обращения: 01.02.2022). 179 возможность участия в гражданском обороте именно экземпляра произведения, правомерно введенного в этот оборот, без дальнейшего согласия правообладателя, не наделяет участников гражданского оборота правом по своему усмотрению использовать сам результат интеллектуальной деятельности (а не его экземпляр на материальном носителе) без выплаты вознаграждения правообладателю. Сеть «Интернет» не является местом, открытым для свободного посещения, по смыслу ст. 1276 ГК РФ»1. Таким образом, несмотря на наличие экономической целесо­ образности и технической возможности, обеспечиваемой техническими средствами защиты информации, вторичная продажа цифровых копий результатов интеллектуальной деятельности сегодня в России невозможна. Если не рассматривать в этой связи музыкальные произведения и видеоконтент, в отношении которых наиболее популярна продажа права доступа на определенный период, указанный рынок мог бы быть обеспечен повторной продажей программ и приложений с обязательным удалением исходного экземпляра с компьютера или смартфона продавца. Экономические потери от такой продажи могли бы быть компенсированы комиссией обладателя исключительных прав. Следует отметить, что в юридической литературе наиболее видными исследователями данного вопроса высказываются предложения по реформированию системы охраны интеллектуальных прав в целом. В.Л. Энтин, рассматривая соответствующее регулирование в Европейском союзе, указал: «Многие естественные законы претерпевают изменения в зависимости от среды, в которой они действуют. Даже физическое время и пространство меняют свои характеристики в зависимости от свойств процессов, где они остаются релевантными. В виртуальное пространство, мультимедийные устройства сложно, а во многих случаях и некорректно механически переносить трафареты и алгоритмы действий по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, которые были созданы с ориентацией на аналоговые способы использования и обеспечения доступа к произведениям»2. Е.А. Войниканис отметила: «…стратегической задачей правовой политики становится формирование законодательных условий, 1 «Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г.); п. 100 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10. 2 Энтин В.Л. Авторское право в виртуальной реальности (новые возможности и вызовы цифровой эпохи). М., 2017. С. 14. 180 обеспечивающих, с одной стороны, взаимовыгодное взаимодействие и партнерство между провайдерами «доступа» и провайдерами «контента», а, с другой стороны, достижение социально и экономически значимых целей, таких как конкуренция, инвестиции в инфраструктуру и инновационные разработки, расширение доступа к знаниям и данным как необходимая мера для развития человеческого капитала»1. Можно утверждать, что в науке высказываются предложения по перераспределению интеллектуальных прав между теми субъектами, которые смогут обеспечить их эффективную защиту необходимыми техническими средствами и доводить до всеобщего сведения результаты интеллектуальной деятельности способом, наиболее выгодным авторам (изобретателям) и пользователям произведенного ими контента. Существуют и менее радикальные предложения по гармоничному встраиванию новых элементов правового регулирования в сложившиеся модели2. При этом избрание такого подхода, как видится, накладывает на правоприменительные органы бо́льшую ответственность за принятие сбалансированных решений. Судебная практика может пойти по пути восприятия отдельных судебных доктрин, разработанных за рубежом, основанных на толковании тех принципов права, которые являются универсальными для глобального рынка интеллектуальной собственности. При этом, по справедливому замечанию Л.А. Новосёловой на заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам (далее – СИП), необходимо проявлять сдержанность при применении аналогии, удостоверившись, что применяемая норма не противоречит существу правоотношений, к которым ее планируется применить3. Также В.О. Калятин отметил, что для применения аналогии закона следует установить не внешнее сходство между двумя группами правоотношений, а существенное4. Помимо материально-правового аспекта правового регулирования существует также процессуальный. Административные и 1 Войниканис Е.А. Парадигмальный подход к исследованию интеллектуальных прав: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2017. С. 205. URL: https://www.hse.ru/sci/diss/201852048 (дата обращения: 01.02.2022). 2 См.: Чуковская Е.Э., Прокш М.Ю. Использование результатов творческой деятельности в Интернете: возможный подход к регулированию // Журнал российского права. 2013. № 2. С. 14–22. 3 См.: Протокол № 19 заседания НКС при СИП от 27 апреля 2018 г. 4 Протокол № 15 заседания НКС при СИП от 25 ноября 2016 г. 181 судебные процедуры приобретения и защиты исключительных прав демонстрируют наличие запроса в области упрощения доступа к регистрационным услугам с одной стороны и в новых средствах доказывания с другой. Цифровизация объектов исключительных прав означает необходимость рассмотрения вопроса о судебной оценке судом цифровых доказательств, в особенности выявления цифровых следов правонарушителя. Потребность в осмыслении целесообразности существующих моделей правового регулирования в области интеллектуальных прав усиливается. Ответы на многие вопросы могут быть восприняты из судебной практики. На сегодняшний день в России применяются подходы, которые получили свое развитие именно благодаря развитию тех или иных законодательных положений судами. Высока в этом процессе роль специалистов, заключения которых могут быть восприняты судами в дальнейшем при осуществлении правосудия. Актуальные вопросы судебной практики в сфере интеллектуальных прав Роль администратора домена как информационного посредника. Классическое регулирование гражданско-правовой ответственности предполагает установление объективных и субъективных признаков правонарушения. Определяются объект, деяние, причинно-следственная связь между действиями и негативными последствиями, а также вина субъекта правонарушения. При подаче иска следует определить надлежащего ответчика, что хоть и не снимает бремени доказывания отсутствия вины с такого ответчика, но и не делает целесообразным установление презумпции виновности конкретного субъекта ввиду его общепринятой роли в правоотношении. В этой связи СИП справедливо был выработан деятельный подход к квалификации действий лица, попадающих под выполнение функций информационного посредника1. В Постановлении по делу № А56-81870/2018 СИП оценил доводы о рассмотрении дела в отсутствие в составе лиц, участвующих в деле, администратора 1 Детальное обсуждение проблемы определения лица в качестве информационного посредника было осуществлено Научно-консультативным советом СИП. URL: http://ipc.arbitr.ru/ node/14076 (дата обращения: 01.02.2022). 182 домена, на котором размещен сайт, содержащий сведения, нарушающие исключительные права заявителя. СИП указал: «Как правило, в доведении информации до всеобщего сведения в сети Интернет задействованы следующие лица: 1) администратор домена, 2) владелец сайта, 3) провайдер хостинга, 4) регистратор доменов, 5) лицо, размещающее ссылки/оператор поисковой системы. Решение вопросов об отнесении данных лиц к категории информационных посредников, о привлечении их к ответственности и предъявлении к ним требований о пресечении нарушения зависит от характера осуществляемой ими деятельности… От характера осуществляемой лицом деятельности зависит также решение вопроса о наличии у него возможности пресечения нарушения и соответственно допустимости предъявления к нему этого требования»1. В этой связи СИП было решено, что в отсутствие доказательств совершения тем или иным лицом действий, направленных на нарушение исключительных прав, его привлечения в качестве третьего лица не требуется. При этом на практике презюмируется, что владельцем сайта является администратор доменного имени2. Более того, в постановлении Президиума СИП от 28 марта 2014 г. № СП-21/4 указано: «Администратор доменного имени не может снять с себя ответственность за нарушение исключительного права на товарный знак и/или переложить ее на другое лицо посредством заключения какого-либо договора, в частности, так называемого договора «об аренде доменного имени». В принимаемых ранее судебных актах также указывалось, что ответственность за содержание информации на сайте в сети Интернет несет администратор как лицо, создающие технические условия для его посещения3. Таким образом, можно утверждать, что роль администратора домена судами оценивается сегодня иначе, нежели в 2014 г. При этом в основу принимаемых решений берутся правила регистрации соответствующих доменных имен, в частности правила регистрации в домене .RU. В случае если спор ведется о нарушении избранием доменного имени исключительных прав на товарный знак, ответственным является администратор. Однако администратор не 1 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 февраля 2019 г. № С011271/2018 по делу № А56-81870/2018. 2 См.: п. 78 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10. 3 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 22 апреля 2013 г. по делу № А751015/2012. 183 отвечает за информацию, содержащуюся на сайте, на который он адресует запросы в рамках своего домена. Надлежащим ответчиком по таким делам является владелец сайта. Администратор может быть привлечен к ответственности, если в его действиях имеются признаки соучастия (неисполнение судебного акта о прекращении нарушения исключительных прав, получение вознаграждения и т.д.)1. Программа как совокупность дистрибутива и базы данных. В постановлении Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 8 июня 2009 г. по делу № А53-15817/2008-С2-32 отмечено, что привлеченным к участию в деле специалистом при исследовании системных блоков были выявлены дистрибутивы программного обеспечения. Специалист указал: «Под дистрибутивом (программой для ЭВМ для первоначальной установки программного обеспечения) понимается форма распространения программного обеспечения, которая обычно содержит программы для инициализации системы, программу-установщик и набор специальных файлов, в совокупности образующих систему (ядро) программы». В дальнейшем данная формулировка использовалась во многих судебных актах, в том числе принятых Судом по интеллектуальным правам. Так, в постановлении от 16 октября 2018 г. по делу № А53-27792/2017 СИП, воспроизведя приведенную формулировку, указал: «Вместе с тем в случае, если на жестком диске содержится и работоспособная запись программы для ЭВМ, и дистрибутив программы с названием этой же программы, для установления факта нарушения исключительного права, обусловленного наличием такого дистрибутива, подлежит установлению факт различия между исходными кодами установленной программой и дистрибутивом, поскольку, как правило, установленная программа и ее дистрибутив являются одной и той же компьютерной программой, так как в их основе лежит одинаковый исходный код». Таким образом, СИП разъяснил, что использование программы для ЭВМ, содержащей базу данных, образует нарушение, вопервых, исключительного права на дистрибутив, благодаря которому устанавливается оболочка программы, а во-вторых, права на саму базу данных. При этом для установления факта использования 1 См.: Постановление СИП от 28 февраля 2019 г. № С01-1216/2018 по делу № А4043044/2018. 184 самой программы необходимо соотнести исходный код дистрибутива и базы данных1. База данных как побочный продукт. Д. Джордан верно отметил: «Люди зачастую не знают, чего хотят, когда им показывают ряд готовых вариантов на выбор. Фокус группы и другие технологии исследования рынка не срабатывают для оценки «сверхновых» продуктов»2. Также, как указал Дж. Балкин, зачастую способ использования новой технологии определяется уже после ее внедрения в эксплуатацию3. Среди наиболее важных проблем, которые могут возникнуть при определении порядка правового регулирования интеллектуальных прав, можно выделить появление новых незапланированных способов использования технологий, в частности, так называемых побочных продуктов предпринимательской деятельности. В одном из самых известных российских дел в области Big Data по иску ООО «ВКонтакте» (Истец) к резиденту Сколково ООО «ДАБЛ» (Ответчик 1) и АО «Национальное бюро кредитных историй» (Ответчик 2) по делу об использовании сведений, размещенных Истцом в открытом доступе, Ответчик 1 ссылался, помимо прочего, на то, что информация о пользователях, содержащаяся на сайте Истца, является побочным продуктом “spin off”, в связи с чем его эксплуатация не нарушает интеллектуальных прав Истца как автора базы данных. Истец, по мнению Ответчика 1, несет затраты на поддержание не самой базы данных пользователей социальной сети, а на иные ее функции, предусмотренные соглашением о ее использовании (постановление от 24 июля 2018 г. по делу № А40-18827/2017). СИП с данным доводом не согласился, отметив, что при исследовании вопроса о наличии исключительного права на базу данных требуется установить факт существенности затрат на ее поддержание, а не факт инвестирования непосредственных затрат на ее использование. Таким образом, применение доктрины побочного продукта как таковой не исключено судебной практикой, но существенно ограничено в силу законодательного запрета (ст. 1334 ГК). Преодоление сложившегося подхода возможно только в связи с изменением правового регулирования4. См. также: Постановление СИП от 27 июля 2015 г. по делу № А53-17988/2014. Джордан Д. Роботы. М., 2017. С. 8. 3 Balkin J. The Path of Robotics Law // California Law Review Circuit. V. 6, 2015. P. 47. 4 Следует заметить, что окончательного судебного акта на момент подготовки настоящего издания по данному делу не принято. 1 2 185 Соотнесение одновременной публикации в государстве – участнике Римской конвенции и доведения до всеобщего сведения в сети Интернет. В силу п. 2 ст. 5 Международной конвенции об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций от 26 октября 1961 г. (Римская конвенция), если фонограмма была впервые опубликована в государстве, не являющемся участником настоящей Конвенции, но в течение тридцати дней со дня ее первой публикации она была также опубликована в Договаривающемся государстве (одновременная публикация), она считается впервые опубликованной в Договаривающемся государстве. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в постановлении от 4 мая 2015 г. № 15АП-14822/2014 на этом основании полагал, что действие названной конвенции распространяется на государства, в которых фонограмма стала доступна в сети Интернет, независимо от того, в каком государстве она была опубликована. СИП, отменяя названное постановление, отметил, что такой подход противоречит «одновременной публикации» в понимании, придаваемой данному понятию в п. 2 ст. 5 Римской конвенции, так как само по себе опубликование в сети Интернет фонограммы не означает ее опубликования во всех государствах, в которых появляется к ней доступ через Интернет. Электронная переписка. Процессуальное законодательство относит документы, полученные с использованием сети Интернет, к письменным доказательствам (ч. 3 ст. 75 АПК, ч. 1 ст. 71 ГПК, ч. 1 ст. 70 КАС). Подобное решение обусловлено отсутствием у них отличительных характеристик в понимании теории доказательств1. Суды же нередко отказывают в признании электронной переписки в качестве доказательств по делу, ссылаясь на то обстоятельство, что сторона возражает против признания ее таковым, а лицо, ее представившее, не может доказать факта направления уведомлений именно данным лицом2. Одним из признаков ведения переписки неуполномоченным лицом является отсутствие привязки почтового ящика к доменному имени организации3. Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 14 сентября 2017 г. № СП-23/24 утверждена Информационная 1 См. подробнее: Голубцов В.Г. Электронные доказательства в контексте электронного правосудия // Вестник гражданского процесса. 2019. № 1. С. 170–188. 2 Постановление ФАС Центрального округа от 30 мая 2017 г. по делу № А48-2530/2016. 3 Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 ноября 2017 г. № 17АП-13416/2017-ГК по делу № А60-8290/2017. 186 справка, подготовленная по результатам обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного суда Российской Федерации по некоторым вопросам, возникающим при оценке доказательств, содержащих информацию, размещенную в сети Интернет. Из содержания данной справки следует, что представляемые в материалы дела скриншоты страниц, содержащихся в сети Интернет, являются надлежащими доказательствами, если они содержат дату изготовления скриншота, сетевой адрес, а также заверены подписью представителя. Указанные документы могут быть заверены нотариально. Факт нахождения сведений на сайте в сети Интернет может быть установлен судом в ходе рассмотрения вопроса об обеспечении доказательств либо в ходе судебного разбирательства путем проведения исследования доказательств на месте и занесения соответствующих сведений в протокол судебного заседания. На практике встречаются случаи, когда суды, исследовав доказательства по своей инициативе, размещают скриншоты непосредственно в судебных актах, например в определении об удовлетворении ходатайства об обеспечении иска1. В силу ч. 5 ст. 69 АПК обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении нотариального действия, не требуют доказывания, если подлинность нотариально оформленного документа не опровергнута в порядке, установленном ст. 161 настоящего Кодекса, или если нотариальный акт не был отменен в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством для рассмотрения заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении. Проблема доказывания даты осуществления видеозаписи нотариусом, на основе которой было совершено нотариальное действие по выдаче свидетельства, возникла в деле № А40-243497/16. Так, в период с 6 по 11 сентября 2016 г. проводился Международный военно-технический форум «Армия-2016». 8 сентября 2016 г. нотариусом, по заявлению истца, была произведена на смартфон видеозапись трансляции ролика, исключительными правами на который обладает истец по делу. 9 сентября 2016 г. нотариус выдал истцу нотариальное свидетельство, доказывающее факт нарушения 1 Например, определения АС ЯНАО от 4 апреля 2018 г. и от 18 апреля 2018 г. по делу А812642/2018. 187 исключительных прав истца путем доведения видеоролика до всеобщего сведения. СИП, рассматривая кассационную жалобу, установил, что в обжалуемом судебном акте указано на факт выдачи нотариального свидетельства 9 сентября 2016 г., проведение форума, на котором осуществлялась трансляция, в период с 6 по 11 сентября 2016 г., факт присутствия нотариуса на форуме 8 сентября 2016 г. и дату записи на смартфон нотариусом 13 сентября 2016 г., т.е. после окончания форума. В запрошенных дополнительных пояснениях помощника нотариуса отмечено, что дата создания видеофайла 13 сентября 2016 г. возникла в связи с технической ошибкой. Однако доказать факт съемки в иную дату сторона, представившая такую видеозапись, не смогла. Дополнительно судами было отмечено, что нотариусом в свидетельстве не указаны признаки, идентифицирующие смартфон, на который производилась запись, а также сведения, идентифицирующие ответчика: ИНН, юридический адрес, дата и место государственной регистрации, номер регистрационного свидетельства, адрес фактического места нахождения. Следовательно, ненадлежащим доказательством выданное свидетельство является по той причине, что не позволяет достоверно установить не сам факт трансляции, но надлежащего ответчика по делу, поскольку не устанавливает ни дату записи, соответствующую датам проведения форума, ни лицо, производившее трансляцию1. Рассмотренные примеры из практики судов, связанные со спорами в сфере интеллектуальных прав, позволяют сделать вывод, что формально-определенный характер сегодня имеет оценка информации, представленной на страницах сайтов в сети Интернет. Однако иные электронные доказательства такого подробного освещения не получили. В литературе отмечается: «На сегодняшний день может быть практически все: документы, сообщения, переписка, протоколы судебных и административных органов, технические носители информации, флешки, интернет-сервисы, веб-сайты, архивы, счета, аудио- и видеозаписи, метаданные, лог-файлы сервера провайдера, электронные платформы для совершения сделок и пр.»2. 1 По состоянию на 20.05.2019 по данному делу подана кассационная жалоба в Верховный Суд РФ. 2 Зарубина М.Н., Павлов А.А. О процессуальных реалиях и потенциальных возможностях использования электронных доказательств в цивилистическом процессе // Вестник гражданского процесса. 2019. № 1. С. 219. См. также: Нахова Е.А. Проблемы применения электронных доказательств в цивилистическом процессе и административном судопроизводстве // Закон. 2018. № 4. С. 81–90; Самолысов П.В. Электронные доказательства в делах о нарушении антимонопольного законодательства // Право и экономика. 2016. № 5. С. 58–65. 188 Например, лог-файлы серверов используются в качестве доказательств судами общей юрисдикции по трудовым спорам1 и при расследовании уголовных дел2. Выводы Рассмотренные проблемы правового регулирования интеллектуальных прав, которые возникли в зарубежной практике, а также тенденции российской судебной практики урегулирования споров в сфере интеллектуальных прав демонстрируют, что на сегодняшний день российское законодательство в данной области требует более гибкого подхода по делам, связанным с восприятием зарубежных доктрин правового регулирования, благодаря которым обеспечиваются общественные интересы доступа к информации и вовлечение новых субъектов в правоотношения по поводу использования и защиты результатов интеллектуальной деятельности. Поощрение творческой, научной и изобретательской деятельности носит финансовый характер, что не противоречит идее распространения результатов интеллектуальной деятельности в отношении наибольшего круга лиц при сохранении требуемого уровня дохода авторов. Новые субъекты, обеспечивающие технические средства распространения и защиты объектов интеллектуальной собственности, могут обусловить ускорение экономического роста в сфере оборота цифрового контента в сети Интернет. Постепенное внедрение указанного порядка правового регулирования может быть обеспечено судебной практикой, связанной с рассмотрением дел, касающихся новых технологий, путем применения законодательства по аналогии и общих принципов права (аналогии права), исходя из потребностей экономики эпохи четвертой промышленной революции. С другой стороны, в области судебной оценки электронных доказательств по делам о защите интеллектуальных прав потенциал вовлечения электронных средств доказывания не реализуется в той степени, в которой это возможно исходя из практики разрешения иных споров. 1 См.: Зайцева Л.В., Сухова Н.В. Электронные доказательства в гражданском судопроизводстве: вопросы процессуального доказывания // Вестник гражданского процесса. 2019. № 1. С. 189–204. 2 См.: Драпезо Р.Г., Шелестюков В.Н. Особенности использования результатов оперативно-разыскного мероприятия «получение компьютерной информации» // Российский следователь. 2018. № 9. С. 65–72. 189 Российское право, его отрасли и подотрасли, основано на общеправовых доктринах, отраженных во Всеобщей декларации прав человека, международных пактах о правах человека, Европейской конвенции о защите прав человека с учетом практики ее применения ЕСПЧ, Конституции РФ с учетом практики Конституционного суда РФ. В литературе представлены обоснованные утверждения, что правовые доктрины как отдельные познавательные элементы всей системы знания предопределяют направления развития законодательной и правоприменительной практики, носят универсальный характер и являются выражением существующих структур знания – эпистем1, представляющих собой дискурсивные закономерности наук2. Подобный подход отвечает постмодернистской традиции толкования права3, заявляющей о возможности перехода «от ненаучных или наивно-герменевтических приемов к когнитивным методам анализа информации, ориентированным на постижение смысла»4. Установление эпистемологических корней права, правовых институтов, отраслей и норм позволяет интерпретатору выявить интересы общества на конкретном этапе его развития, познать сущность правового регулирования и отразить его в правоприменительном акте. Юридическая герменевтика, включающая юридическую технику, правила толкования и экспертизы норм права5, учитывает вкладываемые в юридические тексты смыслы, наполняемые содержанием иными областями знания, формирующими «герменевтический круг» отсылок одних текстов к другим6. Единство знания с учетом конкретно-исторических реалий предопределяет сущностное содержание правовой науки и требует от нее использования наиболее близких праву результатов 1 Понятие «эпистема» введено в оборот М. Фуко в работе «Слова и вещи. Археология гуманитарных наук». Под эпистемой следует понимать мыслительные структуры, определяющие мнения, теории и науки в каждый исторический период. См.: Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., 1994. 402 с. Схожими являются понятия «научно-исследовательская программа» (И. Лакатос) и «парадигма» (Т. Кун), которые, однако, отсылают к более узкой сфере – исключительно научного знания – и не предполагают его всестороннего включения в общекультурный контекст. 2 См.: Гаджиев Г.А. Легитимация идей «Права и экономики» (новые познавательные структуры для гражданского права) // Вестник гражданского права. 2017. № 6. С. 108–173. 3 См.: Залоило М.В., Ибрагимова Ю.Э. Современные проблемы толкования права // Журнал российского права. 2016. № 8. С. 78–95. 4 Лазарев В.В. Толкование права: классика, модерн и постмодерн // Журнал российского права. 2016. № 8. С. 22. 5 См.: Гермашев А.Н. Юридическая герменевтика как теория о способах изложения воли в юридическом тексте и ее толковании: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 7. 6 См.: Честнов И.Л. Постклассическая теория права. СПб., 2012. С. 171. 190 исследований экономики, социологии, психологии, истории, а также и иных наук. Таким образом, можно утверждать, что правовая наука интегрирует знание в правовых нормах, а интерпретатор нормы права использует различные подходы к пониманию права в зависимости от обстоятельств конкретного дела. Чем выше ясность и достоверность знания, тем больше вероятность его включения в правовую норму. Например, земельное законодательство, определяя категории разрешенного использования земель, учитывает их физические, химические и биологические свойства в силу особенностей складывающихся правоотношений. Установление приоритета рыночной стоимости земельного участка над его кадастровой стоимостью определено экономической целесообразностью, поскольку экономическая наука подтвердила эффективность существующих методик оценки имущества по сравнению с альтернативами. Рассматривая объект исследования со стороны возникающих по поводу него правоотношений, право не остается в стороне от области, выходящей за грань его предмета. Нормы права предопределены общественными отношениями, благодаря чему способны их организовывать, поддерживая тем самым легитимность правовых норм. При этом не только научное знание оказывает влияние на формирование правовых доктрин. Например, доктрина добросовестного улучшения (трансформации) чужого недвижимого имущества формировалась в США с учетом регулирования данного вопроса в Великобритании, но под влиянием местных особенностей распределения земли сразу после объявления независимости: в условиях стремительно формирующихся Соединенных Штатов тяжело было соблюдать размежеванные границы земельных участков. В этой связи добросовестное улучшение земельного чужого участка в форме возведения на нем объекта недвижимого имущества в США допускает получение справедливой компенсации за результаты такого улучшения, в то время как в Великобритании оно влечет, как правило, обязанность безвозмездного сноса возведенной произвольно постройки1. Таким образом, образование и развитие правовых доктрин осуществляется в ходе эволюции знания в целом и предопределяется историческим процессом, учитывает культурные особенности, которые иногда определяют содержание права по инерции (неизвестно, как бы формировалась приведенная практика в США в отрыве 1 Varadarajan D. Improvement Doctrines // GEO. MASON L. REV. Vol. 21:3, 2014. P. 669–670. 191 от исторических условий их образования), в связи с чем невозможно найти исключительно утилитарное объяснение той или иной правовой доктрины. Запуск СССР первого искусственного спутника Земли и начало соперничества в космической сфере породили потребность в разработке норм международного космического права1. Исследование генома человека в конце XX века поставило перед правовой наукой задачу формирования нового правового массива с учетом экономических и этических проблем внедрения биотехнологий. Право поспевает за общественным развитием и нуждается в эффективном анализе эмпирических данных в равной степени, как любая другая сфера научного знания. Такие данные обеспечиваются главным образом судебной практикой, которая имеет дело с конкретными общественными отношениями и устанавливает содержание смыслов правовых текстов. Отсюда формирование судебных доктрин (как и все в этом мире) может быть объяснено диалектической конструкцией «тезис – антитезис – синтез», где в роли тезиса выступают общественные отношения, антитезисом является действующее правовое регулирование и синтез являет симбиоз общественного запроса, выявленного в результате установления значимых для дела фактов, и права. Синтез отражается в судебном акте. Аналогичным образом правовая доктрина, влияющая на содержание смыслов правовых норм, сталкиваясь с конкретными правоотношениями, наполняется новым содержанием в судебном акте и становится судебной доктриной, учитываемой в дальнейшем развитии юридической науки. Не являясь формой права, правовая доктрина представляет собой форму знания о праве, придающего смыслы правовым текстам. Установление содержания правовых норм в судебных актах исходя из правовых доктрин формирует судебные доктрины2. Сфера интеллектуальных прав не была известна римскому праву и начала комплексно формироваться не более 500 лет назад как право привилегий, даруемых государственной властью изобретателям. В России общеизвестным является первопроходство в 1 Первые обсуждения вопросов мирного использования космоса на международном уровне состоялись через месяц после запуска в октябре 1957 г. СССР первого искусственного спутника Земли. URL: https://www.un.org/disarmament/wp-content/uploads/2017/02/A-RES-1148.pdf (дата обращения: 01.02.2022). 2 См.: Гаджиев Х.И. Судебные доктрины и эффективность правоприменения // Журнал Российского права. 2019. № 6. С. 14–27; Ибрагимова Ю.Э. Роль судебных доктрин в установлении и устранении пробелов в законодательстве // Журнал Российского права, 2019. № 11. С. 80–95. 192 области интеллектуальных прав Г.Ф. Шершеневича, А.А. Пиленко, А.С. Муромцева, Я.А. Канторовича на рубеже XIX–XX вв. При этом со временем круг объектов необходимой правовой охраны и субъектов, интересы которых надлежит защитить правом, постоянно изменялся, и на современном этапе данный процесс только ускоряется в связи с внедрением во всеобщее использование цифровых технологий1. Можно предположить, что популярность исследования судебных доктрин в данной области обусловлена относительно небольшим возрастом интеллектуальных прав и их динамичным развитием. Кроме того, данная сфера испытывает большое влияние международных договоров, основанных на соответствующих правовых доктринах стран с различными правовыми системами. Сегодня в 93 государствах созданы специализированные суды, трибуналы либо судебные коллегии по рассмотрению споров в сфере интеллектуальных прав2. Данные суды и квазисуды активно формируют правоприменительную практику с учетом современных тенденций в эволюции правотношений в области использования результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД) и средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (далее – средства индивидуализации). В решениях данных судов прямо или косвенно прослеживаются известные доктрины в сфере регулирования интеллектуальных прав, которые в дальнейшем развиваются юридической наукой. Большое значение имеет практика Суда ЕС, ежегодные обзоры которой демонстрируют формулирование новых прецедентных правил обращения РИД и средств индивидуализации. Большим авторитетом облают решения судов США в силу своей мотивированности и последовательности, а также огромного значения американских РИД для глобального рынка. С момента вступления в силу части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК) российское законодательство об интеллектуальных правах получило правовую оценку в постановлениях высших российских судов. Судом по 1 Например, в решении 2012 г. по делу «University of Utah v. Max-Planck-Gesellschaft Zur Foerderung Der Wissenschaften E.V. et al.» Апелляционный суд США по федеральному округу пришел к выводу, что государство не может выступать в роли изобретателя. Со ссылками на выводы по данному делу Бюро по патентам и товарным знакам США в решении от 27 апреля 2020 г. пришло к выводу, что не может быть автором изобретения искусственный интеллект. URL: https://www.law360.com/technology/articles/1267895/i-m-sorry-hal-uspto-says-ai-machine-cant-be-inventor-?nl_pk=86bc9127-33e9-4d5a-9026-bdd3f9878b67&utm_source=newsletter&utm_ medium=email&utm_campaign=technology (дата обращения: 01.02.2022). 2 URL: http://iipi.org/map/map.htm (дата обращения: 01.02.2022). 193 интеллектуальным правам сформировались новые устоявшиеся подходы к данной сфере правоотношений, подкрепленные его авторитетом как специализированного судебного органа. Верховный Суд РФ от 23 апреля 2019 г. принял постановление Пленума № 10, посвященное ч. 4 ГК (далее – Постановление № 10), в котором систематизировал подходы, выработанные судебной практикой1. Были приняты три постановления Конституционного Суда Российской Федерации, два из которых по запросам судов2. Согласно аналитическому обзору Роспатента, число дел, по которым его решения были признаны недействительными в связи с изменением судебной практики, составляет 30 случаев из 91 удовлетворения требований против Роспатента (1/3 числа дел, пересмотренных не в пользу Роспатента)3. При этом в обзоре подчеркивается: «…рост признанных судом недействительными (незаконными) решений, действий (бездействия) Роспатента во многом объясняется формированием новой судебной практики Суда по интеллектуальным правам, которая зачастую идет вразрез с выработанной годами Роспатентом и судами, включая Высший арбитражный суд Российской Федерации, правоприменительной практики». Постановление № 10 внесло существенный вклад в формирование судебной практики и по существу является ее кодификацией4. За год его действия оно упомянуто почти в 1500 судебных актах СИП5. Особый статус интеллектуальной собственности предполагает отличные режимы ограничений в использовании и распоряжении исключительными правами по сравнению с собственностью материальной. Пункт 5 ст. 1229 российского ГК закрепляет основные принципы для таких ограничений: «Ограничения исключительных прав на произведения науки, литературы или искусства либо на объекты смежных прав устанавливаются в определенных особых случаях при условии, что такие ограничения не противоречат обычному использованию произведений либо объектов смежных прав и не ущемляют необоснованным образом законные интересы правообладателей. Ограничения исключительных прав на изобретения или 1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». 2 Постановление Конституционного Суда РФ от 3 июля 2018 г. № 28-П; Постановление Конституционного Суда РФ от 13 февраля 2018 г. № 8-П; Постановление Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016 г. № 28-П. 3 URL: https://rupto.ru/content/uploadfiles/analit-sp-sud-2018.pdf (дата обращения: 01.02.2022). 4 См.: URL: https://pravo.ru/story/220698/?desc_tv_10 (дата обращения: 01.02.2022). 5 Согласно поисковому запросу в СПС «КонсультантПлюс». 194 промышленные образцы устанавливаются в отдельных случаях при условии, что такие ограничения необоснованным образом не противоречат обычному использованию изобретений или промышленных образцов и с учетом законных интересов третьих лиц не ущемляют необоснованным образом законные интересы правообладателей. Ограничения исключительных прав на товарные знаки устанавливаются в отдельных случаях при условии, что такие ограничения учитывают законные интересы правообладателей и третьих лиц». Российская доктрина исходит из того, что исключительное право существует в отношении любого охраняемого РИД и средства индивидуализации, в отличие от иных интеллектуальных прав. Например, секрет производства (ноу-хау) предполагает наличие только исключительных прав. В литературных произведениях или произведениях живописи важную роль играет личность автора, в связи с чем подлежит правовой охране и является неотчуждаемым личное не­имущественное право авторства, равно как право автора на имя и т.д. Для охраны интересов авторов произведений изобразительного искусства, а также авторских рукописей (автографов) литературных и музыкальных произведений, ценность которых может существенно возрасти с течением времени, в ст. 1293 ГК закреплено право следования, позволяющее получать автору процент от каждой перепродажи произведения, которое не может быть отнесено ни к категории личных неимущественных, ни исключительных прав. В этой связи в российской юридической литературе выделяют три составляющие («триаду») интеллектуальных прав, закрепленных в ст. 1226 ГК: исключительные права, личные неимущественные права и иные права (к ним также относится, например, право на получение патента, которое не является исключительным правом, но представляет собой право на получение исключительного права)1. Подобное тройное разграничение является находкой российского законодателя, поскольку в общемировой практике, как правило, господствуют монистические и дуалистические подходы, включающие в качестве составляющих интеллектуальных прав права материальные (экономические) и моральные (личные неимущественные). С.И. Крупко отмечает, что в таких странах, как ФРГ, Австрия, США, доктрина и практика исходят из неделимости экономических 1 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части четвертой). В 2 т. Т. 2 / С.А. Горленко, В.О. Калятин, Л.Л. Кирий и др.; отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. М., 2016. С. 431; Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие положения. Учебник / Под ред. Л.А. Новоселовой. М., 2017. С. 129. 195 и моральных правомочий в сфере авторского права и смежных прав. При этом в США возможна также передача другому лицу автором произведения права авторства, являющегося согласно российскому ГК неотделимым от автора личным неимущественным правом. В России, равно как во Франции, Бельгии Нидерландах, интеллектуальные права рассматриваются как совокупность экономических и моральных (личных неимущественных) прав, из которых, как правило, передаваемыми являются только экономические1. Условно классические теории в области регулирования интеллектуальных прав, исходя из обозначенного двойственного подхода в мировой практике, можно разделить на утилитарные (экономические), исходящие из необходимости установления правового режима, обеспечивающего наибольшее общественное благосостояние, учитывающее интересы правообладателя и общественности, и неутилитарные (неэкономические), исследующие в качестве первопричины нематериальные основания для правовой охраны интеллектуальных прав. К неутилитарным направлениям в сфере регулирования интеллектуальных прав можно отнести личностную теорию, указывающую на моральный вклад автора в создание РИД, даже если такой РИД не имеет практической ценности или произведен с несущественными затратами; проприетарную теорию, утверждающую о необходимости распространения на интеллектуальные права режима права собственности; трудовую теорию, указывающую на РИД как на плоды усилий лица, работающего с исходными материалами и преобразующими их в нечто новое2. Существенное влияние на формирование судебных доктрин в системе интеллектуальных прав оказала проприетарная теория, утверждающая, что любой человеческий труд является собственностью, включая собственность на нематериальные объекты. Данная теория позволила провести аналогии между материальными предметами (движимыми и недвижимыми вещами) и нематериальными РИД. Ю.Н. Андреев отметил: «Возникновению проприетарной концепции прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации способствовали 1 Крупко С.И. Деликтные обязательства в сфере интеллектуальной собственности в международном частном праве: монография. М., 2018. С. 96. 2 См.: Цивилистическая концепция интеллектуальной собственности в системе российского права: монография / А.А. Богустов, В.Н. Глонина, М.А. Рожкова и др.; под общ. ред. М.А. Рожковой. М., 2018. С. 116. 196 идеи французских философов-просветителей (Вольтера, К.А. Гельвеция, П.А. Гольбаха, Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо), а также завоевания Великой французской революции: свобода личности, свобода договора, неприкосновенность частной собственности»1. Американские суды развивали концепцию copyright со ссылками на прецеденты из споров в области вещного права. Например, доктрина добросовестного улучшения изобретения без разрешения правообладателя формировалась исходя из практики по аналогичным вопросам, касающейся прав собственников и временных владельцев материальных объектов права собственности. Неутилитарные теории позволили обосновать ценность интеллектуальных прав как таковых, а также разграничить материальные и нематериальные мотиваторы для интеллектуальной деятельности. Например, изобретение математической формулы не может являться объектом правовой охраны, но это не означает отсутствие стимулов для ученых разрабатывать указанные формулы. В. Ландес и Р. Познер также указывают, что изобретение новой экономической формулы, требующее существенных временных затрат, не обеспечивается правовой охраной авторским правом2. В равной степени такая формула не охраняется и патентным правом, поскольку она направлена не на прикладное применение в процессе производства материальных благ, а на научное объяснение фактов и прогнозирование. Однако работа ученых в данном случае стимулируется нематериальными благами, среди которых общественное признание публикации, повышение спроса на лекции автора и т.д. Системы государственного поощрения исследовательской деятельности также основаны на неутилитарных соображениях, поскольку критерии оценки результатов исследований не предполагают эффективности изобретательской деятельности3. Утилитарные требования снижения уровня правовой охраны в условиях предоставления государственных субсидий исследователям либо наград за победы в конкурсах на лучшее изобретение в этой связи преодолеваются неутилитарными концепциями. Правительства обеспечивают исследования через систему выделения грантов, субсидий на высшее образование и других исследовательских институтов, 1 Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические аспекты: монография. М., 2013. С. 214. 2 Landes W., Posner R. The Economic Structure of Intellectual Property Law. Cambridge, 2003. P. 96; Varadarajan D. Improvement Doctrines // GEO. MASON L. REV. Vol. 21:3, 2014. P. 669–670. 3 Varadarajan D. Opt. cit. P. 673. 197 закупок (в особенности военных, космических и природоохранных), налоговых льгот (например, для солнечной энергии) и другие программы финансирования. Такие практики могут неверно распределить ресурсы, поскольку государство зачастую не имеет достаточной информации для оценок перспективности тех или иных инициатив. Кроме того, в условиях грантовой системы формируется плеяда исследователей, целью которых является отработка гранта, а не перспективная разработка. Утилитаристы, таким образом, ставят во главу угла утверждение исключительных прав на РИД как лучшее средство поощрения инноваций с учетом необходимости создания временных рамок защиты таких прав, чтобы повысить общественное благосостояние за счет ограничения монополии правообладателей. Еще И. Бентам отмечал: «То, что изобрел один человек, потом любой сможет сымитировать. Без помощи законов изобретатель всегда будет вытесняться с рынка его конкурентами, которые без каких-либо расходов, обладая открытием, стоившим изобретателю много времени и трат, будут способны лишить его желаемых преимуществ, продавая по более низкой цене»1. С другой стороны, известно изречению сэра И. Ньютона: «Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов». Большинство авторов произведений так или иначе черпают вдохновение из имеющегося литературного фонда, изобретателей – из перспективных разработок своего времени и т.д. Утилитарные теории существенно повлияли на развитие авторского права в Соединенных Штатах. Например, согласно специальному докладу Конгресса США от 1909 г., касающемуся применения Акта об авторском праве, действие законодательства в сфере авторских прав утверждается Конгрессом не на основе какого-либо естественного права автора на его работы, но исходя из того, что общественные интересы обеспечиваются защитой исключительных прав в течение ограниченного периода времени2. Уровень оригинальности возрастает вместе с уровнем правовой охраны авторского права, поскольку среднестатистические авторы будут прикладывать больше усилий для соблюдения действующих режимов такой охраны произведений. Однако на определенном Bentham J. A Manual of Political Economy, New York ,1839. P. 71. The House Report 1 on the Copyright Act of 1909. URL: https://ipmall.law.unh.edu/sites/ default/files/ hosted_resources/lipa/copyrights/The%20House%20Report%201%20on%20the%20 Copyright%20Act%20of%201909.pdf (дата обращения: 01.02.2022). 1 2 198 уровне охраны затраты, связанные с приданием произведению оригинального характера, будут превышать пределы, обеспечивающие заинтересованность авторов в создании новых произведений. В этой связи на рынке будет появляться больше заменителей оригинальных произведений, что в условиях конкуренции понизит равновесную цену на оригинальное произведение1. К аналогичным выводам приводят также исследования в области патентного права2. Произведение нельзя описать короткой формулой, в связи с чем необходимо установить уровень заимствования, который, как правило, заключается в дословном воспроизводстве всего текста или его части. Если бы авторское право охраняло идеи, то это могло быть привести к гонкам авторов за первенство в определенной сфере литературы, музыки или искусства. Отсюда вытекает уменьшение объема защиты авторского права, что позволяет увеличивать срок правовой охраны. Исследования утилитаристов США 1920–1940 гг., как правило, были направлены на разрешение вопроса о необходимости защиты интеллектуальных прав как таковой. Американский экономист Д. Кларк указывал, что в отсутствие правовой охраны изобретений большинство субъектов экономической жизни будут ждать чужой изобретательской инициативы3. С другой стороны, А. Пигу полагал, что патентные законы направлены на маргинальные частные и социальные изобретения, т. е. на сферы наибольшего потребления4. Стимулирование правообладателей путем патентной защиты, по мнению А. Пигу, приведет к тому, что творческий потенциал изобретателей будет растрачиваться впустую, направляться на популярные цели в ущерб общественно значимым инновациям. Исследования американских экономистов 1960–1970 гг. уже преимущественно были посвящены не вопросу о том, нужны ли законы о защите интеллектуальных прав как таковые, а о наилучших методах такой защиты, обеспечивающих стимулирование инноваций и общественное развитие, заключающихся в основном в адекватных сроках правовой охраны. В период 1970–1980 гг. среди 1 P. 91. Landes W., Posner R. The Economic Structure of Intellectual Property Law. Cambridge, 2003. 2 См.: Lichtenberg F., Philipson T. The Dual Effects of Intellectual Property Regulations: Withinand Between- Patent Competition in the US Pharmaceuticals Industry // Journal of Law & Economics 45, Cambridge, 2002. P. 643–672. 3 Menell P. Intellectual Property. General Theories // Encyclopedia of Law and Economics 1600. Washington, 1999. P. 132. 4 Ibid. P. 151. 199 исследователей США начал появляться консенсус в части того, что интеллектуальные права предлагают реальный, но ограниченный стимул к инновационной деятельности в некоторых секторах производства. Взаимосвязь таких прав с общественным благосостоянием является необычайно сложной и должна рассматриваться в отдельных сферах производства и интеллектуальной деятельности (медицина, химическая промышленность, книгоиздательство и т.д.) исходя из различных изначальных установок. Экономисты стремятся заменить статические модели оценки эффективности исключительных прав на динамические, чтобы проанализировать различные возникающие в связи с их применением формы конкуренции. Начинают активно дискутироваться модели патентной монополии и олигополии. Утверждается, что монополисты стремятся в большей степени поддерживать имеющуюся монополию на изобретение и вкладывают в этот процесс средства, создавая преграды для продукции с аналогичным функционалом. Данные средства направлялись бы в отсутствие правовой охраны исключительных прав на новые разработки. Дискутируется проблема допустимой широты описания формулы изобретения для целей недопущения создания эквивалентов. Анализируется зависимость возможного срока правовой охраны РИД в зависимости от издержек на такую охрану со стороны правообладателей, наличия механизмов принудительного лицензирования по справедливой (рыночной) цене и т.д. Так, объединение и распространение инноваций через соглашения о совместных исследованиях либо через лицензионные соглашения предлагают увеличение множества побочных выгод для правообладателей. Возможность лицензирования, однако, имеет неоднозначный эффект на исследовательские инициативы. С одной стороны, потенциал от бо́льшего общего дохода, получаемого благодаря расширению рынка продаж продукции, стимулирует изначальные инновации, рассчитанные на высокую степень отдачи от капиталовложений. Вместе с тем потенциальные конкуренты в патентной гонке, имея возможность получения части прибыли от чужих разработок при наличии необходимых переговорных возможностей, не способствуют, а даже, наоборот, препятствуют дальнейшему научному прогрессу. Принудительное лицензирование рассматривается утилитаристами как способ ограничения возможности злоупотребления монополистами своим доминирующим положением. Значимость 200 указанного ограничения выше тогда, когда существуют «сетевые экстерналии», ставящие пользу от продукта в зависимость от числа его пользователей (например, ценность социальной сети зависит от числа зарегистрированных аккаунтов). Новый участник рынка может повысить общественное благосостояние, адаптировав свою изначально несопоставимую для целей совместного использования технологию с охраняемой технологией. Утилитаристы также утверждают, что чем шире объем правовой охраны изобретения, тем короче должен быть срок такой охраны: авторы, с одной стороны, справедливо отмечают медленное развитие технологий в условиях монопольного права правообладателя на распоряжение изобретением, но, с другой стороны, не лишены смысла доводы о том, что при короткой правовой охране потенциальные конкуренты не будут стремиться изобретать что-то свое, а будут ждать окончания срока действия патента. Принципиальная польза в защите средств индивидуализации с утилитарных позиций заключается в снижении издержек для покупателей, связанных с поиском и сравнением товаров. Законодательство о товарных знаках стимулирует производителей вкладываться в специальные обозначения своей продукции и не допускать до степени смешения ее схожести с аналогичными продуктами других производителей. Однако утилитарные теории также предостерегают от создания искусственной дифференциации продукции, которая ведет к росту цен на один сегмент продукции нескольких производителей, не обусловливая его реальными отличиями в свойствах таких продуктов. Таким образом, можно кратко представить наиболее значимые и признаваемые в правовой практике доктрины в сфере интеллектуальных прав, которые обосновывают перечень объектов правовой охраны, срок такой охраны, круг правообладателей, возможные исключения из общего правила правовой охраны. В различной форме представления о должном, содержащиеся в указанных доктринах, прослеживаются в законодательстве и судебной практике как стран романо-германской, так и англо-саксонской правовых систем и иных тяготеющих к ним правовых систем. Для установления общего и особенного в применении судебных доктрин в России и зарубежных государствах следует рассмотреть наиболее популярные судебные доктрины, к которым относятся доктрина добросовестного использования (fair use), улучшения (трансформации), а также исчерпания (exhaustion). В заключение рассмотрим применение 201 судебных доктрин по делам в сфере регулирования интеллектуальных прав на объекты, появившиеся в связи с развитием цифровой экономики. Добросовестность является одним из основных понятий российского гражданского законодательства (ч. 3 ст. 1 ГК – обязанность действовать добросовестно; ч. 5 ст. 10 ГК – презумпция добросовестности1). Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 23 июня 2015 г. № 25 раскрыл понятие добросовестности через предсказуемость действий разумного участника гражданских правоотношений. При этом в постановлении указано: «Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (п. 2 ст. 10 ГК РФ), например, признает условие, которому недобросовестно воспрепятствовала или содействовала эта сторона соответственно наступившим или ненаступившим (п. 3 ст. 157 ГК РФ); указывает, что заявление такой стороны о недействительности сделки не имеет правового значения (п. 5 ст. 166 ГК РФ)»2. Ссылками на данное постановление обосновываются решения СИП: «Добросовестным поведением является поведение, ожидаемое от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации»3. Судебной практикой установлено соответствие принципов добросовестности и разумности доктрине эстоппель, позволяющей заключить о недобросовестном поведении стороны правоотношения в случае непоследовательности и противоречивости ее действий4. В практике СИП обозначено содержание данного принципа: «Главная задача принципа эстоппель – не допустить, чтобы из-за непоследовательности в своем поведении сторона получила выгоду в 1 В этой связи бремя доказывания недобросовестности возлагается на сторону, заявившую о ней. См.: Определение Верховного Суда РФ от 1 сентября 2015 г. № 5-КГ15-92. 2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. № 140. 30.06.2015. 3 Постановление СИП от 1 июля 2019 г. № С01-370/2019 по делу № А13-14211/2018. 4 См., например: Ибрагимова Ю.Э. Роль судебных доктрин в практике арбитражных судов // Журнал российского права. 2020. № 4. С. 172–185. 202 ущерб другой стороне, которая добросовестным образом положилась на определенную юридическую ситуацию, созданную первой стороной»1. При этом обстоятельства, свидетельствующие о непоследовательности действий стороны, устанавливаются в каждом конкретном случае, принимая во внимание логичность поведения стороны и распространенность аналогичных действий среди участников гражданского оборота. Так, СИП отметил: «…оспаривание выдачи патента на изобретение, за использование которого правообладатель в отдельном судебном процессе требует взыскания компенсации, само по себе соответствует обычной хозяйственной практике, не свидетельствует о злоупотреблении правом в целом и о наличии оснований для применения принципа эстоппель (как частного случая злоупотребления правом)»2. Часть 4 ГК РФ упоминает добросовестность только в части права преждепользования (добросовестное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца лицом, созданного независимо от изобретателя до даты приоритета) и права на секрет производства (приобретение самостоятельного права на секрет производства лицом в случае, если оно добросовестно и независимо от других правообладателей стало обладателем соответствующих сведений). В отечественной правовой доктрине ведется дискуссия по поводу необходимости специального закрепления принципа добросовестного использования, аналогичного известному из практики стран общего права3. Доктрина добросовестного использования, требующая от пользователя в первую очередь разумности и осмотрительности, является ориентиром в странах общего права для определения допустимости использования произведения, в то время как континентальной правовой традиции соответствует перечисление способов разрешенного использования в тексте закона. Главным достоинством доктрины добросовестного использования является ее гибкость, поскольку суду в каждом деле предоставляется свобода оценки фактов. В США Бюро авторского права ведет подробный учет дел, в которых рассматривался вопрос о добросовестном использовании4, что Постановление Президиума СИП от 21 ноября 2019 г. по делу № СИП-326/2019. Постановление Президиума СИП от 16 января 2020 г. № С01-430/2019 по делу № СИП359/2018; постановление Президиума СИП от 28 октября 2019 г. № С01-996/2019 по делу №СИП-781/2018. 3 См.: Калятин В.О. О перспективах применения в России доктрины добросовестного использования // Закон. 2015. № 11. С. 40–47. 4 URL: https://www.copyright.gov/fair-use/fair-index.html (дата обращения: 01.02.2022). 1 2 203 позволяет правоприменителям и всем заинтересованным лицам быстро ориентироваться в меняющейся практике. Закон США об авторском праве (US Copyright Act of 1976) содержит четырехуровневый тест определения применимости доктрины добросовестного использования: 1) цель и характер использования, включая оценку, имеет ли такое использование коммерческий характер или осуществляется для некоммерческих образовательных целей; 2) характер работы; 3) объем и существенность заимствования в отношении охраняемой работы в целом; 4) воздействие, которое такое использование оказывает на потенциальный рынок или ценность охраняемого произведения. Рассмотрим несколько примеров применения доктрины fair use из практики судов США. Окружной суд США по южному округу Нью-Йорка рассмотрел дело «Solid Oak Sketches, LLC v. 2K Games, Inc». Ответчики, 2K Games, Inc. и Take Two Entertainment, являются разработчиками видеоигр, которые ежегодно обновляют и выпускают игру-симулятор баскетбола NBA 2K, на которой изображены баскетболисты NBA, включая их татуировки, с реалистичным рендерингом. Истец, Solid Oak Sketches, LLC, утверждал, что Ответчики нарушили авторские права на свои работы: пять татуировок, размещенных на трех игроках NBA, демонстрируются публично. Ответчики утверждали, что использование татуировок было добросовестным использованием. Суд установил, что первый фактор – цель и характер использования – свидетельствует в пользу ответчиков. Во-первых, Ответчики использовали измененные татуировки в целях «общей узнаваемости» игроков в игре, а не для первоначальной цели, для которой они были созданы, заключающейся в самовыражении игроков через боди-арт. Кроме того, из-за уменьшенного размера татуировок и множества других эффектов выразительные детали татуировок были отчетливо видны только тогда, когда пользователи осуществляли выбор игроков для игры, а не во время игрового матча. Более того, татуировки составляют несущественную часть игры, появляются у трех из 400 игроков и составляют всего от 0,000286% до 0,000431% от общих игровых данных. Хотя включение татуировок в коммерческие видеоигры является коммерческим воспроизведением, татуировки не фигурируют в 204 маркетинговых материалах и имеют второстепенное значение для коммерческой ценности игры. Суд определил второй фактор – характер защищенного авторским правом произведения – также в пользу Ответчиков, так как татуировки были ранее опубликованы и дизайны являются скорее «фактическими, чем выразительными», потому что они были основаны на фотографиях и не направлены на выражение креативного дизайна рисунков. Суд установил третий фактор – количество и обоснованность использованной работы – в пользу Ответчиков несмотря на то, что татуировки были скопированы полностью, поскольку такое копирование преследовало цель точного изображения игроков. Наконец, суд определил четвертый фактор – влияние использования на потенциальный рынок или стоимость работы – также в пользу Ответчиков. Истец признал, что татуировки, представленные в игре, не заменяют использование татуировок в любой другой среде. Также не было доказательств того, что существует рынок лицензирования татуировок для использования в видеоиграх или других средствах массовой информации или что такой рынок, вероятно, будет развиваться. Взвесив факторы вместе, суд принял решение в пользу ответчиков1. Окружной суд США по северному округу Калифорнии в решении по делу «In re DMCA Subpoena to Reddit, Inc.» установил, что в августе 2018 г. пользователь сервиса Reddit под псевдонимом Darkspilver разместил два поста: (1) изображение задней обложки журнала «The Watchtower», содержащей публикацию Свидетелей Иеговы с просьбой о пожертвованиях, и (2) перечень личных данных в форме графика, собранных церковью об их членах. В судебном заседании Darkspilver объяснил, что он разместил материалы, чтобы инициировать дискуссию о сборе церковных средств и практике обработки личных данных. Общество «The Watchtower», родительская организация Свидетелей Иеговы и издатель журнала, сообщило о нарушении его авторских прав Reddit. Сервис Reddit удалил рекламное объявление, а Darkspilver добровольно удалил график. Суду предстояло решить, должно рассматриваться дело в рамках свободы на выражение мнения либо права на добросовестное использование. 1 URL: https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/tresona-multimedia-burbank-highschoolvocal-music-assn-9thcir2020.pdf (дата обращения: 01.02.2022). 205 Суд пришел к выводу, что дело основано на определении добросовестного использования, и в этой связи установил четыре фактора: 1) использование Darkspilver было трансформирующим защищенный материал, поскольку Darkspilver использовал защищенный авторским правом материал для некоммерческого комментирования и критики практики сбора средств Свидетелями Иеговы и сбора данных; 2) объявление и диаграмма являются функциональными и поучительными документами, что попадает под определение добросовестного использования; 3) Darkspilver заимствовал из оригинальной работы то, что было разумно необходимо, чтобы сделать его критику и комментарии понятными; 4) использование защищенных авторским правом материалов не повлияло на продажи журнала «The Watchtower», поскольку «The Watchtower» не лицензирует произведения, издаваемые с целью критики. Кроме того, диаграмма не была зарегистрирована в Бюро регистрации авторских прав до окончания использования Darkspilver, что подорвало любую потерю ценности в этой работе. Суд отклонил довод «The Watchtower» о том, что использование произведения могло отвлекать веб-трафик от его сайта, поскольку перенаправление или подавление спроса со стороны критики не является ощутимым ущербом для авторских прав. Рассматривая все четыре фактора вместе, суд пришел к выводу, что использование было добросовестным1. Окружной суд США по Центральному округу Калифорнии в деле «Dlugolecki v. Poppel, CV 18 3905 GW (GJSx)» установил, что в 1990-х гг. истец Д. Длуголецки (Dlugolecki) фотографировал американскую актрису Меган Маркл для школьного ежегодного альбома. После объявления о помолвке Маркл с британским принцем Гарри в 2017 г. ответчик American Broadcasting Companies, Inc. (ABC) использовал несколько фотографий истца в программах ABC, освещающих новости о помолвке. ABC показала пять фотографий за сорок девять секунд в течение восьми часов общего времени трансляции. Фотографии были также показаны в предварительных просмотрах и рекламных акциях в социальных сетях. Длуголецки подал иск против ABC, утверждая о нарушении авторских прав. 1 URL: https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/in-re-dmca-subpoena-to-reddit-inc-no19-mc-80005-sk-mar-2-2020.pdf (дата обращения: 01.02.2022). 206 Суд вновь обратился к четырехуровневому тесту. 1) Цель и характер использования определены судом как находящиеся в равновесии. Суд установил, что, хотя «сообщение о новостях» упоминается в преамбуле к ст. 107 Закона об авторском праве, это не означает, что любое несанкционированное использование произведения в новостном сообщении имеет опору на закон. Хотя суд установил, что использование ABC фотографий в телевизионных новостях было несколько преобразующим, поскольку фотографии были созданы с целью включения в ежегодник, оно не было «значительным или в подавляющем большинстве» преобразующим. Эта небольшая трансформация была уравновешена «определенной коммерческой целью или ассоциацией» ABC при использовании фотографий. 2) Природа работы, защищенная авторским правом, не позволила суду проводить какие-либо тонкие различия между творческими и фактическими работами, признав, что на фотографиях была минимальная мера творчества, которая немного принесла пользу Длуголецки. 3) Объем и существенность работы для целей использования установлены судом не в пользу ABC, поскольку для целей новостной трансляции могли и не использоваться школьные фотографии Маркл. Возможность идентификации Маркл могла быть достигнута и без заимствования фотографий Длуголецки. 4) Суд также установил влияние использования фотографий ABC на потенциальный рынок или стоимость работы для Длуголецки. После того как было объявлено о помолвке Маркл с принцем Гарии, появился рынок лицензирования ее фотографий. Суд принял во внимание «нашу (всемирную – А.С.) питаемую таблоидами и одержимую знаменитостями… культуру». На основании проведенного анализа суд пришел к выводу, что добросовестное использование установить в рассматриваемом деле невозможно1. Таким образом, из представленных примеров судебной практики США видно, что доктрина добросовестного использования, хотя и ограничена четырьмя подлежащими установлению факторами, достаточно эластична для установления справедливого баланса интересов сторон. Часть 4 ГК устанавливает правовой режим регулирования зависимых изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. 1 URL: https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/dlugolecki-poppel-cdcal2019.pdf (дата обращения: 01.02.2022). 207 Зависимым изобретением, в частности, является изобретение, охраняемое в виде применения по определенному назначению продукта, в котором используется охраняемое патентом и имеющее более ранний приоритет другое изобретение. Изобретение или полезная модель, относящиеся к продукту или способу, также являются зависимыми, если формула такого изобретения или такой полезной модели отличается от формулы другого запатентованного изобретения или другой запатентованной полезной модели, имеющих более ранний приоритет, только назначением продукта или способа (п. 1 ст. 1358.1 ГК). Особенностью правовой охраны интересов авторов зависимых изобретений является предоставление им возможности получения в судебном порядке принудительной лицензии в случае, если патентообладатель, имеющий исключительное право на зависимое изобретение, докажет, что оно: 1) является важным техническим достижением, 2) имеет существенные экономические преимущества перед объектом, охраняемым первым патентом, а также 3) что переговоры с обладателем первого патента на условиях, соответствующих устоявшейся практике, провалились (п. 2 ст. 1362 ГК). Как видно, указанные правила позволяют избежать злоупотребления со стороны обладателя патента и стимулируют изобретательскую деятельность по существенному улучшению имеющихся изобретений. При этом они предоставляют суду определенную дискрецию, позволяющую делать вывод о «важности технического достижения» применительно к конкретным обстоятельствам дела. В постановлении СИП от 29 октября 2019 г. по делу А40-166505/2017 в этой связи указано: «Приведенный в пункте 2 статьи 1362 ГК РФ критерий «важности технического достижения» действительно не имеет легального определения в законодательстве и в отношении его толкования не имеется устойчивой судебной практики… в российском законодательстве также отсутствует определение понятия «существенные экономические преимущества одного изобретения по отношению к другому» и выработанные судебной практикой подходы». В таких условиях существенное значение приобретает мнение экспертов в данной области, в том числе правоведов1. 1 В приведенном постановлении СИП от 29 октября 2019 г. по делу А40-166505/2017 стороны ссылались на мнения эксперта – заведующего сектором гражданского права Института государства и права Российской академии наук Л.В. Санниковой, а также специалистов в области патентного права: А.С. Ворожевич, С.В. Третьяковой, В.В. Старженецкого, А.В. Костина и Р.И. Ягудиной, относящиеся к вопросам толкования понятий «важное техническое достижение» и «существенные экономические преимущества». 208 Таким образом, вопрос о предоставлении правовой охраны зависимому изобретению разрешается с учетом уровня улучшения первоначального изобретения и потенциальной пользы от такого улучшения. Допустимость улучшений РИД без получения разрешения правообладателя во многом зависит от рассмотрения данных действий со стороны правила собственности либо правила ответственности1. При этом если право собственности носит абсолютный характер и исключает любые посягательства на охраняемый правом объект, то правило ответственности может допускать определенные исключения, допускающие нарушение права собственности при условии выплаты справедливой компенсации. Судебные доктрины в сфере интеллектуальной собственности, развиваемые в судах США, зачастую размывают границы между отдельными институтами интеллектуальной собственности (copyright, patent, trademark), применяя концепции, разработанные в рамках одних институтов, к другим. При этом указанные институты часто рассматриваются лишь как отдельные разновидности собственности2. Взгляд на РИД как на собственность свойственен проприетарному подходу. Если исходить из того, что РИД является собственностью правообладателя, то на него допустимо экстраполировать доктрины fair use, transformative use как ее частное проявление, применимые к классическим объектам собственности3. Вместе с тем необходимо иметь в виду, что факт нарушения права собственности (как движимой, так и недвижимой вещи) установить гораздо проще факта нарушения исключительных прав, поскольку у последнего границы допустимого использования размыты. Кроме того, как было отмечено выше, РИД по своей природе являются кумулятивными в том смысле, что они основаны на предыдущих работах. Таким образом, интеллектуальные права должны обес­ печивать баланс между вознаграждением создателя конкретного изобретения и возможностями будущих новаторов создавать новые РИД. В судебной практике США классическим делом о переходе правила собственности в правило ответственности является дело 1 См.: Torrance A., Tomlinson B. Property Rules, Liability Rules, and Patents: One Experimental View of the Cathedral // Yale Journal of Law & Technology, Vol. 14, 2011. P. 138–161. 2 См.: Dornis T. Trademark and Unfair Competition Conflicts. Historical-Comparative, Doctrinal, and Economic Perspectives. Cambridge, 2017. P. 274, 319. 3 См.: Varadarajan D. Improvement Doctrines // GEO. MASON L. REV. Vol. 21:3, 2014. P. 657–716. 209 «Wetherbee v. Green»1. В решении по данному делу отражена доктрина приращения (accertion), основанная на правиле сравнения ценности улучшенного имущества. В качестве условий перехода правила собственности в правило ответственности обозначены существенное увеличение ценности имущества и добросовестность трансформации данного имущества. Так, г-н Уэтерби, ошибочно полагая, что у него есть действующая лицензия на вырубку леса на земле Грина, срубил на его участке деревья стоимостью 25 долларов, а затем переработал их в бочкообразные кольца стоимостью 700 долларов. Грин подал в суд иск с требованием о передаче ему колец, произведенных из его деревьев, как собственнику вещи до ее переработки (улучшения). Верховный суд штата Мичиган указал: если Уэтерби добросовестно использовал пиломатериал (fair use), он может сохранить кольца, при условии, что он компенсировал Грину стоимость изначальных пиломатериалов. Принимая решение, суд акцентировал внимание на двух ключевых фактах: во-первых, значительный разрыв в стоимости между необработанными пиломатериалами и деревянными кольцами; во-вторых, добросовестность Уэтерби при изъятии пиломатериалов. Добросовестность в этом деле означала разумное, но ошибочное убеждение Уэтерби в том, что он получил разрешение от земле­владельца. Акцент суда на неравенство в стоимости был значительным для исхода дела Уэтерби, поскольку в предыдущих делах об улучшении имущества существовала строгая норма собственности в пользу первоначального владельца, если только нарушитель физически не трансформировал движимое имущество таким образом, что уничтожалась его сущность без возможности возврата в изначальное состояние. Вместо этого суд руководствовался подходом сравнения ценности, в котором основное внимание уделяется роли лица, улучшившего имущество, с учетом того, насколько сильно выросла ценность такого имущества. После дела Уэтерби другие суды США также приняли подход сравнения ценности. Таким образом, если добросовестный улучшитель значительно увеличивает ценность чужого движимого имущества, доктрина трансформации переводит защиту правила собственности владельца движимого имущества в правило ответственности. 1 URL: https://www.casebriefs.com/blog/law/property/property-law-keyed-to-cribbet/improvinganothers-property-by-mistake-accession/wetherbee-v-green/ (дата обращения: 01.02.2022). 210 Следует заметить, что похожий подход применялся судами США и к недвижимому имуществу, в частности к земельным участкам. Комментаторы данной темы отмечают, что подобная ситуация стала возможной в силу исторических причин, поскольку в период образования США возникали трудности с определением верных границ земельных участков. Границы объекта интеллектуальных прав, в отличие от материальных объектов права собственности, определить также трудно. Ценность исключительного права заключается в праве исключать иных лиц из извлечения прибыли из использования РИД, в связи с чем традиционное для материальной собственности правило улучшения, связанное с увеличением ценности объекта, не может быть применено без усложненной формулы определения баланса интересов правообладателя и общественных интересов. В случае с интеллектуальными правами появляется неограниченный круг потенциально заинтересованных в новых РИД лиц. Улучшение в контексте интеллектуальной собственности, таким образом, вряд ли будет иметь единообразное определение, которое выработано судами в доктринах усовершенствования материальных объектов. Например, для получения патента правообладатель должен обратиться в уполномоченный государственный орган с заявлением о выдаче патента, содержащим формулу изобретения, его краткое описание, доказательства полезности и новизны, соответствия текущему уровню техники. Точность патентной заявки обеспечивает исключение наибольшего круга потенциальных конкурентов, желающих выступить в роли безбилетников за счет лица, которое произвело затраты на разработку изобретения. В этой связи судам необходимо учитывать не только потенциальную пользу от изобретения, основанного на охраняемом первым патентом изобретении, но и уровень понесенных первоначальным правообладателем затрат, чтобы не допустить злоупотребления правом на принудительную лицензию. В силу п. 6 ст. 1359 ГК не признается нарушением исключительного права ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец, если этот продукт или это изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным 211 лицом. При этом такое использование возможно как с разрешения патентообладателя, так и без него, но при условии, что такое введение в гражданский оборот было осуществлено правомерно. В комментариях к данной норме отмечается, что «при отсутствии исчерпания прав патентообладателя, действие его прав простиралось бы необоснованно далеко»1. Аналогичное правило исчерпания установлено для товарных знаков в ст. 1487 ГК. В литературе утверждается, что исчерпание «является одним из наиболее социально значимых исключений из общего правила об использовании объектов интеллектуальной собственности… данное исключение является на сегодняшний день единственным непосредственно предусмотренным изъятием из сферы действия юридической монополии правообладателя»2. При этом Н.В. Иванов констатирует, что «… в отечественном законодательстве об интеллектуальной собственности в целом отсутствует единый подход к содержанию правила об исчерпании»3. Профессор Школы права Висконсинского университета Ш. Гхош указал: «Представляя собой предмет международного права интеллектуальной собственности, доктрина исчерпания прав выступает связующим звеном в отношениях развитых и развивающихся стран в сфере трансграничной торговли и глобального развития»4. Доктрина исчерпания прав (или «права первой продажи» – first sale rule – в США) допускает свободное использование, в том числе ремонт запатентованного изобретения, кроме реконструкции. Исключительное право распространяется на сам патентоохраняемый объект, но не на произведенные с его использованием товары. А.С. Ворожевич отметила: «Классическое понимание доктрины патентного исчерпания предполагает, что после того, как правообладатель продал охватываемый патентом продукт (или выдал лицензию производителю на то, чтобы он сделал это), исключительное право патентообладателя на данный продукт не распространяется. Как неоднократно отмечалось американскими судами, доктрина 1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части четвертой): в 2 т. (постатейный) / С.А. Горленко, В.О. Калятин, Л.Л. Кирий и др.; отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. 2-е изд. М., 2016. С. 54. 2 Иванов Н.В. Исчерпание исключительного права на товарный знак и параллельный импорт // Закон. 2019. № 2. С. 129. 3 Там же. 4 Гхош Ш. Имплементация доктрины исчерпания прав: выводы, основанные на национальном опыте // Торговая политика. Trade policy. 2015. № 3/3. С. 26. 212 патентного исчерпания подразумевает, что первая разрешенная продажа запатентованного объекта прекращает все патентные права на объект; как только продукт попадает в руки первого покупателя, он выходит за границы патентной монополии»1. Рассмотрим пример из практики СИП. В постановлении от 2 марта 2020 г. по делу № А40-217317/2018 сделан вывод о том, что установка по договору подряда третьим лицом теплоизоляционных панелей с товарным знаком «Termosit@» для системы теплоизоляции «Термозит» не предполагает производства патентоохраняемой системы теплоизоляции, поскольку отдельные ее конструктивные элементы – теплоизоляционные панели – содержат конструктивные элементы, предполагающие определенные способы крепления. Таким образом, приобретение теплоизоляционных панелей «Termosit@» предполагает возможность их установки по системе «Термозит». Способ установки панелей заложен в изделие на стадии изготовления панелей и неразрывно связан со способом изготовления. Кроме того, на сайте производителя плит «Termosit@» имеется инструкция по применению, позволяющая осуществлять сборку запатентованным способом. Кроме того, использование запатентованного товара должно отвечать принципу соответствия товара целям, для которых он обычно используется. В этой связи СИП указал, что теплоизоляционные плиты используются для возведения системы теплоизоляции. На этом основании СИП подтвердил правильность отказа в иске о запрете осуществления действий, нарушающих исключительное право, и о выплате компенсации. Доктрина исчерпания права (exhaustion) в практике судов США тесно связана с вещно-правовой доктриной запрета отчуждения (restraint of alienation), означающей недопустимость действий собственника вещи по связыванию рук будущим поколениям2. Доктрина исчерпания также определяет территориальные ограничения сферы действия исключительных прав. Г. Шубха указывает, что доктрина исчерпания входит в противоречие с утилитарной концепцией допустимости ценовой дискриминации3. Так, с точки зрения экономической эффективности производителю выгодно 1 См.: Ворожевич А.С. Защита исключительных прав на патентоохраняемые объекты: монография. М., 2020. С. 112. 2 См.: Impression Prods., Inc. v. Lexmark Int’l, Inc. URL: https://www.supremecourt.gov/ opinions/16pdf/15-1189_ebfj.pdf (дата обращения: 01.02.2022). 3 Гхош Ш. Указ. соч. С. 38–42. 213 продавать один и тот же товар по разным ценам в зависимости от уровня дохода отдельных групп населения. Однако доктрина исчерпания позволяет группам с низкими доходами осуществлять перепродажу товаров группам с более высокими доходами и зарабатывать таким образом за счет производителя. Данная проблема особо остро поднимается в условиях возможного существования параллельного импорта, когда наряду с официальным дистрибьютором товара на территории другого государства продажа товара с аналогичным товарным знаком осуществляется третьими лицами, которые приобрели данный товар на товарном рынке с заниженными ценами1. В постановлении Конституционного Суда РФ от 13 февраля 2018 г. № 8-П определен следующий баланс интересов правообладателя и лица, осуществляющего параллельный импорт: «Поскольку поставляемый товар с нанесенным товарным знаком правообладателя не является поддельным, к нему не могут применяться санкции в виде изъятия данного товара из оборота и уничтожения». В этой связи установилась практика, согласно которой размер компенсации, устанавливаемый судами при параллельном импорте, должен определяться в меньшем размере, чем в случаях, когда судами установлен ввоз поддельного товара (постановление СИП от 11 сентября 2018 г. по делу № А40-45121/2017). Важно также иметь в виду, что в принятом ранее постановлении Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016 г. № 28-П сформулирована правовая позиция, согласно которой взыскание компенсации за нарушение исключительных прав является штрафной санкцией, применение которой должно основываться на принципе равенства участников гражданских правоотношений и не допускать несоразмерного обогащения одной стороны за счет другой. В этой связи была установлена возможность определения судом (по заявлению стороны) штрафа менее низшего предусмотренного ГК предела. В.В. Старженецкий прокомментировал роль приведенных постановлений Конституционного Суда РФ для практики параллельного импорта на территории России: «Постановление № 28-П дало параллельным импортерам сразу несколько рычагов давления на правообладателей (в первую очередь иностранных): это возможность 1 См.: Старженецкий В.В. Параллельный импорт в Российской Федерации: дифференциация или эрозия ответственности за нарушение исключительных прав? Комментарий к Постановлению КС РФ от 13 февраля 2018 г. № 8-П // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2018. № 7. С. 163–175. 214 ссылаться на злоупотребление правом со стороны правообладателя, его недобросовестное поведение по ограничению ввоза на внутренний рынок РФ конкретных товаров, необоснованное завышение им цен, а также множество способов уйти или максимально снизить свою гражданско-правовую ответственность перед правообладателем, включая снижение компенсации ниже низшего предела, очень жесткие условия для удовлетворении таких требований, как изъятие из оборота и уничтожение импортированных товаров… Поскольку постановление № 28-П в правоприменительной практике было воспринято как возможность многократного снижения сумм компенсации за нарушение исключительных прав по усмотрению суда и существенного смягчения гражданско-правовой ответственности, на это были вынуждены реагировать Суд по интеллектуальным правам1 и Верховный Суд РФ2, вводя дополнительные критерии, которыми должны руководствоваться суды»3. При этом В.В. Старженецкий считает, что параллельный импорт в таких условиях вопреки запрету, содержащемуся в ГК, может стать обычной бизнес-практикой, поскольку административные меры (ст. 14.10 ГК) фактически дисквалифицированы постановлением Президиума ВАС РФ от 3 февраля 2009 г. № 10458/084, а гражданско-правовая ответственность существенно смягчена Конституционным Судом РФ. Изложенное позволяет заключить, что правовой режим параллельного импорта определен в России сформулированными практикой Конституционного Суда РФ подходами к равенству и соразмерности при определении мер гражданско-правовой ответственности и в последующем конкретизировался в судебных актах иных судов. 1 См.: Информационная справка, подготовленная по результатам обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции с учетом практики Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации по некоторым вопросам, возникающим при взыскании компенсации за нарушение авторских и смежных прав (утв. Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 5 апреля 2017 г. № СП-23/10). 2 См.: Определения ВС РФ от 25 апреля 2017 г. № 305-ЭС16-13233, от 11 июля 2017 г. № 308-ЭС17-3085, от 18 января 2018 г. № 305-ЭС17-14355 и др. 3 Старженецкий В.В. Указ. соч. С. 167–168. 4 В данном судебном акте указано: «В данном случае автомобиль марки “PORSCHE CAYENNE S”, являющийся предметом правонарушения и подвергнутый судом конфискации, выпущен правообладателем одноименных товарных знаков и, следовательно, не содержит признаков незаконного воспроизведения товарных знаков, в связи с чем за его ввоз на территорию Российской Федерации общество не может быть привлечено к ответственности, предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ». Таким образом, произведено разграничение между контрафактным товаром и товаром, ввезенным в порядке параллельного импорта. 215 Рассмотренные доктринальные подходы в сфере интеллектуальных прав, а также их реализация в судебной практике нуждаются в постоянном пересмотре в связи с появлением новых объектов интеллектуальной собственности, а также нового круга заинтересованных в их реализации лиц. В частности, это касается пределов ответственности лица, являющегося информационным посредником. В российском ГК ответственность информационного посредника регламентируется ст. 1253.1, под которым понимается: 1) лицо осуществляющее передачу материала в информационно-телекоммуникационной сети; 2) лицо предоставляющее возможность размещения материала или информации, необходимой для его получения, с использованием информационно-телекоммуникационной сети; 3) лицо, предоставляющее возможность доступа к материалу в этой сети. При этом в литературе отмечается общий характер критериев определения информационного посредника с учетом стремительного развития интернет-технологий1. На сегодняшний день в США, странах Европы и России отсутствуют единые подходы к отнесению тех или иных лиц к информационным посредникам. В Mc Fadden Суд ЕС разъяснил, что собственник бизнеса, который предоставляет право анонимного Wi-Fi-соединения для целей рекламирования своих товаров, работ или услуг, не подлежит ответственности за нарушения, совершенные третьими лицами с использованием данного интернет-соединения, когда процесс подключения является техническим, автоматическим и пассивным2. В решении по делу «Coöperatieve Vereniging SNB-REACT U.A.» Суд ЕС рассматривал заявление в отношении провайдера IP-адреса, предоставляющего данный адрес в аренду для целей регистрации и анонимного использования доменных имен и веб-сайтов. Такой провайдер не подлежал ответственности за нарушение третьей стороной исключительного права на товарный знак в связи с установлением следующих условий: сервис, предоставляемый провайдером, должен заключаться в простом обслуживании канала связи, кешировании или хостинге, которые являются только техническими, автоматическими и пассивными по своей природе; провайдер не должен играть активной роли, заключающейся в предоставлении 1 См.: Фомина О.Н. Правовой статус информационного посредника // Вестник гражданского права. 2019. № 3. С. 171–191. 2 C‑484/14 Tobias Mc Fadden v. Sony Music Entertainment Germany GmbH 15/09/2016, ECLI:EU:C:2016:689. 216 своим покупателям разрешения оптимизировать свои онлайн-продажи1. В GS Media Суд ЕС постановил, что предоставление гиперссылки на работы, которые были размещены незаконно на другом вебсайте, может быть квалифицировано как сообщение для всеобщего сведения, если такие ссылки размещены с целью извлечения прибыли. В таких случаях презюмируется осведомленность оператора веб-сайта, извлекающего прибыль из своей деятельности, о нарушении, поскольку на него накладываются дополнительные обязанности по усиленной проверке размещаемого материала. С другой стороны, если указанные ссылки размещены без финансовой выгоды лицом, которое не знало и при должной степени разумности не могло полагать противоправной природы публикации на вебсайтах работ, свободно доступных с нарушением исключительных прав, это не является сообщением для всеобщего сведения. Основываясь на выводах дела GS Media, районный суд Праги 4 рассмотрел уголовное дело № 33T 54/2016 по заявлению Чешского антипиратского объединения против Чешской пиратской партии, предвыборный слоган которой гласил: «Ссылки не преступление». На своем веб-сайте они размещали ссылки на другие веб-сайты, на которых содержались незаконно загруженные материалы, охраняемые авторским правом. Суд постановил, что в связи с отсутствием финансовой выгоды от размещенных ссылок, отсутствием на сайте пиратской партии рекламы, данные действия не являются преступными. В деле Renckoff Суд ЕС разъяснил, что копирование фотографии с оригинальной веб-страницы и размещение на иной странице в свободном доступе онлайн является сообщением для всеобщего сведения, поскольку новая страница собирает новую аудиторию, на которую не рассчитывал правообладатель. Тот факт, что правообладатель не закрыл доступ к своей работе, правового значения не имеет, поскольку правомочие правообладателя на реализацию своего авторского права не может быть предметом любой формальности. При этом Суд ЕС отметил, что доктрина исчерпания не применима к праву на доступ к информации, и репост (повторное размещение фотографии на иной веб-странице) отличается от предоставления гиперссылки. В случае с репостом правообладатель теряет контроль над своим контентом, поскольку распространяется не ссылка 1 C-521/17 Coöperatieve Vereniging SNB-REACT U.A. v. Denmark Mehta, 07/08/2018, EU:C:2016:644. 217 на контент, а сам контент1. При этом гиперссылка является средством поддержания нормального функционирования интернета. Удаление материалов, на которые отсылает гиперссылка, приведет к прекращению доступа к такому материалу, в то время как репост может сделать материалы доступными даже после их удаления со страницы первоначального размещения. В деле Ziggo BV Высокий суд Нидерландов установил, что действия онлайн-платформы The Pirate Bay делают охраняемые авторским правом материалы доступными для публики без согласия правообладателей, но обратился за разъяснением, являются ли действия компаний Ziggo и XS4ALL, предоставляющих доступ к ресурсу The Pirate Bay, сообщением для всеобщего сведения. Суд ЕС разъяснил, что предоставление доступа и управление онлайнсоединением на платформе общего доступа к файлам, при условии индексирования метаданных таких файлов и предоставления возможности их поиска, могут быть сообщением для всеобщего сведения. К принятым во внимание критериям суд отнес умышленный характер совершаемых действий, количество лиц, которые имели единовременный доступ к объектам авторских прав, осведомленность оператора платформы о нарушениях и цель извлечения прибыли от управления платформой2. Суд ЕС в ответ на запрос Высокого суда Нидерландов разъяснил, что концепция «сообщение до всеобщего сведения» с учетом статьи 3(1) Директивы 2001/29/ЕС должна применяться индивидуально к каждому делу. При этом данная концепция содержит два кумулятивных критерия: «акт сообщения» и «всеобщее получение сведений». Для оценки того, было ли осуществлен акт сообщения, необходимо установить несколько взаимосвязанных обстоятельств: осознанность совершаемых действий, использование специальных технических средств, отличных от использованных правообладателем, или допуск к ознакомлению с охраняемыми авторским правом материалами новой публики, а также направленность указанных действий по неправомерному распространению контента на извлечение прибыли. Сославшись на свое прецедентное право, устанавливавшее ранее аналогичные критерии, Суд ЕС также отметил, что в данном деле не сама платформа The Pirate Bay размещает контент с нарушением авторских прав, а ее пользователи путем прямой 1 2 С-161/17 Land Nordhein-Westfalen v Dirk Renckoff, 08/08/2018, EU:C:2018:634. C-610/15 Stiching Brein v Ziggo BV and XS4All Internet BV, 14/06/2017, EU:C:2017:456. 218 передачи данных от пользователя к пользователю (peer-to-peer). Суд ЕС постановил, что The Pirate Bay играет главную роль в предоставлении доступа к контенту, и без данной платформы пользователям было бы затруднительно организовать обмен информацией. Предоставляя доступ к подобной онлайн-платформе и управляя ей, лицо совершает как акт сообщения, так и привлечения новой публики (всеобщее получение сведений) по смыслу статьи 3(1) Директивы 2001/29/ЕС. Поскольку операторы Ziggo и XS4ALL обладали информацией о том, что платформа The Pirate Bay предоставляет доступ к опубликованным без разрешения авторов материалам, они сознательно совершали действия по предоставлению доступа к соответствующему контенту. Верховный суд Австрии в этой связи сказал, что поддержание работы платформы BitTorrent для целей обмена контентом с нарушением авторских прав не требует от заявителя установить изначально непосредственного нарушителя, т.е. пользователя, предоставившего такой контент в общий доступ, в связи с чем допустимо заявить требование сразу непосредственно оператору торрент-платформы1. В деле VCAST Суд ЕС постановил, что облачный сервис видеозаписи ТВ-программ делал их доступными для пользователей, что образовало акт сообщения для всеобщего сведения, поскольку для оригинальной передачи телевизионной программы и для транслирования ее записи из облака использовались разные технические средства. Также количество пользователей этого сервиса образовывало другую, новую публику. Таким образом, критерии «акт сообщения» и «всеобщее получение сведений» судом установлены. Более того, акт трансляции из облака объекта авторского права не может быть оправдан на основании исключения исходя из целей личного использования2. К выводу об отсутствии нарушения Суд ЕС пришел в деле Zürs. net. Так, против оператора австрийской кабельной сети Zürs.net было подано заявление управляющей авторскими правами организацией AKM с целью прекращения транслирования национального телевидения по кабельной сети. Суд ЕС установил, что трансляция национального телевидения является «актом сообщения», поскольку представляет собой самостоятельное техническое решение 1 2 Oberster Gerichtshof No. 4 OB 121/17Y 24 October 2017. C-256/16 VCAST Limited v RTI SpA, 29/11/2017, EU:C:2017:913 219 по предоставлению пользователям соответствующей трансляции. Однако второй необходимый критерий, заключающийся в доведении контента до новых пользователей, не соблюдается, поскольку оператор Zürs.net действует на территории Австрии и предоставляет контент тем же пользователям, на которых рассчитана трансляция национального телевидения. В 2011 г. трибунал Милана признал провайдера хостинга Yahoo! (Italy) S.p.A ответственным за нарушение авторских прав компании RTI (Reti Televisive Italiane S.p.A.) в связи с размещением на сервере Yahoo! пользователями услуг хостинга информации (видеороликов и программ), исключительные права на которые принадлежали RTI. В 2015 г. суд апелляционной инстанции поддержал жалобу Yahoo!, отметив, что в деле отсутствуют доказательства активных действий провайдера хостинга, направленных на размещение спорного контента. Провайдер Yahoo! выступал в роли посредника, который не осуществлял самостоятельной обработки информации1. Верховный суд Италии, пересматривая данное дело, в решении № 7708/19 от 19 марта 2019 г. (RTI c Yahoo!) предложил свое толкование понятия «активных действий провайдера хостинга», основываясь на итальянской уголовно-правовой доктрине упущения (omissione), установив следующие условия ее применения (тест на добросовестность провайдера): 1) провайдер не был в курсе нарушения пользователями хостинга авторских прав, в том числе не был ранее уведомлен о размещении аналогичного контента на его сервере правообладателем; 2) провайдер не мог осуществить проверку действий пользователей, которую следует считать обоснованно ожидаемой от профессионального оператора. Установив, что провайдер Yahoo! уже получал уведомления от компании RTI о нарушении ее авторских прав, Верховный суд отменил решение апелляционного суда и признал Yahoo! виновным в нарушении авторских прав. Трибунал высшей инстанции Парижа в решении от 2018 г. отметил, что пользователи осуществляют поиск информации, используя ключевые слова, и конечный результат, как правило, совпадает с их 1 Corte di Cassazione (Italian Suprem Court) – no. 7708/19 – 19 March 2019 // URL: https:// euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/ reports/2019_IPR_Enforcement_Case_Law_Collection/2019_IPR_Enforcement_Case_Law_ Collection_en.pdf (дата обращения: 01.02.2022). 220 запросом. В этой связи, если доменное имя веб-сайта изменилось, пользователь будет переправлен на новое доменное имя. Исходя из этого, корт решил, что поисковый сервис должен исключить из результатов поиска все выдаваемые по запросу веб-сайты, как и доменные имена или пути к сайтам, не перечисленные в решении суда. Эта мера не означает общего обязательства информационного посредника осуществлять постоянный мониторинг нелегального контента1. Трибунал Турина (Италия) в решении по делу № 1928/2017 от 7 апреля 2017 г. разъяснил, что для удаления нелегального контента в требовании, предъявляемом к соответствующему оператору услуг видеохостинга, не являющегося активным хостингом (не подразумевающего осведомленность оператора о содержании размещаемого на его сервере контента), должно содержаться указание не только на сам контент, но и на его URL-адрес. Простая идентификация названия материала не является достаточной для удаления контента. Оператор хостинга признается виновным в нарушении авторских прав только в случае, если он не удалит материал по требованию правообладателя, содержащему указанные ссылки. С другой стороны, апелляционный суд Рима в решении по делу № 2833/2017 от 19 апреля 2017 г. разъяснил, что такие действия, как размещение рекламных объявлений на странице хостинг-сервера, связанных с имеющимися на нем видеоматериалами, категоризация таких видеоматериалов, несовместимы с исключительно технической ролью в размещении материалов, что свидетельствует об активном хостинге, подразумевающем осведомленность оператора о содержании размещаемого на его сервере контента, и влечет ответственность оператора за содержание размещаемых материалов2. Таким образом, практикой Суда ЕС и судов ряда европейских государств установлено правило, согласно которому ответственность лица, предоставляющего доступ в сеть Интернет, услуги поиска, хранения и обработки данных, не предполагает ответственности за допущенные пользователями нарушения в тех ситуациях, когда такие провайдеры не были осведомлены о допекаемых нарушениях. При получении сообщения о нарушении от заинтересованного лица указанное лицо обязано его пресечь. 1 Tribunal de Grande Instance de Paris (Paris Tribunal) Judgement en la form des Référés No. 18/03028 le 25 mai 2018 // URL: https://www.doctrine.fr/d/TGI/Paris/2018/ U5E31E1CDDAF067AEEEF5 (дата обращения: 01.02.2022). 2 IPR Enforcement case-law collection… P. 51–53. 221 Проанализированная практика демонстрирует, что формирование подходов к отнесению того или иного лица к информационному посреднику, а также определение его вины в правонарушении на сегодняшний день активно вырабатывается судебной практикой. В решениях СИП в настоящее время прослеживается не автоматическое признание такого посредника виновным, а деятельностный подход, требующий установить, кто из цепочки информационных посредников непосредственно отвечает за совершенное правонарушение1. При этом, по установленному СИП общему правилу, к информационным посредникам, участвующим в доведении информации до всеобщего сведения, относятся: 1) администратор домена, 2) владелец сайта, 3) провайдер хостинга, 4) регистратор доменов, 5) лицо, размещающее ссылки/оператор поисковой системы2. Администратор может быть привлечен к ответственности, если в его действиях имеются признаки соучастия, в частности неисполнение судебного акта о прекращении нарушения исключительных прав, получения вознаграждения и т.д.3 Заключение Судебные доктрины ощутимо формируют порядок в толковании и применении норм законодательства об интеллектуальной собственности, что определяется потребностями в гармонизации и унификации правовых систем, множеством международных договоров в данной области и необходимостью обеспечения наибольшего общественного благосостояния на национальном, региональном и международном уровнях. Классические утилитарные и неутилитарные концепции в сфере права интеллектуальной собственности предопределяют судебную оценку обстоятельств дел, по которым суды вынуждены применять абстрактные нормы, исходя из необходимости поиска баланса между монополией правообладателя и обес­печением публичных интересов. Правовые доктрины равенства и соразмерности играют важную роль в установлении пределов ответственности за нарушения исключительных прав и предопределяют смягчение установленных законодательно режимов правовой защиты правообладателей. Потребность в стимулировании 1 См. также материалы Научно-консультативного совета СИП по данному вопросу. URL: http://ipc.arbitr.ru/node/14076 (дата обращения: 01.02.2022). 2 Постановление СИП от 26 февраля 2019 г. по делу № А56-81870/2018. 3 См.: Постановление СИП от 28 февраля 2019 г. № С01-1216/2018 по делу № А40-43044/2018. 222 изобретательской инициативы приводит к формулированию судами критериев новизны, существенного улучшения, и иных оценочных понятий, позволяющих сузить пределы действия исключительного права. При таких условиях правового регулирования формирование судебных доктрин обеспечивает баланс между правовой определенностью и легитимностью правовых норм, возможность их приспособления под конкретные жизненные ситуации, но исходя из ясно обозначенных судами критериев обязательного установления юридического состава для применения тех или иных правовых норм. § 4. ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ Цифровизация берет свое начало из глубокой древности, когда открыли счет и цифры «0» и «1». Тем не менее свое активное развитие, за которым последовали социальные изменения, этот процесс получил во второй половине XX века. Цифровая революция – повсеместный переход от аналоговых технологий к цифровым способам работы с информацией и данными. Может сложиться впечатление, что это лишь техническая модернизация, совершенствование устройств, но это упрощенное понимание, поскольку этот процесс оказывает влияние и на общество, а также на его функционирование. Таким образом, нельзя отрицать, что «цифровое» общество начинает доминировать над «классическим»: цифровое государство, цифровая экономика, цифровые доказательства, цифровая (электронная) подпись и т.д. Прослеживается конкуренция цифры и классики. Как результат, в науке активно растет число научных работ, посвященных цифровизации. Непосредственное воздействие это оказывает и на институт судебного доказывания, в который имплементирована конструкция «электронных доказательств»1. Действительно, в условиях развития цифровой экономики в целом и хозяйственного оборота в частности большее распространение 1 Автор настоящей главы не разграничивает понятие цифровых и электронных доказательств. 223 получают электронные (цифровые) доказательства. Однако, несмотря на их активное использование, остается ряд вопросов, которые требуют разрешения. Так, в частности, неразрешенным остается вопрос о том, является ли достаточной процессуально-правовая основа для введения в судебный процесс электронных доказательств и возможностей для их исследования судом. Неясно, кто в случае отсутствия технической оснащенности в суде будет предоставлять технические средства для воспроизведения электронных доказательств, если такая необходимость возникнет. Также открытым является вопрос, касающийся бремени расходов, которые связаны с оплатой труда специалиста, привлекаемого для эксплуатации технических средств, воспроизводящих содержание рассматриваемых доказательств. Из этого же разряда вопрос о недопустимости отказа в принятии таких доказательств в случае отсутствия у суда технической оснащенности для воспроизведения доказательств в судебном заседании и праве участника процесса потребовать повторного воспроизведения такого доказательства для представления суду своих соображений и комментариев относительно содержания доказательств. Можно отметить, что на сегодняшний день практика принятия, удостоверения, а также истребования электронных доказательств лишь формируется. Таким образом, данные вопросы вызывают проблемы научного и практического характера, которые заслуживают внимания, исследования и нуждаются в разрешении. О понятии электронных доказательств В современном российском законодательстве отсутствует определение «электронных доказательств», а также нет законодательного закрепления того, какими признаками должно обладать такое доказательство для того, чтобы суд признал его допустимым и разрешил его использование в судебном процессе1. Таким образом, следует воспользоваться дефинициями, выработанными научным сообществом. Большинство существующих точек зрения можно свести к нескольким подходам. Одни авторы считают, что целесообразно отнести электронные доказательства к письменным в силу прямого 1 Замула Д.В. Понятие электронных доказательств // Вестник современных исследований. 2018. № 8. С. 189. 224 указания закона, которыми признаются документы в форме цифровой, графической записи, полученные посредством факсимильной, электронной или другой связи, подписанные электронной подписью документы или выполненные иным способом, позволяющим установить достоверность документа (ст. 71 ГПК РФ, ст. 75 АПК РФ). А.П. Вершин считает, что электронные документы необходимо относить к письменным доказательствам несмотря на то, что у документа отсутствует внешняя письменная форма, поскольку для определения понятия письменного доказательства не имеют значения материал, из которого он был изготовлен, и технические средства, использовавшиеся при этом1. И.Н. Лукьянова исследует вопросы использования электронного документа в контексте исследования письменных доказательств в арбитражном процессе2. М.В. Синякова отмечает, что документ в электронной форме может использоваться в суде как письменное доказательство3. В.В. Молчанов классифицирует все документы и материалы, являющиеся письменными по способу закрепления информации на материальных носителях, и выделяет три группы: рукописные, машинописные, электронные. По мнению В.В. Молчанова, электронный документ в содержательном плане не отличается от документов на иных носителях. Особенность состоит именно в форме, которая создается при помощи современных устройств4. Другие авторы считают, что электронный документ выступает в качестве вещественного доказательства. Данная позиция основывается на суждении о том, что электронный документ сам по себе недоступен человеческому восприятию и служит только средством определения обстоятельств, имеющих значение для дела5. И.Г. Медведев причисляет электронные доказательства к вещественным ввиду отсутствия у первых письменной формы6. 1 См.: Вершинин А.П. Электронный документ: правовая форма и доказательство в суде. М.: Городец, 2000. С. 106–108. 2 Лукьянова И.Н. Доказательства в арбитражном процессе: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 75–103. 3 Синякова М.В. Письменные доказательства в гражданском и арбитражном процессах: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 79. 4 Молчанов В.В. Собирание доказательств в гражданском процессе. М.: Изд-во МГУ, 1991. С. 259–260. 5 Балашов А.Н., Ефремова Н.Г. Развитие электронных технологий в гражданском судопроизводстве // Арбитражный и гражданский процесс. 2016. № 8. С. 10. 6 См.: Медведев И.Г. Письменные доказательства в частном праве России и Франции. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. С. 145. 225 Некоторые исследователи, определяя природу электронного доказательства, отмечают его двойственность, поскольку оно обладает признаками письменных и вещественных доказательств1. Так, если в результате доказывания необходимо получить сведения о производственных, количественных и качественных данных соответствующего цифрового устройства либо объекта информационной среды, то такое электронное доказательство является вещественным. Электронное доказательство приравнивается к письменному в том случае, если оно содержит человеческую мысль о существующей действительности2. Сторонники следующего подхода предлагают выделить электронные доказательства в отдельную категорию. В этом аспекте интересной представляется точка зрения А.Т. Боннера, который подвергает критике позицию ученых, причисляющих электронные документы к традиционным. Ученый считает, что электронный документ создается с помощью специальных технических средств и существует лишь в машиночитаемой форме. Любой электронный документ можно преобразовать в человекочитаемую форму, после чего он и становится традиционным. По его мнению, «суд, рассматривающий дело, никогда не будет иметь дело с электронным документом, но лишь с документом, переведенным в человекочитаемый вид. Для определения статуса этого документа, вероятно, можно было бы употреблять условный термин «человекочитаемый», или письменный эквивалент электронного документа»3. М.В. Горелов также писал об отличительных признаках электронных документов, среди которых можно выделить не только форму, но и особый процесс создания и закрепления информации на определенном носителе4. По мнению В.В. Котляровой, российское процессуальное законодательство должно быть адаптировано к новым информационным технологиям, в связи с чем «вопрос признания электронных доказательств самостоятельными средствами доказывания и 1 См.: Мальцева О.А., Рзаев Н.И. Допустимость использования электронных документов в качестве доказательства в гражданском процессе // Молодой ученый. 2015. № 22. С. 611–613. 2 Голубцов В.Г. Электронные доказательства в контексте электронного правосудия // Вестник гражданского процесса. 2019. № 1. С. 178–179. 3 Боннер А.Т. Традиционные и нетрадиционные средства доказывания в гражданском и арбитражном процессе: монография. М.: Проспект, 2015. С. 479, 497. 4 Горелов М.В. Электронные доказательства в гражданском судопроизводстве России: вопросы теории и практики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005. С. 9. 226 установления видов и критериев отнесения их к таковым уже давно требует нормативного разрешения»1. Переходя к определению электронного доказательства, стоит отметить, что единой позиции относительно понятия электронного доказательства в процессуальной науке также не сложилось. А.А. Дорошева, рассматривая дефиницию «электронные доказательства» применительно к уголовному процессу, отмечает, что данное определение раскрывается через призму его признаков, и подразумевает под электронными доказательствами электронные носители информации, сведения, содержащиеся на электронном носителе информации, а также электронные сообщения, если сведения, содержащиеся в них, имеют значение для установления обстоятельств, указанных в ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса РФ2. О.В. Журкина под электронными доказательствами понимает «сведения, выраженные в электронно-цифровом виде, содержащиеся на цифровых носителях, для представления которых необходимо программное обеспечение, хранящиеся в компьютерной сети и (или) передаваемые через нее»3. Автор обоснованно предлагает рассматривать электронные доказательства в двух аспектах: как цифровой носитель информации и непосредственно саму информацию. В первом случае электронным доказательством может быть отсканированная или оцифрованная копия документа, USB-флеш-накопитель, жесткие диски и др. Во втором случае электронным доказательством выступает сама информация, которая существует исключительно в цифровом виде и получена путем использования информационно-телекоммуникационных технологий4. Понятие электронного доказательства как информации намного шире и порождает ряд вопросов. Как определить источник электронных доказательств? Какие способы получения и фиксации использовались? Не нарушена ли целостность доказательств? И ряд других вопросов, которые были подняты во введении к настоящей главе. 1 Котлярова В.В. О проблемах правового регулирования электронных доказательств в цивилистическом процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 2019. № 6. С. 41. 2 Дорошева А.А. Электронные «доказательства» в уголовном судопроизводстве Российской Федерации // Право и практика. 2019. № 4. С. 207. 3 Журкина О.В. Электронные доказательства: понятие и признаки // Российская юстиция. 2020. СПС «КонсультантПлюс». 4 Там же. 227 Двусоставное понятие электронных доказательств раскрыто в докторской работе «Аутентификация подлинности электронных доказательств» Эллисон Стенфилд1. Автор отмечает, что электронные доказательства состоят из двух компонентов: запоминающего устройства и содержимого – метаданных2. Часто их определяют как «информацию об информации». Метаданные включают в себя специальные поля с описанием электронного документа, как то: сведения о его содержании; сведения о датах, когда документ был создан или изменен; сведения об управлении этим документом на протяжении времени (указание на пользователей, которые создали документ, внесли в него изменения или удалили), структуре записей, его объеме как в электронном, так и в печатном виде, наличии каких-либо вложений и того, был ли документ отправлен или получен каким-либо конкретным лицом, и т.п. Информация, содержащаяся в метаданных, не видна при распечатке соответствующего документа, не доступны его свойства, только лицевая сторона, сами «слои» электронных данных скрыты при визуальном прочтении документа3. Стоит отметить, что проблемами аутентификации электронных доказательств озадачены и страны Европы. Так, в период с 2014 по 2016 г. Советом Европы были проведены сравнительное исследование и анализ существующих национальных правовых норм, которые полностью или частично регулировали вопрос применения электронных доказательств в гражданском, арбитражном и административном судопроизводстве. В 2019 г. Комитетом министров Совета Европы были утверждены Руководящие принципы в отношении электронных доказательств в гражданском и административном судопроизводстве (далее – Руководящий принципы)4. В Руководящих принципах дается следующее определение электронных доказательств: «Электронное доказательство» означает любое доказательство, полученное на основе данных, содержащихся на каком-либо устройстве или созданных им, при этом функционирование 1 Stanfield, Allison R «The authentication of electronic evidence». PhD thesis, Queensland University of Technology. Australia. 2016. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/33506661.pdf (дата обращения: 01.02.2022). 2 Ibid. P. 72. 3 Per Tamberlin J in Jarra Creek Central Packing Shed Pty Ltd v Amcor Limited [2006] FCA [11]. 4 URL: https://rm.coe.int/prems-147419-rus-2019-cm-2018-169-lignes-directrices-digital-evidence/16809ef160 (дата обращения: 01.02.2022). 228 такого устройства зависит от программного обеспечения или данных, хранящихся или переданных посредством компьютерной системы или сети»1. Необходимо отметить, что цель Руководящих принципов состоит не в том, чтобы установить обязательные правовые стандарты, а в том, чтобы служить практическим ориентиром для государств – членов Совета Европы при возникновении вопросов, возникающих в связи с использованием электронных доказательств. Практические рекомендации, содержащиеся в Руководящих принципах, направленные на оптимизацию электронного доказывания, будут раскрыты в § 4 настоящей главы. В Регламенте Совета Европы об электронной идентификации и трастовых услугах для электронных транзакций на едином европейском рынке (eIDAS Regulation (Reg. (EU) № 910/2014) – eIDAS) под электронным документом понимается контент, который хранится в электронной форме, в частности текст или звук, визуальная или аудиовизуальная запись2. В директиве (ЕС) № 2019/1 Европейского парламента и Совета от 11 декабря 2018 г., посвященной вопросам конкуренции стран – членов ЕС и обеспечению надлежащего функционирования внутреннего рынка в контексте допустимых доказательств, сказано, что они могут включать: «документы, устные заявления, электронные сообщения, записи и все другие объекты, содержащие информацию, независимо от формы, которую они принимают, и носитель, на котором хранится информация»3. В проекте Конвенции об электронных доказательствах Стивина Мейсона под электронным доказательством понимается «свидетельство, полученное из данных, содержащихся в любом устройстве, функционирование которого зависит от программного обеспечения или данных, хранящихся в компьютерной системе или сети или передаваемых по ним»4. Представленные определения электронных доказательств позволяют сделать следующее обобщение. 1 URL: https://rm.coe.int/guidelines-on-electronic-evidence-and-explanatory-memorandum/1680968ab5 (дата обращения: 01.02.2022). 2 URL: https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/eidas_regulation.pdf (дата обращения: 01.02.2022). 3 URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0001&from=EN (дата обращения: 01.02.2022). 4 URL: https://www.researchgate.net/publication/309878298_Draft_Convention_on_Electronic_ Evidence (дата обращения: 01.02.2022). 229 Специфика электронного доказательства заключается в его форме. Помимо «внешней» стороны электронного доказательства, которая представлена в виде устройства, в роли которого может выступать диск, электронное хранилище и пр., существует «внутренняя», само содержимое – метаданные, которые и выступают в качестве источника доказательств. Сами метаданные могут быть недоступны в результате простой распечатки документа и имеют сложную внутреннюю структуру. Одна сторона метаданных может проявиться при помощи программного обеспечения, в котором создается сам документ, другая сторона – системная – является «реакцией» операционной системы или программы на какие-либо действия с файлом. Данная «реакция» может быть особо полезной в ситуации, когда речь идет о фальсификации доказательства. Рассмотрев определения электронного доказательства, раскрыв его специфику, возникают закономерные вопросы: адекватно ли существующие правила доказывания признают уникальный характер электронных доказательств и как оценить относимость, допустимость, достоверность электронных доказательств ввиду их особой информационной природы, применительно к нашей правовой действительности? Так, например, Арбитражный процессуальный кодекс РФ (далее – АПК РФ) предусматривает в ч. 3 ст. 75, что порядок представления электронных доказательств должен определяться АПК РФ, другими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами или договором. Однако до настоящего времени не приняты законодательные нормы, регулирующие порядок электронных доказательств. Отсутствуют и специальные нормы о форме представления электронных доказательств; согласно общим правилам представления письменных доказательств такие доказательства должны представляться в суд в подлиннике или в виде надлежащим образом заверенной копии документа (ч. 2 ст. 71 ГПК РФ, ч. 8 ст. 75 АПК РФ). Как можно предоставить оригинал документа, который выполнен в форме цифровой или графической записи? Достаточно ли представить электронный образ документа, чтобы он был признан судом допустимым, ведь перенос информации на бумажный носитель не может быть признан ни оригиналом, ни копией документа, поскольку копия нематериального объекта не может по своей природе быть материальной. 230 Ввиду отсутствия регламентированных правил суду приходится изобретать свой порядок допустимости электронных доказательств и восполнять существующие законодательные пробелы, формируя единообразную судебную практику. Классификация электронных доказательств В предыдущем параграфе отмечалось, что в национальном законодательстве дефиниция электронного доказательства отсутствует ввиду того, что данный институт является относительно новым и недостаточно регламентированным. Но несмотря на это, отечественная и зарубежная наука и практика имеют богатый опыт урегулирования соответствующей сферы, позволяющий сепарировать электронные доказательства на виды. В научной литературе существует множество подходов к классификации электронных доказательств в зависимости от применяемых критериев. Один из вариантов был разработан Марио Борелли, который использовал критерий происхождения и подразделял их на доказательства, созданные человеком и компьютерной программой1. К первой категории относятся данные, хранящиеся на носителях и содержащие информацию, которая была внесена человеком, например ими могут быть бухгалтерские отчеты, акт выполненных работ, отчеты о продажах, счет-фактура, операции по счетам и др. Вторая категория включала в себя те доказательства, которые стали результатом компьютерной обработки предоставленных данных: схема движения участников автотранспортного происшествия, расчет ущерба, причиненного пожаром, и др. Крис Рид, применяя в качестве критерия сущность (содержание), классифицировал доказательства на следующие виды: исходные данные, базы данных, коды для расшифровки электронной информации, программное обеспечение коммерческого характера, компьютерные системы и др.2 Заслуживает внимания классификация, данная Стивином Мейсоном, подразделяющая доказательства на три группы. «Вопервых, это данные, размещенные на общедоступных веб-сайтах 1 URL: https://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1763&context=ilj (дата обращения: 01.02.2022). 2 Chris Reed. The admissibility and authentication of computer evidence – a confusion of issues. Comput. Law Secur. Rev. 6(2): 13-16 (1990). 231 и в социальных сетях, в том числе изображения, сообщения и т.д. Во-вторых, это данные, доступ к которым ограничен: электронная переписка, электронные документы. В-третьих, предполагаемые идентификационные данные пользователя и данные о трафике, которые используются для идентификации человека путем определения источника сообщения, но не содержания»1. В зависимости от формы выражения М.С. Петелин классифицирует электронные доказательства на рукописные и изготовленные с помощью технических средств. Допустимость рукописных доказательств как электронных определяется либо их сканированием с использованием сенсорной панели, либо преобразованием в электронный документ способом, установленным законом2. Ю.В Шелегов и В.Г. Шелегов подразделяют электронные доказательства на оригинал и копию, применяя критерий оригинальности3. Для целей настоящего исследования значение имеет классификация, выработанная зарубежной и отечественной судебной практикой, позволяющая проследить, какие виды доказательств суд считает допустимыми, а в принятии каких отказывает. Данная классификация является наиболее значимой, поскольку поспособствует регламентации вопроса общей допустимости электронных доказательств в целом и обратит внимание законодателя на наиболее проблемные вопросы в правоприменении. Анализ судебной практики показал, что суды выделяют следующие виды доказательств: переписку по электронной почте, скриншоты со страниц интернет-ресурсов, социальные сети, доказательства, полученные путем применения мессенджеров WhatsApp, Viber и Telegram. 1 Mason S., Rasmussen U. The Use of Electronic Evidence in Civil and Administrative Law Proceedings and Its Effect on the Rules of Evidence and Modes of Proof: A Comparative Study and Analysis. Strasbourg, 27 July 2016. URL: https://rm.coe.int/1680700298 (дата обращения: 01.02.2022). Цит. по: Фомичева Р.В., Ткаченко Е.В., Щербакова Л.Г. К вопросу о правовой природе электронных доказательств в арбитражном процессе // Вестник СГЮА. 2021. № 3 (140). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-pravovoy-prirode-elektronnyh-dokazatelstv-varbitrazhnom-protsesse (дата обращения: 14.09.2021). 2 См.: Петелин М.С. Проблемы применения электронных доказательств в гражданском процессе // Интернаука. 2017. № 10-3 (14). С. 44–46; Гройсберг А.И. Электронные доказательства в системе правосудия по гражданским делам // Вестник гражданского процесса. 2019. № 2. СПС «КонсультантПлюс». 3 Шелегов Ю.В., Шелегов В.Г. К вопросу о классификации электронных (цифровых) доказательств // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2019. № 2 (10). URL: https:// cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-klassifikatsii-elektronnyh-tsifrovyh-dokazatelstv (дата обращения: 14.02.2021). 232 Электронная почта/переписка Электронная почта к настоящему времени стала стандартным средством переписки по умолчанию. Ранее обычной практикой была переписка на бумажном носителе, однако сегодня почти все обмены сообщениями между людьми и организациями осуществляются по электронной почте с вложениями. Стоит отметить, что значение имеет не только распечатка электронного письма, но и метаданные, поскольку они содержат дату отправки, информацию об адресате и получателе, сведения о серверах, с которых было отправлено и было получено электронное письмо, что «зачастую позволяет установить намерения или разумные ожидания сторон, а иногда могут стать свидетельством недобросовестных действий в отношении доказательств»1. Для подтверждения достоверности электронного письма необходимо использовать исходный, неизмененный файл сообщения электронной почты, включая его вложения, поскольку именно вложение способствует получению необходимой информации. Так, например, в электронном письме может быть указано, что отправитель находился в определенном месте в определенное время, и это будет засвидетельствовано в метаданных, показывающих IP-адрес компьютера, с которого было отправлено электронное письмо. Так, в деле «Грин против Associated Newspaper» бизнес-леди Марта Грин, основываясь на метаданных, полученных компьютерным экспертом, пыталась добиться временного судебного запрета на публикацию порочащей ее репутацию статьи. В своей статье редакция The Mail on Sunday, входящая в газетный концерн Associated Newspapers, хотела обнародовать информацию о связях Марты Грин с мошенником Питером Фостером, основанную на электронной переписке, которая, по мнению М. Грин, была фальсифицирована. Чтобы доказать это, Грин решила провести компьютерную экспертизу. «Я нанимаю судебного компьютерного эксперта для осмотра моих компьютеров в течение следующих нескольких дней, чтобы продемонстрировать, что предполагаемое электронное письмо не было отправлено мной Фостеру. В связи с этим, даже если Суд не намерен навсегда запретить [публикацию статьи] Ответчику до дальнейшего распоряжения, я с уважением прошу, чтобы он издал временный судебный запрет для предотвращения публикации 1 Гребельский А.В. Электронные доказательства в международном коммерческом арбитраже // Закон. 2015. № 10. С. 64–65. 233 обвинений… до тех пор, пока он [Ответчик] не представит Суду надлежащие доказательства подлинности предполагаемого электронного письма. Я также прошу ответчиков предоставить электронное письмо, которое якобы было отправлено Фостеру, чтобы его можно было передать судебно-медицинскому эксперту для помощи в его проверке моих компьютеров. Подтверждаю, что у меня есть компьютер в офисе и дома»1. Компьютерный эксперт отметил, что ему не были предоставлены электронные или бумажные копии писем мистеру Фостеру, а также не было доступа к подробной маршрутной информации, содержащейся в разделе заголовков электронных писем, которую можно просмотреть с помощью специального программного обеспечения. С учетом этих ограничений он изучил все записи электронной почты, относящиеся как к Microsoft Outlook, так и к Outlook Express, на двух компьютерах мисс Грин и не обнаружил никаких следов предполагаемых электронных писем. Изучение записей электронной почты AOL, хранящихся в сети AOL, а также записей PFC (Personal Filing Cabinet), сохраненных на настольном компьютере, также не выявило следов предполагаемых электронных писем. В то время, когда это было доступно, AOL сама не могла предоставить записи о транзакциях до ноября 2003 г., которые имели отношение к электронной почте мисс Грин. Эксперт также не смог найти ни на одном из компьютеров мисс Грин никаких следов адреса электронной почты, который, как сообщается, использовал мистер Фостер. В ответ на эту экспертизу редакция The Mail on Sunday предоставила свое заключение, в котором отмечалось, что эксперт осмотрел три электронных письма на ноутбуке, принадлежащем мистеру Фостеру в его доме в Австралии. У эксперта редакции The Mail on Sunday было то преимущество, что он мог «отследить весь маршрут» письма по «заголовкам IP-адресов», и это указывало на то, что все эти электронные письма исходили с сервера в районе Большого Лондона, где проживает мисс Грин. Эксперт также отметил, что электронные письма не подвергались трансформациям от места отправления до почтового ящика адресата. Стоит отметить, что суд, основываясь не столько на решении экспертов, поскольку они были противоречивы, а на прецеденте «Боннар против Перримана», когда у истца «больше шансов, чем 1 URL: https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2004/1462.html (дата обращения: 01.02.2022). 234 нет»1 преуспеть в суде, принял решение в пользу ответчика. Однако для целей настоящего исследования интерес представляет то, на чем основывались эксперты, приходя к выводам. Эксперты исследовали почтовый клиент Outlook, который ранее предоставлял сбор и хранение электронной почты, обладал наибольшей степенью защиты, нежели письма, находившиеся во внешней среде. Была проверена информация с интернет-портала, позволяющая отследить транзакции. Изучены IP-адреса, позволяющие через маршрутизатор2 определить весь «путь» письма от отправителя до получателя. Осмотрены персональные компьютеры (далее – ПК), в частности жесткие диски, на которых хранится информация, необходимая для судебного разбирательства. Стоит отметить, что, поскольку ПК могут хранить терабайты данных, это делает их потенциальным источником электронных доказательств. В суде может быть получено постановление о раскрытии содержимого жесткого диска ПК, которое передается судебномедицинскому эксперту для изучения. Резюмируя вышесказанное, стоит отметить, что, изучая электронную переписку как вид электронного доказательства, особое внимание уделяется метаданным, поскольку именно метаданные как неотъемлемая часть электронного документа содержат в себе наибольшую информацию, позволяющую признать электронную переписку допустимым видом доказательства. Рассмотрим следующие примеры правоприменительной практики, в которых суд считает такие доказательства допустимыми или отказывает в их приобщении к делу. В деле о взыскании аванса и расторжении договора Общество УК «Бонкрафт» (далее – заказчик) обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к учреждению ВО «ПНИПУ» (далее – исполнитель). В кассационной жалобе УК «Бонкрафт» просит суд отменить решения нижестоящих инстанций в связи с неправильным применением норм процессуального права, взыскать с ответчика неосвоенный аванс и расторгнуть договор на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических 1 См. подробнее: URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2498401 (дата обращения: 01.02.2022). 2 Маршрутизатор представляет собой специализированное устройство, которое дифференцирует данные между различными сегментами сети на основе правил и таблиц маршрутизации. 235 работ (далее – договор). Обстоятельства дела следующие. Между заказчиком и исполнителем был заключен договор и переведен аванс. По истечении оговоренного срока учреждение ВО «ПНИПУ» присылает документы и акт сдачи-приемки выполненных работ по первому этапу, а также дополнительное соглашение о продлении сроков работ по электронной почте. Заказчик при этом давал дальнейшие поручения, уточнял и задавал вопросы в части исполнения договора по электронной почте. Позднее заказчик счел работу выполненной ненадлежащим образом и просил исполнителя вернуть аванс, а получив отказ УК «Бонкрафт», обратился в суд. По мнению заявителя, сдача работы посредством электронной переписки не является надлежащим выполнением, а «вывод судов о том, что представленная учреждением электронная переписка подтверждает выполнение работ по первому этапу и передачу результатов этих работ истцу является необоснованным; указанная документация должна быть передана как в электронном, так и в письменном виде»1. Также, по мнению заявителя, суды не учли следующие обстоятельства: отсутствие электронной подписи, письма отправлены не на официальный электронный адрес истца; не заверены нотариусом на предмет достоверности переписки и вложения. Суд кассационной инстанции не нашел, что данные обстоятельства являются нарушением требований ст. 64 АПК РФ, и счел их относимыми и допустимыми. В другом деле2 заявители (ООО «Рокада», ООО «СУ5групп», ООО «СК «Вектор», ООО «Спецстроймонтаж-2000», АО «Мелиострой») просят признать недействительным решение антимонопольного органа и отменить постановление о привлечении к ответственности за создание картеля, направленного на поддержание цен на торгах, и оставить в силе решение суда первой инстанции. Заявители мотивируют свою просьбу тем, что оспариваемым решением антимонопольного органа ООО «СУ5групп» признано виновным в создании картеля в четырех аукционах, однако решением ФАС России указанное общество признано виновным в 1 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 23 октября 2017 г. № Ф09-6244/17 по делу N А50-29544/2016 // СПС «КонсультантПлюс». 2 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 22 октября 2018 г. № Ф09-6157/18 по делу N А60-46349/2017 // СПС «КонсультантПлюс». 236 создании еще одного картеля, что ухудшило положение данного лица. Также заявители отмечают, что суд апелляционной инстанции не исследовал все доказательства и фактические обстоятельства по настоящему делу. Для целей настоящего исследования интерес представляют электронные доказательства, которыми оперировал суд апелляционной инстанции. В качестве доказательств были приняты: CD-диски с архивными файлами «Сведения» и запросы в ООО «РТС-Тендер»; информация об использовании АО «Мелиострой» и ООО СК «Вектор» одного IP-адреса при подаче заявок; информация об использовании ООО «СУ5групп» и ООО «СК «Вектор» в первой части своих заявок абсолютно одинаковых по содержанию и форме Технических условий, содержащихся в идентично именнованных файлах «Конкретные показатели 0162200011816001291» в одинаковом формате «docx»; данные о том, что подача первых частей заявок ООО «Мелиострой», ООО «СУ5групп» и ООО «СК «Вектор» осуществлена относительно одновременно, а именно в течение 19 минут 14 сентября 2016 г.; IP-адреса 212.220.166.214 заявителей, которые подтверждают, что подача заявок производилась с одного устройства; распечатки сообщений электронной почты; информация с жестких дисков и иных носителей, сами носители информации. Суд отметил, что при доказывании незаконных действий копии документов и материалов могут быть заверены органом, который получил в ходе проведенной проверки названные документы и материалы с соблюдением требований к порядку и оформлению получения (изъятия) доказательств, что отвечает требованиям ч. 3 ст. 64 АПК РФ. «Отсутствие соглашения об обмене электронными документами между сторонами переписки, а равно отсутствие электронной цифровой подписи в отправляемых и получаемых документах (даже при наличии такого соглашения) не является таким нарушением требований закона, которое бы нивелировало доказательственное значение данных документов»1. Данные примеры демонстрируют, что отсутствие соглашения об обмене электронными документами между сторонами переписки, равно как и отсутствие электронной цифровой и нотариально заверенной копии не влекут за собой безусловную невозможность использования электронной переписки и иных материалов в качестве 1 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 22 октября 2018 г. № Ф096157/18 по делу №А60-46349/2017 // СПС «КонсультантПлюс». 237 доказательств, а также не нарушают требования ст. 64 АПК РФ. В целом данной позиции придерживаются и другие арбитражные суды округов1. Практика признания электронной переписки в качестве доказательств была не всегда2. Ясность внес Высший арбитражный суд Российской Федерации (далее – ВАС) постановлением Президиума ВАС РФ от 12 ноября 2013 г. № 18002/12 по делу № А477950/2011, в котором и пришел к выводу о правомерности использования электронных документов в качестве доказательств. Окончательную точку в этом вопросе поставил Пленум Верховного Суда Российской Федерации (далее – Пленум ВС РФ) в постановлении от 22 июня 2021 г. № 183, в п. 13 отмечено: «Направление обращения с использованием информационно-телекоммуникационной сети (например, по адресу электронной почты, в социальных сетях и мессенджерах) свидетельствует о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора исключительно в случае, если такой порядок установлен нормативным правовым актом, явно и недвусмысленно предусмотрен в договоре, либо данный способ переписки является обычной сложившейся деловой практикой между сторонами и ранее обмен корреспонденцией осуществлялся в том числе таким образом»4. Скриншоты со страниц интернет-ресурсов Снимок экрана электронно-вычислительной машины (телефона или компьютера), или скриншот, является одним из наиболее распространенных видов электронных доказательств. Скриншот представляет собой цифровую копию изображения на экране монитора или другого визуального устройства вывода, полученную с 1 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 2 ноября 2017 г. № Ф0711934/2017 по делу № А56-90051/2016; Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 26 ноября 2018 г. № Ф07-14364/2018 по делу № А66-1422/2018; Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 18 июня 2019 г. № Ф01-2612/2019 по делу № А7910146/2018 // СПС «КонсультантПлюс». 2 См., например: Определение ВАС РФ от 23 ноября 2010 г. № ВАС-15168/10 по делу № А068309/2009; Определение ВАС РФ от 16 февраля 2012 г. № ВАС-16392/11 по делу № А40-119911/200950-941; Определение ВАС РФ от 12 марта 2012 г. № ВАС-12073/11 по делу № А40-94169/10-134-729; Определение ВАС РФ от 10 апреля 2013 г. № ВАС-3322/13 по делу № А56-4621/2012 // СПС «КонсультантПлюс». 3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 № 18 «О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства» // Российская газета. 02.07.2021. № 144. 4 Там же. 238 использованием программного обеспечения. При этом в отношении скриншота необходимо уточнить, что интернет-ресурс и его цифровую копию, сохраненную на электронном цифровом устройстве, можно отнести к электронным доказательствам. Однако после того, как скриншот будет распечатан, он приобретает признаки письменного доказательства. Определение скриншота и порядок его использования не закреплены в законодательстве, несмотря на это его правовая квалификация не является затруднительной, так как существует большое число разъяснений госорганов и разнообразной судебной практики1. В последнее время скриншоты все чаще используются в качестве способа доказывания, однако нынешний подход к обеспечению таких доказательств отличается от первоначального. Ранее в правоприменительной практике главенствовал подход, согласно которому все снимки с экрана должны быть нотариально заверены, по мнению судей, нотариальный протокол обладает особой юридической силой2. Вместе с тем еще лет десять назад суды принимали в качестве электронных доказательств скриншоты без нотариального заверения. Так, в постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 30 августа 2011 г. № А70-23/2011 суд отклонил довод ответчика о невозможности принятия скриншотов в качестве надлежащих и достоверных доказательств. Приведем примеры рассмотрения скриншотов в качестве доказательств: – постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 19 марта 2021 г. № Ф01-717/2021 по делу № А82-1500/2020 («Указанные юридически значимые сообщения публиковались в газете «Рыбинские известия» и размещались на официальном сайте Общества, что следует из представленных в дело протоколов осмотров письменных доказательств и скриншотов с сайта акционерного общества»); – постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 20 ноября 2020 г. № Ф01-13763/2020 по делу № А82-15742/2019 1 См., например: Письмо Минфина России от 08 декабря 2017 г. № 24-01-07/82071 // СПС «КонсультантПлюс»; Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 06.05.2019. № 96; Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2017) // Бюллетень трудового и социального законодательства РФ. 2017. № 6 (Извлечение). 2 См., например: Определение Верховного Суда РФ от 15 января 2016 г. № 305-ЭС14-8939 по делу № А40-44365/2014 // СПС «КонсультантПлюс». 239 («…что следует из представленных в дело протоколов осмотров письменных доказательств и скриншотов с сайта акционерного общества»); – постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 5 апреля 2019 г. № Ф03-1129/2019 по делу № А04-7783/2016 («В подтверждение того, что РИСЗ АО имеет недостатки, Министерством в материалы дела представлены скриншоты журнала обработки инцидентов»); – постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 15 сентября 2020 г. № Ф01-12280/2020 по делу № А43-53375/2019 («Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, приняв во внимание представленные Отделом скриншоты информационного портала сети «Интернет» «Яндекс.Карты», суды пришли к выводу о наличии в действиях Предпринимателя состава административного правонарушения…»); – постановление Арбитражного суда Московского округа от 9 июля 2019 г. № Ф05-9228/2019 по делу № А40-178886/2018 («Так, судами установлено, что спорный отчет 453-3-18-08-18 был представлен в управление повторно с исправлениями. Из представленного скриншота усматривается, что он касается именно отчета 453-3-18-08-18 с исправлениями 19 марта 2018 г. Поскольку отчет с исправлениями представлялся однократно, что не оспаривалось заявителем, оснований для признания данного скриншота неотносимым доказательством у судов не имелось»). Важно обратить внимание на то, что скриншоты принимаются в качестве доказательства при условии соблюдения нескольких факторов: – скриншот должен быть заверен лицом (лицами), участвующим в деле; – на распечатке должен быть указан адрес интернет-страницы, с которого сделан скриншот; – на распечатке должно быть указано точное время получения скриншота. В письме ФНС России об использовании скриншотов в качестве доказательств1 помимо вышеперечисленных критериев выделяют информацию о лице, которое произвело выведение скриншота на экран и дальнейшую распечатку, программном обеспечении и использованной компьютерной технике. 1 Письмо ФНС России от 31 марта 2016 г. № СА-4-7/5589 // СПС «КонсультантПлюс». 240 В сети Интернет также можно встретить всевозможные сайты с броскими названиями, которые дают пошаговые инструкции оформления скриншота и дают надежду на разрешение дела в вашу пользу. Так, например, статья под названием «Электронное правосудие. Как оформить скриншот и выиграть дело»1, размещенная в октябре 2019 г., подробно описывает действия, которые необходимо сделать, чтобы оформить скриншот в качестве доказательства. Сразу стоит подчеркнуть, что статья основана на правоприменительной практике, что придает ей убедительность. Наряду с вышеперечисленными критериями в статье говорится об обязательном нотариальном удостоверении, а также указаны действия, которые необходимо учесть при сбое программы и при предоставлении скриншота на иностранном языке. В статье приводится пример из практики Девятого арбитражного апелляционного суда по делу о признании недействительным решения налоговой инспекции. Суд запросил предоставление всех обозначений на закладках иностранной системы учета заказов, используемых всеми компаниями, входящими в группу компаний корпорации Reader’s Digest (TOPS), на русском языке, которые сыграли решающее значение при оценке пояснений заявителя2. Прежде чем перейти к зарубежной правоприменительной практике, необходимо обратить внимание на иностранные интернетпорталы, которые также поднимают проблему аутентификации скриншота. За рубежом подделка электронных доказательств, в частности скриншота, является актуальной проблемой. Юридические компании активно предлагают свои услуги аутентификации снимков с экрана3, интернет-сообщества обсуждают проблемы доступа к учетной записи для получения «живой» версии скриншота4, многофункциональные интернет-сайты, предлагающие криминалистические услуги, предупреждают о ненадежности скриншотов5, 1 URL: https://ecm-journal.ru/docs/Ehlektronnoe-pravosudie-Kak-oformit-skrinshot-i-vyigratdelo.aspx (дата обращения: 01.02.2022). 2 См.: Решение Девятого арбитражного апелляционного суда от 5 декабря 2018 г. № А40143 831/10-107-845. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения: 01.02.2022). 3 См., например: URL: https://www.olliers.com/news/can-screenshots-be-relied-on-as-evidence/ #:~:text=Screenshots%20of%20digital%20messages%20are,of%20supporting%20the%20 prosecution%20case (дата обращения: 01.02.2022). 4 См., например: URL: https://www.reddit.com/r/legaladviceofftopic/comments/7lqrnq/can_ computer_screenshots_really_be_as_evidence_in/ (дата обращения: 01.02.2022). 5 См., например: URL: https://prodigital4n6.com/screen-shots-are-not-evidence/ (дата обращения: 01.02.2022). 241 в социальных сервисах обмена знаниями вопрос о допустимости скриншота попадает в рубрику часто задаваемых1, сайты по медиации2 дают рекомендации по сбору и хранению текстовых электронных доказательств. Например, в статье под названием «Руководство: как собрать доказательства в виде текста, сообщений, телефона и электронной почты» автор Керри Гур повествует об общих требованиях, применяемых к электронным доказательствам, а также о нецелесообразности применения скриншота в качестве доказательства ввиду его неудобства. Автор пишет, что если вы являетесь получателем 20–30 объемных сообщений в день, то делать 100 снимков с экрана в день, если речь идет о длинной переписке, обременительно. Ввиду чего Керри Гур предлагает воспользоваться программой, которая сохраняет или «извлекает» текстовые сообщения с вашего телефона и загружает их на ваш компьютер в формате PDF со всеми необходимыми исходными данными. Данная программа, например PwrSwitch, делает две вещи: 1) автоматизирует сбор и консолидирует текстовые журналы, журналы электронной почты и телефонных разговоров между вами и другим человеком с момента регистрации, сохраняя все это последовательно в документе с пометкой времени и даты, и с возможностью поиска по словам в облачном сервисе; 2) в случае случайного или намеренного удаления сообщения все равно хранит информацию в облачном сервисе. По мнению автора, программа может работать «по умолчанию» и собирать необходимые данные, поскольку последовательная переписка может стать решающим доказательством в суде. Данная статья показывает, что на практике суды оценивают не только распечатки скриншотов, но и содержащиеся в них метаданные, поскольку их фальсификация является затруднительной, это лишний раз подтверждает их значимость. В деле «Shape Shopfitters Pty Ltd против Shape Australia Pty Ltd»3 судья отказал в принятии распечатанных скриншотов, отмечая их предвзятость и недоказанность. 1 См., например: URL: https://www.quora.com/Can-we-submit-screenshots-as-evidence-tothe-court (дата обращения: 01.02.2022). 2 См., например: URL: https://www.mediate.com/articles/gour-a-guide-collect-evidence.cfm (дата обращения: 01.02.2022). 3 URL: https://jade.io/article/529412 (дата обращения: 01.02.2022). 242 Shape Shopfitters Pty Ltd и Shape Australia Pty Ltd являлись коммерческими строительными компаниями. Shape Shopfitters Pty Ltd осуществляла свою деятельность под этим названием с июля 2012 г., а Shape Australia Pty Ltd сменила название с ISIS Group Australia в октябре 2015 г. После этого компания Shape Shopfitters возбудила иск за введение в заблуждение и обманное поведение в отношении ряда зарегистрированных товарных знаков, включающих название «SHAPE» в качестве важной характеристики. В свою защиту Shape Australia представила ряд доказательств, среди которых: – распечатки результатов поиска в ASIC1 и Австралийском реестре предприятий, который регистрирует другие организации со словом «SHAPE» в своем названии, такие как «Shape Project Management Pty Ltd», «Shape Builders Pty Ltd», «Shape Joinery & Design Pty Ltd», «Shape Fitouts Pty Ltd», «Shape Finance (Aust) Pty Ltd»; – снимки с экрана заархивированных интернет-материалов, показывающих предыдущие версии страниц, в том числе ряд вебстраниц, доступ к которым осуществлялся через Wayback Machine2. Shape Shopfitters утверждала, что доказательства не имеют доказательной силы, использование слова «SHAPE» демонстрирует лишь случайное использование этого слова в определенный день на определенных веб-сайтах. Установив, что доказательства в виде снимков с экрана заархивированных интернет-материалов являются неприемлемыми, суд отметил, что они имеют ограниченную доказательную силу. Суд также продемонстрировал подобное пренебрежение к материалам, полученным от Wayback Machine. Вышеизложенное позволяет прийти к следующим выводам. Скриншот является наиболее распространенной формой электронного доказательства, принимаемого судами. Простейший способ подделки скриншота делает его «ненадежным», ввиду чего необходима его аутентификация. В скриншоте должна содержаться следующая информация: указание на адрес страницы сайта в сети Интернет, с которой был сделан скриншот, точное время фиксации страницы, заверение. Также скриншот должен обладать идентифицирующими свойствами, иметь отношение к делу, а также 1 ASIC (аббревиатура от англ. application-specific integrated circuit, интегральная схема специального назначения) – интегральная схема, специализированная для решения конкретной задачи. 2 Wayback Machine представляет собой цифровой архив. 243 подтверждать доводы лица, представляющего данное доказательство в суд. Отношение к нотариальному заверению неоднозначное, ранее заверение нотариуса было необходимым, однако, как показывают новейшая практика арбитражных судов и публикации в сети Интернет, в настоящее время оно является рекомендательным. Социальные сети Информация на сайтах социальных сетей в последнее время стала важным каналом получения доказательств. Словосочетание «социальные сети» охватывает множество платформ и включает те сайты, где пользователи могут создавать свои собственные вебстраницы и общаться с другими посредством онлайн-чата, служб мгновенного обмена сообщениями, ведения блогов и даже посредством голоса или видео. Примеры сайтов социальных сетей включают FaceBook1, MySpace2, LinkedIn3, Reddit4, ВКонтакте5, Одноклассники6, Twitter7, Instagram8, TikTok9 – отдельная категория социальных сетей, именуемая блоггингом10, где пользователи загружают короткие сообщения, фото, видео со своих компьютеров или смартфонов. В настоящее время социальные сети используются в коммерции, в результате чего грань между работой и общественной деятельностью стирается. Журнал о компьютерных технологиях PCWorld сообщает, что британское исследование Clearswift показало, что использование социальных сетей в рабочее время способствует утечке данных и наносит ущерб организации. «Нетрудно представить себе, как сотрудник размещает в блоге несанкционированные комментарии о проблемах с качеством продукции или услуг своей организации, что наносит серьезный ущерб бренду»11, – заявил URL: https://ru-ru.facebook.com (дата обращения: 01.02.2022). URL: https://myspace.com (дата обращения: 01.02.2022). 3 URL: https://ru.linkedin.com (дата обращения: 01.02.2022). 4 URL: https://www.reddit.com (дата обращения: 01.02.2022). 5 URL: https://vk.com (дата обращения: 01.02.2022). 6 URL: https://ok.ru (дата обращения: 01.02.2022). 7 URL: https://twitter.com (дата обращения: 01.02.2022). 8 URL: https://www.instagram.com (дата обращения: 01.02.2022). 9 URL: https://www.tiktok.com (дата обращения: 01.02.2022). 10 Блог – веб-сайт, основное содержимое которого – регулярно добавляемые человеком записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа. 11 URL: https://www.pcworld.com/article/130114/article.html (дата обращения: 01.02.2022). 1 2 244 генеральный директор Clearswift Ян Боулз. Так, в деле Alberta Union of Provincial Employees v. Alberta1 Совет по примирению и арбитражу в Канаде (Conciliation and Arbitration Board (CAB)) принял во внимание пренебрежительный характер отрицательных отзывов уволенной сотрудницы о своих коллегах в созданных ею блогах. В то же время, как показал опрос более 1000 офисных работников, 42% сотрудников в возрасте от 18 до 29 лет обсуждали вопросы, связанные с работой, в социальных сетях и блогах, 59% из той же возрастной группы считали, что они должны иметь право на доступ к социальным сетям для личного использования в рабочее время и с корпоративного компьютера. Таким образом, социальные сети создают источник информации, который может стать и стал доказательством в суде. В Арбитражном суде Москвы истцы с помощью фото из «Инстаграма» доказали, что двое ответчиков (мужчина и женщина) не просто были знакомы, а фактически были мужем и женой. Данный факт был принципиально важен для дела о банкротстве2. В другом деле информация из социальных сетей подтвердила аффилированность лиц в сделке, нахождение лица в другом месте благодаря геометке на фотографии и другие важные для дела факты. Так, например, указание родственников «ВКонтакте» помогло признать недействительными сделки по продаже недвижимости должника в деле о банкротстве3. Вместе с тем одной из основных сложностей является юридическое подтверждение принадлежности аккаунта в социальной сети конкретному лицу в реальной жизни, поскольку если сторона предо­ставит суду скриншот с публикацией спорной записи на странице в социальных сетях, то эти доказательства могут быть признаны судом недопустимыми без подтверждения их подлинности. Данный подход является разумным и обоснованным, так как распечатки с легкостью можно подделать, например можно изменить дату публикации или заменить часть опубликованной записи, что для некоторых дел имеет существенное значение. 1 Alberta Union of Provincial Employees v. Alberta, 2009 ABQB 208, 176 A.C.W.S. (3d) 525 (“Alberta”). URL: https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2004/2004scc28/2004scc28.html (дата обращения: 01.02.2022). 2 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 11 сентября 2019 г. № Ф0514238/2019 по делу № А40-174485/2017 // СПС «КонсультантПлюс». 3 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 16 октября 2019 г. № Ф0511170/2018 по делу № А40-139272/2017 // СПС «КонсультантПлюс». 245 В деле о признании незаконным использования аудиовизуального произведения истец в обоснование исковых требований ссылается на социальные сети «Инстаграм» и «ВКонтакте», в которых ответчик неправомерно использовала указанное аудиовизуальное произведение путем продажи видеозаписей и видеоуроков, входящих в состав онлайн-курса, с использованием личных аккаунтов. Однако истец утверждает, что «ее аккаунт был взломан, от ее лица продавали онлайн-курсы, не пользовалась своим аккаунтом в социальных сетях и не знала о том, что от ее имени производилась продажа онлайн-курсов. Номер карты был привязан к личному телефону и использован злоумышленниками с целью скрыть свои действия. Доказать использование аккаунта возможно только через IP-адреса серверов»1. Таким образом, используя социальные сети в качестве доказательств, необходимо собрать как можно больше метаданных, в связи с чем требуется помощь специалистов в сфере IT. Однако, как пишет Ханна Сондерс в своей статье, посвященной фиксации информации из социальных сетей и ее дальнейшему использованию, есть ряд других доступных инструментов. В своей статье автор дает практические советы по использованию таких онлайн-программ, как WinHTTrack. Данное приложение позволяет создавать архивы веб-страниц в любой момент времени2. Другое приложение – в Wayback Machine, о котором речь велась ранее, позволяет пользователю выполнить поиск в более чем 150 млрд сохраненных страниц интернет-архива. Этот ресурс также позволяет искать определенный адрес веб-страницы и выбирать диапазон дат для поиска заархивированных версий веб-страницы. Wayback Machine не дает возможности просматривать скрытые страницы социальных сетей, но тем не менее программа позволит идентифицировать личность данного пользователя и комментируемые им страницы других социальных сетей. С помощью Wayback Machine возможно увидеть, как выглядела веб-страница в определенный день, что может быть полезно для поиска удаленных сообщений или комментариев3. В свою очередь, использование социальной сети в онлайн-режиме в качестве «живых» доказательств сопряжено с риском. 1 Апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан от 24 июля 2019 г. № 33-13975/2019 // СПС «КонсультантПлюс». 2 Hannah Claire Saunders (2015) “Social Media as Evidence in Family Court: Understanding How to Find and Preserve Information”, 40 Can. L. Libr. Rev. 11, p. 14. 3 Там же. 246 Дело «R. v. Elliott» касалось обвинений в преследовании через Twitter, поэтому представленные доказательства полностью состояли из электронных записей социальных сетей1. Дело представляет собой наглядный пример практических проблем, которые могут возникнуть при использовании доказательств из социальных сетей вживую в суде. Представляя доказательства в зале судебного заседания, сторона обвинения выполнила ряд следующих действий: – попыталась расшифровать твиты через программное обеспечение для прослушивания социальных сетей, но это привело к неполной записи твитов, неправильной расшифровке знаков препинания и отсутствию ссылок и вложений; – создала электронные файлы, в которых твит отображался в том виде, в каком он появился в Twitter. Это потребовало от суда подключения к Интернету и сайту Twitter. Однако ввиду того, что заявительница, дававшая показания, заблокировала свой аккаунт и сделала его закрытым до того, как дала показания, адвокаты не смогли открыть твит. В итоге электронные доказательства пришлось распечатать, чтобы придать доказательствам стабильность для предоставления в суд. Другой проблемой предоставления информации из социальных сетей в качестве доказательства является их убедительность. В деле «Barrick Gold Corp. v. Lopehandia»2 о клевете судья Апелляционного суда Онтарио Дж.А. Блэр отменил решение суда первой инстанции, в котором судья утверждал, что сообщения из социальных сетей не воспринимаются серьезно широкой публикой в связи с использованием подзащитным шрифта с применением всех прописных букв (caps lock), слишком длинных предложений и отличительных языковых приемов. Судья отметил, что несмотря на то, что стиль и манера изложения сообщений в социальных сетях отличаются, например, от традиционного изложения информации в СМИ, нет основания считать, что люди воспринимали сообщения г-на Лопехандии несерьезно, что подтверждают свидетельские показания. Обзор правоприменительной практики показал, что в настоящее время как в России, так и за рубежом данные из социальных сетей активно используются в качестве доказательств, часто даже не требуя процедуры нотариального осмотра сайта и нотариального протокола. R. v. Elliott 2016 ONCJ 35 (Ont. Ct. J.). Barrick Gold Corp. v. Lopehandia, 2004 CanLII 12938 (ON CA). URL: https://www.canlii.org/en/ on/onca/doc/2004/2004canlii12938/2004canlii12938.html (дата обращения: 01.02.2022). 1 2 247 Одно из самых распространенных обстоятельств, которое сегодня доказывается сведениями из соцсетей, – это родственная связь. Она устанавливается через список друзей в социальных сетях. Помимо родства так доказывается и факт знакомства участников процесса или их дружба «в жизни». Это часто используют управляющие в делах о банкротстве, для того чтобы установить те или иные обстоятельства жизни должников, имеющие значение для расследования процесса. Через социальные сети также можно определить местонахождение лица в определенный период, наличие имущества, противоправную деятельность и другие факты. Ввиду спе­цифики социальных сетей необходимо обеспечить сохранность доказательств, что подразумевает создание скриншота учетной записи пользователя или использования специальных приложений, создающих архивы веб-страниц в любой момент времени. Можно предположить, что в ближайшее время область применения соцсетей в судах будет расширяться и стороны начнут все активнее использовать их на стадии подготовки к делам. Доказательства, полученные путем применения мессенджеров WhatsApp, Viber и Telegram Система мгновенного обмена сообщениями – это программа для обмена сообщениями в реальном времени через Интернет. Многие из таких программ могут применяться для мгновенной передачи сообщений, для организации групповых текстовых чатов или видео­ конференций. Для такой коммуникации необходима клиентская программа, так называемый мессенджер (англ. messenger – курьер). Отличие от электронной почты здесь в том, что обмен сообщениями идет в реальном времени (англ. instant – мгновенно). Наиболее популярными мессенджерами в России являются Telegram, Viber, WhatsApp, за рубежом также активно используются WhatsApp и Facebook Messenger, фаворитом среди китайского населения является WeChat. К 2018 г. количество активных пользователей WeChat превысило 1 млрд, к 2019 г. их насчитывалось уже 1,151 млрд1. 1 Данный мессенджер является не только мессенджером, но и и содержит в себе внутреннюю платежную систему WeChat Pay. В 2018 г. функциональность WeChat значительно расширили, особенно для идентифицированных пользователей. Сейчас WeChat можно использовать для подтверждения личности при пересечении границы между материковым Китаем и Макао / Гонконгом (паспорт при этом предъявлять не нужно). URL: https://www.cnews.ru/news/top/202009-18_ssha_vvodit_totalnuyu_blokirovku (дата обращения: 01.02.2022). 248 Стоит отметить, что в настоящее время общение через мессенджеры стало неотъемлемой частью жизни человечества, разумеется, что информация, передаваемая в сообщениях через такие средства коммуникации, зачастую содержит важные сведения, которые могут служить доказательствами тех или иных юридических фактов. Поэтому суд не может оставаться в стороне от прогресса и не использовать такую переписку (в том числе аудио- или видеосообщения) в качестве доказательств. Тем более что действующее законодательство позволяет это делать в различных стадиях судопроизводства. Однако единая позиция при принятии решения о признании переписки в мессенджерах в качестве доказательств не выработана, суды придают значение дополнительным обстоятельствам. В большинстве случаев данные переписки принимают в качестве доказательств, если они не оспаривались второй стороной либо возможность ведения данной переписки была предусмотрена договором. В остальных случаях суд не рассматривал данные переписки в качестве допустимого доказательства. В определении Московского городского суда1 была исследована переписка сторон в мессенджере WhatsApp, которая не оспаривалась стороной ответчика. В данной переписке стороны согласовывали параметры туристической поездки, в которой истица подтвердила намерение приобрести тур и внести оставшуюся часть оплаты и была уведомлена, что в случае отказа за 21 и менее дней до начала путешествия необходимо оплатить штраф. Однако истица туром не воспользовалась, письменного заявления с отказом от туристического продукта турагенту не направила. В Апелляционном определении Свердловского областного суда был сделан вывод о том, что из фотографий и переписки в мессенджере WhatsApp следует и ответчиками не опровергнуто, что между истцами сложились достаточно близкие отношения, они периодически совместно отдыхали, поддерживали общение. Схожая позиция выражена также в постановлении Первого арбитражного апелляционного суда2, в котором истец оспаривает решение нижестоящего суда, считая, что переписка в мессенджере не может являться доказательством по делу, однако не оспаривался сам факт 1 Определение Московского городского суда от 6 сентября 2019 г. № 4г-11187/2019 // СПС «КонсультантПлюс». 2 Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 17 октября 2019 г. № 01АП-7688/2019 по делу № А79-11283/2018 // СПС «КонсультантПлюс». 249 переписки и ее содержание, кроме того, переписка была нотариально заверена. Арбитражный суд Дальневосточного округа в своем постановлении1 отменил решение суда нижестоящей инстанции, который отказался принимать в качестве доказательств переписку в WhatsApp, на которой настаивал истец, и направил дело на новое рассмотрение, оценив доказательства как допустимые. В зарубежной практике переписка в мессенджерах также является доказательством в суде. Так, в соответствии с Гражданским процессуальным законом Китая2 электронные данные признаны типом доказательств в гражданском судопроизводстве с 2012 г.3 Стоит отметить, что электронная информация, такая как сообщения WeChat и онлайн-записи транзакций, широко используется не только судами КНР в качестве доказательств в судебной практике4, но и государственными судами системы общего права5. Электронные доказательства должны отвечать следующим критериям: – доступность переписки в полном объеме; – возможность идентификации личности собеседника; – точность и ясность содержания переписки; – нотариальное заверение. 1 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 29 января 2020 г. № Ф03-6623/2019 по делу № А73-3194/2019 // СПС «КонсультантПлюс». 2 URL: https://www.refworld.org/pdfid/3ddbca094.pdf (дата обращения: 01.02.2022). 3 Ранее ст. 63 главы VI «Доказательства» включала в себя следующие категории: письменные доказательства, вещественные доказательства, аудиозаписи, показания свидетелей, заявления сторон, экспертные заключения, протоколы осмотра. 4 См., например: Ли Синсин. Об использовании записей WeChat в области гражданских доказательств // Журнал профессионального технологического колледжа Луохэ. 2020. № 1. URL: https://lawnew.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=10&CurRec=6&recid=&filename=LHZJ 202001018&dbname=CLKJLAST&dbcode=CLKJ&pr=&urlid=&yx=&v=MTA1NzBITXJvOUViSVI4ZVgx THV4WVM3RGgxVDNxVHJXTTFGckNVUjd1Zll1ZHJGQ3ZnVUwvT0tTWFJaTEc0SE4= (дата обращения: 01.02.2022); Лю Ясин. О применении доказательств WeChat в гражданском процессе. URL: https://lawnew.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=XKJJ202105080&dbcode=CLKJ&dbname =CLKJTEMP (дата обращения: 01.02.2022). 5 См., например: Lee & Ors v Sheen & Ors [2019] QDC 69. District Court of Queensland. May 8. 2019. URL: https://archive.sclqld.org.au/qjudgment/2019/QDC19-069.pdf (дата обращения: 01.02.2022); Plus One International Pty Ltd v Chong (No 3) Supreme Court of New South Wales November 13, 2020. NSWSC 1598. URL: https://www.westlaw.com/Document/I7474a1 30278b11ebab3bbfddf43c2c6d/View/FullText.html?transitionType=Default&contextData=(sc. Default)&VR=3.0&RS=cblt1.0 (дата обращения: 01.02.2022); Zhong v. Wu. Ontario Superior Court of JusticeDecember 9, 20192019 ONSC 7088, 2019 CarswellOnt 21113. URL: https://www.westlaw. com/Document/I9b0935546ee06db3e0540010e03eefe2/View/FullText.html?transitionType=Defau lt&contextData=(sc.Default)&VR=3.0&RS=cblt1.0 (дата обращения: 01.02.2022); Ontario Superior Court of JusticeSeptember 10, 20202020 ONSC 5407, 2020 CarswellOnt 12811. URL: https://www. westlaw.com/Document/Iaf3a3d3f3a8d2405e0540010e03eefe0/View/FullText.html?transitionType= Default&contextData=(sc.Default)&VR=3.0&RS=cblt1.0 (дата обращения: 01.02.2022). 250 В 2018 г. последний пункт стал необязательным, поскольку суд Наньша провинции Гуандун Китайской Народной Республики издал процедуры подтверждения и сертификации электронных данных в Интернете. Эти процедуры позволяют передавать записи из социальных сетей в суд Наньша без нотариального заверения. По мнению экспертов по правовым вопросам, бесчисленное количество людей ежедневно общаются с помощью WeChat и QQ, в связи с чем данные платформы обмена сообщениями могут являться доказательствами в суде и способствовать вынесению решения. Данные процедуры соответствуют Гражданскому процессуальному закону Китайской Народной Республики (КНР), Закону КНР об электронных подписях, толкованию Верховным народным судом Закона КНР о гражданском процессе и нескольким положениям Верховного народного суда о доказательствах в ходе гражданского судопроизводства1. Однако, несмотря на активное использование электронных доказательств, в правоприменительной практике Китая главенствовал хаос, существовали многочисленные пробелы, необходима была модернизация правил доказывания применительно к цифровым доказательствам2. Некоторые законодательные пробелы, выявленные китайскими учеными, препятствовали допустимости электронных доказательств, в частности, существовали противоречия в положениях о юридической силе электронных записей, недостатки в законах о доказательствах, касающихся правил, регулирующих допуск электронных записей, пробелы в применении правила наилучшего доказательства к электронным записям и лакуны в правилах, регулирующих проверку подлинности электронных записей3. 25 декабря 2019 г. Верховный суд Китайской Народной Республики (SPC) официально обнародовал измененную версию нескольких положений SPC о доказательствах для гражданского судопроизводства (далее – Новые правила доказывания), 1 URL: https://www.scmp.com/tech/china-tech/article/2156181/chinese-court-moves-streamlineadmission-wechat-and-qq-chats-civil (дата обращения: 01.02.2022). 2 Pan, Weimei «Managing records as evidence and information in China in the context of cloudbased services». P. 68. 2009. Vancouver. 3 См., например: Xiao, Q., & Duan, B. (2018). [A research on the legislation of evidence status and effect of electronic records in China], Documentation, Information & Knowledge, (1), 58-65. Doi:10.13366/j.dik.2018.01.058; Zhang, X. (2007). [A Study on the Legal Evidence Status of Electronic Documents]. Anhui University. Retrieved from CNKI. 251 которые вступили в силу 1 мая 2020 г. Как сказано в статье1, посвященной нововведениям в сфере гражданского судопроизводства, Новые правила доказывания восполняют пробелы, которые были описаны выше, а также содержат в себе четкое руководство относительно объема и формы электронных доказательств и того, как они должны быть представлены в гражданском судопроизводстве. Таким образом, необходимо подчеркнуть, что в Китае к электронным доказательствам, в частности к переписке в мессенджере, применяются свои правила относимости и допустимости, что, как отмечают китайские ученые-правоведы, устраняет недостатки в законодательных нормах, посвященных электронным записям, и восполняет пробелы в правоприменительной практике. Требования к относимости и допустимости электронных доказательств установлены не только в Китае. В индийском законодательстве также определены положения об оценке цифровых доказательств, в частности к перепискам в мессенджерах. Так, в Индии еще до принятия поправок в Закон о доказательствах 1872 г.2 признавали доказательственную силу электронных записей, и одним из часто встречающихся доказательств являлась переписка в мессенджере. Верховный суд Индии 6 января 2020 г. в деле «Ambalal Sarabhai Enterprise Ltd. против KS Infraspace LLP Ltd»3 постановил, что сообщения WhatsApp являются доказательствами в суде наряду с другими доказательствами, однако в ходе перекрестного допроса необходимо установить значение и содержание сообщений, чтобы определить их допустимость. Дело «Ambalal Sarabhai Enterprise Ltd. против KS Infraspace LLP Ltd» касалось продажи земельного участка. Истец утверждал, что существует заключенный устный договор с ответчиком, оставалось лишь формальное оформление документов. Ответчики 1 URL: https://globallitigationnews.bakermckenzie.com/2020/04/17/prc-supreme-peoples-courtreleases-revised-rules-of-evidence-for-civil-proceedings/#_ftnre (дата обращения: 01.02.2022). 2 URL: https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1872-01.pdf (дата обращения: 01.02.2022). 3 URL: https://indiankanoon.org/doc/51304221/?__cf_chl_jschl_tk__=72343f859c2108696de99f35 4d385ea3ea1969c3-1620294148-0-AWX5xyV9PRzR7kDzzF2kpLxPiqEwvcjegYOBGze3Bw7vDX2FarWZu 6cz3vkekZHuCMCMoZKYfUG4LRQ7475vZ2EQnQJYK5XVl6HGQgWedkbIv_1vkj4h9pruk_k4Jcr9PwRnYN8 55j2w5Mjey8yDE93X1NY3K6cWGdO_037W6PdwMXptwdJJkG_QG2zIFB4WmiM2GqHou5b5ho0lR57z_q7 C3SpoZwTTe5c4Kp9bN4wSFJt7okG9JKTLfW8cJ1g2ZNptXzMmvOflD5lZkcTWFKWUrVbOUjQPJa0iqpi9F Un-wD-0eKbvG1zJqcRj8yjWaSXtnItBn9nbYAMQ5RNxGbbfZ-ABHIM7zIVt-vqRJQSU3_WCRBTHcf2noo8K Xexs9v4NDp1citH9UO1SWT5Mzk8lqy1io_1crukf2RvqlgiiHx3Od18tu3kkyBfOLUWscGYET1lL0-EVaEERVot FMCI4PNv76sb4UPpmstLH4ENn (дата обращения: 01.02.2022). 252 же тайно заключил договор купли-продажи с другим покупателем, зарегистрировав его. Истец просит признать сделку недействительной и установить судебный запрет на продажу земельного участка. Из материалов дела следует, что с декабря 2017 г. по 31 марта 2018 г. стороны вели переговоры через WhatsApp и посредством обмена электронными письмами. Судья Навин Синха, выносивший решение по делу, отметил, что с учетом фактов и обстоятельств настоящего дела и характера материалов, представленных на данном этапе рассмотрения, независимо от того, зарегистрирован договор купли-продажи или нет, он является предметом судебного разбирательства. Данный пример демонстрирует, как переписка в WhatsApp стала ключевым доказательством по делу, несмотря на отсутствие письменной формы договора. Стоит отметить, что ранее в индийской правоприменительной практике переписка в мессенджере не была весомым доказательством, поскольку не отвечала требованиям допустимости доказательств индийского Закона о доказательствах 1872 г.1 и Закона об информационных технологиях 2000 г.2 Однако в настоящее время законы расширяют сферу действия, и переписка в мессенджерах может быть признана в суде как доказательство либо в первичной, либо во вторичной форме в зависимости от обстоятельств3. В закон об информационных технологиях были включены специальные разделы 65А и 65В. В разделе 65А сказано, что «содержание электронных записей может быть доказано в соответствии с положениями раздела 65B», то есть предлагаются некоторые условия для допуска доказательств. Вкратце требования, приведенные в разделе 65B, можно свести к следующим пунктам: 1) компьютер/устройство, с которого была получена соответствующая информация, должны регулярно использоваться в течение этого периода времени лицом, имеющим законный контроль над этим компьютером; 2) соответствующая информация за указанный период должна быть регулярной и обычной для такой деятельности; URL: https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1872-01.pdf (дата обращения: 01.02.2022). URL: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/in/in024en.pdf (дата обращения: 01.02.2022). 3 Согласно разделу 62-63 Индийского закона о доказательствах 1872 г., доказательства подразделяются на первичные и вторичные: оригинал будет являться первичным, а доказательства, воспроизведенные с оригинального документа, – вторичными. 1 2 253 3) компьютер должен функционировать в течение указанного периода в обычном режиме; 4) информация, содержащаяся в дубликате, который представляется в суд, должна быть такой же, как и в оригинальной электронной записи. Данные требования необходимо соблюдать, если в суд в качестве доказательств предоставляются заверенные копии чатов WhatsApp или же предъявляются электронные доказательства во вторичной форме. Еще одним условием, согласно разделу 65B (4), является наличие сертификата для допущения электронных записей в качестве доказательства. Раздел 65В (4) гласит, что для признания электронной записи в качестве доказательства она должна сопровождаться сертификатом, подписанным лицом, занимающим ответственную официальную должность в отношении работы соответствующего устройства или управления, и необходимы соответствующие действия, подтверждающие, что электронная запись удовлетворяет четырем вышеупомянутым условиям1. Так, в деле «Arjun Panditrao Khotkar vs Kailash Kushanrao Gorantyal» Верховный суд Индии постановил, что условие, упомянутое в разделе 65B (4) Закона о доказательствах, которое касается сертификата, является существенным для допустимости электронной записи2. Верховный суд также поясняет, что нет необходимости предъявлять сертификат, если «оригинал документа» представлен сам. И во всех других случаях электронная запись может проходить в соответствии с содержанием раздела 65B (1) вместе с сертификатом, определенным в соответствии с разделом 65B (4) Закона Индии о доказательствах. Законодательные нормы, а также примеры из судебной практики, в которых переписка в мессенджерах выступает в качестве доказательства по делу, показывают, что электронные доказательства в Индии выделены в отдельную категорию, имеющую свои правила 1 URL: https://indiankanoon.org/doc/112805442/?__cf_chl_jschl_tk__=fd6df6daa30682670fa96 7cd3e740d7259084405-1620379257-0-AYlQP6co8HeO2AECdm9-VnloHXfz2JPTRF7u2ZMGMNKxR eRFVYD9KgY_bCYuqMGpC4v4DCIlxJYAd7Q5IxcQ2Fc3ZpajNh_rmBidl-g4i4kRjbYqhtAV3VAbhEZIRlu_l770-DVGA-xaShElpeooyg9R7Du9zBc5VOuXH1OnNCsWKvmIE_kziSDFwgOWmLAaDrT2O_CMMdlLeXgGT_YgDoXo-Z-sri9TvXg3qVBMc9H6EAqV4SwOyW7DxBKfFTaIoJxWR5JZguuO62QrLxMn7C Wr_zs0X-P6qIALlbzLqu5EdQ0o3Nd2KRgogSZLRd5zScj6_ZmmsM3zBsjRwSlIbqx3zlL31m-sljBi_-Yqq4GknMQvtyDET1JuUsYUkxrbn8gt_WdNa2YgPnNPe71w_dvaINAemTu_rq73qrKa93MGufDC1qAqNiaHIMjNR7aVGnQAooekQkwqxCcq2zXc2_kwSALietoZVJO3YM6i (дата обращения: 01.02.2022). 2 URL: https://indiankanoon.org/doc/172105947/ (дата обращения: 01.02.2022). 254 оценки доказательств на предмет их относительности и допустимости. Вместе с тем данные критерии порождают ряд новых вопросов, поскольку не все электронные доказательства вписываются в очерченные законодателем рамки. Так, например, будет ли являться электронным доказательством переадресованное сообщение? Кто оценивает обыденность информации? Как оценивать ПК, если присутствовал сбой в системе не по вине владельца? А также ряд других вопросов, ответы на которые может дать исключительно эксперт. Особенности судебной экспертизы электронных доказательств В деле о признании недействительными решения и предписания антимонопольного органа Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю (далее – Управление, Антимонопольный орган) пыталось доказать договоренность между участниками аукциона. Антимонопольный орган, изучив три десятка файлов, поданных обществами «Фарма Софт» и «РТКС» в течение полутора лет на 19 аукционах, утверждает, что имелась системность в подаче документов, которая не могла являться случайностью. Указанный вывод был сделан Управлением на основании анализа метаданных файлов, поданных обществами «Фарма Софт» и «РТКС». В результате проведенного анализа установлено: – совпадение атрибутов, связанных с конкретными учетными записями; – совпадение имени пользователя, создавшего и сохранившего файлы для отправки на площадку; – наличие у двух организаций учетных записей с одинаковыми нераспространенными логинами; – использование логинов для одновременного создания и последующего одновременного сохранения более чем двух десятков файлов в течение полутора лет для участия в одних и тех же аукционах. В подтверждение своих выводов Управление предоставило результаты проведенного сотрудником Управления и членом Комиссии по рассмотрению данного дела исследования на идентичность файлов – хеширования. Сотрудник, проводивший хеширование, имеет свидетельство государственного образца серии АВ № 878874 о присвоении ему квалификации по профессии «Оператор 255 электронно-вычислительных машин (ЭВМ)», копия свидетельства не была представлена в ходе рассмотрения дела в судах первой и второй инстанций по причине отсутствия соответствующих вопросов у суда. Однако суд отклонил результаты хеширования, указав на необходимость обладания специальными познаниями для проведения такого исследования, которыми может обладать только эксперт, несмотря на то что в ходе судебного заседания представитель Антимонопольного органа дал суду исчерпывающие дополнительные пояснения о технологии хеширования и ссылку на действующий российский стандарт, в котором закреплены понятийный аппарат и все необходимые сведения о процедуре1. Не давая всестороннюю оценку решению суда, стоит принять его во внимание, поскольку, оказавшись в аналогичной ситуации, имея неоспоримую, на ваш взгляд, доказательственную базу, а также специальные познания, решение может быть вынесено в пользу оппонента. Суд, руководствуясь принципом эстоппель, не примет в качестве доказательств свидетельство государственного образца, доказывающее разностороннюю квалификацию, ссылаясь на несвоевременность предоставления, а также обосновав свой отказ формальными основаниями. В связи с этим настоящий параграф будет посвящен особенностям судебной экспертизы и роли судебного эксперта. Институт судебных экспертиз возник более 100 лет назад, в последнее время он развивается особенно активно ввиду того, что появились новые объекты исследования, например объекты компьютерных технологий, соответственно, появились новые задачи, которые требуют новых подходов к организации судебно-экспертной деятельности. Так, например, в 2007 г. государственные и частные экспертные учреждения в совокупности провели около 2204 экспертиз, в 2019 г. количество проведенных экспертиз достигает 186 918, большее число из которых проведено по гражданским делам и делам в арбитражном судопроизводстве2. Количественный рост судебных экспертиз демонстрирует их значимость в судебном разбирательстве. 1 ГОСТ Р 34.11–2012 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хеширования». 2 Подробнее о статистических данных см. вебинар Эпштейна В.А. «О проведении судебных экспертиз и экспертных исследований в государственных и негосударственных экспертных учреждениях». URL: https://legalacademy.ru/ (дата обращения: 01.02.2022). 256 В общепринятом понимании экспертизой можно считать исследование специалистом каких-либо вопросов, решение которых требует специальных познаний в области науки, техники, искусства и т.д.1 Основной задачей судебно-экспертной деятельности является оказание содействия судьям в установлении обстоятельств, которые подлежат доказыванию по конкретному делу, посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний. Основания и порядок производства судебной экспертизы в гражданском и арбитражном процессе определяются ГПК РФ и АПК РФ, а также ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»2. Эти нормативные акты устанавливают права и обязанности лиц, принимающих участие в производстве судебной экспертизы, их правоотношения, содержание составляемых при этом основных процессуальных документов, регламентируют и другие вопросы, связанные с порядком назначения и производства экспертизы. В спорах, где в качестве доказательственной базы используются электронные документы (файлы), определяющую роль играет судебная экспертиза, поскольку суды при возникновении вопроса, требующего специальных знаний, не способны разрешить дело по существу, так как не обладают необходимыми знаниями и инструментами. В свою очередь, экспертиза помогает получить едва ли не единственное доказательство, имеющее решающее значение по делу. В качестве примера из практики можно привести постановление Арбитражного суда Уральского округа3 о взыскании задолженности по договору. Согласно материалам дела ЗАО «Эксперт-Оценка» (далее – исполнитель) оказывал услуги по оценке имущества и прав акционерному обществу «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – заказчик). Результаты работы предоставлялись в виде отчета. Исполнитель в установленные договором сроки направил ответчику отчет со всеми приложениями на флеш-диске с сопроводительным письмом, но сотрудники заказчика отчет не приняли и акт приема-передачи не подписали. После отказал в принятии отчета 1 См.: Большой энциклопедический словарь под ред. А.М. Прохорова. 2000 // Интернет-ресурс alcala.ru. 2 Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // Парламентская газета. 02.06.2001. № 100. 3 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 18 июня 2021 г. № Ф09-3441/21 по делу № А07-10804/2019 // СПС «КонсультантПлюс». 257 нарочно исполнитель, в ходе сложившихся отношений между сторонами, отправил отчет на электронную почту. Отсутствие со стороны заказчика действий по оплате послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд. Суды первой и второй инстанций удовлетворили требования исполнителя в полном объеме. В кассационной жалобе заказчик просит указанные судебные акты отменить, ссылаясь на отсутствие получения бумажного варианта спорного отчета об оценке. С целью разрешения спорных вопросов по оценке электронных доказательств судом была назначена судебная экспертиза. Вопросы и задачи, поставленные перед экспертом: 1) В исправном ли состоянии находится представленный носитель и какими характеристиками он обладает? 2) Какого рода информация находится на представленном устройстве хранения информации? 3) Какие реквизиты содержат файлы, записанные на накопителях? Каковы формат файлов, дата записи копирования, создания, удаления, корректировки и т.д.? 4) Какие метаданные хранятся на носителе информации? 5) Необходимо установить дату создания файлов, находящихся на носителе, и дату их редактирования, соотнести с системным временем компьютера и сервера. Произвести поиск удаленных файлов и остаточной информации от удаленных файлов. Определить содержимое и атрибуты файлов операционной системы пользователя, записавшего файлы в локальных и глобальных компьютерных сетях заказчика. В заключении эксперта, в котором был исследован электронный диск, направленный исполнителем заказчику, содержалась оценка исследуемых доказательств. Эксперт отметил исправность представленного накопителя информации, определил реквизиты файлов, содержащихся на носителе информации, а также установил, что по названиям и содержимому PDF-файлов они представляли собой отчет с приложениями и состоят из более чем 13 000 страниц. Кассационная жалоба заказчика была оставлена без удовлетворения, решение нижестоящей инстанции без изменения. Другой пример. В постановлении Седьмого арбитражного апелляционного суда от 26 октября 2016 г. № 07АП-8158/2014 по делу № А27-6440/20131 на основе судебной компьютерно-технической 1 СПС «КонсультантПлюс». 258 экспертизы судом был разрешен вопрос о незаконном копировании и переработке программного комплекса для автоматизации кассовых, бухгалтерских и налоговых расчетов кредитных кооперативов граждан. Не вникая в подробности обстоятельств дела, рассмотрим вынесенные эксперту вопросы. В целях установления наличия либо отсутствия сходства между программами для ЭВМ судом было поставлено 16 вопросов, опишем самые содержательные из них. 1) Соответствуют ли содержание и функциональные возможности программы Истца/Ответчика задепонированным материалам Роспатента? 2) В какой период времени создан файл программы Истца и Ответчика? 3) Имеются ли сходства между программами Истца и Ответчика? 4) Какая из представленных программ является результатом переработки? 5) Присутствуют ли в представленных программах Ответчика (на компакт-диске) и Истца (на компакт-диске и на НЖМД) сведения об авторах программ? Если да, то какие? В своем заключении эксперт пришел к выводу, что обе программы являются самостоятельными продуктами на основе платформы «1С: Предприятие7.7». Установить, какая из программ является результатом переработки, не представляется возможным по причине наличия признаков переработки в каждой из исследуемых программ. Основываясь в большей части на заключении эксперта, суд вынес решение, оставив жалобу без удовлетворения. Примеры из правоприменительной практики показали, что функциональная роль эксперта при рассмотрении дел, где в качестве доказательств используются электронные документы, является значительной, поскольку именно эксперт оказывает помощь суду при осуществлении процессуальных действий, а также предоставляет информацию в виде заключения, которая зачастую содержит в себе правовую оценку, что, по нашему мнению, мешает справедливому разрешению судом дела по существу. Иная ситуация в Германии, где эксперт правомочен давать свою правовую оценку в случае отсутствия у суда достаточных знаний в области права. Так, в случае обращения суда к эксперту последний может устанавливать содержание иностранных правовых норм или положений иностранной доктрины. Давая свою 259 правовую оценку, эксперт может по просьбе суда ограничиться лишь воспроизведением абстрактных правовых и научных положений, на основе которых суд уже самостоятельно решит вопрос об их применении. Учитывая специфику судебной экспертизы в гражданском и арбитражном процессе, в настоящем параграфе не будет проведен сравнительный анализ, раскрывающий роль и значение заключений эксперта. По мнению автора, институт судебной экспертизы в гражданском и арбитражном процессе России имеет больше различий, чем сходств с другими странами. Так, например, согласно ст. 82 АПК РФ и ст. 79 ГПК только суд при возникновении вопросов, требующих специальных знаний, вправе назначить экспертизу. В английском гражданском процессе привлечь эксперта могут как суд, так и стороны с разрешения суда. Существуют три формы привлечения эксперта: 1) единый совместно назначенный эксперт; 2) эксперты, привлеченные сторонами; 3) судебные заседатели1. В Германии, согласно принципу диспозитивности, у сторон есть право ходатайствовать о назначении экспертизы, однако суд может отклонить просьбу сторон и назначить экспертизу самостоятельно, в то же время суд не может отклонить кандидатуру эксперта, предложенного обеими сторонами2. Во Франции эксперт может быть назначен судом или по заявлению сторон3. Еще одно отличие заключается в процессуальном статусе эксперта. Так, в России эксперт имеет процессуальный статус, который не может быть совмещен с другими, в Англии же эксперт может носить статус свидетеля по делу и сочетает в себе процессуальное положение как одного, так и другого. Отличие эксперта от свидетеля заключается в том, что эксперт дает заключение, выведенное из воспринимаемых им фактов: это не личное знание фактов, как 1 О привлечении эксперта см. подробнее гл. 35 Правил гражданского судопроизводства Англии и Уэльса. URL: http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules (дата обращения: 01.02.2022). 2 О назначении эксперта см. подробнее раздел 8 Гражданского процессуального уложения Германии. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html (дата обращения: 01.02.2022). 3 См. подробнее II подзаголовок Гражданского процессуального кодекса Франции. URL: https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=NCPC242914&scrll=NCPC001510&FromId =DZ_OASIS_000639; https://www.inhouselawyer.co.uk/legal-briefing/french-jurisdiction-whenassessing-evidence-in-cross-border-disputes-more-advantages-than-you-think/ (дата обращения: 01.02.2022). 260 у обычного свидетеля, а «доказательства мнения», т.е. данные, о которых эксперт узнал от кого-то. В Германии эксперт выступает в качестве судейского помощника или советника судьи, который должен следовать указаниям суда в части вида и объема экспертизы (§ 404a)1. Во Франции статус судебного эксперта близок российскому подходу. Экспертом выступает лицо, обладающее специальными знаниями, назначение которого обусловлено недостаточными знаниями судьи по рассматриваемому вопросу (ст. 263)2. Эти и другие отличительные черты иностранных юрисдикций демонстрируют, что фигура судебного эксперта и сами модели судебной экспертизы могут иметь несколько разновидностей и играть разную роль, оказывая содействие суду, осуществляющему отправление правосудия. Данный вопрос широко освещен в научной литературе3. Показав значение экспертного заключения при оценке электронных доказательств, необходимо раскрыть его особенности. В научно-правовой литературе4 не безосновательно отмечается, что тема экспертных заключений электронных доказательств в гражданском и арбитражном процессе мало изучена, в связи с этим необходимо осветить приемы и методы, которыми пользуются при криминологических исследованиях. Ранее при изучении электронных доказательств проводились компьютерно-технические экспертизы, однако, ввиду появления новых видов электронных документов, в оборот был введен термин «цифровая криминалистика». Цифровая криминалистика – это «отрасль судебной экспертизы, охватывающая восстановление и исследование материалов, обнаруженных на цифровых устройствах, часто в связи с компьютерными преступлениями»5. 1 Гражданское процессуальное уложение Германии и Вводный закон. 2-е изд., перераб. М.: Инфотропик Медиа, 2016. С. 1–327. 2 Гражданский процессуальный кодекс Франции. URL: https://www.dalloz.fr/documentation/Do cument?id=NCPC242914&scrll=NCPC001510&FromId=DZ_OASIS_000639 https://www.inhouselawyer. co.uk/legal-briefing/french-jurisdiction-when-assessing-evidence-in-cross-border-disputes-moreadvantages-than-you-think/ (дата обращения: 01.02.2022). 3 См., например: Брановицкий К.Л., Ренц И.Г., Решетникова И.В. Можно ли доверять эксперту, или несколько слов о гарантиях качества судебной экспертизы (сравнительноправовой анализ) // Закон. 2019. № 10. С. 43–54; Нестеров А.В. Сравнительно-правовой анализ института судебной экспертизы в России и зарубежных странах. М.: Типография НИУ ВШЭ, 2006. 4 Митрофанова М. А. Особенности экспертизы электронных доказательств в арбитражном процессе // Изв. Сарат. ун-та . Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2011. № 2. С. 117–119. 5 URL: https://buildwiki.ru/wiki/Digital_forensics (дата обращения: 01.02.2022). 261 Тема судебно-экспертной деятельности на основе применения современных цифровых технологий в полной мере раскрыта в трудах Г.Г. Камаловой1. Не пересказывая содержание научных статей, остановимся на основных моментах и выводах, сделанных автором. Определяя основные тенденции в экспертной практике, Г.Г. Камалова отмечает, что сегодня применение современных цифровых технологий является распространенным и действенным способом исследования. В настоящее время в сети Интернет зафиксированы случаи противоправного поведения, нарушающие правовые предписания, и применение судебно-экспертных исследований позволяет не только выявить способ совершения правонарушения, но и установить на основе анализа персональных документов, записей в социальных сетях и данных с цифровых устройств слежения виновное поведение лица. Приемы и методы, которыми пользуются судебные эксперты, также помогают определить геолокации, изучить историю посещения сайтов, идентифицировать цифровую информацию, находящуюся в памяти мобильных устройств, а также распознать цифровые объекты, включая документы и источники их происхождения. В то же время судебно-экспертная практика нуждается в специализированном программном обеспечении, поскольку имеющееся оборудование быстро теряет свою актуальность и не соответствует современным потребностям, а также представлено продуктами иностранного производства, которые сами признают, что специализированных устройств, способных выполнять необходимые операции, недостаточно2. Специализированные продукты, необходимые для анализа цифровых данных и технологий их хранения, обработки и передачи, создаются и разрабатываются частными компаниями, при этом судебно-экспертные организации и подразделения не имеют 1 Камалова Г.Г. Цифровые технологии в судебной экспертизе: проблемы правового регулирования и организации применения // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2019. № 2. С.180–186; Камалова Г.Г. Состояние и перспективы компьютеризации судебной экспертизы // Информационные технологии в науке, образовании и производстве (ИТНОП-2018). VII Междунар. науч.-техн. конф.: сб. трудов конф. Белгород, 2018. С. 254–258; и др. 2 Garfinkel S.L. Digital forensics research: The next 10 years // Digital Investigation. 2010. Vol. 7. P. S64–S73. URL: https://ac.els-cdn.com/S1742287610000368/1-s2.0-S1742287610000368main.pdf?_tid=c1fa9e28-bb2a-4e9b-bfe6-84ca7ced785b&acdnat=1550405080_a59458b38e8 2c33b963c620d999975f6 (дата обращения: 01.02.2022). Цит. по: Камалова Г.Г. Цифровые технологии в судебной экспертизе: проблемы правового регулирования и организации применения // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2019. № 2. С. 183. 262 возможности пользоваться всем спектром инструментальных программных средств. Автор предлагает пересмотреть подходы к судебно-экспертной деятельности, в частности Г.Г. Камалова рекомендует осуществить переоценку отечественного производства в рамках импортозамещения, обратить внимание на ранее полученное образование судебного эксперта, переосмыслить используемый инструментарий и направления деятельности, то есть оптимизировать сам организационно-правовой механизм судебно-экспертной деятельности. Отдельные предложения автора будут раскрыты в следующем параграфе настоящей главы. Обращаясь к зарубежному опыту экономически развитых страх, нельзя не заметить, что научная область знаний, связанная с применением цифровых технологий в судебной экспертизе, активно развивается. Впервые информация о компьютерных преступлениях появилась в американских СМИ в 1960-х гг. в связи с выявлением первых преступлений, совершенных с использованием ЭВМ1. Рост компьютерных преступлений подтолкнул правоохранительные органы создать специализированные группы, занимающиеся техническим аспектом расследования, так в конце 1970-х гг. появилась судебная компьютерно-техническая экспертиза, которая позже стала охватывать экспертное исследование любых устройств, хранящих и передающих данные в цифровой форме, и получила название «Цифровая экспертиза» («Digital forensics»). С учетом количественного роста преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий, были необходимы единые стандарты для оценки полученных доказательств. Так, в начале 2000-х гг. в разных станах были приняты документы, унифицирующие и стандартизирующие методы и инструментарий компьютерных исследований. В 2005 г. принят ISO/IEC 17025 «General requirements for the competence of testing and calibration laboratories», на базе которого утверждены российский ГОСТ ИСО/МЭК 170252, украинский ДСТУ ISO/IEC 170253 , белорусский СТБ ИСО/МЭК 17025-20074. 1 Волеводз А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного сотрудничества. М.: Юрлитинформ, 2001. 496 с. 2 В настоящее время в качестве национального стандарта Российской Федерации введен в действие ГОСТ ISO/IEC 17025–2019. 3 В настоящее время в качестве национального стандарта Украины введен ДСТУ EN ISO/ IEC 17025:2019. 4 В настоящее время в качестве национального стандарта Республики Беларусь введен ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200166732 (дата обращения: 01.02.2022). 263 Бенджамин Луткевич, сертифицированный специалист в области информационных технологий, отмечая значение цифровой криминалистической экспертизы для гражданского и уголовного процесса, пишет, что главной ее задачей является восстановление данных с соблюдением требований законодательства, позволяющих сделать информацию приемлемой для судебного разбирательства. Автор подразделяет цифровую экспертизу на следующие подвиды: – экспертиза базы данных изучает метаданные, содержащиеся на носителе информации, и сам носитель; – электронная экспертиза восстанавливает и анализирует электронные письма и другую информацию, содержащуюся на платформах электронной почты; – экспертиза вредоносного ПО осуществляет подборку кодов для выявления вредоносных программ и анализа полезной информации. Данная экспертиза помогает выявить наличие вредоносных или мониторинговых программ, а также шпионского ПО, посредством которого все манипуляции с ПК в сети и офлайн записываются и отправляются в виде отчета о деятельности на другой сервер, далее этот отчет может быть доступен через веб-интерфейс удаленным пользователям; – экспертиза памяти ПК рассматривает информацию, хранящуюся в оперативной памяти (RAM) и в кеше компьютера; – мобильная экспертиза проверяет мобильные устройства с целью анализа содержащейся в них информации, например контакты, входящие и исходящие текстовые сообщения, изображения и видеофайлы; – сетевая экспертиза осуществляет мониторинг сетевого трафика с использованием таких инструментов, как межсетевой экран или система обнаружения вторжений. Бенджамин Луткевич также выделяет методы, которыми пользуются судебные эксперты при исследовании электронных доказательств. – Обратная стеганография. Стеганография – это распространенная тактика, используемая для сокрытия данных внутри любого цифрового файла. Эксперты по цифровой криминалистике блокируют попытку сокрытия информации путем анализа хешированных данных, содержащихся в рассматриваемом файле. Например, если киберпреступник пытается скрыть информацию внутри изображения или другого цифрового файла, это может быть не 264 очевидно, поскольку визуально файл не видоизменился, однако лежащий в его основе хеш или строка данных выявляет проделанные манипуляции. – Стохастическая криминалистика. Благодаря этому методу эксперты анализируют и реконструируют цифровую деятельность без использования цифровых артефактов. Цифровые артефакты – это непреднамеренные изменения данных в результате цифровых процессов. Артефакты включают в себя улики, связанные с цифровым преступлением, например изменение атрибутов файла во время кражи данных. Стохастическая криминалистика часто используется при расследовании утечки данных. – Кросс-драйв анализ. Этот метод сопоставляет и перекрестно ссылается на информацию, найденную на нескольких дисках компьютера, для поиска, анализа и сохранения данных, имеющих отношение к расследованию. События, вызывающие подозрение, сравниваются с информацией на других дисках с целью обнаружения сходств и различий. Этот метод также известен под названием «обнаружение аномалии». – Живой анализ. С помощью этого метода посредством применения системных инструментов анализируется операционная система компьютера. В ходе исследования рассматриваются изменчивые данные, которые часто хранятся в кеш-памяти или оперативной памяти. Многие инструменты, используемые для извлечения изменчивых данных, требуют постоянного нахождения ПК в лаборатории судебной экспертизы для поддержания легитимности цепочки улик. – Восстановление удаленных файлов. Данный метод включает в себя поиск в компьютерной системе и (или) памяти фрагментов файлов, которые были частично удалены в одном месте, однако оставили следы в другом1. Ярким примером применения экспертизы вредоносного ПО может служить дело «Klumb v. Goan»2, в котором супруга сфабриковала цифровые доказательства против своего мужа, создавая видимость внебрачных отношений, нарушающих условия брачного договора. Для этого жена установила шпионскую программу eBlaster на компьютер мужа. Данная программа перехватывала электронные письма, обрабатывала их путем изменения 1 Benjamin Lutkevich. What is computer forensics? URL: https://www.techtarget.com/network (дата обращения: 01.02.2022). 2 Klumb v. Goan, 884 F. Supp. 2d 644, 646-50, 653-59 (E.D. Tenn. 2012). 265 содержания сообщения и отправляла получателю, который якобы состоял в романтических отношениях с ее мужем. Далее супруга трансформировала цифровой файл их брачного договора, чтобы изменить его условия и приписать право на денежные средства своего мужа1. Данная схема была раскрыта в результате применения метода кросс-драйвинга, включающего сравнение документов во временных файлах, и метода восстановления удаленных файлов. Обзор национальной и зарубежной правоприменительной практики показал значимость судебной экспертизы электронных доказательств в процессе отправления правосудия ввиду того, что большинство судей не имеют специальной технической подготовки, и заключение эксперта играет порой ключевую роль в принятии решения. Однако такой авторитет экспертных заключений опасен, поскольку другие доказательства не могут на равных конкурировать с мнением эксперта, но сам судебный эксперт и институт судебных экспертиз в целом не лишены изъянов и требуют дальнейшей оптимизации и усовершенствования организационно-правового механизма данной деятельности. Вместо заключения: перспективы оптимизации электронного доказывания Результаты проведенного исследования дают основание утверждать, что национальная судебная система делает уверенные шаги в сторону совершенствования института электронных доказательств. В то же время сравнительный анализ процессуальных норм права, судебной практики и научной литературы России и зарубежных государств продемонстрировал, что в национальной правовой системе электронные документы как вид доказательств еще не до конца развит. Недостаточно опыта аутентификации, извлечения и идентификации электронных доказательств, не предоставлен доступ к электронным документам в той мере, в какой он необходим, лицам, участвующим в деле. Более того, стоит отметить необоснованное внимание со стороны ученых новому правовому статусу электронных доказательств и их внешней атрибутике, а не сущностному значению, основанному на учении о доказательствах. 1 Ibid. 266 Справедливо в связи с этим отмечает В.Г. Голубцов, указывая на то, что «термин «электронные доказательства» со всеми его условностями является производным не от слова «электроника», а от слова «доказательства». Прилагательное «электронные» выполняет в нем лишь технологическую, но не сущностно-правовую нагрузку»1. Таким образом, целесообразно обратить внимание на технологическую составляющую и предложить практически меры организационного характера, направленные на оптимизацию института электронных доказательств. Рассмотрев подготовленные Комитетом министров Совета Европы Руководящие принципы в отношении электронных доказательств в гражданском и административном судопроизводстве, а также научную литературу и опыт зарубежных государств, предлагается обратить внимание на следующие организационно-правовые меры рекомендательного характера: – своевременно вносить изменения в законодательные нормы, касающиеся электронных доказательств; – создать «удостоверяющий центр», который будет оказывать содействие в создании, верификации и валидации электронных доказательств и обеспечит электронных документов. В пояснительном меморандуме приведен опыт успешно функционирующих на нацио­нальном уровне удостоверяющих центров. Например: в Польше «Доверенный профиль» (Trusted Profile)2, в Бельгии «Электронное архивирование и цифровизация» (Electronic archiving and digitalization)3, в Испании платформа LEXNET для обмена информацией между судебными органами4; – признать доказательственную ценность метаданных судами, путем предоставления их в оригинальном электронном виде без необходимости подавать распечатки; – внедрить процедуру безопасного изъятия, сбора и хранения электронных доказательств, которая обеспечит их подлинность, целостность и доступность; 1 Голубцов В.Г. Электронные доказательства в контексте электронного правосудия // Вестник гражданского процесса. 2019. № 1. С. 180. 2 См. подробнее: URL: https://www.biznes.gov.pl/en/firma/how-to-handle-official-mattersin-poland/handling-official-matters-via-biznes-gov-pl/how-to-handle-official-matters-and-signdocuments-online-at-biznes-gov-pl/trusted-profile-and-electronic-signature-signing-documentssent-to-offices-via-the-internet (дата обращения: 01.02.2022). 3 См. подробнее: URL: https://www.docbyte.com/blog/e-archiving-with-the-belgian-digital-act (дата обращения: 01.02.2022). 4 См. подробнее: URL: https://rm.coe.int/lexnet-electronic-communications-system-generalsecretariat-of-justice/168078b0ce (дата обращения: 01.02.2022). 267 – разработать метод систематизации и администрирования электронных доказательств, позволяющий обеспечить их читабельность по прошествии времени с учетом развития информационных технологий; – создать архив, позволяющий обеспечить сохранность электронных доказательств и при необходимости переносить их в новые хранилища; – оптимизировать процесс доступа к первоначальному формату электронных доказательств (метаданным) всех заинтересованных лиц, участвующих в процессе. В деле № I Kž 696 / 04-7 Верховный суд Хорватии подтвердил, что SMS-сообщения могут использоваться в качестве доказательств в судебном разбирательстве, поскольку они являются источником информации, равным любому другому письменному содержимому, хранящемуся на другом носителе; – ввести междисциплинарное обучение и образовательные программы для повышения уровня знаний суда и его аппарата; – проработать и внедрить в деятельность судов специальное программное обеспечение, позволяющее в автоматическом режиме обрабатывать электронную информацию; – имплементировать основы электронного правосудия. В Хорватии разрабатывается интегрированная система отслеживания дел («eSpis»), позволяющая осуществлять электронную коммуникацию между сторонами судебного разбирательства и судом1; – использовать возможности технологии блокчейн при сборе и представлении электронных доказательств в исходном формате вместо предоставления копии снимка с экрана. В Китае интернетсуд Ханчжоу установил, что электронные данные, основанные на блокчейне, могут использоваться в качестве доказательств в правовых спорах2; – содействовать трансграничному сотрудничеству в связи с изъятием и сбором электронных доказательств за рубежом; – расширить информационное обеспечение экспертной деятельности, создав общую информационно-коммуникационную сеть, позволяющую интегрировать ведомственные информационные системы и развивать наиболее эффективные решения; 1 URL: https://www.safu.hr/en/news/case-management-system-espis-implemented-in-additional33-municipal-courts-across-croatia (дата обращения: 01.02.2022). 2 URL: https://www.obwbip.com/newsletter/the-first-case-in-china-using-blockchain-technologyto-preserve-electronic-evidence (дата обращения: 01.02.2022). 268 – подготовить судебных экспертов на базе полученного ранее высшего образования в сфере IT-технологий; – использовать возможность робототехники и искусственного интеллекта для осуществления экспертной деятельности при получении электронных доказательств. § 5. ЦИФРОВИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Рассматривая зарубежный опыт реализации того или иного правового института, следует в первую очередь определиться с целью проводимого исследования. Применительно к правовому мониторингу она может заключаться в прогнозировании результатов участия в правоотношениях, осложненных иностранным элементом. При этом изучению подлежит не порядок осуществления правового мониторинга, его организационно-правовые аспекты, а результаты названной деятельности: доклады, обзоры, направления судебной практики, принимаемые законы и т.д. Вторым важным направлением исследования является изучение организации процесса правового мониторинга внутри зарубежного государства с использованием сравнительно-правового метода. Данное направление служит цели совершенствования схожих национальных инструментов. На сегодняшний день в связи с развитием международной торговли большое значение приобретает мониторинг развития зарубежного законодательства и правоприменительной практики. Следовательно, наиболее актуален анализ правопорядков зарубежных стран для предпринимателей. Как справедливо отметил М. ван Хук, такие исследования, несмотря на пользу в общем плане, не являются исключительно полезными в контексте более широких научных исследований1. Вместе с тем именно развитие коммерческого оборота подталкивает национальные государства к соблюдению международных норм и обычаев, к участию в различных рейтингах инвестиционной привлекательности, а также 1 См.: М. ван Хук. Методология сравнительно-правовых исследований // Правоведение. 2013. № 3 (308). С. 122–123 (121–147). 269 к унификации законодательства на региональном и глобальном уровнях. Мониторинг зарубежного законодательства необходим для гармоничной эволюции отечественной правовой системы в соответствии с международными стандартами. Одним из главных правовых ориентиров в этом вопросе является верховенство права1 как универсальный принцип или стандарт, под которым понимают совокупность атрибутов, присущих демократическому правовому государству2. Основная идея верховенства права заключается в том, что демократия обеспечивается стабильностью, правовой определенностью, защитой прав человека, всеобщим равенством и независимостью судебной власти3. Несмотря на то что данный принцип (стандарт) воспринимается не всегда позитивно в литературе в связи с наличием политической окраски4, именно он справедливо служит ориентиром большинству зарубежных аналитических центров, осуществляющих оценку качества национального законодательства. Миссия утверждения верховенства права преследуется также, к примеру, санкт-петербургским Институтом проблем правоприменения5. В книге под редакцией Н.Н. Черногора отмечается: «В решении вопроса внедрения в российскую нормотворческую и правоприменительную практику правового мониторинга может оказаться полезным иностранный опыт изучения эффективности законодательства и анализа регулирующего воздействия – инструментов 1 См. об этом: Bingham Center for the Rule of Law. Risk and Return Foreign Direct Investment and the Rule of Law // URL: https://www.biicl.org/documents/625_d4_fdi_main_report. pdf?showdocument=1 (дата обращения: 01.02.2022). См. также: Пленарное заседание IV Петербургского международного юридического форума «Идея верховенства права в юридических системах государств: итоги и будущее». URL: http://government.ru/news/13204/ (дата обращения: 01.02.2022). 2 По данному вопросу следует ознакомиться с книгой известного британского судьи Лорда Тома Бингама. См.: Bingham T. The Rule of Law. London, 2010. 215 p. См. также лекцию о верховенстве права на сайте Центра верховенства права Бингама. URL: https://binghamcentre.biicl. org/schools/ruleoflaw (дата обращения: 01.02.2022). 3 См.: The World Justice Project. What is the Rule of Law? URL: http://worldjusticeproject.org/ what-rule-law (дата обращения: 01.02.2022); The World Justice Project (WJP) Rule of Law Index. URL: https://worldjusticeproject.org/our-work/wjp-rule-law-index/wjp-rule-law-index-2016 (дата обращения: 01.02.2022); CDL-AD(2011)003 rev, Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия), Доклад о верховенстве права, принятый Венецианской комиссией на ее 86-й пленарной сессии (Венеция, 25–26 марта 2011 года), § 33, 41. 4 См., например: Риа Новости. Юнкер назвал соблюдение прав человека в Китае условием для инвестиций. URL: https://ria.ru/world/20170602/1495651192.html (дата обращения: 01.02.2022). 5 Институт проблем правоприменения. «О нас». URL: http://enforce.spb.ru/about-us (дата обращения: 01.02.2022). 270 улучшения качества регулирования общественных отношений»1. В указанной книге отмечено, что, как правило, оценка законодательства осуществляется в два этапа: 1) на этапе его принятия, в процессе рассмотрения законопроекта; 2) после его вступления в силу, с учетом отчетов заинтересованных, в частности правоприменительных, органов2. Таким образом, исследователя тенденций зарубежного права должны интересовать указанные две группы вопросов. Требование открытости законодательства и прозрачности законодательных процедур формально не оспаривается практически ни в одной стране3. На сегодняшний день на сайтах парламентов в сети Интернет большинства государств размещают все инициируемые законопроекты, где с ними может ознакомиться любой желающий4. В некоторых государствах уже используется для этих целей технология блокчейн, обеспечивающая защиту документа от подделок (одним из государств-первопроходцев является Эстония5). Вместе с законопроектами размещаются также отзывы на них, пояснительные записки, результаты общественного обсуждения и оценки регулирующего воздействия, а также другие документы. Правовые акты Европейского союза (далее – ЕС) размещены на портале EUR-Lex, состоящем из следующих разделов: международные договоры, международные соглашения; законодательство ЕС; дополнительное законодательство ЕС; подготовительные акты; судебные акты ЕС; национальные переходные акты; национальное прецедентное право; парламентские вопросы; консолидированные документы6. Общая информация о правовой системе каждой страны – участницы ЕС размещена в системе N-Lex7. Кроме того, 1 Правовой мониторинг: актуальные проблемы теории и практики / Под ред. Н.Н. Черногора. М., 2010. С. 132–133. 2 См. там же. С. 133. 3 Есть и исключения. Например, на сайте Парламента Уганды имеется лишь информация о принятых законах, но нет сведений о рассматриваемых законопроектах. См.: URL: http://www. parliament.go.ug (дата обращения: 01.02.2022). 4 Например, для европейских государств обязательным является участие в программе электронного правительства. См.: URL: https://joinup.ec.europa.eu/community/egovernment/ description (дата обращения: 01.02.2022). Данные системы предназначены для ясности законодательного процесса и вовлечения в него пользователей на основании социальных сетей и инструментов типа Веб 2.0. 5 См.: URL: https://e-estonia.com/solutions/security-and-safety/e-law (дата обращения: 01.02.2022). 6 См.: URL: http://eur-lex.europa.eu/content/tools/TableOfSectors/types_of_documents_in_ eurlex.html (дата обращения: 01.02.2022). 7 См.: URL: http://eur-lex.europa.eu/n-lex/index_en (дата обращения: 01.02.2022). 271 для обеспечения единой системы цитирования прецедентных решений Суда ЕС и судов стран ЕС создана система ECLI, где размещена информация о судебных системах стран – участниц ЕС, где даны ссылки на сайты государственных ординарных судов (по широкому кругу вопросов) и специализированных судов (по отдельным категориям дел)1. Информация на указанных сайтах постоянно обновляется. Для улучшения качества законодательства в Европе, а также усиления интеграционных процессов в 2011 г. был учрежден Европейский правовой институт (ЕПИ)2. Президент данного института Ф. Джейкобс отметил: «ЕПИ направлен на инициирование, проведение и способствования исследованиям, предложение рекомендаций и практических руководств по их воплощению в сфере развития европейского права»3. В рамках ЕПИ обеспечивается диалог ученых и практикующих юристов для направления исследований на немедленное практическое воплощение4. Так, в публикации ЕПИ от 2017 г. поднимается проблема двойной и более юрисдикции по расследованию уголовных дел. На основании рассмотренных проблем, возникающих на практике, предложен Проект законодательной инициативы о предотвращении и разрешении конфликтов юрисдикций по уголовным делам в Европейском союзе5. В странах прецедентного права развиты институты мониторинга правоприменения. Выше были названы функции правового мониторинга: наблюдение, инновация, оптимизация, прогнозирование развития, информирование, систематизация и критериализация. Все указанные функции реализуются в отношении прецедентной практики при подготовке специализированных сборников, которые на сегодняшний день также в основном используются в электронном варианте. В Великобритании обзор прецедентной практики осуществляется многими организациями на коммерческой основе. Старейшей из См.: URL: https://e-justice.europa.eu (дата обращения: 01.02.2022). См.: URL: http://www.europeanlawinstitute.eu (дата обращения: 01.02.2022). 3 ELI. Statement on Case-Overload at the European Court of Human Rights. P. 7. URL: http:// www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/Publications/S-1-2012_Statement_on_ Case_Overload_at_the_European_Court_of_Human_Rights.pdf (дата обращения: 01.02.2022). 4 Там же. 5 См.: ELI. Draft Legislative Proposals for the prevention and resolution of conflicts of jurisdiction in criminal matters in the European Union. URL: http://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_ upload/p_eli/Projects/Criminal_Law/Conflict_of_Jurisdiction_in_Criminal_Law_FINAL.pdf (дата обращения: 01.02.2022). 1 2 272 них является Объединенный совет по представлению отчетов о праве Англии и Уэльса. Указанный совет был создан в 1865 г. юристами с целью «подготовки и публикации в удобной форме по умеренной цене и при безвозмездном профессиональном контроле отчетов о судебных решениях высших и апелляционных судов в Англии и Уэльсе» (Меморандум и Устав, 1870 г.)1. Однако данный совет не предлагает аналитических материалов и не участвует в формировании статутного права. Другими крупными и популярными системами являются LexisLibrary2 и Thomson Reuters. При этом Thomson Reuters предлагает также аналитическую правовую информацию3. Названные системы осуществляют систематизацию огромного практического материала по категориям, а также обеспечение легкого поиска нужной информации путем определения правил цитирования правовой позиции суда. В Германии функционируют система Juris и веб-сайт газеты «Gesetze-imInternet.de», где публикуются тексты нормативных актов и извлечения из принимаемых судебных решений4. Полные тексты судебных актов Верховного и Конституционного суда Германии публикуются на их сайтах. Аналогичные системы размещения правовой информации имеются во всех европейских государствах. Кроме того, с 2002 г. функционирует амбициозный проект «Мировой институт правовой информации»5, представляющий собой объединение семи институтов правовой информации: Австралийского, Британского, Канадского, Гонконгского, Института Корнелла (США), Тихоокеанского, Южноафриканского. В данной базе имеется правовая информация в отношении практически каждого государства, но в связи с редким обновлением многих баз данных актуальные сведения представлены лишь в отношении нескольких стран, в основном в которых расположены указанные институты. Данные о российском законодательстве указаны по состоянию на 2007 г. (основные законы и постановления Конституционного суда РФ) из базы данных библиотеки Конгресса США. Следует отметить, что мониторинг зарубежного законодательства и правоприменительной практики набирает популярность в См.: URL: http://www.lawreports.co.uk (дата обращения: 01.02.2022). См.: URL: http://www.lexisnexis.co.uk/en-uk/products/all-england-law-reports.page (дата обращения: 01.02.2022). 3 См.: URL: https://www.thomsonreuters.com (дата обращения: 01.02.2022). 4 См.: URL: https://www.juris.de/jportal/index.jsp (дата обращения: 01.02.2022). 5 См.: URL: http://www.worldlii.org (дата обращения: 01.02.2022). 1 2 273 российской коммерческой среде. На сегодняшний день существует ряд консалтинговых компаний, занимающихся исследованиями зарубежных правопорядков. Например, подробные исследования коммерческого права ряда зарубежных государств представлены в функционирующей с 2008 г. справочно-правовой системе World Business Law1. Таким образом, на сегодняшний день сформирована открытая и всеобъемлющая сеть информационных ресурсов, благодаря которым возможно осуществлять мониторинг зарубежного законодательства. Даже сведения о правовых актах Сирийской Арабской Республики, переживающей с 2011 г. по настоящий момент разрушительный военный конфликт, имеются на английском языке и постоянно обновляются2. Однако, как было отмечено выше, познание уникальных особенностей иностранной правовой культуры хоть и обладает известной пользой, но не представляет существенного интереса для совершенствования организационно-правовых аспектов правового мониторинга. Для определения путей реформирования национального правопорядка в этой связи требуется задействовать сравнительно-правовой метод. А.А. Малиновский справедливо выделяет два основных этапа сравнительно-правового исследования: 1) определение типичного и уникального в правовой действительности; 2) анализ в найденном типичном общего и особенного3. Только на втором этапе устанавливаются сходство и различие сравниваемых объектов. Таким образом, на основе представленных в параграфах 1 и 2 главы 1 настоящего пособия понятия, субъектов, целей, задач и функций правового мониторинга, следует установить наличие или отсутствие аналогичных механизмов (субъектов и их деятельности) за рубежом. Дословный перевод на английский язык словосочетаний «правовой мониторинг»4, «мониторинг правоприменения»5, «мониторинг законодательства»6 не позволяет выявить аналогичных понятий в зарубежных правопорядках стран общего и континентального 1 См.: URL: http://www.worldbiz.ru (дата обращения: 01.02.2022). 2 3 См.: Малиновский А.А. Методология сравнительного правоведения // Вестник университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). М., 2016 (№ 3). С. 9–24. 4 Legal monitoring/monitoring of law. 5 Judicial monitoring/monitoring of law enforcement (practice). 6 Monitoring of legislation/statute monitoring. 274 права, за редким исключением1. В основном слово «мониторинг» применяется к анализу соблюдения прав человека международными2, в том числе некоммерческими3, организациями либо к наблюдению за ходом реализации глобальных законодательных реформ4. Как было отмечено выше, предмет правового мониторинга определяется двумя базовыми составляющими: принятием законопроекта и его реализацией. Субъектов правового мониторинга можно условно подразделить на основных, в числе которых государственные органы и должностные лица, и факультативных, представленных научными учреждениями, объединениями граждан и иными заинтересованными лицами. При этом указанные правила справедливы для стран общего и континентального права. Следует рассмотреть наиболее показательные примеры из зарубежной практики в этой связи. Юристам континентальной правовой системы привычно положение, согласно которому суд следует воле законодателя, и совершенно недопустимо обратное, когда законодатель в своем творчестве следует судебной воле5. Однако и в правовой системе Великобритании, несмотря на признание принципа stare decisis, общее право занимает самую нижнюю ступеньку в иерархии источников права, и законодатель может по своему усмотрению отменять или изменять созданные на его основе (или даже на основе толкования статутных норм) прецеденты6. Вместе с тем взаимосвязь статутного и 1 См., например: OSCE: Trial Monitoring. A Reference Manual for Practitioners. URL: http://www. osce.org/odihr/94216 (дата обращения: 01.02.2022); OSCE: Handbook for Monitoring Administrative Justice. URL: http://www.osce.org/albania/105271 (дата обращения: 01.02.2022). 2 См., например: Верховный комиссариат по правам человека: «Наблюдение за осуществлением Конвенции о правах инвалидов. Руководство для наблюдателей в области прав человека». URL: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Disabilities_training_17RU.pdf (дата обращения: 01.02.2022). 3 Например, в Литве функционирует неправительственная организация «Институт мониторинга прав человека». URL: http://hrmi.lt (дата обращения: 01.02.2022). 4 Например, комиссия по правовым реформам Уганды готовит ежегодный отчет об их реализации. URL: http://www.ulrc.go.ug (дата обращения: 01.02.2022). Аналогичные комиссии имеются в Ирландии (URL: http://www.lawreform.ie (дата обращения: 01.02.2022)), в Австралии (URL: http://www.alrc.gov.au/ (дата обращения: 01.02.2022)) и в других странах. См. также.: Zakiyy N., Hassan K.H. Reviewing Specific Oversights in Civil Litigation Reforms in Malaysia // Mediterranean Journal of Social Sciences. Rome. 2015. № 6. P. 428–435. 5 Об этом см. также: Синицын С.А. Судебная практика как важнейший фактор развития законодательства: опыт российского и зарубежного права // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2017. № 62. С. 102–107; Оськина И., Лупу А. Судебное правотворчество во Франции. М., 2013. № 7. С. 15; Кучин М.В. Судебное нормотворчество: дискуссионные аспекты // Российский юридический журнал. 2016. № 3. С. 34–45. 6 Наиболее подробно проблемы правотворчества в Великобритании рассмотрены в работе М. Зандера, издававшейся семь раз с 1980 г.: Zander M. The Law-making process. Seventh Edition. Oxford and Portland, Oregon, 2015. 510 p. 275 прецедентного права всегда подчеркивается. В авторитетной работе М. Зандера по данному вопросу круг субъектов процесса правотворчества представлен широко: «Правотворчество – дело парламента и судей. Правотворчество также дело тех, кто подготовил законопроект, и тех, кто их инструктировал. Это дело юристов, которые предложили правовые аргументы по конкретному делу суду, или ученых, которые пишут о праве1, или отдельных лиц и организаций, участвующих в общественном обсуждении законопроекта. Печатные и онлайн-издатели официальных правовых текстов также играют важную роль в данном процессе»2. Указанная позиция отражает социологический подход к правообразованию, где суд занимает место наряду с парламентом, а также среди иных институтов, в том числе невластных. Процедурные аспекты принятия статутов (далее также – законов) в Великобритании регламентированы Руководством по принятию законов, опубликованным на сайте Парламента Великобритании 5 июля 2013 г.3 (далее – Руководство). Параграфом 14 Руководства предусмотрено, что на этапе подготовки законопроекта, если он влияет на права частных лиц или государственные услуги, требуется оценить его экономическое, социальное и экологическое воздействие. Соответствующие департаменты должны обеспечить исследование всех относимых к теме законопроекта вопросов. Важное замечание содержится в пункте 10.9 Руководства, адресованное к лицам, обращающимся в Парламент Великобритании с просьбой о принятии закона: «…необходимо помнить, что законопроект должен содержать лишь законодательное предложение. К таковым относятся предложения об изменении в области права, которые приводят в действие государственный механизм, чего не состоялось бы без принятия закона. Иногда заманчивым кажется попросить автора законопроекта подготовить предложение, которое не нацелено на изменения в праве, но служит конкретным политическим целям, разъясняет или подчеркивает уже существующий закон. Тем не менее подобные инициативы могут привести к плачевным последствиям, поскольку суды будут вынуждены 1 О роли доктрины в законотворчестве см.: Шуберт Т.Э. Роль доктрины в законотворчестве и правоприменении (на примере Конституционного Суда Российской Федерации) // Журнал российского права. 2017. № 2. С. 48–56. 2 Zander M. Op. cit. P. 32. 3 См.: Guide to Making Legislation. URL: https://www.gov.uk/government/publications/guide-tomaking-legislation (дата обращения: 01.02.2022). В рамках настоящей работы рассмотрен документ в редакции от 12.04.2017. 276 наделять их правовым содержанием исходя из предположения, что Парламент не принимает законы без необходимости, в связи с чем результат их принятия может быть таким, который Правительство не могло предугадать. Вместо того чтобы просить принятия подобных квазизаконодательных актов, следует рассмотреть иную возможность, например сделать заявления Министерства Парламенту либо включить его в пояснительную записку к законопроекту или в общее руководство к законопроекту». Отдельно следует обратить внимание на роль пояснительной записки к законопроекту. Статьей 105 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации1 (далее – ГД) предусмотрено, что по общему правилу авторы законопроекта должны вместе с его текстом подготовить пояснительную записку к нему, содержащую предмет законодательного регулирования и изложение концепции предлагаемого законопроекта, а также мотивированное обоснование необходимости принятия или одобрения законопроекта; перечень нормативных правовых актов, подлежащих изменению; финансово-экономическое обоснование законопроекта. Указанные документы также направляются для получения отзыва, предложений и замечаний на законопроект в комитеты, комиссии и во фракции ГД, Президенту РФ, в Совет Федерации, Правительство РФ, Счетную палату РФ, Общественную палату, а также в Конституционный суд РФ и Верховный суд РФ по вопросам их ведения. Указанные субъекты дают критическую оценку в том числе мотивированности законопроекта, показателем которой является анализ существующей правоприменительной практики по предмету предлагаемого регулирования. Представляется, что на сегодняшний день пояснительная записка незаслуженно игнорируется авторами законопроектов, и наилучшим образом отразит ее назначение скорее понятие «пояснительная отписка». Для сравнения следует обратиться к пункту 11 указанного выше Руководства Парламента Великобритании, где указано, что команда разработчиков законопроекта отвечает за подготовку пояснительной записки, которая публикуется вместе с принимаемым актом. Назначением пояснительной записки является помощь тому, кто ее изучает, в уяснении, зачем нужен закон и как он будет действовать, а также сопровождение законопроекта 1 См.: Постановление ГД ФС РФ от 22 января 1998 г. № 2134-II ГД «О Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 277 необходимой справочной информацией. Пояснительные записки, согласно Руководству, не направлены на исчерпывающее разъяснение проекта закона или на его субсидиарное дополнение. Они обеспечивают доступность законопроекта для читателя, который не обладает юридической квалификацией и специальными познаниями в сфере регулируемых законопроектом отношений. Часть пояснительной записки «Комментарии» должна содержать описание фактов, кросс-ссылки на другое относимое законодательство, а также примеры того, как законопроект будет реализовываться на практике. В законопроекте должно содержаться указание каждого ответственного лица, его рассматривающего, на соответствие, по его мнению, принимаемых положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод1. Показательно, что пояснительным запискам посвящено 147 подпунктов Руководства. Следует заметить, что в других странах общего права в аналогичных документах тема пояснительных записок настолько подробно не раскрывается, например в Канаде2. Однако в данной стране имеется практика подготовки комитетами Сената развернутых отчетов о необходимых реформах, основанных на правоприменительной практике3. На основе рассмотренного примера представляется разумным уточнить требование мотивированности пояснительной записки, закрепленное в Регламенте ГД, используя опыт Великобритании. При оценке действующих норм важную роль играют судебные органы, предоставляющие свои суждения о необходимости совершенствования нормативного регулирования. В зарубежных государствах имеются интересные примеры конструктивного и полезного для развития права диалога законодательной и судебной власти, который прослеживается в ходе мониторинга правоприменения. 1 См.: Guide to Making Legislation. P. 77–112. URL: https://www.gov.uk/government/ publications/guide-to-making-legislation (дата обращения: 01.02.2022). 2 Пояснительным запискам в Руководстве по принятию законодательных актов и регламентов Канады уделяется один короткий абзац. См.: Guide to making legislation Acts and Regulations URL: http://www.pco.gc.ca/docs/information/publications/legislation/pdf-eng.pdf (дата обращения: 01.02.2022). 3 См. напр.: Delaying Justice is Denying Justice. Final report of the Standing Senate Committee on Legal and Constitutional Affairs. URL: https://sencanada.ca/content/sen/committee/421/LCJC/ reports/Court_Delays_Final_Report_e.pdf (дата обращения: 01.02.2022). 278 В Гонконге на основании резолюции Законодательного совета Специального административного региона Гонконг Китайской Народной Республики (далее – ЗС ГК) действует Комиссия по администрированию правосудия и правовых услуг1. Названный совет готовит в ходе сессий ЗС ГК, целью которых является предоставление результатов мониторинга и исследования вопросов политики администрирования правосудия и правовых услуг2. Так, в докладе данной Комиссии за 2015–2016 гг. рассматриваются вопросы обеспечения доступа к правосудию; законотворчества на двух языках (английский и китайский); повышения квалификации кадрового состава судебных органов; механизма разрешения споров с должностными лицами судов и т.д., с целью демонстрации путей совершенствования правового регулирования в данной части. В рамках Совета Европы изучение национального опыта мониторинга правоприменения осуществлено Европейской комиссией по эффективности правосудия (ЕКЭП) по состоянию на декабрь 2007 г. в докладе «Мониторинг и оценка судебных систем. Сравнительное исследование»3 (далее – Доклад). В Докладе отмечается, что во Франции важнейшая роль в развитии правосудия принадлежит Министерству юстиции на основании принципов правосудия, получивших развитие в судебной практике: доступа к правосудию, независимости и беспристрастности суда; возможности пересмотра судебного решения (апелляционный пересмотр); контроля применения права; публикации мотивировки принимаемых решений; надлежащего процесса. Используя свои надзорные полномочия, должностные лица Минюста готовят тематические доклады, которые содержат предложения по улучшению судебной практики, ее содержательной и организационной частей. В Италии, согласно Докладу, развитию судебной системы способствуют два органа: Правовой совет и Министерство юстиции. При этом в силу ст. 104 Конституции Италии Правовой совет обес­ печивает независимость судебной власти, являясь самоуправляемым органом, не подчиняющимся Минюсту, судьям или прокурорам. Поддержка мониторинговой деятельности названных органов 1 См.: Panel on Administration of Justice and Legal Services. URL: http://www.legco.gov.hk/ general/english/panels/yr08-12/ajls.htm (дата обращения: 01.02.2022). 2 См.: CB4/PL/AJLS Report of the Panel on Administration of Justice and Legal Services for submission to the Legislative Council (2015-2016 session). URL: http://www.legco.gov.hk/yr15-16/ english/panels/ajls/reports/ajls20160713cb4-1195-e.pdf (дата обращения: 01.02.2022). 3 См.: CEPEJ. Monitoring and Evaluation of Court System: A Comparative Study. URL: https:// www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/series/Etudes6Suivi_en.pdf (дата обращения: 01.02.2022). 279 осуществляется Национальным институтом статистики. Оценка качества правосудия проводится на основании данных, систематизируемых в базе «Cruscotto». В Докладе также представлены сведения о практике оценки эффективности правоприменения в Греции, Сербии, Словении, которая на сегодняшний день во многом утратила свою актуальность в связи с прошедшими в данных странах проевропейскими преобразованиями. Из научных учреждений, ответственных за правовой мониторинг в зарубежных государствах, следует отметить Институт законодательства Республики Корея, являющийся единственным институтом в Южной Корее, финансируемым государством, специализирующимся на национальном законодательстве. Данным институтом публикуется около 300 докладов правового характера в год, многие из которых посвящены оценке законодательных реформ и предложениям по совершенствованию правового регулирования1. В союзных государствах функционируют Институт законодательства Республики Казахстан, Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь. В России изучение зарубежного опыта правового мониторинга на официальном уровне ранее осуществлялось временной комиссией Совета Федерации по методологии реализации конституционных полномочий, прекратившей свою работу в 2008 г.2 § 6. МЕДИАТИЗАЦИЯ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ Постиндустриальное общество, цифровые технологии и медиатизация Судебная система – часть социальной системы и информационного пространства, и все изменения, происходящие в обществе, в первую очередь оказывают влияние на ветвь власти, стоящую ближе всего к социуму и связанную с ним наиболее тесно. В начале ХХI века волна технологической революции оказалась значительной по социальным масштабам. Используемые в XX в. термины 1 См.: Korea Legal Research Institute. URL: https://www.klri.re.kr/eng/category/main.do (дата обращения: 01.02.2022). 2 См.: URL: http://council.gov.ru/services/reference/9623/ (дата обращения: 01.02.2022). 280 «информационное общество», «цифровое общество», «общество знаний» и иные, употребляющие ключевые слова «цифра», «информация», «технологии», могут быть заменены общим, многоаспектным и более корректно отражающим суть процесса изменений в социуме и власти термином – «постиндустриальное общество». Развитие технологий в ХVII веке привело к веку Просвещения. Эта мировоззренческая эпоха вполне может быть зеркалом для нынешней. Просвещение заявило о безграничной вере в человеческий разум и рационализм, что стало идейным содержанием эпохи. Вера в прогресс технологический и, соответственно, общественный создавала возможность, хотя бы и иллюзорную, построения общества на разумных основаниях. И, наконец, идея равенства перед законом – главная из идей Просвещения, предложившая на столетия вперед значительный по глубине задел для исследований и формирования общественных практик в виде поиска оптимальных форм публичной власти, судебных систем и нахождения оптимального разграничения личного и общественного пространства. В эпоху Просвещения технологии в виде станка Гуттенберга преодолели границы государств, связав печатным словом социальные и временные слои. Первоначальный успех книгопечатания, опиравшийся на дешевую бумагу и передовую металлургию, был многократно усилен в середине 1800-х гг., когда был изобретен телеграф и появились высокоскоростные печатные станки, дешевые газеты, затем радио и телевидение. Просвещение, принесшее в цивилизацию первый опыт медийного преодоления границ, получило акселерата-двойника в виде постиндустриальной эпохи с ее цифровыми технологиями. Эпоха постиндустриальная заявила о себе, создав «совершенно новую социальную, политическую и культурную реальность», которая требует «…масштабной перестройки правового пространства»1. Об обществе, основанном на знаниях, как основе социального государства писал А.Г. Лисицын-Светланов, отмечая, что «там, где обеспечивается высокий образовательный уровень людей, где научно-технический прогресс охватывает широкие слои населения… 1 Пономарев М.В. Либертарная и социальная модели социальной справедливости в условиях цифровизации общества // Правовое обеспечение социальной справедливости в условиях цифровизации: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием / Отв. ред. Т.А. Сошникова. М.: Изд-во Московского гуманитарного университета, 2020. С. 40. 281 создается материальная основа для решения государством социальных задач»1. Новая цифровая реальность, технологии и интернет обеспечили доступ к знаниям практически в любой отрасли. В таких условиях понимание перспективы формирования цифровой антропосферы должно закладываться в законодательные акты, с тем чтобы правовые и социокультурные контуры отношений были по возможности охвачены нормативным регулированием. Взаимоотношения права и языка в медийном пространстве обретают новое качество, при том что «история показывает, что с совершенствованием технологий может меняться форма жизни и фиксации источников законодательства, но право по-прежнему остается главным регулятором отношений в человеческом обществе, оставаясь на службе интересов человека, непременно сохраняя также качество языка»2. Право и язык, обретая различные, преимущественно визуальные формы восприятия, являются постоянными участниками общего процесса медиатизации общества. Канадский исследователь вопросов информационного общества Герберт Маршалл Маклюэн выпустил в свет в середине 60-х гг. прошлого века, в период первой волны пристального интереса к информатике, кибернетике и появления первых информационных теорий, несколько изданий, в том числе «Галактика Гутенберга» (1962), «Понимание медиа» (1964) и «Медиа есть сообщение» (1967). Маклюэн в целом рассматривает письменность как базовую технологию, лежащую, в свою очередь, в основе всех остальных технологий европейской цивилизации и определяющую формы общения и человеческого сознания. Им же было высказано предложение рассматривать человеческую историю как смену медиакультур – устной, письменной, печатной, электронной. Каждому историческому этапу свойственны свои средства коммуникации. Исследователи медиатизации общества Хепп и Коулдри также рассматривают историю развития общества через историю медиакоммуникаций3. Ученые, взяв за отправную точку время создания 1 Лисицын-Светланов А.Г. Инновационная деятельность и формирование социального государства // Права человека и правовое социальное государство в России: монография / Отв. ред. Е.А. Лукашева. М.: Норма, 2014. С. 207. 2 Синицын С.А. Машиночитаемое и машиноисполнимое право как вызов правовому регулированию // Российская Юстиция. 2021. № 7. С. 36. 3 Ник Коулдри – профессор и глава департамента медиа и коммуникаций Лондонской школы экономики и политических наук, известный социолог медиа и культуры. Его соавтор, Андреас Хепп, является профессором Центра исследований медиа, коммуникации и информации уни- 282 печатного станка, дали характеристику четырем волнам медиатизации1. Первая волна, механизация (1450–1830 гг.), связана с изобретением печатного станка и последующей индустриализацией коммуникации, результатом которой стало появление печатных медиа. Вторая волна – электрификация (1830–1950 гг.). В этот период возникает целый ансамбль медиа (телеграф, телефон, граммофон, радио, магнитофон, кинематограф, телевидение), основанный на электрической трансмиссии. Третья, дигитализация (с 1950-х гг.), – время компьютеров, интернета и мобильных коммуникаций, а также возрастающей интеграции машинного интеллекта в повседневную жизнь. И четвертая, датификация (XXI век), – начало новой волны, знаменующей эпоху больших данных, источниками которых являются, в частности, интернет вещей и социальные медиа. Каждую из перечисленных волн формирует не какое-то единичное медиа, а скорее особый технологический способ функционирования всей медиасреды. Волна медиатизации привносит качественные изменения в медиасистему, достаточно критичные для того, чтобы образовать отличительную фазу в текущем процессе медиатизации, даже с учетом локальных, региональных и национальных особенностей. По мнению Коулдри и Хеппа, медиатизация – это «двусторонний» концепт, позволяющий связать трансформации общества и культуры, с одной стороны, и специфические изменения в медиа и коммуникациях – с другой. Медиатизация рассматривается как глубокий и длительный метапроцесс, характеризующий ее проникновение на все уровни социальной жизни. Отсюда, по мнению исследователей, медиатизация имеет как количественное, так и качественное измерение; в первом случае можно говорить о временном, пространственном и социальном распространении медиа, во втором – о всевозможных последствиях, которые имеет эта медиаэкспансия для социального мира. Как можно и наблюдать сегодня происходящую медиатизацию власти, политики, религии, образования, науки, памяти и т.п. Однако процесс этот отличается в проявлениях в зависимости от культуры, географии, сегмента социальной жизни. Очередная волна медиатизации обновляет и существующие в обществе практики коммуникации. Последние две волны – дигитализация и датификация – коррелируют, по верситета Бремена. 1 The Mediated Construction of Reality. Polity. 2016. 283 мнению Коулдри и Хеппа, с фазой глубокой медиатизации социального мира. Несколькими годами ранее свой вариант периодов медиатизации предложил Стиг Хьярвард1. По мнению ученого, институцио­ нальные преобразования средств массовой информации можно сгруппировать на три временных периода: – до 1920 г., когда средства массовой информации выступают как инструменты других институтов, чьими конкретными интересами они соответственно руководствуются в своей деятельности; – 1920–1980 гг., в которых СМИ рассматриваются как культурные институты, деятельность которых реализуется в логике общественного регулирования социальными институтами; – с 1980 г. по настоящее (неопределенное) время, когда медиа стали независимым структурным институтом, со смещением медиа­логики в сторону коммерциализации в виде обслуживания целевых аудиторий. В дополнение к характеристике третьего периода можно было бы добавить слияние медиалогики с интересами публичной власти. Давая определение медиатизации, Хьярвард определил ее как процесс социального изменения, в ходе которого различные социо­ культурные пространства подчиняются логике и образу действия медиа. Медиа как язык и информационная среда вторгаются во все сферы общества. Они изменяют размеры, содержание и способы циркулирования представлений и практик в социуме. Ключевым здесь является тезис о том, что медиакоммуникации опосредуют общественное конструирование смыслов. Кроме того, благодаря освоению интернета и новых медиатехнологий, различные подсистемы общества и их смыслы приобретают транснациональное измерение. Медиакоммуникации и их фигурации сделали возможным заимствование смыслов, концептов и идеологем поверх национальных, культурных и территориальных границ. Но все же толчок к развитию информационных технологий и осмыслению возможностей печатного слова дало Просвещение. Можно, наверное, отметить то, что сам дискурс о роли и влиянии информационных технологий на общество носит в большей степени «западный» характер и смена медиакультур считывается с истории 1 The Mediatization of Society A Theory of the Media as Agents of Social and Cultural Change // Nordicom Review 29 (2008) 2, p. 120. 284 развития общества и государств западной европейской цивилизации. Однако цифровые технологии, интернет образуют некий универсальный процесс развития социальных сообществ и государств, хотя и отличающийся равномерностью и линейностью. Отличие будет обусловлено и степенью информационной развитости отдельно взятого социума, включенности в глобальные коммуникационные сети. И тем, какова ценность медиатизации внутри самой культуры. Волна технологической революции третьего тысячелетия отличается от предыдущих медийных волн не только темпами разработки и внедрения инноваций, но и социальными масштабами. Исследователи теории постмодерна утверждали, что средства массовой информации размыли грань между реальностью и воспринимаемой реальностью. Бодрийяр сказал, что «гиперреальность», создаваемая средствами массовой информации, даже более реальна для аудитории, чем реальность1. Медиатизация и постмодерн, знание и проблема идентичности Будучи интерактивными существами, люди хотят быть частью общества. Это чувство принадлежности дает ощущение безопасности, индивидуальности и целеустремленности. В былые времена ориентиром мыслей и действий, дающих основы идентичности самосознания, всегда были члены семьи, лидеры общественного мнения, религиозные деятели и структуры образования. Однако медиа­тизация последней волны изменила коммуникативную среду, тем самым сильно сместив контуры для формирования самоидентификации. Изменения медиатехнологий привели к изменениям коммуникативных практик и в конечном счете – к трансформации всего общества и культуры. Это один из ключевых тезисов теории медиатизации, рассматривающей медиа как фактор социальных и культурных преобразований. В частности, исследователь медиатизации общества Винфрид Шульц выделяет четыре процесса, посредством которых медиа меняют человеческое взаимодействие: расширение, замещение, объединение и приспособление. Медиа расширяют природные границы человеческой коммуникации; 1 Baudrillard, J. Simulacra and simulations // University of Michigan Press. 1994. 285 замещают те виды деятельности, которые прежде осуществлялись лишь лицом к лицу; интегрируют медийные и немедийные активности; вынуждают социальных акторов адаптироваться к требованиям «медиалогики»1. Отмечая преобразовывающую роль медиатехнологий, исследователи медиатизации по-разному видят векторы направления и движущие силы этих трансформаций. Общим местом, которое не оспаривается никем из теоретиков медиатизации, будет то, что речь не идет о линейных эффектах медиа, как правило, рассматриваемых в рамках исследований определенной, отобранной аудитории. Здесь люди не аудитория какого-либо медиа; они – социальные акторы, живущие в медиатизированных социальных мирах. В процессе первичной социализации индивида медиа поддерживают его «субъективную реальность», формируют его идентичность, что позволяет человеку овладевать практическим окружающим миром, дают знания, позволяющие решать ординарные проблемы в «базовом» сегменте социального мира. Вторичная социализация предполагает усвоение специфического ролевого знания, необходимого для подключения к институцио­ нальным подмирам. Будучи влиятельным агентом социализации и образования, медиа давно и прочно встроены в систему производства и распределения знаний2. Когнитивное влияние медиа возрастает одновременно с ростом дигитализации общественной жизни. Идентичность личности формируется в процессе постоянных узнаваний себя и мира, принятий и отказов от различных позиций и ролей. Но если раньше ролевые образы были ограничены и в мире Бергера – Лукмана доминировала идентичность, «признаваемая богами, психиатрией или партией»3, то сегодняшний цифровой мир предоставляет иные разнообразные цифровые образы, формируемые в социальных медиа. И речь идет об идентичности индивида, которая выстраивается посредством медиатехнологий и признается сообществом, в том числе вирутальным, сетевым. 1 Schulz W. Reconstructing mediatization as an analytical concept. European Journal of Communication. 2004. 19(1): 87–101. 2 Ним Е. (Не)социальное конструирование реальности в эпоху медиатизации. URL: https:// sociologica.hse.ru (дата обращения: 01.02.2022). 3 Berger P. L., Luckmann T. (1966) The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge, Garden City: Anchor Books. P. 165 286 Знание обусловлено способом существования человека в социальном мире, т. е. в конечном счете его коммуникативными возможностями. Взаимодействующие правовые субъекты (в постнеклассической науке – субъекты правовой коммуникации) становятся тем связующим звеном, которое соединяет нормативистский этатизм с юснатурализмом, а позже – с социологическим и психологическим правопониманием1. Об изменении самой природы идентичности в ходе технократической волны третьего поколения говорил О. Тоффлер. Два ключевых момента философски выделяются ученым: 1) в ходе перехода к постиндустриализму различия, которые раньше считались незначительными, приобретают культурное и политическое значение, поэтому общество становится гетерогенным, более дифференцированным, с разнообразными группировками. Меньшинства, ранее оформившиеся в самостоятельные общности, будут испытывать на себе воздействие центробежных процессов, приводящих к дальнейшей сегментации на подгруппы по расовым, этническим и религиозным признакам, а потом и на более мелкие, более разнообразные мини-группы; 2) индивид все менее и менее связан контекстом своего рождения и обладает большим выбором в самоопределении, в том числе и потому, что ускорение темпов социальных и культурных изменений приводит к тому, что идентификации, которые выбираются, становятся более кратковременными, а люди принимают или отказываются от каких-либо компонентов своих идентичностей быстрее, чем когда-либо. Информационная политика судебной системы в контексте процессов медиатизации Механизм власти, особенно судебной, и права человека как институт переосмысляются и подвергаются значительным реальным преобразованиям в сегодняшнем дне с учетом воздействия медиатизации. Для проводимого ежегодно Европейским Судом по правам человека семинаре в 2021 г. темой было выбрано «Верховенство закона и справедливость в цифровую эпоху», на котором особое внимание было уделено использованию социальных сетей 1 Поляков А.В. Постклассическое правоведение и идея коммуникации // Правоведение. 2006. № 2. С. 28. 287 судебной властью – от особенностей нахождения судей в медийном пространстве до поиска баланса в соблюдении конвенционных прав, ст. 10 и 8 Конвенции в частности, национальными властями и частными лицами1. Европейский наднациональный суд обратился к теме влияния информационных технологий и медиа на судебную власть, выстроив в итоговом документе прошедшего семинара рамки того, что можно назвать европейской информационной политикой судебной власти. В отечественной судебной системе шаги в направлении учета процесса медиатизации жизни социума были предприняты два десятка лет тому назад и уточнены в результате наработанного опыта взаимодействия со СМИ и понимания роли медийного пространства в формировании правосознания граждан и возможности их правовой социализации. Так, Совет судей Российской Федерации 5 декабря 2019 г. одобрил Концепцию информационной политики судебной системы на 2020–2030 гг.2, дополняющую и развивающую положения Концепции, принятой в 2001 г.3 С учетом имеющегося доступа к информации о деятельности судебной системы через официальные интернет-сайты судов, интернет-порталы правовой информации, справочные информационные системы, печатные издания, информационные терминалы судов и СМИ важной задачей судебной системы названа необходимость увеличения количества информационных ресурсов судов (порталы, издания, мобильные приложения, социальные сети, информационно-образовательные проекты, видео) и освоение новых платформ взаимодействия с гражданами, преимущественно сетевых, что в условиях медиатизации выглядит особенно актуально. Судами предпринимаются шаги в пока не освоенном медийном пространстве, учитывающие процесс возрастающей зависимости общества от СМИ и их логики. Для судебной власти зеркальным отражением результатов деятельности судов – вынесенных актов, сформированных правовых позиций – будет их инкорпорирование в медиалогику. Построение правовой реальности, изображаемой 1 Judicial Seminar 2021. The Rule of Law and Justice in a digital age. URL: https://www.echr.coe. int (дата обращения: 01.02.2022). 2 Концепция информационной политики судебной системы на 2020 – 2030 годы (одобрена Советом судей РФ 5 декабря 2019 г.) // СПС «Гарант». 3 Постановление Совета судей РФ от 16 ноября 2001 г. № 60 «О Концепции информационной политики судебной системы»// СПС «Гарант». 288 средствами массовой информации и осваиваемой индивидами, формирует индивидуальную, коллективную идентичность, в том числе влияет на коллективную память. Представляется, что в Концепции информационной политики образца 2019 г. (Концепции-2019) сделана попытка учесть разные уровни восприятия судебной системы (как специализированным профессиональным правосознанием юристов, так и массовым обыденным, от которого также во многом зависит доверие общества судам). В этом же ключе можно рассматривать задачу популяризации знаний о судебной системе среди широкой общественности, которая должна служить улучшению имиджа суда. Важным направлением в информационной политике судебной системы названо формирование информационно-образовательной среды судов, призванной повысить уровень знаний о правосудии в обществе, квалификацию и уровень подготовки судей и сотрудников аппарата судов к работе с информационными ресурсами. По сути, речь идет о создании площадки двухсторонней коммуникации, препятствующей формированию в сознании общества однобокого имиджа судебной власти. При разработке Концепции-2019 был учтен максимум существующих на сегодняшний день технологических возможностей для создания единого информационного пространства, объединяющего суды всех уровней, органы судейского сообщества и системы Судебного департамента, включающего в том числе все базы и банки данных, потенциал облачных технологий работы с большими объемами информации. Все это призвано облегчить доступ к судебной информации участникам процесса, гражданам, организациям, общественным объединениям, органам государственной власти и местного самоуправления, представителям редакций средств массовой информации. Особую значимость приобретает качество информации, от которой зависит мнение общества о судебной системе. Поэтому в Концепции-2019 обоснованно подчеркнута необходимость разработки стандартов подачи материалов пресс-службами судов, стандартов контроля их работы, подробно сформулированы обязанности пресссекретарей судов. Подчеркнем, что в условиях медиатизации очень своевременно учтена необходимость выработки алгоритмов действий судебной системы по защите судей от тенденциозных публикаций, нацеленных на формирование негативного образа судьи и оказание 289 давления на суд. Чрезвычайно остро стоит задача создания системы мер, позволяющих не допустить возможного манипулирования общественным мнением в отношении судебной власти, умаления ее авторитета, необоснованной критики, подрывающей доверие общественности к органам правосудия. В связи с этим предложено проводить региональные мероприятия с участием СМИ (семинары, конкурсы и т.п.) для обсуждения актуальных вопросов правоприменения, а также нивелирования возможных конфликтных ситуаций. Обращено внимание на необходимость создания и информационного сопровождения гильдии судебных репортеров. Предлагается также создание при советах судей субъектов Российской Федерации постоянно действующих комиссий по мониторингу открытости и доступности правосудия на территории субъектов. Весьма актуальной нужно признать задачу мониторинга региональных информационных ресурсов на предмет анализа динамики общественного мнения и оперативного реагирования на размещение не соответствующих действительности сведений. Главной задачей в условиях медиатизации становится максимальное использование потенциала разных видов традиционных и прежде всего новых медиа для формирования в общественном сознании понимания значимости сильной и независимой судебной власти, важности проведения судебной реформы. Массовое сознание признает высокую ценность права на судебную защиту, но при этом зачастую склонно к негативным оценкам судебной системы, в том числе под влиянием разного рода публикаций. В связи с этим представляется особенно важной задача максимально быстрого отслеживания медиаконтента и оперативного реагирования на появление негативной или недостоверной информации. Для построения эффективных коммуникаций судов и общества необходима обратная связь – знание и понимание отношения общества к ключевым проблемам деятельности суда, а также независимые оценки правореализационной деятельности. Проводимая в нашей стране судебная реформа, призванная модернизировать правосудие, повысить его качество и эффективность, обеспечить высокий уровень правовой защищенности граждан и организаций, доверия гражданского общества к суду, требует от судейского сообщества значительных усилий непосредственно при отправлении правосудия. В этих условиях большое значение 290 имеет адекватное ресурсное обеспечение судебной системы, эффективное распределение функционала между органами судейского сообщества, судами и структурами Судебного департамента с учетом того, что пресс-службам предстоит работать на стыке гуманитарной и технологической парадигм. Медиатизация судебной власти Медиатизация судебной власти – это сложный процесс формирования общественного мнения о конкретных судебных делах или событиях, происходящих в рамках института судебной власти и затрагивающих интересы общества в целом и права и обязанности граждан в частности. В процессе медиатизации судебной власти выявляется та функция судов, которая, возможно, станет играть одну из ключевых ролей в правовом обществе, – погружение человека в информационный поток, формирующий его правовое сознание и правовую культуру. Правосудию и медиатизации посвящена отдельная глава в книге «Суд и государство», вышедшей в свет под редакцией профессора МГУ имени М.В. Ломоносова Л.В. Головко1. По мнению авторов издания, «средства массовой информации играют большую роль в повседневной жизни, поэтому освещение судебных событий оказывает непосредственное воздействие не только на имидж правосудия, но подчас и на его осуществление». Преобразованная СМИ информация формирует общественное мнение. Будучи интерпретатором информации, медиа не только выступают как ее источник, но и становятся субъектом коммуникативного процесса, поскольку отбирают и передают, трансформируют в том или ином контексте значимые новости, поступающие из судебной системы. Так было и так пока есть в настоящее время. Однако представляется, что суды и судебная власть в целом также должны быть не только источником, но и автором информационного потока. Судебная власть как носитель информативной функции может стать участником медиадискурса: создателем и транслятором не только новостей, но и позитивных правовых идеологем – правовых установок, предлагающих аудитории определенное видение мира, правового образа мыслей и поведения. 1 Суд и государство / Под ред. Л.В. Головко, Б. Матьё. М.: Статут, 2018. 291 Социальные государства XX века, сформировавшиеся как ответ на вызовы индустриализации, социальных и экономических потрясений начала прошлого столетия, заложили основу взглядов на гражданские права, значение судебной власти и роль государства в целом. Однако события последних месяцев показали новые риски и потребности современного общества. Медиатизация трансформирует ресурс судебной власти, наделяя его новым важным свойством – информационным, воздействующим на правовую культуру и сознание общества. Кроме судов, ни один институт современного государства не обладает такой уникальной возможностью формировать правовую идеологию, правовую культуру, правовое сознание, воздействовать непосредственно на участников процесса и на неограниченный круг лиц благодаря выносимым решениям, создаваемой прецедентной системе судебной практики и правовым позициям, высказываемым Верховным и Конституционным судами Российской Федерации. Но реализация этой возможности требует активных шагов со стороны судебной власти. Доступность судебной защиты для граждан выражается еще и в понимании ими действий суда. Аргументация судебных актов, ход мысли судьи, выраженный в мотивировочной части решения, становятся не менее значимыми, чем резолютивная часть вынесенного решения. Особое воздействие на формирование правосознания оказывает именно аргументация, сделанный судьей выбор при принятии решения. С точки зрения исследователя доктрины аргументации судебных решений Х.И. Гаджиева, «сила воздействия права зависит от аргументации. Решение должно быть понятным как сторонам процесса, так и публике, которая оценивает по нему, свершилось ли правосудие. Аргументация отражает облик правосудия в стране и показывает мировоззрение судьи, уровень его правопонимания и видения общего социального контекста»1. В медийном обществе текст становится основой общения, восприятия и самовыражения. А значит, как от самих судей, так и от пресс-секретарей требуется находить новые подходы в работе со словом. Эффективность и качество информационного сообщения определяются выбором языковых средств, помогающих доступно передать заложенный автором смысл. Размещение текста 1 Гаджиев Х.И. Роль судебной аргументации в эволюции законодательства и правоприменения // Журнал российского права. 2020. № 9. 292 в медиапространстве предполагает эффект снежного кома: будучи брошенным в интернет-среду, сообщение обрастает множеством откликов различной формы и различной эмоциональной окрашенности. Связность, цельность и своевременная публикация судебной информации дают не меньший «правоприменительный» эффект, чем сам судебный акт, ставший предметом сообщения. Для правильного восприятия информации потенциальной аудиторией важен и такой компонент, как заголовок: нельзя недооценивать его содержательную и структурную нагрузку для сетевых текстов. Выстраивание медийного пространства судебной власти начинается с умения оперативно работать с текстом и заголовком, в том числе использовать «мягкую цензуру» в виде вытеснения одной новости другой. Доверие к судебной власти во многом зависит от того, демонстрируют ли ее представители приверженность к общим с гражданами ценностям. Ценности, разделяемые и носителями судебной власти, и гражданами, снижают конфликтность в медиапространстве, в обсуждениях и диалоге общества с властью. А доверие граждан будет выражено в том числе и в понимании ими того, что моральный долг требует от них подчиниться судебной власти. Наличие общих ценностей и одобрение обществом особенно важны судебной власти. Надо отметить еще один аспект медиатизации судебной власти, который касается формирования кадрового судейского корпуса. Альфа и омега судебной власти – правовая культура, транслируемая предыдущими поколениями судей их преемникам с учетом общего информационного состояния в обществе. И здесь снова немалую роль играет аргументация судебных решений, размещаемых и обсуждаемых в публичном пространстве. Судебная практика оказывает значительное влияние на жизнь сообщества, по сути, обеспечивая правовую социализацию граждан и выстраивая границы взаимоотношений властных, в том числе государственных, структур. В силу универсальности судебной практики можно говорить об участии судебной власти в построении национальной модели правовой социализации через медиатизацию. Кандидаты на должности судей, обладая необходимым уровнем знаний и профессиональных навыков, должны понимать значение контекстуальности каждого судебного решения и его влияния на социальную жизнь в целом, видеть как спорную ситуацию, так и возможные последствия ее решения, чувствовать разумные ожидания 293 сторон и действовать на благо общества, что выдвигает особые требования к правопониманию тех, кто осуществляет правосудие. Медиатизация судебной власти и общества на сегодняшнем этапе сопровождается кризисом этики и права европейской цивилизации. Масштабные социально-культурные изменения, в том числе утрата правовыми европейскими ценностями доминантного значения для населения, состав которого меняется под влиянием сильных миграционных процессов, выводят на первый план деятельность судов и судебную практику как возможный объединяющий фактор, способный сплотить людей независимо от их этических и религиозных взглядов. Правосознание и правовая культура в медийной плоскости обретают новое значение, которое, возможно, позволит избежать случаев, подобных недавнему убийству французского профессора истории за демонстрацию учащимся на уроке свободы слова антиисламских карикатур. По мнению Питирима Сорокина, видевшего в обществе потребления разрушение этических и правовых ценностей, «если суть моральных и правовых норм сводится к полезности и к чувственному наслаждению, то каждый вправе следовать этим ценностям adlibidum. Так как полезность и удовольствие разнятся у отдельных людей и народов, то и следуют они им как пожелают, достигают их средствами, имеющимися в их распоряжении»1. Единым моральным кодексом могла бы стать, например, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод2. В частности, практика ее применения ЕСПЧ и национальными судами, транслируемая и обсуждаемая в разнообразных СМИ, стала бы драйвером общественного мнения, что в итоге позволило бы сформировать единые нравственные убеждения, единую правовую культуру с принятием дозволенных моделей поведения, включая уважение к суду. Правовая культура предполагает не только духовное, но и практическое освоение права. Она показывает степень и характер правового развития личности, обеспечивает правовую активность человека. Применительно к судебной власти это будет выражаться в проявлении уважения к суду и осуществлении корректного общественного контроля за деятельностью судебной власти. 1 2 Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 501. Заключена в г. Риме 4 ноября 1950 г. // СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163. 294 Активный процесс медиатизации судебной власти в ближайшей перспективе может корректировать общественное мнение по тому или иному правовому вопросу, а в дальней – воздействовать на этические и правовые установки в поведении и сознании граждан. Информационные технологии и судебный контроль за вмешательством публичной власти в права человека Реализация права осуществляется благодаря его разнообразным функциям, эффективность которых в свою очередь в немалой степени зависит от успешно действующей судебной системы. Право и судебная система – идеально взаимодополняющие институты, взаимодействие которых способствует как оправданию ожиданий общества в защите частной жизни, так и выработке консенсуса в понимании, например, непосредственно конфиденциальности с учетом ускоряющегося прогресса в информационных технологиях. Происходящие процессы в связи с принятием мер по защите здоровья людей от COVID-19 показывают, что, во-первых, не все из них носят временный характер или хотя бы «невозвратный»; вовторых, меры по ограничению прав и свобод, задействованные в связи с пандемией, состоят в основном из того комплекса средств наблюдения, которые прежде уже использовались в целях укрепления национальной безопасности или правопорядка и борьбы с правонарушениями. Еще одно обстоятельство, на которое следует обратить внимание, заключается в возможном вступлении человечества в эпоху, когда нынешняя пандемия, к сожалению, может оказаться не последней. Нельзя игнорировать и повторяющиеся предупреждения со стороны некоторых исследователей, один из которых – автор известных бестселлеров о прошлом и будущем человечества Юваль Ной Харари. Он в недавнем интервью вновь повторил угрозу, которая вызвана сбором и хранением огромного количества данных, включая биометрические. Меры по наблюдению за людьми в связи с COVID-19, пожалуй, достигли своего наивысшего уровня, ограничивая наши свободы, в первую очередь передвижение. Заметим, что мы не против наблюдения, в особенности, когда оно направлено против быстрого распространения вируса и осуществляется это в интересах людей. Однако наша главная идея заключается в необходимости систематического соизмерения применяемых мер с целью баланса ценностей, которые, с точки зрения 295 прав человека, важны одинаково. Согласитесь, что так много сделано человечеством во имя свободы, что допустимые пределы ее ограничения должны быть обоснованными, а преследуемые цели законными и ясными. Любые наблюдения, сбор данных, их хранение и обработка даже во имя здоровья и безопасности должны быть на основе закона и подконтрольны судебной власти, которой следует обеспечить баланс прав и свобод, включая право на здоровье и безопасность. Судебная система – институциональная технология, разработанная на протяжении тысячелетий путем успехов и ошибок, порой даже тяжелых, если вспомнить, к примеру, инквизицию «троек» из недалекого прошлого. В то же время нынешнее национальное правосудие в своем эволютивном развитии обязано достижениям в области защиты прав и свобод человека, когда особая ответственность возлагается на судей. Современный период развития актуализировал роль суда как естественного гаранта свободы, способного ответить на вызовы в век цифровых технологий. Важно поддержать концепцию, согласно которой понимание права состоит в выражении справедливости, возлагая на суды решение задач поиска этой справедливости. Добавим также, что названные поиски сопровождаются развитием права благодаря реализации характерных для осуществления правосудия судейских функций, среди которых лидирующая роль принадлежит судебному правотворчеству. Правильно считают, что принцип разделения властей используется судебной властью для расширения или сдерживания собственной власти, используя обе позиции в зависимости от характера проблемы, с которой сталкивается суд. Осуществление правосудия представляется в виде движения, в процессе которого выявляются проявления судейского активизма или сдержанности, обусловленные внешними социальными процессами и задачами, которые решает суд для поддержания демократического правопорядка. Проявляя иногда сдержанность, судьи ограничивают, сокращают пределы действия закона, отдавая предпочтение мерам публичной власти в отношении, например, вводимых ограничений, затрагивающих права граждан на передвижение в условиях распространения вирусных заболеваний. Такой парадокс мы наблюдаем в век расширения цифровых технологий и презумпции их благополучного использования для обуздания, например, нынешней пандемии. В то же время очевидно и то, что ограничительное толкование норм, обеспечивающих права и свободы граждан, противоречит самой сути защиты этих 296 ценностей. Именно поэтому Европейская конвенция по правам человека позволяет сокращать пределы прав в исключительных случаях. Проблема, с которой сталкиваются сегодня национальные власти, требует усиления интегративных начал, судебного взаимодействия, использования опыта других правовых систем, как они сочетают защиту прав со стремлением использования современных технологий для минимизации опасности для здоровья людей и угроз национальной безопасности. Представляется важным взаимодействие в изучении аргументации в общем контекстовом подходе с учетом верховенства национальной Конституции. Важность исследований заключается в выявлении наличия или отсутствия консенсуса в приводимых аргументах, присутствия единых стандартов. Меры по осуществлению контроля являются ключевым средством предотвращения злоупотреблений, одновременно укрепляя доверие общества к применяемым временным ограничениям. Судебные разбирательства следует использовать для изучения ежедневной практики массовых наблюдений и сбора данных для контроля за соблюдением процедур, условий хранения данных, ограниченного доступа к ним, условий их обработки, последующего уничтожения. Следовательно, все меры должны допускаться на определенное время, что необходимо предусмотреть в соответствующей правовой норме. Существуют определенные выработанные национальной и международной судебной практикой критерии или условия применения ограничительных мер. Во-первых, общее правило состоит в том, что любые меры должны быть необходимы в демократическом обществе. Реальные угрозы здоровью людей и безопасности государства требуют наличия в национальном праве мер, к которым прибегают публичные власти, и это соответствует основному тесту – «в соответствии с законом». Во-вторых, сам закон должен быть доступным и достаточно ясным. Точность закона играет решающую роль с точки зрения защиты прав человека. В-третьих, закон должен быть предсказуемым, что предполагает предвидение последствий в ходе применения. На судей возлагается конституционная ответственность по определению соразмерности предпринимаемых мер и оценке законности действий публичной власти. Закон должен одновременно предложить достаточную степень защиты и предупреждения представителей власти от произвольных или превышающих допустимые пределы действий. В связи с этим хотелось бы сказать, что, как обоснованно подчеркивалось в правовой 297 литературе, Кельзеновская модель конституционного правосудия сыграла неоценимую роль в довольно короткий для истории период в странах, решивших достигнуть успеха в обеспечении верховенства права, защиты прав человека и в утверждении демократических принципов. Многие конституционные суды все чаще в своей практике стали определять конституционность правоприменительной практики, используя отдельные элементы кассации. Положительно оценивая такого рода деятельность, хотелось бы обратить внимание на важность занятия особого места в работе судов обычной юрисдикции, прежде всего апелляционных и кассационных, определения соответствия праву принимаемых мер, в некоторых случаях, ограничивающих наши права и свободы. Эволюция правоприменения требует усиления правотворческих начал при осуществлении правосудия, чему будет служить частичная «децентрализация» нормоконтроля, которая допустима действующим законодательством. Изложенное актуально сейчас, когда принимаются различные ограничительные меры представителями публичной власти разных уровней. Думается, что при этом следует обратить внимание на реализацию главной функции правосудия по утверждению справедливости и развитию права, связанной напрямую с решениями основной проблемы, с которой сталкиваются суды, призванные постоянно интерпретировать правовые нормы: как адаптировать толкование правовых норм к изменившимся обстоятельствам и условиям в обществе. В связи с этим интересны совпадающие с нашей оценкой судебной деятельности идеи судьи ЕСПЧ Siofra O`Leary, высказанные на конференции в связи с 70-летием Европейской конвенции по правам человека: «Мы должны четко осознавать, что недостаточно оперативны, когда даем ответы на возникающие правовые проблемы, которые сами по себе являются продуктом быстрых технологических изменений и которые не собираются сокращаться». Частная жизнь людей представляется неотъемлемой частью свободы личности, и защита ее напрямую отражается на том, как мы можем распоряжаться нашей свободой. Относясь к интерпретируемой норме права как к живому организму, судьи, проявляя свои познания в рассматриваемой области, должны установить справедливый баланс между требованиями защиты здоровья людей и необходимостью обеспечения свободы. Достижения такого баланса возможно при оценке фактов и права в каждом случае на индивидуальной основе. Изложенное очень тесно связано с 298 традициями, под которыми порой понимается наличие истории как основы для будущего. С точки зрения права «традиция» приобрела самостоятельное значение и употребляется часто в качестве «правовой традиции», отражающей или скорее содержащей в себе принятые в обществе и государстве взгляды на роль права и восприятие его как условной социальной ценности. Она в концентрированной форме отражает идеи о функционирующей правовой системе и о том представлении, каковы правовые и нравственные основы этой системы. Правовая традиция, правовая культура и правовая система – три отдельных, но эмпирически взаимосвязанных понятия, представляющие собой итог реализации конкретных правовых концепций, принципов, идей, нравственных убеждений. Возможно, что закон, к примеру, о наблюдении или сборе, хранении и обработке данных будет содержать недостатки, которые отразятся в будущем на позитивном развитии общества, то есть законодателю сложно увидеть их последствия во время его принятия. Однако правовые традиции, правовая культура и сама правовая система позволят очень быстро выявить и корректировать недостатки правовой нормы. Именно такая реакция ожидаема от современной судебной системы при соотношении конкурирующих в сложившейся исторической реальности ценностей. С практической точки зрения требование пропорциональности состоит в поиске баланса конфликтующих прав и интересов, и эту задачу выполняют судьи, уравновешивая потенциальные угрозы для здоровья и свободы личности, соблюдая гармонию интересов личности и общества в целом. Преимущество судебного контроля выражается в демократических процедурах, в которых он осуществляется, и в этом его отличительная черта. Задача нынешних и будущих обсуждений – соблюдение фундаментальных принципов, которыми руководствуются судьи, и гарантии справедливого судебного разбирательства, которые должны соотноситься и учитывать использование достижений цифровых технологий. Очевидно, что выполнение позитивных обязательств по защите здоровья и жизни людей ложится на публичные власти, которые обязаны своевременно объективно информировать общество о сложившейся реальной ситуации, а также о мерах, которые будут приняты и могут повлиять на права и свободы людей. Судебный контроль включает не только оценку законности и необходимости вмешательства, насколько оно было пропорциональным, но и своевременность и качество самих этих 299 мер, особенно, когда существует противоречие между медицинскими и научными мнениями относительно наилучшего курса действия. Сложность рассматриваемых проблем потребует особых познаний судьи в использованных технологиях, привлечения специалистов для дачи мнений, обеспечения публичности судебных разбирательств. В то же время надежность защиты прав человека в общенациональном контексте требует диалога всех ветвей власти. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Как отмечал Марк Ван Хук, лучшим объектом сравнительноправового исследования является правовая культура1, поскольку именно в рамках ее исследования устанавливаются наиболее существенные черты, позволяющие воспринять тот или иной правовой институт. В науке выделяют два основных этапа сравнительноправового исследования: 1) определение типичного и уникального в правовой действительности; 2) анализ в найденном типичном общего и особенного2. Только на втором этапе устанавливаются сходство и различие сравниваемых объектов. В ходе проведенного исследования авторский коллектив рассмотрел вопросы законодательного регулирования и правоприменительной практики в области применения цифровых технологий. Установлено, что программные документы как в России, так и за рубежом в основном посвящены установлению перечня дозволений и запретов в определении направлений дальнейшего использования подобных технологий, и на сегодняшний день окончательно невозможно сформировать перечень отраслей, заслуживающих безусловного нормативного стимулирования либо запрета. Наиболее правильным является рискориентированный подход, учитывающий интересы национальной безопасности, хозяйствующих субъектов и граждан. Стимулирование экономического роста в связи с использованием цифровых технологий тенденциозно осуществляется с применением экспериментальных правовых режимов, позволяющих организовать локальные эксперименты в области дозволений. Наиболее часто подобные режимы применяются в области регулирования финансовых правоотношений. Конституционализация вопросов использования цифровых технологий, состоявшаяся в ходе конституционной реформы 2020 г. в России, отражает тенденцию повышения уровня нормативного регулирования данных вопросов с программно-стратегического до 1 Hoecke Van M., Warrington M. Legal Cultures, Legal Paradigms and Legal Doctrine: Towards a New Model for Comparative Law // International and Comparative Law Quarterly, 1998. № 47. P. 518. 2 См.: Малиновский А.А. Методология сравнительного правоведения // Вестник университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). М., 2016 (№ 3). С. 9–24. 304 законодательного. При этом вопросы правового статуса личности, формирующихся новых прав и свобод, а также интересов и притязаний все в большей мере обеспечиваются государственной защитой. Развиваются также классические институты представительной демократии, что связано с экспоненциальным ростом уровня коммуникации и появлением возможности объединения граждан с целью принятия групповых решений. В связи с распространением цифровых технологий в сферы криминалистической техники, тактики и методики, вопросы расследования преступлений и судопроизводства по уголовным делам также нуждаются в законодательном решении с учетом существенного расширения возможностей органов дознания и предварительного следствия в области сбора и оценки доказательств, а также их раскрытия перед судом. Классические подходы к базовым принципам и презумпциям, в частности к презумпции невиновности, нуждаются в новом доктринальном наполнении и последующем практическом воплощении. Судебная власть в связи с распространением цифровых технологий претерпела также существенные изменения, связанные с ее частичной десакрализацией, обусловленной внедрением методики веб-конференций. Наряду со снижением транзакционных издержек участников судебного разбирательства это может привести к снижению авторитета суда в отсутствие ясного порядка поддержания доверия граждан к суду и обеспечения уважения судебной власти. Научное издание ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ . В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. . СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ Формат 60×90/16. Бумага офсетная. Гарнитура SchoolBook. Усл. печ. л. 19,0. Тираж 500 экз. ИД «Юриспруденция» 105066, Москва, ул. Спартаковская 6-50 www.jurisizdat.ru, e-mail: [email protected] Тел. (495) 784-84-06