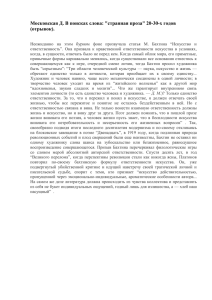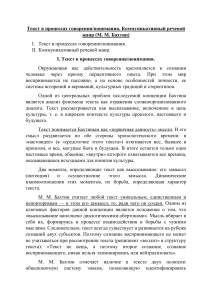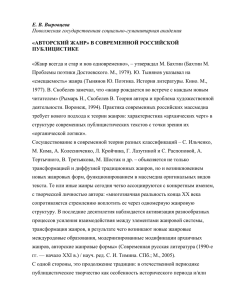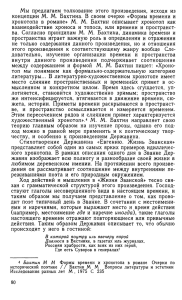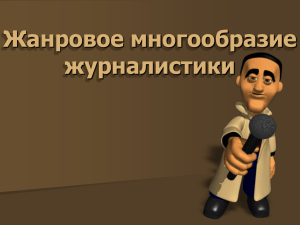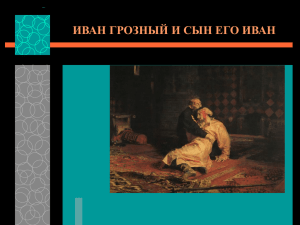И. ШАЙТАНОВ ЖАНРОВОЕ СЛОВО У БАХТИНА И ФОРМАЛИСТОВ Поставленные рядом имена Бахтина и формалистов неизменно побуждают к противопоставлению. Начало ему было положено прижизненной полемикой — со стороны М. Бахтина; незамечанием — со стороны формалистов. Последующей бахтинистикой это противопоставление было канонизировано и предстало безусловной полярностью двух взаимоисключающих направлений мысли, Так ли это в действительности? Развернуто Бахтин выступил дважды. Сначала была написана большая работа «Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве», предназначенная в 1924 году для журнала «Русский современник», но с его прекращением по цензурным причинам она тогда не увидела свет, Спустя четыре года после неопубликования первой работы, в 1928 году, появилась книга под именем П. Н. Медведева «Формальный метод в литературоведении. Критическое введение в социологическую поэтику». Это факты хорошо известные, но за ними — немало неясного. В первой работе формальный метод был отвергнут как «материальная эстетика», созданная спецификаторами, сознательно выводящими изучение искусства слова из сферы «общей философской эстетики»1. Понятно, что для Бахтина, философа по преимуществу, это неприемлемо. 1 М. М. Бахтин, Литературно-критические статьи, М., 1986, с. 31. 89 Здесь сразу же возникает ряд очень больших проблем бахтинского творчества: в какой мере органичным, закономерным и действительно важным для него было обращение к изучению словесного искусства? Или Бахтин занялся им от безысходности, по вине и воле обстоятельств, исключивших в большевистской России любой иной философский путь, кроме марксизма? Если да (как теперь часто полагают), то его явление в науке о литературе можно рассматривать как своего рода духовное изгнание, ссылку с естественным побуждением — вырваться. Сужение сферы собственной деятельности, так сказать, вынужденное «спецификаторство», особенно болезненно заставляло его воспринимать «спецификаторство» добровольное, положенное в основание эстетической системы. Сам же Бахтин, лишенный возможности работать в области философской эстетики, в какой-то момент предпринимает попытку — компромиссную? — выступить в цензурно допустимом жанре и создает социологическую поэтику. Так появляется его вторая работа против формализма... Впрочем, его ли, бахтинская ли, работа? Снова глобальная творческая проблема — авторства книг, вышедших под именами людей, близких к Бахтину и в той или иной мере связываемых с его именем? В какой мере? Поскольку без «Формального метода в литературоведении...» невозможно обсуждать ни его отношение к формализму, ни его отношение к жанру, придется дать хотя бы беглый ответ, не входя в обстоятельства существующей полемики. Ясно, что ответ не должен быть категоричным. С полной достоверностью мы не можем (и никогда не сможем, невзирая на имеющиеся или когда-либо могущие обнаружиться свидетельства, признания самих участников «бахтинского» кружка) сказать: это книги Бахтина или, напротив, Бахтин не вмел к ним отношения. Отношение он имел, но весь вопрос — какое? Собственно, что мы имеем в виду, устанавливая авторство,— кто водил пером, кому принадлежат идеи, которые надиктовывались или рождались в свободном обсуждении? Это последнее обстоятельство непреложно, ибо существовало сообщество людей, разных и самостоятельных, связанных общностью интересов. Бахтин сегодня для нас, безусловно, заслоняет своих собеседников — в большом времени. Но в своем времени они были его со-беседниками, со своим голосом и мнением, даже если для нас и поглощенными голосом и мнением Бахтина. Это, так сказать, естественная несправедливость ретроспективной оценки. Для Бахтина же, не сегодняшнего — возве90 личенного, а тогдашнего, в 20-е годы вынужденного жить и искать средства к жизни и ее новые формы, естественным было проверить близкие сферы интересов, разделить их со своими печатаемыми друзьями; с Волошиновым обсудить фрейдизм, с Медведевым — формализм и хотя бы в этой косвенной форме сказать свое. Нам не дано узнать, как рождался текст спорных работ. Их характер — коллективный, кружковой, с безусловно ощущаемым присутствием Бахтина, вошедшего в сферу интересов другого, чтобы сделать ее и своей собственной, озвучить своим словом. Вероятно, эта метафора передает суть дела: сохранно и порой даже вычленимо устное бахтинское слово и мнение, кстати сказать, в «Формальном методе,..», определившее стиль равно далекий и от собственной письменной манеры Бахтина, и от стиля работ Медведева, от его предшествующих книге высказываний о формализме («Ученый сальеризм».— «Звезда», 1925, № 3) и тем более от того, что он скажет позже, в книге «Формализм и формалисты» (1934). Ее авторство не вызывает сомнений, хотя композиционно и по сути она в немалой мере воспроизводит «Формальный метод...». Время разобралось с авторством, выбросив все от Бахтина как уже абсолютно невозможное для советской печати, оставив все от Медведева, отмерив ему самому недолгий срок — до 1937 года. «Формальный метод...» еще мог завершиться примирительным «Заключением», небольшим, всего в одну страничку: «...формализм в общем сыграл плодотворную роль. Он сумел поставить на очередь существеннейшие проблемы литературной науки и поставить настолько остро, что теперь обойти и игнорировать их уже нельзя. Пусть он их не разрешил. Но самые ошибки, смелость и последовательность этих ошибок тем более сосредоточивают внимание на поставленных проблемах...»2. К 1934 году не только все бахтинское должно было полиостью исчезнуть, но и Медведев ужесточил позицию. Прежняя критика была развернута в погром. Добавилась последняя — пятая по счету — глава: «Развал формализма», с поименными разделами о Тынянове, Эйхенбауме, Шкловском. Примирительное заключение было заменено приговором: 2 П. Н. М е д в е д е в , Формальный метод в литературоведении, М., 1993, с. 192. 91 «Формализм, действительно, развалился, превратился в трухлявую ветошь, в «трупик, припахивающий разложением». Однако было бы чистейшей маниловщиной успокаиваться на выводах подобного рода. Новейшее творчество столпов формализма показывает, что они далеко не намерены беспощадно «сжечь, чему поклонялись». Особенно существенно, что формалистские установки пребывают у них не только в качестве реликта, пережитка, аппендикса. Они не отмирают, они пытаются закрепиться, то под видом новой «теории», то в «обертке новой терминологии». Кроме того формализм отнюдь не локализован. Рецидивами его отмечено творчество и неудавшегося русского Гофмана — В. Каверина, и декадента-классика К. Ваганова, и хлебниковского эпигона Н. Заболоцкого и др.»3. Это говорится, разумеется, без участия Бахтина, пережившего арест, находившегося в ссылке. Кончилось время, когда он еще мог надеяться на возможность печатного слова, соблюдя некоторые внешние условности, актуализировав свое высказывание тактическим участием в полемике против формального метода. В его участии была вынужденность. Он не был полемистом по своему складу и менее всего подходил для полемики, как ее понимали в 20-х годах,— ничем не напоминавшей диалог, ведшейся на уничтожение, сначала идей, а потом и людей. Однако он вошел в этот контекст, опосредовав свое участие чужим именем («Бахтин под маской») и создав устойчивое впечатление невозможности для себя диалога с формалистами. Но была ведь и ранняя работа — под собственным именем, остававшаяся не напечатанной до средины 70-х годов. В ней немало по поводу формализма, но гораздо более — своего. В книге Медведева в 1928 году — реконструкция формального метода по основным направлениям его деятельности; в бахтинской статье 1924 года — опровержение материальной эстетики, которое представляется более поводом и возможностью высказаться о природе эстетического объекта и эстетической деятельности (бахтинские понятия). Нет впечатления, что Бахтин сильно заинтересован заявленным для опровержения предметом и хорошо его знает. Как правило (хотя и с обособляющими оговорками), от3 П.Н. М е д в е д е в , с. 208—209. Формализм 92 и формалисты, Л., 1934, ветчиками за формализм выступают то В. Жирмунский, то В. Виноградов. Ни разу — Ю. Тынянов. Вполне вероятно, Бахтин даже не знал появившуюся там же, где он тогда жил, в Ленинграде, и в начале того же 1924 года переломную для всего формализма книгу Тынянова «Проблема стихотворного языка». Трудно сказать, в какой мере он был начитан в формалистических работах и заинтересован ими. Однако к жанру они пришли почти одновременно. За год до «Формального метода...», в 1927 году, появилась принципиально новая по установкам статья Ю. Тынянова «О литературной эволюции»; в ней тезисно обобщены и сформулированы положения социологической поэтики формалистов, точнее, к этому моменту и с этого момента — бывших формалистов. Знал ли ее Бахтин? Ссылок на нее нет, а разбор формалистической теории жанра ведется на основе гораздо более ранних работ — В. Шкловского «Как сделан «Дон Кихот» и Б. Эйхенбаума «Как сделана «Шинель» Гоголя». Однако едва ли можно сомневаться, что сами жанровые идеи в «Формальном методе...» принадлежат Бахтину. Многое позднейшее иначе выглядело бы у него почти плагиатом. Только ему, конечно, принадлежат знаменитые афоризмы о жанре, такие, как «Художник должен научиться видеть действительность глазами жанра»; «Жанр... есть совокупность способов коллективной ориентации в действительности, с установкой на завершение»4. В самостоятельных работах П. Медведева ничего подобного нет и быть не может. Это не его стиль, не его уровень мышления и даже не его проблематика. Естественно, что это уйдет из его книги в 1934 году. Жанр не был для Бахтина камуфляжным термином на путях социологической поэтики, как и сама эта поэтика, которая если и могла в 20-х годах показаться отвечающей требованиям официальной идеологии, то очень скоро сделалась одной из самых преступных теорий. От социологической поэтики Бахтин вернется к исторической (которую, впрочем, также сочтут идеологически невыдержанной и подвергнут гонениям вместе с именем ее создателя А. Веселовского), но жанр останется навсегда ключевым понятием для бахтинской мысли, рождающейся в анализе литературного материала, но идущей, всегда много далее. 4 П. Н. М е д в е д е в , Формальный метод в литературоведении, с. 150, 151. 93 *** Обычно Бахтин вспоминал о формалистах, чтобы не согласиться. Но одно достоинство он, безусловно, признавал за ними, о чем и сказано со всей определенностью в кратком заключении «Формального метода...»,— умение «поставить на очередь существеннейшие проблемы литературной науки...». Среди них и проблема жанра. Много позже Бахтин провозгласит жанры «ведущими героями» для «больших и существенных судеб литературы и языка... а направления и школы — героями только второго и третьего порядка»5. Однако жанровый принцип его мышления сложился в 20-е годы, когда проблема была поставлена формалистами в России и несколько раньше закрыта западной эстетикой. Там жанр был развенчан как нормативный пережиток аристотелизма, исключающий возможность для самовыражения духа и понимания воплотившего этот дух текста. Именно так поставил вопрос Б. Кроче, своим авторитетом на несколько десятилетий подавив интерес к жанру жесткой отповедью: «...стали браться за описание уж не развития х у д о ж е с т в е н н о г о д у х а , а р а з в и т и я р о д о в (читай — жанров.— И. Ш)»6. Избегая нормативизма и следуя заявленной Кроче «эстетике как лингвистике», «новая критика» во всех ее европейских вариантах надолго занялась словом в тексте. При этом целое текста виделось достаточно расплывчато, скорее как контекст того или иного речевого жеста, парадокса, смысловой амбивалентности. Способ завершения текста, его целостность и историческая обусловленность интересовали гораздо менее или вовсе не интересовали. У Бахтина нет развернутой полемики с Кроче, но зато в одной из работ спорного авторства, появившейся под именем В. Н. Волошинова, есть принципиальная оценка его лингвистической эстетики: «...для Кроче индивидуальный речевой акт выражения является основным феноменом языка»7. Индивидуальный, то есть никак не попадающий под определение коллективной ориентации; а к тому же Кроче 5 М. М. Б а х т и н , Эпос и роман (О методологии исследования романа).— В его кн.: Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет, М., 1975, с. 451. 6 Бенедетто К р о ч е , Эстетика как наука о выражении и общая лингвистика, ч. I. Теория, М., 1920, с. 43. 7 В. Н. В о л о ш и н о в , Марксизм и философия языка, М., 1993, с. 58. (Первое издание вышло в 1929 г.) 94 рекомендует заниматься выражением, а не высказыванием, создавая тем самым основание исключить и вторую жанровую посылку в подходе к художественному произведению — его завершенность, Это не раз ставили в упрек «новой критике», и, наконец, это было поставлено в упрек едва ли не всей англоязычной критике и современной науке о литературе «чикагской школой» на рубеже 50-х годов. Она воспротивилась распространенному нежеланию (неумению?) видеть произведение как целое теми, кто отнесен чикагцами к критике «частностей»8. Спасительный путь — возвращение к поэтике Аристотеля и возрождение жанрового подхода. Тогда это решение, хотя и произвело сенсацию, не было широко принято из-за пугающей перспективы нового нормативизма и боязни за универсальностью жанра потерять индивидуальность текста. Обозначилось существенное и трудно преодолимое противоречие: либо заниматься «произведением», устанавливая его типологию, раньше или позже рискуя произнести отвергнутое слово «жанр» и даже определить его, либо погрузиться в безымянный текст, в своей выразительности одноразово возникающий в потоке речевой деятельности. Неизбежно нормативному (иным его не видели) жанру предпочли свободу языка. Тогда это казалось спасением от позитивистской детерминированности, преемственности «развития родов» с его наивным, в духе XIX столетия, историзмом. Когда же в 70-х годах, пройдя искушение и незаданностью текста, и заданностью структуры, в западной постструктуралистской теории вновь совершилась историзация проблематики, вернулись к жанру и сделали некоторые важные, хотя как будто бы и несложные открытия: «...жанровый принцип проявляет себя не только в особенностях структуры, но и в мельчайших составляющих, в том числе в языке...»9. Аналогичные истины и в это же самое время открывались и в России, хотя их открытие происходило при совершенно иных обстоятельствах: не когда окончательно состарилась новая критика и был изжит классический структурализм, но когда началось первое фрагментарное восстановление исторической поэтики. Ее основоположником А. Ве8 Е. О 1 s о n , An outline of poetic theory.— «Critics and Criticism», ed. by R. S. Crane, Chicago, 1963, p. 8. (Первое издание этого знаменитого, но раз переизданного сборника увидело свет в 1952 г.) 9 R. W. R a d e r , The Concept of Genre and the Eighteenth-Century Studies,— «New Approaches to Eighteenth-Century Literature: Selected Papers from the English Institute», ed., introd. by Ph. Harth, N. Y.— L., 1974, p. 105. 95 селовским был заявлен «генетический» подход, предполагавший, что весь путь от слова к жанру должен быть предметом поэтического анализа. В пространстве исторической поэтики с жанра снималось подозрение в нормативизме и путь был открыт к тому, чтобы согласные в этом Бахтин и формалисты сочли его высказыванием, подчеркивая речевую природу10. Жанр переставал казаться непреодолимым препятствием на пути к тексту. Бахтин и формалисты равно мыслили себя в пространстве исторической поэтики, где пересеклись их пути — в понимании речевой природы жанра и жанровой природы слова. Это объединяло их и в 20-х годах сделалось отличительной чертой русской филологической школы, при всех ее возможных внутренних различиях и разногласиях: когда на Западе занялись словом в тексте, в России начали изучать слово в жанре. Одическое слово у Тынянова, романное — у Бахтина... Перечисление жанровых особенностей романной формы Бахтин начинает со слова, с того, что он назвал «стилистической трехмерностью романа, связанной с многоязычным сознанием, реализующимся в нем»11. Герой романа также представлен через язык — это «говорящий и беседующий человек»".Определение жанра у Бахтина всегда вовлекает установление его языковой природы, поскольку его жанр — «речевой жанр», существующий как «типическая форма высказывания»13... В традиционной, «аристотелевской», поэтике стилистическая тональность иерархически задается предметом 10 В исследованиях о Бахтине, даже в статьях, специально посвященных проблеме жанра, на это, «речевое», качество, хотя и резко заявленное Бахтиным, непосредственно вынесенное им в название своей работы — «Проблема речевых жанров», обращают очень мало внимания. Так, Н. Лейдерман полагает, что главное в жанровой концепции Бахтина состоит в его совместном с О. М. Фрейденберг и В. Я. Проппом открытии «содержательности жанровых форм» (Н. Л. Л е й д е р м а н. Жанровые идеи М. М. Бахтина.— «Zagadnienia Rodzajow Literackich», 1982, № 1, с. 74). Но разве жанр не был «содержательной формой» в нормативной поэтике? Э. Кобли лишь обозначает речевой аспект в полемике Бахтина о формалистами: «Бахтин, следовательно, утверждал, что принятая формалистами аналогия с соссюровской лингвистикой должна быть перенесена с «языка» на «речь», то есть с системы на воспроизведение» (В. С о b b 1 е у, Mikhail Bakhtin's Place in Genre Theory.— «Genre», 1988, № 3, p. 326). 11 М. М. Б а х т и н , Эпос и роман..., с. 454—455. 12 Там же, с. 467. 13 М. М. Б а х т и н , Проблема речевых жанров.— В его кн.: Литературно-критические статьи, с. 458. 96 изображения; крайнее проявление этой системы — учение о трех штилях. Бахтин-философ в принципе не приемлет ничего заданного, то есть предопределяющего и диктующего, но лишь данное, наличное и предполагающее свободную ценностную ориентацию, В его исторической поэтике это исключает «общепризнанную классификацию языковых стилей» и даже стилистику как отдельный предмет изучения, поскольку стиль для Бахтина функционален и «входит как элемент в жанровое единство высказывания»14. Ориентация — бахтинское слово, еще в 1928 году положенное им в основу определения жанра. Повторим его: «Жанр... есть совокупность способов коллективной ориентации в действительности, с установкой на завершение»15. Здесь ужо названы или, во всяком случае, предполагаются необходимыми все основные характеристики жанра. Прежде всего — завершенность. Коллективность, выдвинутая па первый план определения, придаст ему социологический оттенок, понятный в опыте создания социологической поэтики, но в дальнейшем, хотя само слово не повторяется в жанровых определениях Бахтина, мысль остается: «Каждое отдельное высказывание, конечно, индивидуально, но каждая сфера использования языка вырабатывает свои о т н о с и т е л ь н о у с т о й ч и в ы е т и п ы таких высказываний, которые мы и называем р е ч е в ы м и ж а н р а м и »16. Итак, в определении 1928 года жанр — коллективная ориентация; впоследствии па первый план выходит то, что жанр — высказывание, акцептируется его словесная, языковая природа. Даже если и не вошедшая в текст окончательного определения, эта мысль была развернуто обоснована уже в «Формальном методе...»: ей был посвящен весь предшествовавший жанровому определению раздел о двойной ориентации, тематической и словесной, «на слушателей и воспринимающих и на определенные условия исполнения и восприятия»17. Так что в действительности жанр ориентирован словом. Словом, являющимся результатом свободного индивидуального выбора, но одновременно подсказываемого, направляемого существующими формами коллективной ориента14 М. М. Б а х т и н , Проблема речевых жанров, с. 433. П. Н. М е д в е д е в , Формальный метод в литературоведении, с. 151. 16 М. М. Б а х т и н , Проблема речевых жанров, с. 428. 17 П. Н. М е д в е д е в , Формальный метод в литературоведении, с. 145. 15 4 «Вопросы литературы», №3. 97 ции — жанрами: «Речевой жанр — это не форма языка, а типическая форма высказывания; как такая жанр включает в себя и определенную типическую, свойственную данному жанру экспрессию». Жанр каждый раз творится заново, обновляется индивидуальностью выражения, интонации. Каждая ситуация подсказывает жанр, а жанровый опыт оформляет каждое данное высказывание: «...мы далеко не всегда берем их из системы языка в их нейтральной словарной форме. Мы берем их обычно из других высказываний, и прежде всего из высказываний, родственных нашему по жанру, то есть по теме, по композиции, по стилю; мы, следовательно, отбираем слова по их жанровой спецификации»18. Отбирая слова по «их жанровой спецификации», не возвращаемся ли мы окольным путем к тому самому, от чего так решительно отказывались в «аристотелевской» эстетике,— к стилевой закрепленности? Предмет, естественно, подсказывает слово, но в жанре, понимаемом как высказывание, его выбор гораздо более смещен в сферу индивидуального и ситуационного решения. Предмет подсказывает слово, а не навязывает его. На несколько социологизированном жаргоне двадцать восьмого года это афористически звучит так: «Жанр есть органическое единство темы и выступления, за тему»19. Жанр есть авторское выступление, или, в позднейшей бахтинской терминологии, высказывание. Социологическая поэтика предполагала учебу у коллективного опыта, поэтому-то «художник должен научиться видеть действительность глазами жанра». Историческая поэтика и собственно бахтинский диалогизм предполагают ориентацию собственного высказывания среди «высказываний родственных нашему жанру», то есть включенность в реальное разноречие и более того — допущение его в себя: «...каждое высказывание полно ответных реакций разного рода на другие высказывания данной сферы речевого общения»20. Жанр есть типическое высказывание, но каждое действительное высказывание соотносимо и родственно с разными жанрами, не представляя собой правильно-однозначную форму: «Можно дать конкретный и развернутый анализ любого высказывания, раскрыв его как противоречивое на18 М. М. Б а х т и н , Проблема речевых жанров, с. 458. П. Н. М е д в е д е в , Формальный метод в литературоведении, с. 148. 20 М. М. Б а х т и н , Проблема речевых жанров, с. 462. 19 98 пряжешгое единство двух противоборствующих тенденций: языковой жизни»21. По меньшей мере двух, во всяком случае, раскрыть как противоборство, как борьбу... Борьба жанров — не слишком ли жанровая концепция Бахтина начинает принимать, даже в терминах, оттенок формализма? Само выражение у Бахтина иногда, не часто, но встречается, например, там, где он обосновывает преимущество жанрового подхода к истории литературы; «Историки литературы склонны иногда видеть... только борьбу литературных направлений и школ. Такая борьба, конечно, есть, но она — явление периферийное и исторически мелкое. За нею нужно суметь увидеть более глубокую и историческую борьбу жанров, становление и рост жанрового костяка литературы»22. Под этим суждением Бахтина (из предвоенной работы), начиная со средним 20-х годов, вероятно, мог бы подписаться и Тынянов, и Шкловский. Сходство терминов может быть обманчивым, подсказывая сходство идей там, где его нет. Среди тех формалистических идей, что были критически отвергнуты в книге Медведева, и борьба жанров: «...ни смена, ни борьба эволюции не обосновывают. Показать, что два явления борются и сменяют друг друга — совсем еще не значит, что они находятся в эволюционной связи»23. Как и везде в споре с формалистами, Бахтин возражает против того, чтобы содержательность звука, приема и даже конструктивного фактора подменяла собой смысл оформленного, состоявшегося с его помощью эстетического события. Здесь не было возможности для компромисса, Но и сходство не только в терминах: принципиально отношение к жанру как центральному понятию истории литературы, основе для построения поэтики, социологической или исторической. Принципиально также понимание жанра — не нормативное, а функциональное и речевое: жанр как речевая ориентация у Бахтина, как речевая установка— у Тынянова... Разумеется, шаг в сторону — и термины резко разойдутся, указывая на принципиальное расхождение мысли; для Тынянова жанр, как и литература в целом, есть динамическая речевая конструкция. Если определения здесь для Бах21 М. М. Б а х т и н , Слово в романе.— Вопросы литературы и эстетики, с. 86. 22 М. М. Б а х т и н , Эпос и роман... с. 449. 23 П. Н. М е д в е д е в , Формальный метод и литературоведении, с. 181. 4* 99 тина приемлемы, то определяемое слово,— а в нем суть явления,— для него невозможно применительно к творчеству, личному, ответственному авторскому делу. Сходство, подсказанное жанром, исчезает, как только появляется «втор. Здесь тотчас же вспоминаются многие непреодолимо разделяющие эти два направления мысли обстоятельства: откуда приходят и с какой целью обращаются к исследованию литературы (Бахтин от нравственной философии, формалисты от теории поэтической речи); насколько широко представляют контекст своей деятельности (философская эстетика, с одной стороны, выяснение специфичности эстетической функции — с другой); наконец, как относятся к делу построения теоретической поэтики... Это последнее обстоятельство особенно наглядно. Парадокс Бахтина в том, что, воспринимаемый сегодня как теоретик и работавший в теоретическом жанре, он, кажется, никакое другое слово не произносил с большей неприязнью, чем теоретизирование. Энтузиасты теоретизирования формалисты и принципиальный его противник Бахтин даже относительно собственного жанра заходили с противоположных сторон и с противоположным к нему отношением, однако были обречены на встречу внутри него в общем пространстве исторической поэтики. Сегодня после очень долгого перерыва мы возвращаемся в это пространство, чтобы в нем работать, осознаем его как основу единства русской филологической школы. Поэтому особенно важно понять, в какой мере Бахтин и формалисты, две наиболее мощные и влиятельные, всемирно влиятельные, традиции исключают друг друга. И исключают ли? Попробуем реконструировать не теорию, а возможность ее практического применения, сознательно избирая для этого материал, достаточно далекий для обоих направлений. *** Второй музыкант Уберите кинжал! Благородные режутся только остротами. Петр Ах, вот как? Ну хорошо, держитесь. Я убью вас насмешками. Отвечайте: «Когда в груди терзания и муки. И счастия несбыточного жаль, Лишь музыки серебряные звуки...» 100 Почему «серебряные»? Почему «лишь музыки серебряные • звуки»? А, Симон Телячья Струна? Первый музыкант Потому что у серебра приятный звук. Петр Превосходно! А твое мненье как, Гью Козлодер? Втоpой музыкант Почему «серебряные»? Потому что за музыку платят серебром. Петр Превосходно! А ты что скажешь, Яшка Пищик? Третий музыкант Ей-богу, не знаю. Петр Виноват, виноват: я забыл, что ты певчий. Никто не угадал. «Лишь музыки серебряные звуки»— потому что за музыку не платят золотом. «Лишь музыки серебряные звуки Снимают как рукой мою печаль». Уходит Первый музыкант Что за сверхъестественная бестия! Перевод Б. Пастернака. Английский оригинал: 2. Mus. Pray you put up your dagger, and put out your wit. Peter. Then have at you with my wit! I will dry-beat you with my iron wit, and put up my iron dagger. Answer me like men: «When griping grief the heart doth wound, And doleful dumps the mind oppress, Then muslo with her silver sound» — why «silver sound»? Why «music with her silver sound»? What say you, Simon Catling? 1. Mus. Marry, sir, because silver hath a sweet sound. Peter. Pretty! What say you, Hugh Rebeck? 2. Mus. I say, «silver sound», because musicians sound for silver. Peter. Pretty too! What say you, James Soundpost? 3. Mus. Faith, I know not what to say. 101 Peter. О, cry you mercy, you are the singer; I will say for you; it is «music with her silver sound», because musicians have no gold for sounding: «Then music with her silver sound With speedy help, doth lend redress». Exit. 1. Mus. What a pestilent knave is this same! Формалистам очень мог бы пригодиться этот фрагмент, особенно в ранний период, когда они стремились доказать, что слово не только материал поэзии, но что речевая саморефлексия — главный предмет поэтического творчества. В данном случае она возникает в поразительный момент: вместо плача о Джульетте при известии о ее смерти (пока что ложном) IV акт трагедии Шекспира завершается формалистическим семинаром о природе поэтического слова! Участники диалога обсуждают то, что Веселовский называл метафорическим эпитетом, который «предполагает параллелизм впечатлений, их сравнение и логический вывод уравнения»24. О том, как решить это уравнение, и идет спор. Метафорический эпитет — явление почти столь же древнее, как сам поэтический язык, но в данном случае ото знак определенного типа мышления, предложенного к обсуждению и истолкованию людьми, заведомо мыслящими иначе — извне, хотя чужой (по Бахтину) взгляд чреват не только непониманием (ср.:ремесленники в комедии «Сон в летнюю ночь»), но и остранением (по Шкловскому). В данном случае метафорический эпитет — знак языка, остроумного, поэтического, иносказующего. В начале эпохи Возрождения он стал провозвестником, перемен, смены всего мышления: от аллегории с ее преодолением буквальнопредметного значения ради обретения иносказательного смысла — к метафоре, знаменующей желание обрести новое богатство предметно-смысловых связей. Пафос и восторг уподобления, вдохновляющий нового поэта, «тип которого являл нам Данте... не тот, кто изобретает, а тот, кто соединяет и сближая вещи, позволяет нам понимать их»25. Возникшая и распространившаяся привычка мыслить метафорически была следствием убежденности во всеобщности подобия, веры в универсальную аналогию (universal analo24 А. Н. В е с е л о в с к и й , Из истории эпитета.— В его кн.: Историческая поэтика, М., 1989, с. 61. 23 П. К л о д е л ь , Введение к поэме о Данте.— «Вопросы филосо фии», 1994, № 7-8, с. 95. 102 gy), избранную в качестве образа всеобщей связанности и взаимоотраженности мироздания, сфокусированного на человеке. Таким образом, метафорический эпитет подразумевает очень широкий смысловой спектр, открывающийся через него обсуждению. Можно говорить о типе мышления, рожденном эпохой и теперь переоцениваемом при ее исходе — D трагедии Шекспира. Можно сузить тему до внутрипоэтического спора, до неприятия Шекспиром определенного стиля, цитатно представленного подлинными строчками из стихотворения Ричарда Эдвардса («In Commendation of Music»), Кончается эпоха Ренессанса и столетие европейского петраркизма. В Англии усвоение формы длилось от Уайета до Сидни; ее оспаривание нарастало от Сидни до Шекспира. Метафорическое слово, знаменовавшее собой эпоху, в то же время с самого начала выступало и как жанровое слово — в сонете, где оно — конструктивный фактор. Речевая установка сонета как жанра — на метафоризирующее, сравнивающее слово. Именно восторг уподобления, обернувшийся речевой установкой, сообщает в европейской поэзии строфической форме сонета статус жанровой формы. Это происходит не везде и не всегда. Думаю, что в России сонет так и остался не более чем строфической формой, изящным и чисто формальным упражнением на определенное количество строк, с тем или иным типом рифмовки и подключением каких-то еще усложняющих правил. Метафоризм не был пережит в России как ренессансное открытие, не продиктовал речевой установки сонету и, следовательно, не сделался жанрообразующим фактором. Когда Петр, слуга кормилицы, приглашает музыкантов обсуждать «серебряные звуки», мы фактически приглашены автором к обсуждению поэтического стиля эпохи, к этому времени уже омертвевшего в жанре, некогда бывшем лабораторией нового слова — в сонете. В чем состоит обещанное Петром остроумие, которое, судя по их реакции, музыканты и признают за ним — победителем в словесном поединке? Первый полученный Петром ответ его устраивает, ибо устанавливает метафорический параллелизм: музыка звучит так же прекрасно, как серебро. И в то же время остроумно подсказывает еще одну аналогию в самом слове «серебро» — серебряные инструменты или монеты? И то и другое, но главная цель музыкантов — благополучно выбраться из хитросплетения метафоры, доказав, что им должны заплатить. 103 Их второй ответ исключает двусмысленность и предполагает положить конец метафорическим экивокам, возвращая непосредственно к предмету диалога: музыкантам платят серебром. Музыканты считают себя близкими к победе, ибо, приняв вызов остроумия, не позволили противнику отвлечься от буквального смысла: метафора указывает на то, что следует заплатить. Вот тут-то Петр и блеснул. Он продемонстрировал, что метафорический смысл еще не исчерпан, что он может пойти дальше их путем метафоры и одновременно не потерять нити разговора. Петр повышает ставку, вводя в образ символ большего благородства, высшую ценность — золото, но оно возникает путем отрицательного уподобления: звуки серебряные, ибо они не приравнены к золоту, поскольку музыкантам за их труд не платят столь высокую цену, а в данном случае это означает, что им и вовсе ничего не заплатят. Золото, подсказанное как будто бы ходом метафорической логики, вдруг неожиданно снижая, трансформирует поэтическую метафору в речевую идиому, где само слово «gold» означает всего лишь — деньги, которых музыканты сегодня не получат. Шекспировские метафоры часто вырастали из разговорных, обиходных идиом. Это постоянно устанавливают комментаторы сонетов, особенно последовательно Стивен Бут, начинающий едва ли не каждое примечание ссылками на словарь пословиц шекспировской эпохи М. П. Тилли26. В данном случае образ прошел обратный путь и был возвращен к своему предметному значению — к прозе жизни. Обсуждение метафорического эпитета в TV акте «Ромео и Джульетт» подводит итог речевому обновлению трагедии, которое производит в ее структуре слово чужого жанра — сонета. Сонетная ассоциация то элементом формы, то стилистически с самого начала проникает в речевую структуру «Ромео и Джульетты», с вводного монолога Хора, имеющего сакраментальное число строк — 14. Что это — сонет? Формально как будто бы да, но чем более счет строк, способ рифмовки подсказывают эту мысль, тем более очевидно собственно поэтическое непопадание в жанр, и соглашаешься с давней оценкой И. Аксенова: «Сонет-пролог... настолько плох, что не мог быть написан ни одним поэтом конца XVI века...»27. 26 М. Р. Т i 1 1 е у , A Dictionary of The Proverbs in England in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, Ann Arbor, 1950. 27 И. А. А к с е н о в , «Ромео и Джульетта».— В его кн.: Шекспир. Статьи, ч. I, М., 1937, с. 285. 104 Шекспир умел писать хорошие сонеты, и качество сонета-пролога определяется его драматической функцией. При вступлении в трагедию задан знак формы, но она еще не подтверждена словом, сонетным словом. Хор является, как ему и положено, эпическим вестником события и предрекает неизбежность трагического исхода. Его слово внелично, неподвижно, а если вдруг и мелькает элемент сонетной лексики, то лишь с тем, чтобы лишний раз подтвердить свое совершенно несонетное здесь бытование. Именно так звучит ключевое слово сонетного жанра у Шекспира — «fair». В нем сошлось все: и добро, и красота, и даже тип красоты, поскольку одно из его значений — «белокурый». Отталкиваясь от этого его значения, Шекспир разорвет слишком привычную связь понятий, введя в свой сонетный цикл «смуглую даму» («dark lady»). В сонете-прологе слово «fair» звучит без малейшей эмоции, обезличенно, ибо даже отнесено не к человеку, а к городу — «fair Verona». Оно звучит несонетно, чтобы тем острее дать почувствовать свое новое качество при втором появлении Хора, под занавес первого акта снова умудряющегося уложить свое высказывание в 14 строк! Это уже совсем другие строки, интонационно подвижные, с самого начала каламбурно разбежавшиеся именно на слове «fair», когда сообщается, что после встречи с Джульеттой прежняя красота перестала казаться красивой (в оригинале благодаря глубине значения «fair» смысл много сложнее): That fair for which love groan'd for and would die, With tender Juliet tnatch'd, is now not fair. Речевой опыт Хора как будто подсказывает мысль о том, что трагедия постепенно овладевает сонетным словом и по мере этого меняет свою природу. Многие стихотворные эпизоды по ходу действия, независимо от счета строк и общего пафоса, в I акте узнаваемы по слову как сонетные. Особенно часто в речи Ромео, где стилистический жест далеко не всегда рождает жанровую форму, но предполагает ее. Любопытно, что сонетный мотив Розалины, в которую Ромео безнадежно влюблен до встречи с Джульеттой, соответствует мотиву первого цикла (сонеты 1—17) шекспировских сонетов: преступное целомудрие есть насилие над природой. См. завершение первой сцены I акта: Красавица, она свой мир красот Нетронутым в могилу унесет. 105 О! she is rich in beauty; only poor That when she dies, with beauty dies her store. Бенволио полагает, что он знает средство избавить Ромео от мучительной страсти: нужно лишь открыть глаза и посмотреть вокруг, сравнить. Но Ромео, прибегая к отрицательному сравнению, объявляет возлюбленную «той, кто без сравненья лучше всех». В этом месте оригинала слово «сравненье» отсутствует, но сравнивающая сонетная условность действует безотказно, превознося красоту возлюбленной за счет очерненья всех остальных. Бенволио верит в силу этой условности, полагая, что, однажды запущенная, она не перестанет действовать, а для излечения кузена нужно лишь подставить новую любовь на место прежней, мучительной. Так, в следующей же сцене, неотступно ведя свою линию, Бенволио убеждает Ромео отправиться на бал в дом Капулетти, где, он обещает, сравнишь других женщин: С твоею павой непредубежденно, Она тебе покажется вороной. Compare her face with some that I shall show, And I will make thee think swan a crow. Act I, so. 2. Ромео откликнется (с обычной у Шекспира драматической иронией), не замечая и не помня этого, невольным признанием его правоты через три сцены — в доме Капулетти, едва увидев Джульетту: Как голубя среди вороньей стаи, Ее в толпе я сразу отличаю. So shows a snowy dove trooping with crows, As yonder lady oўer her fellows shows. Act I, sc. 5. В данном случае поток его поэтической речи не завершается сонетной формой (Ромео говорит парнорифмованными куплетными строчками), но чуть позже, при первом же разговоре с Джульеттой, внутренняя энергетика стиля непосредственно вызовет к жизни сонет: «If I profane with my unworthiest hand...» Сонет рождается из пафоса метафорического зрения, открывающего тему любви с речевой установкой на сравнение! Так же, как всякий раз мысль о Розалине вдохновляла Ромео на вспышку сонетного стиля, теперь таким пово106 дом для него становится Джульетта. Он так привык любить и понимать любовь. Впрочем, ему приходится переучиваться: отношения с Джульеттой — вне условности, в том числе и поэтической. При первом же их объяснении, наедине, ночью, в саду дома Капулетти (акт II, сц. 2), она преподаст ему урок прямой речи и почти всякий раз обрывает его метафорические воспарения. Рассуждение о смысле «серебряных звуков» — эпитафия не столько Джульетте, сколько определенному чувству, с которого начиналась эпоха, с которым она кончается... Впрочем, эта мысль — об эпохах — уже должна быть вынесена за пределы формализма. Там вывод формулировался бы в иных понятиях: кончается жанр, в данном случае поглощенный другим — трагедией, ибо осознается узость, по крайней мере в чистом виде, прежней речевой установки. Сонетно-узнаваемые черты перемещаются в новое жанровое пространство, но вся их совокупность «окрашивается иначе, обрастает другими признаками, входит в другой жанр, теряет свой жанр, иными словами, функция его перемещается»28. Трагедия не отменяет метафоры, но закрепляет за ней иную функцию — драматическую. В речевой структуре трагедии сонетное слово становится индивидуальной характеристикой — человека, мышления, эпохи. Кстати сказать, именно так оценил наличие сонета в «Ромео и Джульетте» Пушкин — как знак Италии и Ренессанса: «В ней отразилась Италия, современная поэту, с со климатом, страстями, праздниками, негой, сонетами, с ее роскошным языком, исполненным блеска и concetti. Так понял Шекспир драматическую местность»29. Итак, в своей попытке реконструировать формалистический анализ жанрового слова мы дошли до предела, который они отказывались переступить, пока оставались формалистами. Вывод, касающийся смены эпохальных стилей в жанре,— это ближе Бахтину и его афористическому определению жанра как приводного ремня от «истории общест28 Ю. Т ы н я н о в, Ода как ораторский жанр.— «Поэтика. Сборник статей», III, Л., 1927, о. 102. 29 А. С. П у ш к и н, О «Ромео и Джульетте» Шекспира.— Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VII, Л., 1978, с. 66. В превосходной статье Дж. Т. Шоу показано, как Пушкин поэтически подтвердил именно эту функцию сонетного приема в «Борисе Годунове».— J. Thomas S h a w, Romeo and Juliet, Local Color, and «Mnfazek's Sonnet» In Boris Godunov.— «Slavic and Bast European Journal», 1991, № 1. 107 ва к истории языка»30. Попробуем продолжить опыт высвечивания шекспировского текста понятиями жанровой теории, теперь не формалистической, а бахтинской. Если начинать с самого главного, то нужно напомнить, что жанр — это речевое высказывание, обладающее «завершенной целостностью». Его завершенность (предметная исчерпанность высказывания), вообще трудно определимая, во вторичных (сложных, идеологических) жанрах, к которым относятся и художественные произведения, достигается в процессе речевого общения между тремя участниками диалога: автором — героем — читателем. В своем понимании природы высказывания Бахтин исходит из того, что нет деления на говорящего и слушающего, но каждый «слушающий становится говорящим»31. Жанр рождается в процессе речевого события спонтанно, хотя и не без опоры на предшествующий языковой опыт типических высказываний: «Где стиль, там жанр. Переход стиля из одного жанра в другой не только меняет звучание стиля в условиях несвойственного ему жанра, но и разрушает или обновляет данный жанр»32. Отсюда уже можно перейти к выводам по шекспировскому тексту, но лишь добавим еще одно — позднее — мнение Бахтина: «Изменение пространственных и временных представлений и безличные изменения форм языка и речи предшествуют образованию новых и трансформации старых жанров»33. То, что происходит в шекспировской трагедии, и есть, по Бахтину, «изменение форм речи», которым манифестировано изменение «временных представлений», неизбежно влекущее за собой жанровое обновление. Трагический герой заговорил в стилистике сонетной формы. Это не может не иметь далеко идущих последствий, хотя на протяжении почти всей трагедии сохраняется видимость прежних жанровых мотивировок. Они заданы с первым появлением Хора, сохраняющего иллюзию событийной всеобщности и объективности, а также указывающего на традиционный источник трагедии — идею судьбы: с первых строк Хора мы узнаем, что влюбленным препятствуют звезды («star-cross'd lovers»), а их чувство по этой причине обречено смерти («death-mark'd love»). Тему, заданную Хо30 М. М. Б а х т и н, Проблема речевых жанров, с. 434. Там же, с. 437. Там же, с. 435. 33 М. М. Б а х т и н, Заметки.— Литературно-критические статьи, с. 513. 31 32 108 ром, продолжает по ходу действия герой — Ромео. Переимчивый Ромео — таков поначалу его речевой характер. Любя, он овладевает сонетным словом; выступая героем трагедии, он вторит Хору, подхватывая мотив трагической предопределенности, апеллируя к судьбе и звездам накануне каждого поворотного события в сюжете (прежде чем войти в дом Капулетти, перед встречей с Тибальтом). Последний раз он вспомнит о звездах, бросая им вызов при получении ложного известия о смерти Джульетты в начале V акта (то есть в следующей сцене за формалистическим семинаром по поводу «серебряных звуков»): «I defy you, stars!» Исследователи, кому приходилось внимательно следовать путем жанровой мотивировки в трагедии, чтобы вдруг обнаружить ее утрату, приходили в недоумение и даже ставили под сомнение художественное совершенство прославленной трагедии34. Старая трагическая мотивировка отброшена героем так же, как ранее он постепенно избавился от другой условности — сонетного слова. В его речи условность любовной поэзии была фактически исчерпана, когда началась любовь к Джульетте; условность трагической предопределенности отброшена им, когда свершилась трагедия. С этого момента Ромео забывает о судьбе. Сонетно-лирический герой, ранее немыслимый, явился в трагедию, исходившую из эпического состояния мира, и самим фактом своего рождения предсказал неизбежность ее конца, завершенность ей свойственного представления о времени. Довольно долгое время герой продолжал говорить, вторя голосу Хора, «безличного непререкаемого предания», опора на которое — «конститутивная для жанра эпопеи формальная черта»35, однако происшедшее изменение «форм речи» должно было сказаться жанровым переворотом, который и представляет собой «Ромео и Джульетта» по отношению к трагедии судьбы. Судьба — ненужная трагическая мотивировка там, где свобода выбора принадлежит герою, где он берет на себя ответственность решения и поступка, свидетельствуя о конце эпоса. За его пределами в действие вступают иные мотивировки, осознание которых будет трудным деянием шекспировского героя (путь Гамлета). 34 Именно так поступил Г. Уилсон, полагавший, что Шекспир писал «религиозную» трагедию, но не дописал, тем самым не исполнив замысла.— См.: Н. S. W i l s о n, On the Design of Shakespearean Tragedy, L., 1957, p. 29—30. 35 M. M. Б а х т и н, Эпос и роман..., с. 460. 109 *** Сопоставление двух подходов к жанровому слову, вероятно, создаст впечатление, что Бахтин пошел дальше, что он (и мы вслед ему) начал бы там, где формалисты остановились... Пространственные метафоры в применении к сфере мысли могут быть обманчивыми: Бахтин пошел дальше, а формалисты — глубже? Ибо они всегда старались опуститься на глубину слова, звука, обнаружить непосредственный источник рождения образа. Они останавливались, показав, как сделано произведение, поняв механизм оформления словесного материала. Дальнейшее не представляло для них интереса, не казалось своим делом, ибо выходило за рамки профессии. После того как прием словесного оформления установлен, может прийти философ, социолог, психолог, в общем, кто угодно, чтобы проследить за тем, как данная конструкция деформирует интересующие его идеи. Впрочем, то, чем займутся пришедшие им вслед, их мало волновало, особенно вначале, когда главным для себя делом они полагали обособление своей профессиональной задачи от всех прочих. Тогда-то они и запомнились как безнадежные спецификаторы. Они не возражали, напротив, настаивали именно на такой роли, торопясь не устанавливать межпредметные интеллектуальные связи, а сознательно обрывая их, чтобы иметь возможность сказать: вот чем должен заниматься исследующий искусство слова. Ранняя история формализма — это история о том, как несколько молодых людей поссорились с традицией русской литературной критики, преимущественно публицистической, социально ориентированной. Эйхенбаум поссорился с Белинским, о чем и объявил своей знаменитой статьей «Как сделана «Шинель» Гоголя», написанной, чтобы доказать, что смысл повести никак не сводим к знаменитой чувствительной фразе: «...зачем вы меня обижаете?» Смысл в том, каким типом сказа пользуется Гоголь, как подбирает звуковой состав своих фраз, имен собственных. А в результате становится понятным, почему на фоне этой игровой эвфонии так пронзительно прозвучала, отозвавшись во всей русской классической литературе, эта единственная фраза обнаженного смысла и чувства. Эйхенбаум блистательно продемонстрировал, как оформлен смысл в гоголевской повести, но на поиски смысла сам он тогда отказался идти, не заинтересованный в примирении с Белинским. Эпатирующие спецификаторские жесты раннего формализма запом110 нились лучше всего; с ними продолжали спорить спустя долгое время после того, как сами формалисты от них отошли, занялись другим: установив эстетическую функцию слова в ее специфичности, они начали соотносить ее с другими функциями языка. Но для оппонентов они были и псе еще остаются спецификаторами. К тому же полемика была их стихией. Открывшие борьбу жанров как фактор литературной эволюции, формалисты в полной мере пользовались плодами своего открытия при построении собственного жанра. Они совсем иначе, чем Бахтин, понимали диалог: чужое слово было для них объектом опровержения, отталкивания. Понять для них чаще всего означало — не согласиться. Им, естественно, отвечали и до сих пор отвечают тем же. Расхождение с формалистами, их обособленность поэтому часто выглядит преувеличенной. Это, разумеется, не прелюдия к тому, чтобы примирительно соединить их с Бахтиным. Разность подходов и идей слишком разительна, в моменты сближения она выступает лишь резче. Так и на материале жанрового слова. Разным был уже выбор жанров. Бахтин занимался и по-настоящему был заинтересован лишь романом, а другими жанрами — лишь как областью его экспансии, романизацией: «Изучение романа как жанра отличается особыми трудностями. Это обусловлено своеобразием самого объекта: роман — единственный становящийся и еще неготовый жанр... Остальные жанры как жанры, то есть как некие твердые формы для отливки художественного опыта, мы знаем уже в готовом виде... Изучение других жанров аналогично изучению мертвых языков; изучение же романа — изучению живых языков, притом молодых»36. Остальные жанры были, по Бахтину, риторическими, монологическими... Кстати, когда Бахтин говорил о неизбежной монологичности поэтического слова, он имел в виду прежде всего не самозабвенный лиризм, как иногда полагают37, а теорию поэтической речи формалистов, соотносящую слово не с другим словом в их речевом общении, а с обозначенным предметом, ощущение которого сохранно в слове или, напротив, стерто и тогда требует его воскрешения (по названию первой книги Шкловского). О слове, предваряя жанр и одновременно с первой работой против формалистов, написана статья «Слово в жизни и слово в поэзии. 36 М. М. Б а х т и н, Эпос и роман..., с. 447, 448. G. S. М о r s о n, С. В m е г s о n, Mikhail Bakhtin: Creation of a Prosaics, Stanford, California, 1990, p. 320. 37 111 К вопросам социологической поэтики», опубликованная под именем В. Н. Волошинова. Формализм один из ее адресатов, о котором сказано: «...с л о в о берется им не как социологическое явление, а с отвлеченно-лингвистической точки зрения»38. Формалисты из жанров усиленно занимались пародией, ибо это она непосредственно воплощает механизм литературной эволюции через борьбу. От первоначальной теории поэтической речи, сосредоточенной на природе слова, они естественно перешли к поэтическим жанрам. Постепенным и сознательно трудным расширением исследовательского поля для формалистов был переход от поэтического слова как такового к слову, функционирующему в жанре через свою речевую ориентацию (для оды — установка на ораторское слово) в ее изменчивом соотношении с формой. В общем, не выпуская из поля зрения монологической специфики поэтического слова, они осторожно и постепенно выходили к ее самореализации вовне, к проблеме соотнесенности литературного ряда с другими, с ближайшим к нему в социальной действительности — бытом. Если они пришли к взаимодействию и проблеме границ, то Бахтин с нее начал и всегда на ней был сосредоточен. Знаменитая фраза о культуре на границах произнесена им в статье против формалистов: «Внутренней территории у культурной области нет: она вся расположена на границах, границы проходят повсюду, через каждый момент ее, систематическое единство культуры уходит в атомы культурной жизни, как солнце отражается в каждой капле ее. Каждый культурный акт существенно живет на границах: в этом его серьезность и значительность; отвлеченный от границ, он теряет почву, становится пустым, заносчивым, вырождается и умирает»39. Здесь корень принципиального расхождения Бахтина с формалистами, от которого производно все остальное. Источник разногласий помещается не внутри литературной теории, но вне ее. Если воспользоваться ключевым бахтинским понятием, суть их расхождения состояла в том, что основанием для профессионально ответственного поступка он полагал свою вненаходимость по отношению к литературной теории, а формалисты — свое умение ограничить 38 «Звезда», 1926, № 6, с. 247. М. М. Б а х т и н, Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве.— В его кн.: Литературно-критические статьи, с. 44. 39 112 поле деятельности, очертив границы специфичности материала. Вектор их мысли всегда был направлен изнутри, из глубины явления. Если на ранней стадии существования метода они и интересовались границами, то лишь с единственной целью — установить их, чтобы не нарушать, не выходить за пределы собственно поэтической речи, предпочитая оставить ее для лабораторного изучения, не позволяя ей отправиться пока что ни на общественное служение, ни на философский диспут. Главное сомнение оппонентов состояло в том, смогут ли когда-нибудь формалисты переступить порог породившей их лаборатория, обрести возможность развития — к выходу на границы смысла и широкого взаимодействия. В 1928 году, в «Формальном методе...», возможность развития для формализма допускается лишь под занавес, хотя в реальности развитие уже совершилось! Совершилось, вплоть до фактического ухода от первоначальных положений метода, от его замкнутости в материальной эстетике, Бахтин (Медведев) отмечал изменившийся понятийный ряд: «Новое понимание «литературного факта» (Тынянов, Томашевский) и «литературного быта» (Эйхенбаум) родилось на почве историко-литературных проблем. Продуманные до конца, эти новые понятия уже не вполне укладываются в рамки формалистической системы»40. А пока в книге, где уделено достаточное место формалистической теории жанра, она выводится из работы Шкловского десятилетней давности «Как сделан «Дон Кихот», дающей повод представить формалистический жанр суммой приемов. Хотя опубликованную годом ранее статью «Ода как ораторский жанр» Тынянов начинал таким предубеждением: «Уже нельзя более говорить о произведении, как о «совокупности» известных сторон его: сюжета, стиля и т. д. Эти абстракции давно отошли: сюжет, стиль и т. д. находятся во взаимодействии, таком же взаимодействии и соотнесенности, как ритм и семантика в стихе. Произведение представляется системой соотнесенных между собою факторов. Соотнесенность каждого фактора с другими есть его функция по отношению ко всей системе»41. Таким образом, не замечая перемен (Бахтин в этом не одинок), формалистов продолжают упрекать за то, какими они были, или, во всяком случае, за то, что они слишком 40 П. Н. М е д в e д е в, Формальный метод в литературоведении, с. 88—89. 41 «Поэтика», Ш, с. 102. 113 задержались в прошлом: «Формалисты позже всего пришли к проблеме жанра»42. Но ведь пришли же! Фактически одновременно с тем, когда к ней пришел и Бахтин. Даже чуть раньше, давая повод сказать об их умении «поставить на очередь существеннейшие проблемы». Новые для формалистов понятия уводили их к теории жанра, но времени продумать что-либо до конца и завершить последовательную разработку исторической поэтики, начатую из глубины формы или с позиции философской эстетики, ни у тех, ни у других не было. Разработка теории и ее обсуждение были насильственно оборваны в 1928—1929 годах. Жанр исторической поэтики тогда оказался лишенным своего главного жанрового, по Бахтину, качества — завершенности. В противном случае мы бы яснее различали единое интеллектуальное пространство, в котором пересекаются, соседствуют разные направления русской филологической мысли, связанные своей напряженной противоположностью.