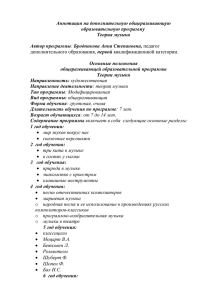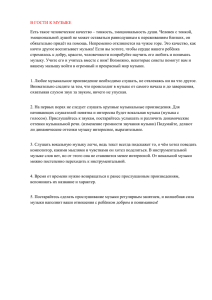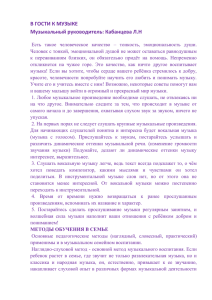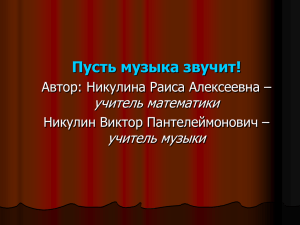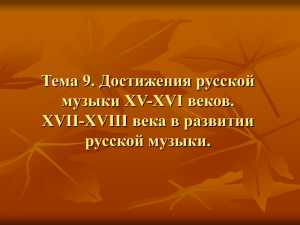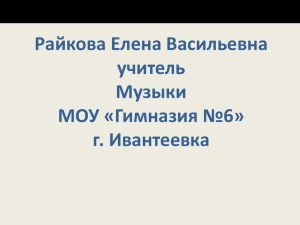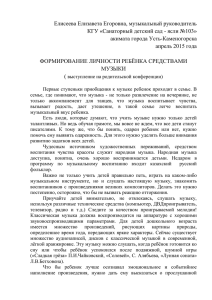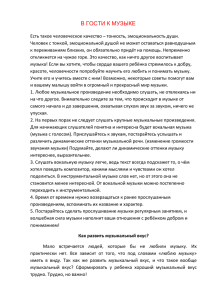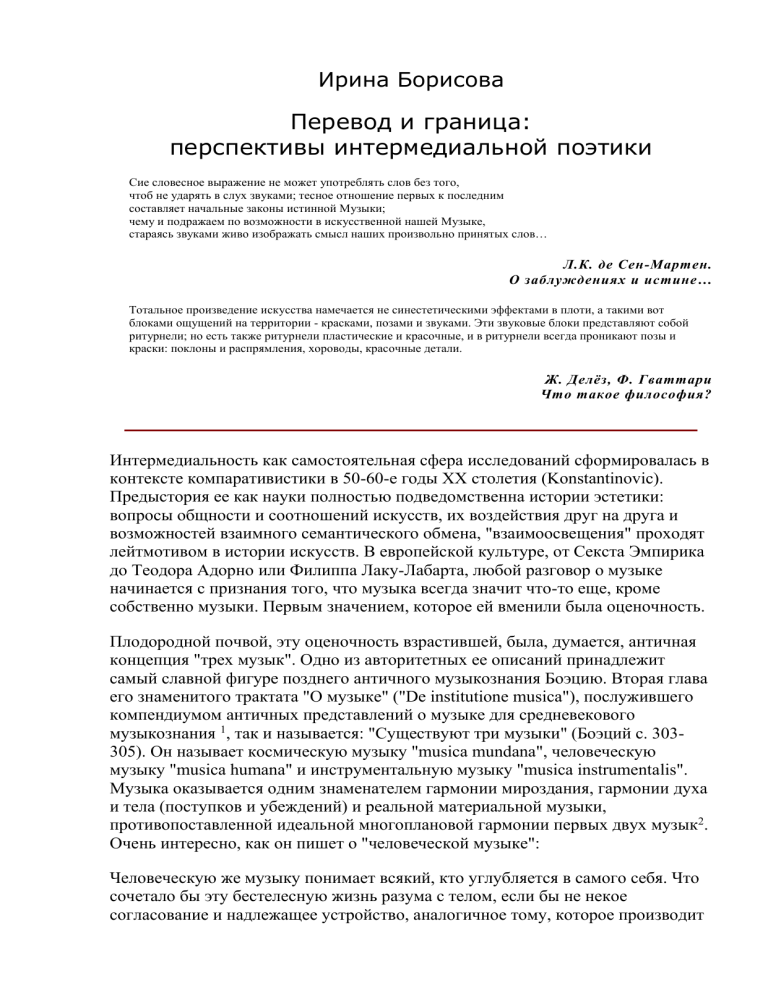
Ирина Борисова Перевод и граница: перспективы интермедиальной поэтики Сие словесное выражение не может употреблять слов без того, чтоб не ударять в слух звуками; тесное отношение первых к последним составляет начальные законы истинной Музыки; чему и подражаем по возможности в искусственной нашей Музыке, стараясь звуками живо изображать смысл наших произвольно принятых слов… Л.К. де Сен-Мартен. О заблуждениях и истине… Тотальное произведение искусства намечается не синестетическими эффектами в плоти, а такими вот блоками ощущений на территории - красками, позами и звуками. Эти звуковые блоки представляют собой ритурнели; но есть также ритурнели пластические и красочные, и в ритурнели всегда проникают позы и краски: поклоны и распрямления, хороводы, красочные детали. Ж. Делёз, Ф. Гваттари Что такое философия? Интермедиальность как самостоятельная сфера исследований сформировалась в контексте компаративистики в 50-60-е годы ХХ столетия (Konstantinovic). Предыстория ее как науки полностью подведомственна истории эстетики: вопросы общности и соотношений искусств, их воздействия друг на друга и возможностей взаимного семантического обмена, "взаимоосвещения" проходят лейтмотивом в истории искусств. В европейской культуре, от Секста Эмпирика до Теодора Адорно или Филиппа Лаку-Лабарта, любой разговор о музыке начинается с признания того, что музыка всегда значит что-то еще, кроме собственно музыки. Первым значением, которое ей вменили была оценочность. Плодородной почвой, эту оценочность взрастившей, была, думается, античная концепция "трех музык". Одно из авторитетных ее описаний принадлежит самый славной фигуре позднего античного музыкознания Боэцию. Вторая глава его знаменитого трактата "О музыке" ("De institutione musica"), послужившего компендиумом античных представлений о музыке для средневекового музыкознания 1, так и называется: "Существуют три музыки" (Боэций с. 303305). Он называет космическую музыку "musica mundana", человеческую музыку "musica humana" и инструментальную музыку "musica instrumentalis". Музыка оказывается одним знаменателем гармонии мироздания, гармонии духа и тела (поступков и убеждений) и реальной материальной музыки, противопоставленной идеальной многоплановой гармонии первых двух музык2. Очень интересно, как он пишет о "человеческой музыке": Человеческую же музыку понимает всякий, кто углубляется в самого себя. Что сочетало бы эту бестелесную жизнь разума с телом, если бы не некое согласование и надлежащее устройство, аналогичное тому, которое производит консонанс из низких и высоких звуков? Что другое соединяло бы между собой части души, которая, - как указывает Аристотель, - соединена из разумного и неразумного? Действительно, что другое соединяло бы элементы тела или связывало бы между собой определенным согласованием? (Боэций с.304) Нелишне отметить, что Аристотель о частях души как раз не говорил, отрицая вообще возможность ее дифференциации3. Sic dixit Boetius. И то, что он сказал, очень важно: музыка осуществляет связь между частями души, между мирами, между людьми. Эта древняя теория трех гармоний, трех музык4, собственно, и сформировала изначальную позицию музыки как неравной самой себе, как вечного означающего. Именно здесь уже появляется тот самый музыкальный ключ к человеку, обществу, благодаря которому музыка обретает власть. Музыка заплатила за эту власть изменой самой себе, когда от нее требовали выразительности, мимесиса, царивших в эстетике от античности и почти до конца ХVIII века. И стоило композитору выразить свою музыкальную мысль музыкально, как тут же звучал окрик: Соната, что ты хочешь от меня? Но вот романтизм сменил эстетические парадигмы, и на сцену выступила инструментальная музыка: началась эпоха Сонаты. Однако именно в тот момент, когда музыка стала музыкой, а не поющимся словом, все запуталось. Искусства, и в первую очередь литература, увидели в музыке эстетический инвариант. Литература в поисках выражения авторефлективности взыскует к музыке, а музыка, углубляющая небо, по слову Бодлера, и спасающая имя как чистый звук, по слову Адорно, парадоксальным образом ищет "программу". Фонтенель добился своего: соната заговорила. Ференц Лист сочиняет симфонии к литературным программам, Жорж Санд пишет роман "Контрабандист", где пытается воспроизвести музыкальную структуру "Фантастического рондо на испанскую тему - Контрабандист" Листа. Уже в эпоху Просвещения стала популярна тема взаимоотношений и взаимодействия искусств на фоне их общности (Sister Arts) и различия. В романтическую и постромантическую поры размышления об этих вопросах приобрели небывалое воодушевление. Появились вполне ученые изыскания. В музыкально-литературной области, которая меня и будет далее занимать, такими предтечами оказались нашумевшие в свое время книги Августа Вильгельма Амброса и пресловутого Эдуарда Ганслика. Характерно, что эти две наиболее известные работы середины XIX века, когда в немецкой эстетике эти вопросы стали обсуждаться в "научной" постановке, были сравнительно оперативно переведены на русский язык (Амброс), (Ганслик). Серьезным толчком к научному обсуждению оказались работы Оскара Вальцеля о "взаимном освещении искусств" (wechselseitige Erhellung der Kunste), в которых он опирался на концепцию Г. Вёльфлина и развивал идеи общности литературы и живописи, однако и он в качестве ключевого термина выбрал Лейтмотив (Walzel). В 1948 г. Кельвин С. Браун издал свою монографию "Музыка и литература. Сравнение искусств", в которой, как и в позднейших исследованиях, он рассматривал общие (структурные и жанровые) элементы двух искусств с тем, чтобы обнаружить музыкальный слой в литературе (Brown 1963, 1970). К.С. Браун, как и О. Вальцель, исходил из того, что музыку нужно рассматривать как доминирующее искусство XIX - нач. XX вв., что и объясняет обычное восприятие ее как модели или инспиратора. Отсюда, собственно, и пристальное внимание к ней со стороны исследователей. Кристаллизация проблематики интермедиальных исследований произошла, как и в других науках, в XX веке, в значительной мере из-за отождествления законов построения текста и культуры, да и структурализм и деконструкция сыграли не последнюю роль и в истории интермедиальности. В семидесятых годах К.С. Браун писал, что взаимодействие и корреляции музыки и литературы можно считать объектом самостоятельной и значительной дисциплины (Brown p.101 ff.; Mittenzwei). Примерно в то же время была написана знаменитая "Философия новой музыки" Теодора В. Адорно, где он проводил принципиальные музыкально-иконические аналогии, сравнивая переход от Дебюсси к Стравинскому с переходом от импрессионизма к кубизму (Adorno 1990, s.174 ff.; рус. пер.: Адорно с. 301 и сл.). В монографии 1968 года, посвященной литературе немецкого романтизма, Стивен П. Шер прочертил линию интермедиального горизонта, введя понятие "вербальная музыка" (verbal music) и предложив различать его с термином "словесная музыка" - word music (Scher 1968). Он предложил в свою очередь три способа репрезентации звучащего, музыкального в литературе: (1) словесная музыка (word music, Wortmusik) - литература пытается заимствовать средства выражения музыки, стремится к музыкальности слога, стиха; (2) уподобление словесного текста той или иной музыкальной форме и структуре; (3) вербальная музыка (verbal music) - литература стремится воссоздать музыкальный художественный мир, передать специфику музыкального переживания. Эта наиболее логичная классификация закономерно легла в основу дальнейших исследований. Для современных интермедиальных исследований действительно характерна потребность в семиотической методологии, позволяющей сквозь уникальное каждого текста видеть универсальное эстетической структуры. На этом настаивает, например, такие авторитетные исследователи, как Александр Флакер (Flaker 1993) и Ежи Фарыно (Фарино 1979). Поэтому вполне закономерно, что уже существующая типология литературно-музыкальных отношений Стивена Шера вызвала недавно семиотическую "коррекцию". Потрудившийся над классификацией Шера Альберт Гир соотнес (1) словесную музыку с функцией сигнификанта, означающего, (2) структурные параллели с функцией сигнификата, означаемого, (3) вербальная музыка с функцией денотата, референта (Gier 1995а; Gier 1995в). Простота и универсальность такой семиотической проекции позволяет, по-видимому, распространить её и за пределы сугубо литературно-музыкальных интерференций и применить к вербально-иконическим и другим интермедиальности. В первом случае, обозначенном Стивеном Шером и Альбертом Гиром, литература стремится заимствовать средства выражения другого искусства. Это может проявляться в стремлении к музыкальности языка, звукописи (звуковая организация текста) или, если речь идет об ориентации на иконический текст, живописности или даже подчеркнутой архитектоничности стиля, "ut architecture poesis" (Palme). Специфике другого искусства попросту присваивается категориальное значение, и она становится косвенным носителем семантического сообщения в самом тексте, т.е., вообще говоря, размываются семиотические границы искусств, дискурсов. В современных работах, посвященных "музыкальности" или "живописности" или же, напрямую, подобию тех или иных произведений различных искусств, неизменно чувствуется привкус архаики: с этого начиналась история эстетики, с рассуждений о едином происхождении, изначальной общности искусств, происходящих от одного источника ("music and literature as sister arts"), и т.д и т.д. Однако эта вечная идея, в которой меняются лишь имена авторов и названия произведений, все же находит себе пишущую и читающую аудиторию. Так, в одном из набросков Одоевский сравнивает словесный, иконический и музыкальный ряды, способные, при всей своей разности, создать одно и то же настроение. Картина, "в которой бы не было ничего, как в осенний петербургский вечер, где бы почти не было красок, где бы туман нельзя было различить от облака, воздух от воды, горы от зданий", в талантливом исполнении могла бы произвести "необыкновенное впечатление", не имея "никакого определенного предмета". Её сюжет можно передать словами: "Вечером был туман". В Музыке это же самое впечатление могло бы быть возбуждено несколькими неопределёнными аккордами, где бы одно созвучие входило в другое почти незаметно для слушателя (Цит. по: Сакулин, I, 506-507). Это предвосхищение живописного и музыкального импрессионизма, помимо очевидного влияния на такие идеи Вакенродера5 и Гофмана (напр., Крейслериану), вполне очевидно инспирировано "Ключом к таинствам натуры" Карла Эккартсгаузена (см. весь фрагмент в Приложении): Как звуки музыки должны соответствовать речам автора в мелодраме, так и цвета должны также согласоваться со словами. Для лучшего понимания я приведу здесь в качестве примера песню, которую я положил на музыку цветов и которой аккомпанирую на своем глазном клавесине. Вот она: Слова: Бесприютная сиротиночка... Тона: тона флейты, заунывные. Цвета: оливковый, смешанный с розовым и белым. Слова: По лугам бродя меж цветочками... Тона: возвышающиеся веселые тона. Цвета: зеленый, смешанный с фиолетовым и бледно-палевым. Слова: Пела жалобно, как малиновка. Тона: тихие, быстро друг за другом следующие, возвышающиеся и утихающие. Цвета: темно-синий с алым и изжелта-зеленоватым. Слова: Бог услышал песню сиротиночки. Тона: важные, величественные, огромные. Цвета: голубой, красный и зеленый с радужным желтым и пурпуровым цветом, переходящими в светло-зеленый и бледно-желтый. Слова: Солнце красное из-за гор взошло. Тона: величественные басы, средние тона, тихие, иногда возвышающиеся. Цвета: яркие желтые цветы, смешанные с розовым и переходящие в зеленый и светло-желтый. Довольно этих примеров для того, чтобы показать, что и цвета могут выражать чувство души. Мистическая натурфилософия, живо интересовавшаяся соотношениями звучания, созерцания, настроения, во многом способствовала развитию этих эстетических идей, особенно в европейском и затем в русском романтизме. Позднее А.В. Амброс писал об этом в своей книге "Границы музыки и поэзии" (А.В. Амброс, с.40 и сл., с.50 и сл., с.117 и сл.)6. Те же самые идеи с мессианским пафосом выдвигались столь разными людьми, как, например, Овсянико-Куликовским (см.: Овсянико-Куликовский) и Кандинским, который пишет в автобиографической книжке "Текст художника. Ступени", как он был поражен внутренней музыкальностью цветовых сочетаний в "Стоге сена" К. Моне (Кандинский 2001, 151)7. Его книга "О духовном в искусстве" посвящена по большей части развитию "компаративных" идей немецкой эстетики (Кандинский 2001). Аналогичную параллель, по критерию настроения, между музыкой Шуберта и пейзажной живописью XIX в. провел Адорно (Aдорно, с.216). Эта же топика лежит в основе его рассуждений в "Философии новой музыки" о "псевдоморфозе по образцу живописи", когда он сравнивает и подробно разбирает переход от Дебюсси к Стравинскому с переходом от импрессионизма к кубизму (Adorno 1990, s.174-176, рус. вар. см. в: Адорно 2001, с. 301-303). Два музыкальных направления, соотнесенные с двумя композиторами, сопоставляются с двумя современными направлениями в живописи. Основанием такого сопоставления служит изначальная иконическая интермедиальность музыки и у Дебюсси, и у Стравинского - разница лишь в методе. Можно вспомнить еще и А.Ф. Лосева, не соглашавшегося с идеей деления искусств по роду материала, с которым работает художник, поскольку произведения из мрамора и из слова могут иногда производить одно и то же впечатление. Согласно Лосеву, искусства нужно делить по принципу "оформленности", т.е. на две категории художественного мироощущения: чистый художественный опыт (беспрограммная музыка, лирика) и образный, "оформленный" и характеризующийся "известным накоплением структур" художественный опыт (литература, живопись, программная музыка) (Лосев 1995, с.301). Проект столь же утопичный, сколь и типичный, как видно. Во втором случае, когда искусство предстает в литературе как означаемое, речь идет о композиционном, структурном сходстве эстетических структур искусства, выражающихся в попытках воспроизвести технику композиции или типовые формы. Джордж Паттенхэм еще в 1589 г. в работе "Искусство английской поэзии" указывал на то, что "золотое сечение" в визуальных искусствах имеет своего двойника в поэзии и музыке (Цит. по: Schueller, p. 6162), и кто только с тех пор не повторяет эту мысль на разные лады. Вообще, именно этот тип получил наибольшее развитие в рассмотрении литературномузыкальных параллелей. Последнее время идентификация литературного текста с тем или иным музыкальным жанром или формой приобрела удивительную широковещательность. За этими научными процедурами стоит, в конечном счете, все та же сколь архаичная, столь и бессмертная оценочность: верификация слова музыкой. Не оригинален и pendant к этой тенденции скептицизм в адрес подобных параллелей. Спор А.В. Амброса с А.Д. Улыбышевым (Амброс, с.VII-VIII) продолжается в спорах современных исследователей. Причём последние спорят не только друг с другом, но часто и сами с собой (ср. хотя бы: Scher 1972, p. 52; Frye, p. X-XI, Кац 25 и след.). Как уже справедливо было замечено Б.А. Кацем, если одному и тому же литературному произведению атрибутируют разные музыкальные жанры, то возникает сомнение в самой идее таких атрибуций (Кац, с.26 и след.). Характерен (симптоматичен?) вообще диапазон мнений о жанровых определениях. Когда сонатную форму приписывают "Улиссу" Джойса (и всему роману в целом, как это сделал Эзра Паунд в статье "Джойс и Пекуше" (Цит. по: Aronson, р. 69,87), и отдельным его главам (Budde)), "Степному волку" Г. Гессе8 (Ziolkowski, p.115-133), новелле "Тонио Крёгер" Г. Манна (Brown, p.214215; Азначеева, с.31-39 и мн. др.), книге "Сестра моя - жизнь" Пастернака (Фоменко, с.52), "Черному монаху" Чехова (Фортунатов, с.105-134), "К вельможе" Пушкина (Фейнберг), то понятие сонатной формы превращается в незамысловатую метафору музыкальности9. Одновременно - одна и та же глава "Сирены" из "Улисса" идентифицируется и описывается то как сонатная форма (Budde), то как контрапунктические вариации на cantus firmus (Petri), то как фуга (Berio). Как известно, принцип вариативности не противоречит сонатной форме. На основе сонатной формы формой второго плана могут быть вариации (например, в разработке, хотя указание на cantus firmus как-то усложняет ситуацию). Фуга по своему существу является вариационной формой. Но никакое музыкальное произведение в целом не допускает возможности такого выбора. Однако "музыкальность" главы о сиренах сонатой, фугой и вариациями не исчерпывается: во вступительной статье "Лексис и мелос" к сборнику "Звук и поэтическое слово" Н. Фрай указывает на технику вагнеровских лейтмотивов, которую по его мнению, воспроизводит Джойс в этой главе (Frye, p.Х). Степень верификации научного знания здесь, кажется, уходит в дурную бесконечность. Не случайно в большинстве случаев филологи следуют за авторскими свидетельствами, иногда за спонтанными ассоциациями музыкантов, воспринятыми как указания, как это произошло с Шостаковичем и Чеховым. Опору ученой мысли такого рода дает и творчество и сентенции самих композиторов10 : но эта заинтригованность маркирует далеко не всегда фарватер ученой мысли. Игнорировать интерес к структурным и композиционным аналогиям и параллелям у самих авторов, их нешуточную экспериментаторскую заинтригованность было бы, конечно, неверно. Но исследователь в амплуа наивного и доверчивого простака, лишенного чувства юмора и принимающего все на веру тоже как-то малоинтересен11. В третьем случае, где искусство выступает в роли референта, литература стремится к переводу самого образа иного художественного мира, будь то музыкальное переживание или образы и сюжеты живописного (скульптурного, фотографического, архитектурного и др.) текста или пластический образ. Для этого типа Стивен Пол Шер как раз и предложил термин "вербальная музыка" (verbal music), определяемый следующим образом: Под вербальной музыкой (verbal music) я понимаю литературную репрезентацию (в поэзии или в прозе) существующих или вымышленных сочинений: поэтическая структура, описывающая музыку. Помимо словесного приближения к реальной или выдуманной партитуре, такие тексты часто предлагают характеристику музыкального исполнения или субъективного восприятия музыки. Хотя вербальная музыка может иногда достигать звукоподражательного эффекта, она ясно отличается от словесной музыки (word music), которая специально стремится к литературной имитации звучания (Scher p.149). Шер анализирует в своей книге творчество пяти немецких авторов, описывая пять способов репрезентации вербальной музыки. Это исследование, помимо его теоретической значимости, пополняет и ряд книг о тематизации музыкального, вставая в один ряд с монографиями Аронсона и Миттенцвая. Среди многих подходов к интермедиальным исследованиям мне представляется особенно интересным и эвристичным корреляция с интертекстуальностью. Интермедиальность вписывается в широкое понимание интертекстуальности как любого случая "транспозиции" одной системы знаков в другую (Ю. Кристева), подразумевающей самые различные виды "интер <...>альных" отношений (И.П. Смирнов), будь то интервербиальность (Г.А. Левинтон), интеркультуральность (Б. Вальденфельс) или интерсубъективность (Э. Гуссерль), или интеркорпоральность (М. Мерло-Понти) и т. д. Не всегда, разумеется, автор предоставляет такую возможность - работать с конкретным текстом, но в тех случаях, когда это возможно, музыкальный текст может оказаться одним из ключей к словесному тексту. Понятно и то, что не каждый конкретный музыкальный текст, упоминающийся в литературном произведении, может оказаться ключом. Для этого он должен быть или программным, или притягивать к себе каким-то другим способом семантизацию 12. "Абсолютная музыка" может иметь в тексте либо символическое, категориальное значение, либо же включать историкокультурный (напр. биографический) код, осуществляя интертекстуальные связки (подобно гамме в "Моцарте и Сальери" у Пушкина). Поэтому меня радует оговорка A. Гира, когда он указывает на "нулевую степень" (Schwundstufe) вербальной музыки применительно к текстам Стендаля: Рассказчик не тратит времени на то, чтобы описывать воздействие музыки на слушателя, предполагая, что читатель знает и ценит эту музыку, причем по тем же самым причинам, что и он сам (Gier 1995а s.85). Гир не останавливается здесь подробно, т.к. с точки зрения как таковой репрезентации иного искусства в тексте "нулевая степень" мало что дает читателю, и его это не интересует. Но если ставить акцент на конкретных цитируемых текстах и, соответственно, интерпретации, то именно "нулевая степень" дает любопытные и интересные перспективы смысловых трансформаций, которые мы обнаруживаем разыскивая те "причины", по которым автор, по выражению А. Гира, "знает и ценит" эту музыку, т.е. когда читатель может разгадать загадку, загаданную автором: акцент здесь все-таки на слове "знает". Стоит добавить к этому, что автор может и не назвать ни произведение, ни композитора (и чаще всего и не называет), и тогда загадка усложняется тем, что нужно догадаться, к кому же, к какому музыкальному сюжету нас отсылает автор. В "Бесах" Достоевского неизменно привлекает внимание исследователей пьеска Лямшина "Франко-прусская война". На интертекстуальность этого сюжета (отсылающего к антинигилистическому роману Лескова "Некуда") уже указывалось (Смирнов, 1994, с.121). Музыкальный подтекст пьесы, пародирующей батальную симфонию "Победа Веллингтона, или Битва при Виттории" Бетховена (1813), изящно описал Гозенпуд (Гозенпуд, с. 135-142). Другой контекст изучения этого сюжета - скомпроментированность творчества в романе, манифестирующем собой постлитературность (Смирнов, 1994, с.127 и след). Нельзя не учитывать здесь и новеллу Одоевского "Последний квартет Бетховена", в которой речь идет о той же "Победа Веллингтона": говоря о ней герой новеллы, Бетховен, наигрывает некую композицию, в которой чередуются "Песня о блохе" и "Песня Миньоны". Выдерживается та же схема - "баталии" возвышенного и низменного. Для проблемы постлитературности "Бесов" (Достоевского "как плохого писателя") существенно и то, что "Победа Веллингтона" практически единогласно была осуждена музыкантами за безвкусие и грубую развязность. Но, может быть, главное здесь то, что симфония обращает острие комического пародирования не только на свои претексты, но и на другие бетховенские же сочинения, эксплицирующие актуальную на тот момент систему мировоззрения, как например, "Героическая" или "Эгмонт" (об этой ассоциации и писал Готфрид Вебер в своей "Цецилии", что обыгрывается у Одоевского в "Последнем квартете Бетховена"). Создание таких текстов становится уже невозможным после "Победы Веллингтона" (Кириллина, с.255). К концепции Девятой симфонии, поздних квартетов, Торжественной мессы Бетховен придет лишь спустя 10-летие мучительных поисков (Там же). Интермедиальным претекстом постлитературности Достоевского была постмузыкальность Бетховена. Трагический образ Альберта в одноименном рассказе Льва Толстого, конечно, подсвечен музыкальным образом моцартовского Дон Жуана. "Ich auch habe gelebt und genossen" - так он рассказывает, песней Шуберта, Делесову о своей любви, от которой он буквально сошел с ума. Когда Альберт на скрипке играет Делесову из финала первого акта "Дон Жуана", это очевидно отсылает нас к финалу второго акта этой же оперы: в сцене пира уличные музыканты исполняют для Дон Жуана популярные номера из современных опер и в том числе арию Фигаро ("мальчик резвый") из "Свадьбы Фигаро" самого же Моцарта на нескольких духовых инструментах, на чем и зиждется комический эффект сцены. Толстой, однако, отказывается от комизма, отдавая все мелодии скрипке и всячески подтверждая подлинность ее звучания. Остроумная сцена в опере - косвенное напоминание испорченной арией Фигаро Дон Жуану о его юности, безвозвратно ушедшей (слушая эту арию Дон Жуан восклицает: "О, эта музыка мне знакома!"), трансформируется у Толстого в перекрестных воспоминания-видения Альберта и Делесова под музыку: каждый из них под звуки скрипки вспоминает свое любовное прошлое, также безвозвратно утраченное и с тем же оттенком испорченности, неудачности. В стихотворении Блока "Валкирия" ("На мотив из Вагнера"), отсылающем к первому действию оперы Вагнера, герои с самого начала знают о взаимной предназначенности, что не соответствует самому тексту либретто. Однако это соответствует той музыкальной мысли, которая выразилась в самой музыке оперы Вагнера: лейтмотив любви сопровождает выход Зиглинды в этой сцене 13. Блок создает словесный, поэтический эквивалент именно музыкального текста оперы. В запоздалом романтическом рассказе И.Л. Леонтьева-Щеглова "Миньона" (1881) содержится эксплицитная отсылка к "Годам учения Вильгельма Мейстера" Гёте: поручик читал этот роман. Однако "осуществление" гётевского текста происходит интермедиально через романс на итальянском языке на слова "Песни Миньоны". Функцию медий, ясно тематизированную в рассказе, несут голос и пение. Слушая романс в прекрасном исполнении певицы Фиорентини, герой, поручик Степурин проникается смыслом романа, понимает его - и заканчивает жизнь самоубийством. Музыка срабатывает как детонатор: поручик читал роман, но застрелился после того, как услышал его озвученным. Автор несложно зашифровывает в образе и имени певицы персонификацию голоса, звучания. Фамилия Фиорентини образована от слова fiore - "цветок". Означающее и означаемое здесь смыкаются, т.к. к платью певицы приколот красный цветок, который только и видит (т.е. как бы слышит) герой рассказа Степурин. Слово fiore отсылает к музыкальной сфере: с одной стороны, и образованное от fiore слово fioritura - это 1) "цветение", 2) "музыкальное украшение", мелизмы, то же, что колоратура, орнаментика (в инструментальной музыке). Но и мифопоэтические смыслы "цветка", "цветения" также связаны со значением "издавать звуки", если верить: (Маковский, с.383). Вообще, голос это, конечно, отдельная и очень богатая тема. Отягощенная грузом мифопоэтических значений, топика голоса - одна из очень популярных в литературе. Голосу придается особое значение, особые возможности, не доступные инструменту 14 - голос косвенным образом отождествляется с живым существом, в отличие от инструмента послушного воле хозяина. Очень интересен в истории литературного диалога инструмента и голоса малообсуждаемый рассказ К. Чапека "История дирижера Калины". Именно идентификация голосов с тембрами инструментов, фагота и контрабаса, и верный "перевод" с музыкального языка на вербальный позволяет дирижеру правильно понять разговор на языке, которого он не знает (но не предотвращает убийство!). Перевод с английского на чешский осуществляется через музыкальный язык-посредник. Музыка оказывается абсолютной интерпретирующей инстанцией. Дирижер Калина на сюжетном (словесном) уровне стремится предотвратить преступление, однако музыкальный уровень текста выявляет и другой смысл. Безуспешность попыток дирижера овладеть музыкальным движением приводит к искажению "произведения", оборачивающемуся убийством на референтном уровне. Весь сюжет оказывается одновременной реализацией двух значений слова "murder" - 1) убивать, 2) искажать музыкальное произведение плохим исполнением. Вообще, этот рассказ является хорошей иллюстрацией к семиотической проблеме, что есть музыка - язык или речь (см. напр.: Gruhn). По мысли Т.В.Адорно, музыка балансирует между статусами языка и не-языка (Adorno 1963, s.6-16). Для дирижера Калины - музыка это язык, полностью покрывающий действительность во всех ее деталях: она говорит, рассказывает и выдает. В "Обломове" И.А. Гончарова музыкальный подтекст романа, "Норма", также репрезентирован голосом. Распевая арию "Casta diva", Ольга присваивает себе голос-как-дискурс Нормы, стремясь таким образом выстроить дискурс своей жизни. Однако сюжет Нормы овладевает сюжетом Ольги, которой не удается реализовать свою "жизнестроительную" интенцию. Опера перестает довлеть роману, обретая власть над его сюжетом. Отношения Обломова и Ольги приобретают драматический характер, а его брак с Пшеницыной может быть понят как попытка избежать очевидной трагической гибели, попытка спасения. С точки зрения семиотики сюжета, "Обломов" предстает инвариантом "Нормы", попыткой показать выход из трагического конфликта. Вообще, музыка часто служит некой печатью истины, удостоверяющей словесную истину. Вербальный дискурс, словно страдая ценностной недостаточностью, взывает к другому искусству о верификации. Так, например, финальные импровизации Петруся в "Слепом музыканте" Короленко, повторяющие сюжетную линию (автор "разъясняет" исполняемую музыку, рассказывает ее "содержание", т.е. историю воскресения Петруся), как бы удостоверяют, утверждают его права на эту "историю жизни". Музыка вновь верифицирует словесное повествование.