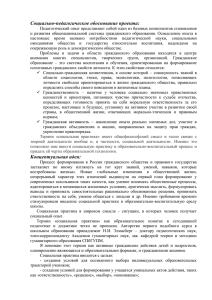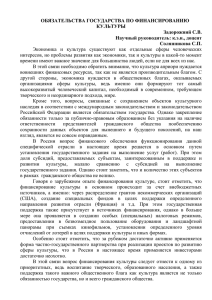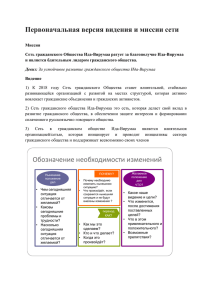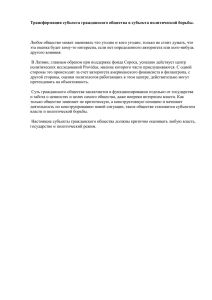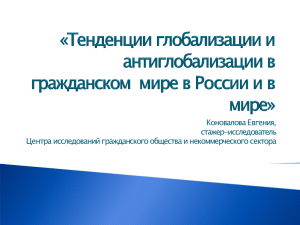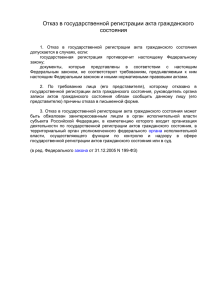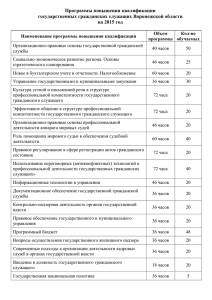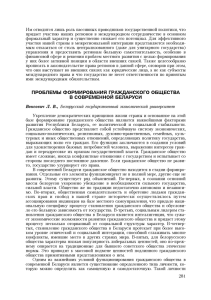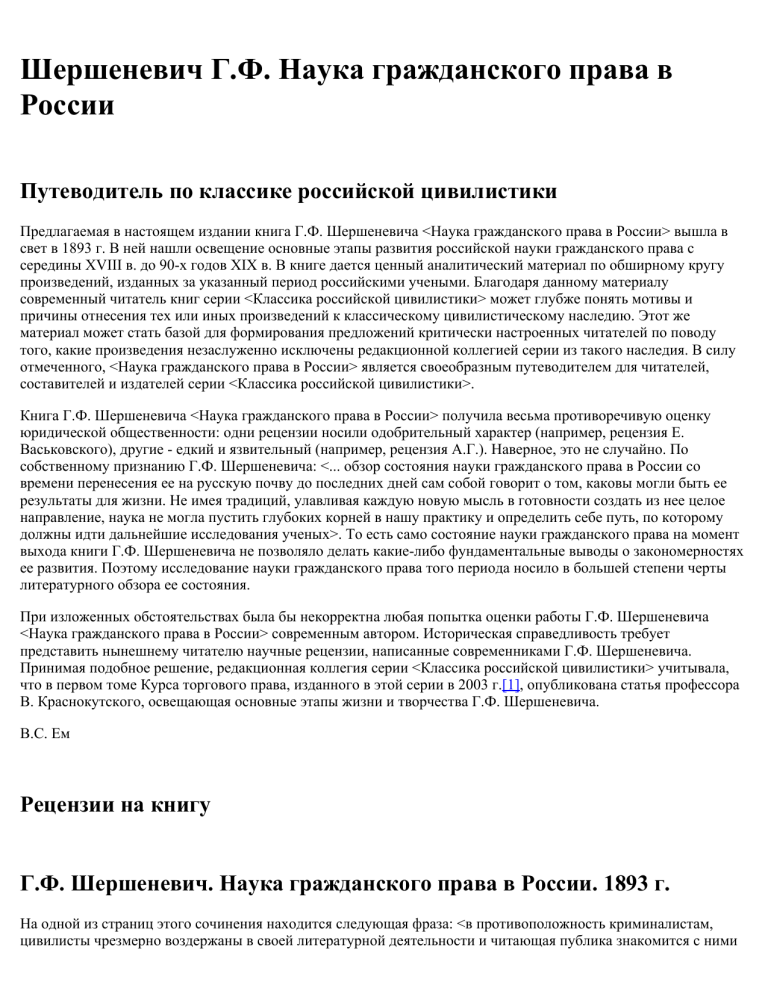
Шершеневич Г.Ф. Наука гражданского права в России Путеводитель по классике российской цивилистики Предлагаемая в настоящем издании книга Г.Ф. Шершеневича <Наука гражданского права в России> вышла в свет в 1893 г. В ней нашли освещение основные этапы развития российской науки гражданского права с середины XVIII в. до 90-х годов XIX в. В книге дается ценный аналитический материал по обширному кругу произведений, изданных за указанный период российскими учеными. Благодаря данному материалу современный читатель книг серии <Классика российской цивилистики> может глубже понять мотивы и причины отнесения тех или иных произведений к классическому цивилистическому наследию. Этот же материал может стать базой для формирования предложений критически настроенных читателей по поводу того, какие произведения незаслуженно исключены редакционной коллегией серии из такого наследия. В силу отмеченного, <Наука гражданского права в России> является своеобразным путеводителем для читателей, составителей и издателей серии <Классика российской цивилистики>. Книга Г.Ф. Шершеневича <Наука гражданского права в России> получила весьма противоречивую оценку юридической общественности: одни рецензии носили одобрительный характер (например, рецензия Е. Васьковского), другие - едкий и язвительный (например, рецензия А.Г.). Наверное, это не случайно. По собственному признанию Г.Ф. Шершеневича: <... обзор состояния науки гражданского права в России со времени перенесения ее на русскую почву до последних дней сам собой говорит о том, каковы могли быть ее результаты для жизни. Не имея традиций, улавливая каждую новую мысль в готовности создать из нее целое направление, наука не могла пустить глубоких корней в нашу практику и определить себе путь, по которому должны идти дальнейшие исследования ученых>. То есть само состояние науки гражданского права на момент выхода книги Г.Ф. Шершеневича не позволяло делать какие-либо фундаментальные выводы о закономерностях ее развития. Поэтому исследование науки гражданского права того периода носило в большей степени черты литературного обзора ее состояния. При изложенных обстоятельствах была бы некорректна любая попытка оценки работы Г.Ф. Шершеневича <Наука гражданского права в России> современным автором. Историческая справедливость требует представить нынешнему читателю научные рецензии, написанные современниками Г.Ф. Шершеневича. Принимая подобное решение, редакционная коллегия серии <Классика российской цивилистики> учитывала, что в первом томе Курса торгового права, изданного в этой серии в 2003 г.[1], опубликована статья профессора В. Краснокутского, освещающая основные этапы жизни и творчества Г.Ф. Шершеневича. В.С. Ем Рецензии на книгу Г.Ф. Шершеневич. Наука гражданского права в России. 1893 г. На одной из страниц этого сочинения находится следующая фраза: <в противоположность криминалистам, цивилисты чрезмерно воздержаны в своей литературной деятельности и читающая публика знакомится с ними исключительно по диссертациям> (стр. ;241). Это замечание вполне справедливо, Но его нельзя применить к самому автору. Почтенный профессор Казанского университета Г.Ф. Шершеневич издает чуть ли не ежегодно по капитальному труду, относящемуся к области гражданского и торгового права. (<Система торговых действий>, 1888, <Курс торгового права>, 1888-1889, 2 изд. 1892, <Учение о несостоятельности>, 1890, <Авторское право на литературные произведения>, 1891.) Появившаяся в настоящее время чрезвычайно любопытная книга, излагающая в сжатом и ясном очерке историю науки гражданского права в России, служит новым доказательством выдающегося трудолюбия и литературной плодовитости автора. <Рассматривая русскую литературу гражданского права в хронологическом порядке>, говорит проф. Шершеневич в самом начале своего сочинения, <мы замечаем последовательное отражение в ней влияния западной науки, постепенную смену направлений, соответствующую движению науки права на западе. В первое время мы находимся в области естественного права, в той форме, как оно разрабатывалось германскою и французскою наукою. Потом на смену ему является историческое направление, долго державшее в своих руках русскую мысль, пока в последнее время не проявились зачатки нового направления, в духе историко-фило-софской школы> (стр. ;3-4). Такова, по словам автора, схема развития русской науки гражданского права. Против нее можно только заметить, что для полноты в нее следовало бы внести указание еще на два направления: практическое (догматическое) и политико-экономическое, имевшее у нас видных представителей в лице Кавелина, Думашевского, Лешкова, Л.З. Слонимского и др. По такой схеме и расположено сочинение проф. Шершеневича. В первой главе, обнимающей период времени от возникновения первого русского университета (московского в 1755 г.) до двадцатых годов нынешнего века, излагается вкратце содержание и делается оценка сочинений, написанных в духе школы естественного права; во второй ;- автор переходит к историческому направлению, господствовавшему у нас с тридцатых годов до издания судебных уставов 1864 г., в третьей и четвертой рассматривает, главным образом, догматические труды, на которые явился спрос после судебной реформы; наконец, пятая посвящена историко-фи-лософскому направлению. Что же касается политико-экономичес-кого, то ему не отведено особого места, оно излагается в третьей главе. Сочинение, носящее, подобно труду проф. Шершеневича, историко-критический характер, может быть оцениваемо с двух точек зрения: со стороны содержания, т.е. полноты материала, собранного автором, и со стороны формы, т.е. способа разработки этого материала. В первом отношении труд проф. Шершеневича представляет собой почти полный свод наиболее выдающихся произведений русской цивилистической литературы. Мы говорим почти полный, потому, что в нем имеются некоторые пробелы. Правда, автор не упустил из виду ни одного труда первостепенной важности, однако, некоторые интересные сочинения и многие цивилисты, хотя не создавшие ничего первоклассного и самобытного, но с пользой работавшие на поприще науки, обойдены им молчанием. Так, автор только вскользь упомянул о разработке крестьянского обычного права (стр. 125), и не обмолвился ни единым словом об изучении обычаев инородческих племен России, для которого сделано уже кое-что в настоящее время (см., напр., библиографические указания в сочинении проф. Леонтовича: <Калмыцкое право, 1880> и <Адаты кавказских горцев>, 1882). Затем, проф. Шершеневич обошел молчанием весьма ценное сочинение Л.З. Слонимского: <Умственное расстройство и его значение в праве гражданском и уголовном>, 1879, а равным образом и труды некоторых других авторов, как, например, А.Л. Боровиковского (<Отчет судьи> и др.), Муллова (журнальные статьи), К.К. Змирлов (тоже), Гордона (тоже), К.К. Арсеньева (тоже), Н.В. Шимановского и др. Наконец, автором совершенно не указана литература по некоторым отделам гражданского права, например, о юридических лицах (соч. Александрова, 1865, Евецкого, 1876, Гервагена, 1888, проф. Суворова, 1892), о кладе и находке (статьи Муллова, Суворова) и пр. Если, быть может, проф. Шершеневич считал все эти труды, не имеющими научного значения, то ему следовало, по крайней мере, оговорить это, приведя их заглавия. Обращаясь к способу обработки обширного материала, собранного автором, следует выставить на вид простоту и ясность изложения и безусловное беспристрастие в критической оценке рассматриваемых им произведений. Спокойным и ровным тоном излагает он основные идеи каждого труда и указывает на его достоинства и недостатки. Стремясь к наибольшей объективности, автор старается не выражать своих личных взглядов, не обнаруживать своей точки зрения и по возможности пользоваться критическими отзывами других. Это стремление к объективности навлекло на проф. Шершеневича упрек со стороны проф. Гольмстена. <Заметки проф. Шершеневича>, говорит указанный автор, <как-то отрывочны и неопределенны: его собственных воззрений никак не уловишь, не узнаешь - сторонник он или противник разбираемого им взгляда, а между тем никакая критика невозможна, если критик не указывает точно и определенно, какое положение он занимает в возгоревшемся споре>[1]. С последним нельзя согласиться. Напротив, самой лучшей критикой является именно та, которая доказывает несостоятельность мнений какого-либо автора с его собственной точки зрения или же с помощью твердо установившихся, вполне бесспорных принципов науки. Поэтому, если проф. Шершеневич не высказывает своих субъективных воззрений, то это служит не недостатком, а наоборот, достоинством его критики. Гораздо правильнее указание проф. Гольмстена на то, что замечания проф. Шершеневича по поводу известного спора о задачах науки гражданского права между гг. Пахманом и Гольмстеном, с одной стороны, и Муромцевым - с другой - <отрывочны и не определенны>. Действительно, оценка этого спора у проф. Шершеневича поверхностна и не исчерпывает предмета, оставляя читателя в неизвестности, кто из спорящих был прав. Таким же беспристрастием и верностью как отзывы о разбираемых сочинениях, отличаются и делаемые проф. Шершеневичем характеристики наших выдающихся цивилистов: Мейера, К.П. Победоносцева, Кавелина, К.И. Малышева, С.А. Муромцева, С.В. Пахмана, А.И. Загоровского, П.П. Цитовича и др. Впрочем, некоторые из них (напр., Оршанский) заслуживали бы более подробного и сочувственного отзыва. Сочинение проф. Шершеневича оканчивается весьма любопытным заключением. <Сделанный нами обзор состояния науки гражданского права в России со времени перенесения ее на русскую почву до последних дней сам собой говорит о том, каковы могли быть ее результаты для жизни. Не имея традиций, улавливая каждую новую мысль в готовности создать из нее целое направление, наука не могла пустить глубоких корней в нашу практику и определить себе путь, по которому должны идти дальнейшие исследования ученых. Вместе с тем судебная организация прошедших времен не допускала влияния науки на судебную деятельность. Здесь нашли себе приют такие начала, которые не могли найти себе оправдания в науке какого бы то ни было направления: Теория и практика шли у нас каждая своей дорогой, самостоятельно заботились о своем существовании и чуждались друг друга> (стр. 232). Эта ненормальная рознь, по словам автора, составляет у нас постоянное явление и продолжает существовать по настоящее время. При введении судебных уставов 1864 г., обновивших весь наш юридический строй, можно было ожидать, что это печальное явление будет устранено, но действительность не оправдала ожиданий. Проф. Шершеневич объясняет это, во-первых, обычной неустойчивостью русского человека, быстро теряющего энергию, во-вторых, влиянием сената, который придал своим решениям силу закона, и в-третьих, бедностью ученых сил, посвящающих себя разработке русского гражданского права. Что касается первой причины, именно обломовщины, присущей натуре русского человека, то влияние ее сказалось в той быстроте, с какой в среде наших юристов остыло зародившееся было в шестидесятые годы рвение к науке. Этому охлаждению содействовал в значительной степени образ действий высшей судебной инстанции - сената, который с самого начала своей деятельности стал присваивать своим решениям обязательную силу для всех судов. Вследствие этого судьи и адвокаты перестали заниматься наукой, сделавшейся ненужной для практики, и начали <рабски ловить каждое замечание кассационного департамента>. Наконец, немалая доля вины падает и на ученых юристов. <Наука гражданского права располагает чрезвычайно небольшим числом работников. Цивилисты с большим удовольствием останавливают свое внимание на римском праве: Кафедры гражданского и торгового права пустуют или занимаются романистами, которые лишь механически связывают русское законодательство с римской системой> (стр. 241). В результате отчуждения науки от практики получается чрезвычайно печальная картина, верно и метко обрисованная автором. <Юридические сочинения, особенно монографии, нисколько не интересуют практиков, тогда как различные издания судебных уставов и Х ;т. ч. 1 с кассационными решениями расходятся в десятках тысячах экземпляров: Юридические общества, так горячо принявшиеся сначала за дело, утратили значение>: Адвокатура измельчала. <Борьба пред судом ведется не силой логики, не знанием соотношения конструкции института и системы права, не искусством тонкого толкования закона, а исключительно ссылкою на кассационные решения>. Суды страдают тем же недугом: их решения плохо мотивируются и прикрываются, главным образом, авторитетом сената. Сюда еще надо прибавить, что число юридических журналов уменьшилось, и оставшиеся терпят крайний недостаток в подписчиках. Словом, в настоящее время наблюдается полное оскудение юридической мысли в области гражданского права. Как же помочь горю? <Только при условии, что наука гражданского права примется, наконец, за историческую и догматическую разработку русского законодательства, а практика освободится от цепей, наложенных на нее кассационными решениями и обратится к научной помощи, только тогда можно ожидать устранения розни между теоретической и практической юриспруденцией>. С этим ответом проф. Шершеневича нельзя не согласиться, и следует только выразить желание, чтобы подготовляемая в настоящее время реформа кассационного производства пошла по правильному пути и дала первый толчок к улучшению современного порядка вещей. Таковы содержание и характер сочинения проф. Шершеневича. Само собой понятно, что оно выиграло бы, если бы было свободно от указанных, впрочем, не особенно важных недостатков. Но и в настоящем своем виде оно представляет ценное пособие для всякого, кто хочет ознакомиться с судьбами и современным положением науки гражданского права в России. Е. Васьковский печатается по: журнал юридического общества при императорском с.-петербургском университете. год двадцать четвертый. 1894. Книга третья. март. с. 241-247. Г.Ф. Шершеневич. наука гражданского права в России Автор задался интересной целью проследить развитие науки гражданского права на нашей родине. Развитие или, что тоже, история науки гражданского права, по мнению автора, не отличалось у нас особой сложностью. Влияние Запада, которое со времени Петра Великого сказывалось на всех сторонах русской жизни, в области науки гражданского права было особенно сильным. Смена направлений в Германии влекла за собою смену тех же направлений в России. Русские ученые ловили каждую новую мысль своих западных товарищей и учителей и повторяли на родине то самое учение, с которым знакомились за границей. Это влияние Запада является важнейшим фактором в развитии русской науки: оно всецело сказывается в направлениях и методах, а нередко оно сказывается и в самом материале, над которым работают русские ученые. Влияние заграницы является постоянным условием развития русской науки. Время от времени к нему присоединялись домашние условия, которые, комбинируясь с первым, и создавали характерные для нашей истории науки направления. Так издание Свода Законов и Полного Собрания Законов дало богатый материал русским цивилистам и обратило их внимание на изучение истории национального гражданского права. Издание, к тому же, как раз совпало с господством на Западе исторической школы, сменившей философское направление естественного права. Так что русские ученые, стремясь удовлетворить родным потребностям, находили сочувствие и поддержку и со стороны своих иностранных руководителей. Наконец, русское правительство, разочарованное в идеях естественного права, господствовавших до тех пор и в русской науке и в университетском преподавании, сочувственно отнеслось к новому направлению. Правительство пытается утвердить юриспруденцию на почве положительного права и превратить юридический факультет русских университетов в орудие истолкования и проведения в жизнь содержания только что обнародованного Свода Законов. Это было весьма важно, так как в России наука связана с университетской кафедрой. В результате этих условий, на место философского направления, господствовавшего до 30-х годов, явилось историческое, выразившееся в ряде исторических исследований различных вопросов русского гражданского права. Догме не повезло; она излагалась всецело по Своду Законов. Введение Судебных Уставов 1864 г. является другим важным моментом в истории русской науки. С этого момента начинается сближение практики с теорией. Уставы отвели широкое место толкованию судом действующего права. Самый суд наполняется теперь образованными юристами. Возникает спрос на теоретическое освещение догмы права. Теория от исторического направления переходит к догматическому. В то же время сознание недостатков X тома внушает мысль о новом законодательном акте по гражданскому праву. А это в свою очередь побуждает ученых к занятию догматическими исследованиями. В результате получается ряд историко-догматических исследований по отдельным вопросам, в которых история занимает вместо прежнего самостоятельного положения чисто служебное. Рядом с монографической литературой за это время появляется и несколько солидных курсов русского гражданского права. Автор относится к этому направлению с полным сочувствием. Он далеко предпочитает его новейшему, явившемуся на смену, с которым гражданское право обращается опять в доктрину, отрешенную от всякой связи с действующим правом и вводится в чистую науку, исследующую законы развития явлений частноправовой сферы. Это направление возникло под влиянием учения Иеринга и постепенно распространяющихся в обществе идей социологии. Право считается теперь одной из сторон социальной жизни. В нем подчеркивается общественная сторона, общественный интерес. Предпослав каждому периоду одну из приведенных характеристик, г. Шершеневич берет затем все существующие сочинения по русскому гражданскому праву, начиная с вышедших в прошлом столетии, и приурочивает их к отмеченным периодам, по чисто хронологической мерке. Внутри периодов он довольно произвольно тасует их по господствующей системе догмы гражданского права. Добившись таким образом кое-какого внешнего порядка, она излагает отдельно сущность каждого учения и подвергает его критике. Сочинение написано прекрасным языком, как все работы, выходящие из-под пера г. Шершеневича. Оно читается с интересом, благодаря тому, что излагает в сжатой форме массу учений по разным вопросам права, появлявшихся в разное время на нашей родине. Оно может служить своеобразным указателем русской литературы по гражданскому праву. Жаль только, что автор по своему обыкновению не дает оглавления. Этого недостатка не возмещает и алфавитный указатель имен, приведенный в конце книги. При всем том сочинение не лишено значительных недостатков. Характеристики отдельных периодов страдают поверхностным характером, в значительной степени априорны и неудовлетворительны. Объявленное в начале влияние Запада нигде почти при дальнейшем изложении не раскрывается; напротив, целые направления оказываются самостоятельно-русскими, независимыми от течения мысли на Западе. Самые эти течения остаются читателю неизвестными. Отдельные проявления того или иного направления, выразившиеся в различных трудах, остаются без внутренней связи между собою, так как нельзя считать связью внешнее расположение в одной главе. Критика отдельных сочинений элементарная. Наконец, заключение, которое содержит философию представленной истории, самое неожиданное. Из всей истории науки г. Шершеневич выводит старую мораль, что суду руководиться результатами научных изысканий, а науке - данными из судебной практики. По-видимому, он хотел выразить еще ту мысль, что теория гражданского права должна заниматься не раскрытием законов в области гражданско-правовой жизни, а историко-догматическим изучением отдельных вопросов действующего права, т.е. теория должна служить потребностям действительной жизни и только. Но подобная мысль, выраженная в такой общей и безусловной форме, имеет столь же мало задатков остроумия, сколько первая - новизны и оригинальности. И.А. Баранов Печатается по: Сборник правоведения и общественных знаний: Труды юридического общества, состоящего при императорском московском университете, и его статистического отделения. том второй. С.-Петербург., 1893. С. 69-71. Наука гражданского права в России. Проф. Казанского университета Г.Ф. Шершеневича. Казань, 1893. Книга г. Шершеневича заключает в себе обстоятельный критический обзор научных работ по гражданскому праву в России со второй половины прошлого века до последнего времени. Автор справедливо указывает на тесную зависимость возникавших и господствовавших у нас юридических теорий, с одной стороны, от влияния западноевропейской научной литературы, а с другой - от общественных и умственных течений, правительственных взглядов и требований в нашей собственной стране. Наши юристы-теоретики были прежде всего и почти исключительно учениками, последователями и истолкователями западных доктрин, особенно немецких. По словам г. Шершеневича, <много нужно было времени, чтобы в России появились самостоятельные ученые, которые дерзнули бы высказать свои собственные взгляды, независимые от западных учений>; но и теперь такие самостоятельные ученые составляют у нас великую редкость, и собственные, независимые взгляды, имеющие какую-либо ценность для науки, почти не встречаются в нашей специальной юридической литературе. Нередко оказывается, что идеи, считаемые новыми и оригинальными, заимствованы в действительности из старых иностранных книг, или же основаны на недоразумениях и ошибках, а часто даже на недостаточном знакомстве с предметом. [1] Гольмстен А.Х. Юридические исследования и статьи, 1894, предисловие, VI-VII. В начале столетия в теоретической юриспруденции преобладало еще философское направление, и в университетах излагались начала <естественного права>; но в этом характере научного правовладения усмотрен был опасный дух, против которого с особенною энергиею восстал Магницкий. <Наука естественного права, - заявлял этот самобытный ревнитель просвящения, - сия метафизика прав, несопредельная к народному, публичному и положительному праву, есть изобретение неверия новейших времен северной Германии. Она всегда была опасна; но когда Кант посадил в преторы так называемый чистый разум, который вопросил истину Божью: что есть истина? и вышел вон ;(?), тогда наука естественного права сделалась умозрительною и полною системою всего того, что мы видели в революции французской на самом деле> и т.д. Естественное право, будто бы, <исторгает с руки Божьей начальное звено златой цепи законодательства и бросает в хаос своих лжемудрствований, и наконец, ниспровергнув алтарь Христов, наносит святотатственные удары престолам царей, властям и таинству супружеского союза, подпиливает в основании сии три столба, на коих лежит свод общественного здравия>. После таких ужасов оставалось только отвергнуть всякую философию права и направить юристов на более благонадежный путь новой германской школы - исторической. Граф Уваров прямо предлагал следовать <исторической методе>, чтобы раскрыть самобытные основы русского права, в связи с коренными началами русской жизни - православием, самодержавием и народностью. Притом в учении немецкой исторической школы <скрывалась внутренняя притягательная сила, которой невольно подчинились русские ученые> (стр. 28). Русская наука вообще проявляет замечательную чуткость и восприимчивость ко всяким новым веяниям западной науки, и чуть зародившееся на западе направление, еще не окрепшее на отечественной почве, непременно находит сторонников и пропагандистов среди русских ученых>. Впоследствии, когда утвердились у нас принципы и приемы немецкой исторической школы, наши ученые патриоты находили уже в этом направлении доказательство независимости русской науки от иностранных влияний. В ученой юридической диссертации, появившейся в 1848 году, высказано было, между прочим, следующее: <Любовь ко всему отечественному есть одно из отличительных направлений современного образования и просвещения в России. Мы, русские, дорожим нашею отечественною стариною; мы любим все, что говорит нам о России; памятники ее прежней жизни для нас священны; и на них обращаются исследования исторические как по любви к науке, так и по любви к отечеству>. Читая эти строки, прибавляет г. ;Шершеневич, <начинаешь думать, что историческое направление составляет нечто самобытное, выросшее собственно на русской почве, без всякого западного влияния!> (стр. 41-2). Эпоха последовательных и обширных реформ в шестидесятых годах внесла оживление в юридическую литературу; новые судебные уставы <вызвали в обществе запрос на образованных юристов>. Историческое направление уступило место догматическому, основанному на живом, реальном понимании права; разумное токование и применение действующих законов выступили на первый план. <Прежняя рознь между теорией и практикой под давлением времени переходит в общение: теория начинает задаваться практическими целями, а потому и практика охотно обращается к ней с требованием советов и указаний> (стр. 80). Позднее <в науку гражданского права ворвалось новое течение мысли, оторвавшее снова теорию от практики> и вызванное отчасти <успехом социологии в русском обществе и привлекательностью новизны в учении Иеринга>. Вместе с переделками судебных уставов и с изменением общественного настроения, значительно понизилась роль юридической науки для судебной практики и законодательства. Тогда как в западной Европе <на суд не стесняются приводить цитаты из наиболее известных сочинений, ссылаются на наиболее уважаемые авторитеты>, у нас, напротив, <обнаруживается какая-то неприязнь, враждебность между теоретиками и практиками>. Автор дает совершенно верную, хотя отчасти резкую и слишком общую, характеристику юридической деятельности новых судебных учреждений, вынужденных слепо подчиняться формальному авторитету сената. <Судебная практика, - говорит г. Шершеневич, - рабски ловит каждое замечание кассационного департамента, старается согласовать свою деятельность со взглядом сената. Эта масса решений, нарастающая с каждым годом, все крепче и крепче опутывает наш суд, который, как лев, запутавшийся в сетях, бессильно подчиняется своей участи, отказывается от борьбы и живет разумом высшей судебной инстанции. В настоящее время вся задача практика заключается в том, чтобы подыскать кассационное решение на данный случай. Борьба перед судом ведется не силою логики, не знанием соотношения конструкции института и системы права, не искусством тонкого толкования законов, а исключительно ссылкою на кассационные решения. Печальную картину представляют теперь судебные заседания, где мы видим, как адвокаты поражают друг друга кассационными решениями, и где торжествует тот, кто нашел наиболее подходящее и притом позднейшее. Еще более печальное явление составляют судебные решения, где мы не находим юридических мотивов и соображений, а только указание номеров решений: Углубившись в этот непроницаемый лес решений, практика не видит света. Авторитет кассационных решений отучил наших практиков от самостоятельного мышления, от собственного юридического анализа: Представим, что еще свежий человек вступает на свое адвокатское поприще в полном научном вооружении. К чему оно ему пригодится? Самые тонкие исторические, систематические изъяснения закона бессильны против кассационного решения, которым владеет его противник. Такой ученый практик рискует, что будет остановлен председательским замечанием, что суду известны законы, - тогда как его противнику суд будет очень благодарен за указания номера и года решения. Можно ли ожидать, чтобы начинающие практики сохранили в себе надолго веру в науку, которой авторитет топчется в каждом заседании? > (стр. 235-6). Сам сенат поддерживает такое направление судебной практики и нередко выражает прямое пренебрежение к теоретической юриспруденции. Автор приводит замечательное решение гражданского кассационного департамента за 1891 год, где сенат делает замечание виленской палате за <неуместные ссылки на начала так называемой теории права, на учения римского и французского права, на сочинения иностранных юристов и т.п.>, при отсутствии постановлений в русском законодательстве по данному вопросу. <Здесь все заслуживает внимания, - замечает автор, - но особенно прелестно в устах сената (выражение) <так называемая теория права>. Значит сенат не знает о существовании действительной теории права, или намеренно игнорирует ее. Мало того, он запрещает судебным учреждениям обращаться за указаниями к теории права и ею оправдывать свои решения>. Однако сенат имеет в своем составе <столь видных представителей так называемой теории права, как гг. Таганцев, Пахман и др. Ирония, издевательство над наукою несомненно более неуместны в судебном решении, хотя бы и кассационном, нежели ссылка на иностранные законодательства и литературу. Таким путем сенат стремится заглушить и без того редкое поползновение в среде практиков обращаться к науке и предлагает замкнуться исключительно в кругу кассационных решений>. Понятно, что решение, подобное приведенному, <было бы безусловно невозможно для французского сената, который стоит в самой тесной связи с наукою и пользуется полным уважением со стороны ее представителей> (стр. 239). Научная юриспруденция находится у нас опять в загоне, и нельзя не заметить, что наши ученые юристы очень мало делают для того, чтобы поднять ее значение в обществе. В книге г. Шершеневича замечается недостаток системы при распределении материала: так, после разбора нескольких сочинений, относящихся к концу пятидесятых, к шестидесятым и даже семидесятым годам, он вдруг переходит к подробной оценке труда Неволина, вышедшего в 1851 году (стр. 49 и след.); к некоторым авторам он возвращается несколько раз или говорит о них больше, чем они заслуживали бы по своему значению; о других говорит слишком мало (напр., о работах Оршанского, <талантливого русского юриста, так рано умершего>). Останавливаясь на исследованиях по вопросу о представительстве и доверенности, автор упускает из виду, что первая значительная работа по этому предмету принадлежит г. Гордону и была напечатана в журнале министерства юстиции задолго до появления сочинений гг. Евецкого, Казанцева и Нерсесова; позднейшей же обширной книге г. Гордона уделено гораздо меньше внимания, чем следовало бы по богатству ее материала и по внутренним ее достоинствам. Иногда критические отзывы г. Шершеневича отличаются резкостью, недостаточно мотивированною; так, о книге г. Табашникова он выражает, что автор <пытается наполнить сочинение фейерверком трескучих и не относящихся к делу фраз, напыщенностью и искусственною энергией критики, производящею чрезвычайно неприятное впечатление фальшивости>, и что лучшее, что можно сказать об этой книге, при желании быть необыкновенно снисходительным, - это то, что <она не заслуживает одного сплошного порицания> (стр. 157). Критикуя разных ученых юристов, автор не выясняет своей собственной точки зрения и не высказывает определенных взглядов на задачи юридической науки, на желательное ее направление и метод; нередко он впадает в серьезные противоречия, одобряя в одном месте то, что осуждается в другом. Упомянув об одном разборе книги Кавелина по гражданскому праву, он замечает, что <рецензия эта не заслуживает внимания, потому что в ней резкость замечаний прикрывает недостаток научных обоснований делаемых возражений> (стр. 109); однако он возвращается к той же статье в другом месте и уже находит в ней указание на <несомненную, близкую связь между гражданским правом и политическою экономией>, причем делает из статьи довольно длинную цитату. Разбирая со своей стороны систему, предложенную Кавелиным, он в существе сходится с автором упомянутой рецензии и косвенно признает его возражения вполне основательными. Указания на экономические основы гражданского права объясняются г. ;Шершеневичем <особенною склонностью русского общества к экономическим наукам>; в то же время принципиальное признание важности и обязательности экономических основ для науки права не имеет будто бы значения, и весь вопрос заключается только в том, чтобы <выяснить, каким образом положить экономическую точку зрения в основу правоведения> (стр. 134-5). Между тем очевидно, что прежде чем говорить о способах преобразования юриспруденции необходимо было бы в принципе решить вопрос об ее истинных реальных основах, об ее общем характере и методе. По-видимому, автор не отрицает существенной и необходимой связи между правоведением и политической экономией; так, он находит, например, что <недостаток экономических познаний чувствуется во всех трудах г. Муромцева, и тем осязательнее, что он пускается самостоятельно в область чисто (?) экономических отношений> (стр. 213). Значит экономические познания нужны юристу сами по себе, для правильного выяснения юридических институтов и норм, а вовсе не вследствие <особенной склонности русского общества к экономическим наукам>. Г. Шершеневич относится с большим уважением к научной деятельности г. Муромцева; он высоко ценит К.Д. Кавелина, хотя и не считает его цивилистом по призванию. <Главною ошибкою Кавелина, ;- говорит он, - было избрание своею научною специальностью гражданского права, которое менее всего подходило к складу его ума и характера. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на характеристику этой науки, которую он сам сделал, и сравнить ее со всею жизнью этого замечательного деятеля: Вот почему, несмотря на блестящий талант, на всестороннее образование Кавелина, труды его по гражданскому праву являются какими-то случайными эпизодами в жизни автора> (стр. 100-1). Кавелину уделено в книге наиболее места (стр. 100-119, а также 37-8, 45-7 и др.); немного меньше - г. Муромцеву (стр. 199-213 и мн. др.). При всех своих недостатках, сочинение г. ;Шершеневича представляет, однако, несомненный интерес не только для юристов, но и для образованных читателей вообще. Одно из достоинств книги - ясность и легкость изложения. Печатается по: Вестник Европы. Двадцать восьмой год. том IV. год LVII. том CCCXXXVI. 1/13 июля 1893. С. 410-415. У профессора казанского университета г. Шершеневича явилась счастливая мысль - написать <Обзор состояния науки гражданского права в России> от первых опытов и до настоящего времени. Очерк развития юридических воззрений и приемов юридических исследований на русской почве давно уже стоит на очереди и мог бы составить предмет одинаково интересный как для специалистов, так и для всякого образованного человека. Проследить зарождение и постепенную смену направлений, господствовавших в нашей юридической литературе, это - задача, благодарная, но бесспорно, и очень сложная, так как наука права развивалась у нас не самостоятельно, а под сильным чужеземным влиянием, и всегда представляла не более, как отражение разных течений мысли, возникавших на Западе. Трудность и сложность задачи заключается, впрочем, не в установлении связи между отдельными фазами развития русской науки и соответствующим им влиянием западной науки, а в оценке и освещении самих направлений, зарождавшихся на Западе и отражавшихся у нас. В этом отношении немного сделано и европейской литературой, чем, вероятно, нужно объяснить, что и г. Шершеневич сводит свою работу к простому перечню исследований по разным вопросам гражданского права с незначительными и в большинстве случайными собственными замечаниями. Автор не обнаруживает ни стремления, ни уменья фиксировать свое внимание на основных вопросах того или другого движения в науке и постоянно запутывается в мелочах, мало способствующих уяснению общего хода развития русской юридической мысли. На всем труде его лежит отпечаток спешности, и, так сказать, писательского нетерпения при полном отсутствии руководящей идеи и определенного мерила для суждения о достоинствах и недостатках рассматриваемых им сочинений. Это заметно особенно на последних главах, посвященных самой интересной эпохе, наступившей после введения судебной реформы. А.Г. Печатается по: Русские Ведомости. 1893. N 22. С. 4. Глава I Зная исторические условия умственного развития России, принужденной скачками догонять Западную Европу, с которой после долгого разобщения ей пришлось в XVIII веке сближаться, нельзя, конечно, ожидать, чтобы наука права развивалась в России самостоятельно. Молодая страна, вступившая недавно на путь культуры и цивилизации Западной Европы, завязавшая сношения с соседними странами, которых прежде чуждалась, естественно должна была обратиться к ним с научными запросами. Прежде чем приступить к самостоятельной разработке науки, русские люди принуждены были ознакомиться с тем, что уже было сделано другими в течение того долгого времени, когда Россия спала глубоким сном в своей национальной обособленности. Чтобы учиться, необходимы были учители, а такими могли быть только иностранцы. Понятно, что молодые русские силы находились под полным влиянием идей своих наставников. Много нужно было времени, чтобы в России появились самостоятельные ученые, которые дерзнули бы высказать свои собственные взгляды, независимые от западных учений. Рассматривая русскую литературу гражданского права в хронологическом порядке, мы замечаем последовательное отражение в ней влияния западной науки, постепенную смену направлений, соответствующую движению науки права на Западе. В первое время мы находимся в области естественного права, в той форме, как оно разрабатывалось германской и французской наукой. Потом на смену ему является историческое направление, долго державшее в своих руках русскую мысль, пока в последнее время не проявились зачатки нового направления, в духе историко-фило-софской школы. Русская наука проявляет замечательную чуткость и восприимчивость ко всяким новым веяниям западной науки, и чуть зародившееся на Западе направление, еще не окрепшее на отечественной почве, непременно находит сторонников и пропагандистов среди русских ученых. В этом заключается вместе и сила и слабость русской науки. Известно намерение Петра I распространить в русском обществе юридическое образование. С этой целью посылались молодые люди за границу для изучения науки права, переводились сочинения по юриспруденции, как напр., Пуффендорфа, в переводе которого принимал живое участие сам государь, при учрежденной Академии Наук положено было место для законоведения. Но все эти стремления остались без результата. Молодые люди успешно выучились за границей многому, но только не науке, переводные ученые сочинения не находили себе читателей, кресло члена по законоведению оставалось всегда вакантным в Академии. Только университетской науке, и то несразу, удалось создать русское правоведение. В самом начале своего существования московский университет состоял из трех факультетов: медицинского, юридического и философского. На юридическом факультете положены были следующие преподаватели: 1) профессор всей юриспруденции, который учить должен Натуральные и Народные Права и узаконения Римской, Древней и Новой Истории; 2) профессор Юриспруденции Российской, который сверх вышеписанных должен знать и обучать особливо внутренние Государственные Права; 3) профессор Политики, который должен показывать взаимные поведения, союзы и поступки Государств между собой, как были в прошедшие века и как состоят в нынешнее время[2]. Юридический факультет открыл свою деятельность со времени приезда в Москву из Германии, в 1756 году, Филиппа Генриха Дильтея, который довольно долго представлял в своем лице весь юридический факультет. Как иностранцу, Дильтею трудно было ознакомиться с историей русского права и с массой указов, составлявших действующее законодательство того времени. Поэтому Дильтею оставалось только читать западноевропейскую юриспруденцию, лишь постепенно применяя ее к русской жизни. По мнению самого Дильтея, общий состав юридических наук должен быть в следующем виде: 1) ;естественное право; 2) римское; 3) уголовное и (?) вексельное, 4) ;русское, 5) государственное с изложением отношений между государями[3]. Мы знаем, однако, что сверх указанных наук он читал весьма подробно еще морское право[4]. Трудно понять, что собственно должно было содержать русское право в приведенной системе, потому что, хотя уголовное и государственное поставлены в отдельные рубрики, но едва ли оно имело своим предметом гражданское право ввиду полной неподготовленности Дильтея к преподаванию. Следует заметить, что центр преподавания этого ученого заключался в естественном праве, что вполне соответствовало духу времени. В одной только части гражданского права Дильтей оказался специалистом, именно в вексельном праве. В 1769 году он издал <Начальные основания вексельного права, а особливо Российского купно со Шведским>. Успех этого сочинения среди русской публики был настолько велик, что в течение короткого времени оно выдержало шесть изданий. Книга эта свидетельствует о несомненном и подробном знакомстве Дильтея с этой частью русского законодательства, причем он сумел соединить изложение положительного права с теорией, придерживаясь в последней преимущественно Гейнекция. Не следует думать, что это обширное сочинение посвящено исключительно вексельному праву: по поводу последнего Дильтей дает сведения о толковании законов вообще, причем делит его на виды, принятые в современной науке, об обычном праве (навыке), о различных договорах и о существе контракта, о просрочке, о поручительстве и о других понятиях гражданского права. По обстоятельности и подробности сочинение Дильтея можно признать положительно образцовым для его времени. При исследовании юридической природы векселя Дильтей обнаруживает замечательную способность цивилиста отличать самые незначительные оттенки каждого из договоров. Интересно, что Дильтей уже поднимает голос против стремления искать в римском праве объяснения всех явлений юридической жизни. <Нельзя статься, чтобы все весьма не обманывались, которые сей род договора (т.е. вексель) хотели привести в правила контрактов римских прав, когда действительно уже премножество у следующих по них народов родилось изобретений, о которых Римляне и во сне себе не представляли> (стр. 70 по изд. 1794 года). [2] П. С. З. № 10346, 24 января 1755, п. 5. [3] Биографический Словарь профессоров и преподавателей Московского университета, 1855, т. 1, стр. 305. [4] Шевырев, История Московского Университета, 1855, стр. 186. Пристрастие Дильтея к вексельному праву сказалось на занятиях студентов: вопросы, разрабатываемые последними, представляют главным образом тезисы из вексельного права. Так, на акте 30 ;июня 1769 года студент Иван Борзов читал по-русски речь на тему: <К одним ли купцам векселя или ко всякому из обывателей в государстве принадлежать могут?>[5]. Из школы Дильтея вышли первые русские ученые юристы, Десницкий и Третьяков. Отправленные Шуваловым в Англию для продолжения образования, эти молодые люди слушали там не только юриспруденцию, но и математику, химию, медицину. По возвращении в Москву их подвергли поверочному испытанию из наук юридических и математических[6]. Такой обширный объем изучаемых наук не дает основания требовать от них еще специализации в юриспруденции. Оба они назначены были читать римское право, т.е. то, что на Западе понималось под именем юриспруденции, Десницкий - пандекты, Третьяков - институции и историю римского права. Студенты должны были ознакомиться непосредственно с римскими источниками, как это можно судить из того обстоятельства, что в 1769 году Десницкий потребовал выписки 25 экземпляров Corpus juris civilis с различными комментариями Vinii, Woetii, Noodii[7]. Десницкий, наиболее талантливый, почувствовал вскоре недостаточность римской юриспруденции для русской жизни. В его речи, произнесенной 30 июня 1768 года, <О прямом и ближайшем способе к научению русской юриспруденции>[8], мы уже видим начертание общего плана новой науки. Для успешной постановки русской юриспруденции Десницкий признавал необходимым изучение нравственной философии, естественного права и римской юриспруденции, как теоретического материала - с одной стороны, собрание всех как древних, так и новых прав, законов, указов - с другой стороны. Соединение таких элементов должно было дать в результате русское гражданское право[9]. <Таким образом, - замечает профессор Станиславский, - первый русский преподаватель права сознавал уже необходимость всестороннего его изучения - потребность соединения методов философского, исторического и догматического. Факт этот тем более заслуживает особенное наше внимание, что и в университетах Западной Европы, во времена Десницкого, не помышляли еще о таковом соединении методов>[10]. К сожалению, мы не имеем никаких данных, чтобы судить, насколько успел Десницкий осуществить на деле свою мысль. В деятельности Десницкого особенно замечательно направление, которое обнаруживается в его трудах. Среди других его работ мы встречаем следующие два сочинения: 1) <Юридическое рассуждение о начале и происхождении супружества у первоначальных народов и совершенстве, к которому оно приведенным быть кажется последовавшими народами просвещеннейшими>, 1775, 2) <Юридическое рассуждение о разных понятиях, какие имеют народы о собственности имения в разных состояниях общежительства>, 1781. По этим сочинениям мы видим, что Десницкий не был простым догматиком или узким законником, но стремился проникнуть в ход постепенного развития важнейших институтов гражданского права, как брак и собственность, на почве истории и сравнения различных законодательств. Мысль эта представляется весьма замечательной для его времени. Некоторое осуществление мысли Десницкого о непосредственном изучении русского права принадлежит одному из его учеников, Алексею Артемьеву, который в 1777 ;году издал сочинение: <Краткое начертание римских и российских прав, с показанием купно обоих, равномерно как и чиноположения оных истории>. Однако сочинение это не представляет самостоятельного исследования русского права, а составляет лишь механическое соединение римской теории и русских законов. В этом произведении отечественной литературы мы не встречаем еще выделения русского гражданского права в совершенно самостоятельную отрасль правоведения, хотя в это время в жизни стало сознаваться отличие частного права от публичного (см. Наказ Екатерины II). Заметим в оправдание русских ученых, что в соседней Германии частное право отождествлялось тогда с римским правом. Рассматривая, какие науки читались в конце прошлого столетия на юридическом факультете московского университета, мы находим, что по самому характеру преподавания трудно было ожидать отдельного чтения гражданского права. Кроме римского права, которое читал Баузэ, студентам предлагались следующие чтения: энциклопедия права и история права (Баузэ), теория законов по Монтескьё (Шнейдер), право естественное и народное (медик Скиадан), этика (Шнейдер). Преподавание носило отвлеченно философский характер, было чуждо изучению положительного законодательства. Некоторое исключение составляло только преподавание Горюшкина, читавшего русское законоведение и практические в нем упражнения. Причем последние заключались в писании бумаг и изучении делопроизводства. Последний из указанных преподавателей, Горюшкин, оставил руководство, по которому преподавал, <Руководство к познанию российского законоискусства> 1811-1816 гг. Приглашенный в московский университет для чтения вследствие его общеизвестной служебной опытности, доставившей ему, по словам современника, <славу именитого московского адвоката и эмпирика>[11], Горюшкин открыл в 1790 году свой курс вступительной лекцией, которая была напечатана потом под заглавием <Краткое рассуждение о нужде всеобщего знания российского законоискусства и о том, что несравненно тягостнее приобретать сию науку навыком при отправлении дел в судебных местах, нежели по правилам, избранным из законов>. Заглавие речи достаточно характеризует ее содержание. Однако, хотя и прекрасный практик, Горюшкин не обладал обширной юридической эрудицией. Его сведения о римском праве и иностранных законодательствах были поверхностны и отрывочны. <Руководство Горюшкина лучше всего охарактеризовано профессором Морошкиным, который заметил, что в этом сочинении <борется сильная бесформенная народность с классическими понятиями древних и новейших юриспрудентов>. Система изложения Горюшкина, хотя и оригинальна, но не научна. Она построена на восхождении и усложнении общественных групп, к которым принадлежит гражданин, но при этом взяты случайные исторические моменты русского государственного быта, а не те группирования, которые обусловливаются законами развития общественности. Начиная 1) с прав лица и семейства, Горюшкин переходит к 2) правам соседства, 3) правам селения, 4) правам уездов, 5) ;правам городов, 6) правам губерний, 7) правам государственным и, наконец, 8) к правам народным. В пределах этих рубрик изложение допускает постоянные смешения основных понятий, так что руководство Горюшкина, хотя и давало читателю немало сведений по русскому праву, но совершенно неспособно было содействовать развитию юридического образования в русском обществе. Начало царствования императора Александра I ознаменовалось покровительством науке и литературе. Кроме преобразования московского университета, по уставу 5 ноября 1805 года учреждено было еще три русских университета, в Петербурге, Казани и Харькове. В распределении кафедр на юридическом факультете или, как он тогда назывался, отделении нравственных и политических наук, замечается все тот же философский дух, который унаследован был от прошлого столетия. Центром преподавания было естественное право, материальному гражданскому праву здесь не было еще места. Недостаток ученых сил и элементарность правоведения той эпохи не дают еще основания к специализации в юридических науках. Один и тот же профессор читает каждую из наук, какие только полагаются на его факультете. Между тем в 1810 году появляется первая попытка систематического изложения русского гражданского права. Именно профессор Терлаич издал в С.-Петербурге <Краткое руководство к систематическому познанию гражданского частного права России>, в 2-х частях, посвященное Новосильцеву. Руководство Терлаича отражает на себе влияние эпохи и западной науки. Оно носит преимущественно философский характер, нередко переходящий в сухую схоластику. Как образец последней, нельзя не привести следующего места. <По цели учености и употреблению познаний в обществе ученые суть: или токмо любители наук или ученые по званию, они же ученые умозрительные или ученые потребители; употребители опять ученые деловые или учащие, т.е. учители; и, наконец, учители суть или писатели или известные наставники, хотя часто многие цели и роды употребления учености производятся одной и той же особой, как видно из опыта> (т. ;I, стр. 10). Терлаич находится, очевидно, под влиянием Канта, из которого он приводит нередко длинные цитаты. К сожалению, нельзя заметить в изложении Терлаича связи между философией и положительным законодательством, соединение их представляется чисто механическим. В то же время обращает на себя внимание недостаточное знакомство Терлаича с русским правом, вследствие чего он нередко переносит на русскую почву юридические воззрения, чуждые его быту. Так, напр., профессор дает следующее определение понятию о браке: <брак есть сочетание двух лиц разного пола для взаимного стяжения общих свойств на всю жизнь; сие стяжение приобретается обоюдно совокуплением телесным, которое есть первое начало и совершение брака> (ч. ;I, стр. 97, ч. II, стр. 19). Очевидно, Терлаич приписывает русскому праву взгляд западно-католической церкви на martimonium consummatum. В Руководстве встречаем положение (ч. I, стр. 99, ч. II, стр. 27), будто по русскому праву родительская власть прекращается <рукопущением из-под родительской власти (emancipatione)>, тогда как эта эмансипация совершенно чужда нашему законодательству. <Завещание духовное есть законное определение наследника или наследников имению завещателя при его кончине> (ч. II, стр. 224), между тем как institutio heredis составляет особенность римского права и тех законодательств, которые восприняли его положения. Руководство Терлаича разделено на 2 части, из которых первая составляет как бы введение ко второй, заключая в себе изложение начал науки права, сродства ее с другими отраслями знания и исторический очерк развития русского права. В конце первой части содержится изложение общих понятий гражданского права, подробное развитие которых отнесено ко второй части. Право Терлаич определяет как <совокупность тех условий, на которых произвол одного с произволом другого состоять может по всеобщему закону свободы> (ч. I, стр. 94), следовательно в этом отношении автор стоит на точке зрения Канта. Договорная теория происхождения общества также нашла себе сторонника в нем, <определение права и ему соответственной должности, по человеческому произволу, бывает только в обществе гражданском, коего цель есть защита прав всех лиц, составляющих оное, и коего члены, по предполагаемому первоначальному договору, яко основанию общества, должны повиноваться единому, идеальному ли или существенному лицу, яко первому начальнику общества> (ч. II, стр. 24). Чрезвычайно оригинально понятие автора о законе, далеко не соответствующее действительности, - <законы означают все те установления, кои никогда не переменяются и коих не может быть много> (ч. II, стр. 21). Трудно понять, имел ли в виду Терлаич идеал закона или он представлял себе таким образом действительность. Рассматривая гражданское право, как <взаимные отношения частных людей, определяемые положительными законами> (ч. I, стр. 95), Терлаич устанавливает следующую систему гражданского права: 1) ;право лиц, 2) право вещное, 3) право личное. Право лиц <есть совокупность тех условий, на коих человек может приобрести состояние другого> (ч. I, стр. 96) и заключает в себе, по мнению Терлаича, отношения супружеские, отношения между родителями и детьми, отношения по усыновлению и опеке. <Цель права лиц есть приобретение другого яко вещи и поступление с ним яко с лицом, и по сему право лиц называется и лично-вещным> (ч. I, стр. 96). Еще оригинальнее понятие о вещном праве, как <совокупности тех условий, на коих лицо может приобретать вещи, яко средства к своей цели>. В эту рубрику автор вводит право наследования, как по закону, так и по завещанию. Таким образом, видим совершенное отсутствие системы в Руководстве Терлаича, который мог бы воспользоваться не только римской системой, усовершенствованной французскими юристами XVIII столетия, но и новой германской системой, какую начертали уже в то время Гуго и Гейзе. Ввиду отсутствия в сочинении профессора Терлаича юридической теории, основательного знания русского права и полной бессистемности изложения, следует предположить, что оно не имело большого влияния на выработку юридического мышления и образования русских молодых юристов. Почти одновременно с Руководством Терлаича появляется сочинение профессора с.-петербургского педагогического института Василия Кукольника под заглавием <Начальные основания российского частного гражданского права>, 1813-1815 гг. Сочинение это состоит из двух частей, из которых первая посвящена материальному гражданскому праву, или, по терминологии автора, теории гражданского права, а вторая формальному праву или практическому обряду судопроизводства. Оно представляет собой сжатое изложение общих начал гражданского права с несравненно большим юридическим содержанием, чем Руководство Терлаича. Некоторые отделы обработаны весьма недурно для своего времени, особенно наследственное право, которому предшествует даже исторический очерк развития и обязательственное право. Согласно с духом науки того времени, Кукольник находится под влиянием учения о естественном праве. Естественное право, по мнению автора, есть часть философии, излагающая законы, открываемые нам чистым разумом, которые должны служить основанием положительных законов, составляющих священную ограду прав граждан, оными управляемых>. <В положительном законодательстве должно полагать общим правилом то, чтобы без крайней нужды не удаляться от естественного права, иначе законы будут не тверды, непрочны, иногда же и несправедливы> (ч. II, стр. 14). В соответствии с таким взглядом на значение естественного права стоит взгляд Кукольника на закон. <Закон, в общем юридическом знаменовании, есть правило, налагающее на нас нравственную необходимость соображать с оным свободные наши деяния. Нравственная необходимость, налагаемая на нас законом, называется также нравственной обязанностью. Оную или внушает нам здравый разум, представляя следствия предпринимаемых нами свободных деяний, или предписывает верховная власть, угрожая за несоблюдение ее воли наказанием. В первом случае закон бывает естественный, в сем же последнем положительный> (ч. I, стр. 1). Таким образом, Кукольник в своем понятии о законе расходится далеко с современным нам понятием, считая положительный закон лишь видом юридических законов. Конечно, естественные законы он понимает не в смысле прирожденных нам начал справедливости. Признавая, что содержание частного права составляют <взаимные отношения граждан между собой по их лицам и имуществам> (ч. I, стр. ;5), Кукольник придерживается в изложении римской системы. <Теория, по различию предметов оной, разделяется на три отделения: 1) ;о лицах, состоянии оных, о правах и обязанностях, проистекающих от личного состояния граждан; 2) о вещах и о правах и обязанностях, с оными сопряженных; 3) о деяниях и о правах и обязанностях, от оных проистекающих> (ч. I, стр. 10). По мнению Кукольника, для изучения гражданского права необходимы вспомогательные знания. Для достижения причин и цели законов требуется основательное знакомство с отечественной историей, для точного применения законов к деяниям, предполагающего искусство в правильном умствовании, юристу необходима наука логики. Но автор, очевидно, несколько увлекается, когда говорит, что так как предметы права суть лица, вещи и деяния, то для юриста необходимы <науки, относящиеся к оным, как антропология вообще и психология в частности, физика, архитектура, технология, наука сельского домоводства и прочие естественные науки, предметы которых суть вещи, составляющие имущество граждан> (ч. I, стр. 7). При чтении Кукольника неприятно поражает своеобразная терминология автора, так detentio он называет грамматическим владением в противоположность юридическому (ч. I, стр. 89), право собственности обладанием (ч. I, стр. 98), сервитуты - повинностями[12]. Не лишена книга иногда и курьезов, так личные отношения супругов автор определяет в следующей форме: <общие права и взаимные обязанности супругов суть те, которые следуют непосредственно из цели брака, ибо каждый из оных имеет совершенное право требовать от другого исполнения всего того, без чего не может быть достигнута цель супружеского общества> (ч. I, стр. 62). В том же духе и направлении проявил свою ученую деятельность даровитый профессор московского университета, Лев Цветаев, занимавший с 1805 года кафедру теории законов. Отправившись в Париж для продолжения своих научных занятий, Цветаев увлекся и поддался влиянию французской школы. Сочинения Монтескьё и Бекарии были его главными руководителями в науке. Если мы в настоящее время не можем разделять его увлечения естественным правом, то нельзя не сочувствовать его стремлениям внести научный свет в нашу подъяческую среду, заменить практический судебный навык теоретической юриспруденцией. В предисловии к <Начертанию теории законов> 1810 года Цветаев восклицает: <авось либо, кроме юридических словарей и памятников из законов, мы некогда увидим и систематические сочинения о законах!>. Цветаев содействовал распространению теоретических цивильных понятий посредством римского права, преподавание которого было ему особенно приятно[13]. В этой области им было сделано немало. Кроме перевода учебника Мэкельди, он выпустил в свет еще <Начертание римского гражданского права>, 1817 года, <Краткую историю римского права> и <Учебную книгу римского гражданского права>, 1834 года. Главным его научным трудом должно быть признано <Начертание теории законов>, 1810 года, вышедшее вторым изданием в 1817 году. Какой же представляется теория права в глазах Цветаева? Его взгляд на этот предмет отражает в себе то время, когда обращалось исключительное внимание на исследование того, что должно быть, согласно с требованиями рассудка, мало обращая внимания на то, что есть. Теория законов, говорит автор, <показывает те правила, которым законодатель должен следовать в издании законов; те первые основания, на которых все законоположения зиждутся; те источники, из которых законы почерпаются; те средства и способы, которыми люди должны направляться ко всеобщей цели их гражданского бытия, т.е. к честному и безопасному житию; наконец, деятельные меры к отвращению тех препятствий, которые не допускают их достигнуть оной и которые они нередко сами себе противополагают; словом сказать, теория законов есть наука общественного нравоучения и общественного благосостояния> (стр. 3). В основании всего права лежит, по мнению Цветаева, естественное право, врожденное человеку, который <нашел его предписания напечатанными в своем сердце, своей совести, в своем практическом разуме> (стр. 13). Первоначально существовал единый естественный порядок, но <скоро нашлись люди, для которых он сделался недостаточен, для которых глас совести был слаб, чувство внутреннее правды невнятно> (стр. ;15). Этим объясняется необходимость появления положительных законов. Таким образом, современное гражданское право руководствуется двоякого рода законами, естественными и положительными (стр. ;37), причем достоинство последних тем выше, чем менее они отступают от прав естественных (стр. 50). Несколько странной представляется общая система права в том виде, в каком ее рисует автор. Все право разделяется на 1) публичное и 2) ;приватное, которое в свою очередь состоит из А) гражданского и В) ;уголовного права, так что уголовному праву присваивается название частного, как будто преступление составляет отношение между самими гражданами. Содержание и систему собственно гражданского права автор характеризует следующим образом. <Рассматривая гражданское общество в нем самом естественным образом, мы встречаем, во-первых, людей, оное составляющих, во-вторых, имущества, им принадлежащие; следовательно, законы должны определять права и должности первых относительно друг друга и обеспечить обладание и приобретение последних; это два главных предмета гражданских законов; но поскольку могут между людьми происходить споры в рассуждении прав их личных и имущественных, то необходимо также нужно определить те способы, коими можно было бы предупреждать те споры или случившиеся уже прекращать: почему три суть предмета гражданских законов, следовательно и теории оных: 1) люди в гражданском обществе живущие, или лица, 2) имущества, их собственность составляющие, или вещи, 3) ;дела, производимые как для соблюдения старых и для приобретения новых, так и для возвращения потерянных прав личных и собственности: ибо omne jus redditur personis per actions de rebus; четвертого предмета изобрести не можно> (стр. 65-66). Особенно характерно последнее замечание. Свое изложение теории гражданского права Цветаев делит на три рубрики: 1) право лиц, 2) право вещей, 3) ;обязательства; наследование он относит в отдел <о средствах приобретения собственности гражданских вообще>, вместе с дарением и давностью. Обязательства составляют <четвертое средство приобретения собственности> (стр. ;142). [5] Шевырев, История Московского Университета, стр. 165. [6] Шевырев, стр. 137 и 139. [7] Шевырев, стр. 149. [8] Речи русских профессоров Императорского Московского Университета, т. I, стр. 213-247. [9] Биографический Словарь, т. I, стр. 300. [10] Станиславский, О ходе законоведения в России, 1853, стр. 36. [11] Биографический Словарь московских профессоров, т. I, стр. 248. [12] Заметим, впрочем, что это выражение употреблено для той же цели переводчиками саксонского гражданского уложения (стр. L), оно встречается в Остзейских гражданских законах (ст. 1089, 1103, 1265). [13] Биографический словарь московских профессоров, т. II, стр. 539. При всех этих недостатках сочинение Цветаева имеет свои достоинства. Оно дает схему гражданского права, в которую может быть вложено положительное право каждого народа. В эпоху массы отдельных указов руководящая система права должна была принести несомненную пользу. К этому нужно присоединить интересное и изящное изложение предмета. Одновременно с рассматриваемой деятельностью ученых в центральных местах России и в провинциях, даже на крайнем востоке, видим зарождение теоретической юриспруденции. Щедрое покровительство Демидовых вызвало в 1805 году существование ярославского лицея, а с того же года открыл свое действие казанский университет. После смерти профессора Бюнемана, единственным преподавателем юридических наук в Казани был довольно долгое время профессор Финке. Хотя ему предложено было читать главным образом естественное право, но он <счел своей обязанностью начать с положительных прав, а не с естественного, государственного и народного, потому что последние суть не иное что, как философия права, изучение которой необходимо предполагает основательные взгляды на право, требует знакомства с понятиями о положительном праве, и в особенности потому, что положительное, как нечто историческое, легче понять и усвоить, чем философское>[14]. Однако, ввиду того, что Финке совершенно не владел русским языком, трудно себе представить, какого рода сведения мог он передавать своим слушателям, не зная русского законодательства. Финке читал все науки, полагавшиеся в то время на отделении нравственных и политических наук. Но главным предметом его преподавания было естественное право, которое он излагал по собственному сочинению, написанному на немецком языке и переведенному в 1816 году на русский язык под заглавием <Естественное частное, публичное и народное право>. Это произведение профессора Финке представляет собой лучшее изложение теории гражданского права, сравнительно с другими сочинениями первой четверти нынешнего столетия. Вместе с философской подготовкой, которой Финке был обязан более всего школе Канта, он соединял в себе общее юридическое образование, обладал выдающимся цивилистическим мышлением. Сочинение обнаруживает обширное знакомство автора с юридической литературой, постоянное внимание ко всему вновь появлявшемуся, насколько для него представлялось возможным следить за своей наукой из далекого пункта, отрезанного от центрального мира Европы невозможными путями сообщения. У Финке встречаем точные определения понятий о законе, о праве в объективном и субъективном смысле ( 1), о договоре ( 59), о собственности ( 50 и 52), о наследовании ( 108). К сожалению, трудно предположить, чтобы сочинение это, по условиям книжной торговли, могло иметь какое-нибудь распространение за пределами казанской губернии[15]. Другой профессор казанского университета, Нейман, успевший уже ознакомиться с русским языком, высказал взгляд, несколько несходный с преобладавшим до сих пор философским взглядом на юриспруденцию. <Для юношества необходимо изучение национального права. Нельзя быть человеком государственным, законодателем, чиновником и даже хорошим гражданином, не зная законов своей страны. Но в России изучение их до сих пор находилось в пренебрежении. Знакомство с существующим правом было доступно небольшому числу лиц, которые делали из него монополию. Огромная масса указов вносила во все дела и юридические вопросы замешательство и неопределенность. Единственный способ научиться заключался в продолжительной практике в судах или в департаменте министерства юстиции>[16]. Задача выработки теоретического понимания отечественных законов падает, по его мнению, на учрежденные университеты. Однако мысль эта представляется несколько преждевременной и сам Нейман, хотя и предполагал читать русское право в самостоятельной системе <по образцу труда знаменитого английского юриста Блекстона и его лекций английского права, читанных в оксфордском университете>, не успел ничего сделать на этой почве. В ярославском лицее, вместе с другими общеобразовательными науками, философией, словесностью, историей, географией, политической экономией, математикой и химией, преподавалось естественное право. Профессор этой науки в начале существования лицея был Покровский, который знакомил своих слушателей также с народным правом по Мартенсу и с римским по началам гражданского права Гейнекция[17]. Впрочем, едва ли этот преподаватель способен был внушить своим ученикам точные юридические понятия, если судить по его сочинению <Рассуждение о происхождении, постепенном ходе и некоторых чертах гражданских законов> 1817 года, которое представляет собой сбор общих мест по вопросам о гражданском обществе, семье, собственности и др. Исключением в ряду произведений юридической литературы того времени является сочинение Вельяминова-Зернова <Опыт начертания российского частного гражданского права>, которого первая часть вышла в 1814 году, вторым изданием в 1821, вторая часть в 1815, а третья, предназначенная для обязательственного права, вовсе не появилась. Как практику, обладающему притом основательными теоретическими познаниями, особенно в римском праве, автору удалось сойти с общей дороги, оставить естественное право и предоставить читателям полную картину русского законодательства в его прошедшем и настоящем. Нужно положительно удивляться, зная состояние русского законодательства в то время, тому обширному знакомству автора со всей массой указов в их преемственном порядке, которым поражает он на каждой странице. Вельяминов-Зернов сумел в научной системе изложить все русское право - заслуга немаловажная в ту эпоху. Все же автор по своим воззрениям примыкает к направлению первого периода в русской литературе по гражданскому праву. Несмотря на его положительное направление, то тут, то там прорываются следы идей его времени, школы его эпохи. Примером может служить следующее место. <По праву естественному для перенесения права собственности от одного к другому не требуется ничего, кроме договора. Например, если я у кого-либо куплю дом и покупка эта надлежащим образом будет совершена, то право его собственности на сей дом прекращается и я становлюсь хозяином оного. Но положительные законы отступают в сем случае от законов естественных. Они требуют для перенесения права собственности еще нечто другое сверх договора. И сие то нечто другое есть передача> (II, ст. 88). Но вне этих небольших экскурсий в область естественного права, вне нескольких ссылок на наказ Екатерины философский элемент совершенно изгоняется из <Опыта начертания> и все изложение направлено к ознакомлению читателей с постановлениями положительного русского права. Сам взгляд автора на правоведение представляется узко практическим. <Правоведение, - говорит он, - можно назвать наукой, ясно и правильно понимать законы и применять их к встречающимся в общежитии случаям или происшествиям. Итак, Российское Правоведение есть наука понимать и применять Российские законы> (I, стр. 1). Оригинальным представляется воззрение автора на характер отношения к правоведению. <Тот, кто приобрел искусство понимать и применять законы, называется Правоведцем или законоискусником (Iurisprudens, Iurisperitus, Iurisconsultus). Напротив того, тот, кто знает только одни слова и хронологический порядок законов, не разумея их смысла и не умея надлежащим образом применять их к встречающимся случаям, именуется Законником (legulejus); и, наконец, тот, кто, не имея никакого понятия о законе, или хотя и имея, но ложно и криво его толкует, из одних видов корыстолюбия, получает название Ябедника (rabula)>. Система изложения, которой придерживается автор, - это общепринятая в его время. Ввиду того, что <наши гражданские законы имеют своим предметом или лица, или вещи, или обязательства> (I, стр. 38), изложение русского права разделяется соответственно этим рубрикам. Отдавая дань своему времени, Вельяминов-Зернов относит наследственное право к способам приобретения собственности. <Право наследования, составляющее второй гражданский способ приобретения собственности, есть неоспоримо одно из важнейших прав, коими люди, живущие в гражданском обществе, пользуются. Оно составляет часть собственности, сего священного, ненарушимого права> (II, стр. ;108). Эта традиционная точка зрения не согласуется с другими определениями самого автора. <Наследство есть состав имуществ, прав и обязательств, оставшихся после умершего владельца> (II, стр. ;120); <и так как одни только вещи могут быть предметом собственности: права, обязательства и иски не входят в состав оной, и потому нельзя сказать (да и было бы противно общему употреблению) - я имею собственность на вексельный долг, на ловлю зверей и тому подобное> (II, стр. 25). Во всяком случае, сочинение Вельяминова-Зернова остается одиноким среди произведений отечественной литературы, наполненной идеями естественного права, общественного договора, цитатами из Монтескьё, Вольфа, Канта, Неттельблата. Его строго практический характер не совпадает с требованиями эпохи, сочинение по духу, по историческому материалу примыкает к позднейшему времени, является предвестником Свода Законов, на который оно оказало свое влияние[18], и потому только позднее встретило должную оценку в литературе[19]. Попытку систематического изложения действующего русского права, значительно, однако, уступающего по достоинству сочинению Вельяминова-Зернова, представляют <Основания Российского права>, изданные в 2-х частях, 1818-1822 гг. комиссией составления законов. По мнению комиссии, издание такого учебника составляет необходимое дополнение к систематическому Своду Законов. <Издаваемый Комиссией составления законов Систематический Свод с Основаниями права, извлеченными из разума последнеизданных законов, представляет настоящее русское право так, как Юстиниановы Пандекты (?) и Институты показывают римское право> (предисловие). Таким образом, Основания Российского Права должны играть роль институций Юстиниана, должны <служить руководством для присутственных мест>. Системы в изложении вообще никакой не заметно. Первая часть содержит учение о законе, о праве лиц, о браке, о детях, об опеке и попечительстве, вторая ;- о разных родах имуществ, о владении, о собственности, о повинностях, о срочном содержании, о наследстве вообще, о наследстве по закону. Обязательственному праву вовсе не нашлось места. Глава II Отвлеченное направление русской юриспруденции продолжается до издания Свода Законов. Двадцатые годы не произвели ничего нового в юридической литературе. Замечается какое-то затишье в ученой среде. С одной стороны, реакционное движение, разочарование правительства и общества в идеях естественного права останавливали проявление симпатии ученых к последнему, с другой стороны, русская наука, ввиду борьбы, начавшейся в это время в Германии между исторической и философской школами, замолкла, не зная еще, к кому примкнуть. В журнальных статьях, критике и рецензиях доктор прав Дегай знакомит русское общество с движением спора между Савиньи, Гансом и Гегелем. В своем сочинении <Пособия и правила изучения российских законов>, 1831 г., предназначенном к облегчению занимающемуся юридическими науками возможности разыскать соответствующую литературу, Дегай становится на сторону философской школы. <Рассматривая пользу, которую могут нам принести сочинения немецких правоведцев, оказывается, что школа историческая, занимающаяся преимущественно изъяснением древности римского права и местных обстоятельств Германии, имеет особенное достоинство для туземного их права; но для российских законоведцев несравненно менее полезна, нежели философская школа Тибо, обильная общими, основными сведениями о праве> (стр. 115-116). Тем не менее исторической школе суждено было иметь успех на русской почве, благодаря удачно сложившимся для нее обстоятельствам. Дух реакции, поднявшейся в последние годы царствования императора Александра I, особенно усилился в конце двадцатых и в тридцатых годах. Все движения в обществе, события, сопровождавшие вступление на престол Николая I, объяснились тлетворным влиянием Запада, заразившего своими рационалистическими идеями русское общество. Реакция господствовала в то время и в западных государствах, правительства которых изыскивали всевозможные средства для уничтожения идей восемнадцатого века, внушивших обществу мысль о неограниченной его силе, о возможности пересоздания всего порядка по началам разума, не обращая внимания на исторические условия. Остановить полет пылкой фантазии, направить ум гражданина на исторические основы существования каждого государства - вот мотивы, объясняющие в значительной степени успех исторической школы права и покровительство ей со стороны правительства, так же как и успех гегелевской философии, признавшей разумность действительного. Если историческая школа, по стремлениям своих основателей, не имела в виду никаких политических целей, то все-таки из духа ее учения можно было вывести ненарушимость общественных установлений, имеющих за собой историческое прошлое, неприкосновенность исторических прав. Вместо идеи о возможности мгновенного преобразования общественного порядка волей законодателя, явилась идея о постепенном и медленном изменении государственных и правовых основ, вместо призыва к бурной деятельности послышалось приглашение к объективному созерцанию саморазвивающегося исторического процесса. Такие идеи, развитые некоторой частью германской политической литературы, как нельзя более совпадали с видами правительств. Следя за движением западной жизни, наше правительство точно так же стало на сторону исторической школы и решило поставить правоведение в русских университетах на положительную почву, изменить господствующее философское направление на историческое. Правительство давно уже относилось неблагоприятно к естественному праву, как порождению революционной эпохи. Весьма интересным представляется взгляд на эту эпоху известного общественного деятеля на почве народного образования ;- попечителя Магницкого. <Наука Естественного Права, без которой обходился древний Рим будучи королевством, республикой и империей, и не менее того оставивший нам образцы совершеннейшего гражданского законоположения, без которой обходилась Франция в течение 800 лет, без которой обходятся и ныне все университеты Англии и Италии, и которые, однако же, славятся отличнейшими юристами; наука Естественного Права, сия метафизика прав, несопредельная к народному, публичному и положительному праву, есть изобретение неверия новейших времен Северной Германии. Она всегда была опасна; но когда Кант посадил в преторы так называемый чистый разум, который вопросил истину Божью: что есть истина? и вышел вон, тогда наука Права Естественного сделалась умозрительной и полной системой всего того, что мы видели в революции французской на самом деле, опаснейшим подменом Евангельского Откровения, ибо не опровергает его, но проходит в молчании, начинается с предположения, что его никогда не было, исторгает с руки Божьей ей начальное звено златой цепи законодательства и бросает в хаос своих лжемудрствований, и, наконец, опровергнув алтарь Христов, наносит святотатственные удары престолам Царей, властям и таинству супружеского союза, подпиливает в основании сии три столба, на коих лежит свод общественного здравия>. Ввиду этих и некоторых еще других соображений Магницкий задает вопрос. <Я осмеливаюсь вопросить и с сей лучшей стороны: может ли быть сия наука безвредной?> <Должно ли опасаться, что университеты наши не могут обойтись без сей науки, положим год, когда жили без нее и обходились древний Рим 500 и Франция 800 лет?>[20]. Восставая против естественного права и вообще философского направления в правоведении, правительство старалось обратить эту науку на путь исторической школы, погрузить ее в исследование самобытных основ русского права. Из посвящения Морошкиным перевода книги Рейца (1836 г.) министру народного просвещения Уварову видим, что последний был деятельным сторонником и проповедником идей новой германской школы. <Ваше Превосходительство, возводите русское просвещение к источникам его самобытной силы, к Православию, Самодержавию и Народности. Для совершения сего священного долга, при двукратном обозрении Московского Университета, вы изъявили требование исторической методы в раскрытии отечественных наук и лично руководствовали преподавателей законоведения в приложении ее ко всем предметам юридического учения>. Даже значительно позже, в конце сороковых годов, мы встречаем указания профессора Станиславского на данные ему начертания со стороны князя Ширинского-Шихматова о преподавании юридических наук в духе исторической школы[21]. Желая изменить направление в преподавании, правительство принуждено было озаботиться подготовлением нового состава профессоров, которые бы прониклись идеями, желательными для видов правительства. Вследствие выраженного императором Николаем желания поставить преподавание в уровень с требованиями настоящего времени, выбраны были несколько молодых людей из воспитанников Духовной Академии для посылки их за границу. Первый выбор пал на Неволина, Богородского, Благовещенского, Знаменского и Орнатского. Под личным руководством графа Сперанского эти будущие профессора занимались изучением русского законодательства и только после выдержанного испытания отправлены были в 1829 году в Берлин, непосредственно к главе исторической школы - к самому Савиньи. За первой группой следовали еще другие, в составе которых встречаем имена видных ученых деятелей России, как Крылов, Редкин, Мейер, Осокин, Куницын, Кранихфельд и др. От этих молодых сил следовало ожидать перенесения на русскую почву учения исторической школы. В конце 1835 года профессор Морошкин мог воскликнуть. <Метода преподавания во всем историческом факультете Российской Империи в скором времени будет изменена или подновлена возвратившимися из-за границы русскими докторами прав. Уже ими брошен критический взгляд на все пространство юридической деятельности русских университетов (намек на Благовещенского). Недостатки взвешены, исчислены, измерены. И начальство университетов и профессора готовы заменить их совершенствами>[22]. Соответственно изменившемуся направлению необходимо было изменить распределение кафедр и наук в университетах. Правительство решило совершенно изгнать философию из преподавания юриспруденции и поставить последнюю на почву положительного законодательства, превратить юридический факультет в орудие истолкования и проведения в жизнь всего богатого содержания только что обнародованного свода законов. Юридический факультет был совершенно преобразован первоначально во вновь учрежденном Киевском университете по уставу 25 декабря 1833 года, а потом во всех университетах по общему уставу 26 ;июля 1835 года. Установлено было семь следующих кафедр: 1) ;энциклопедия или общее обозрение системы законоведения, Российские Государственные Законы, т.е. Законы Основные, Законы о состояниях и Государственные, 2) Римское законодательство и История оного, 3) ;Гражданские законы, общие, особенные и местные, 4) ;Законы Благоустройства и Благочиния, 5) Законы о Государственных повинностях и Финансах, 6) Законы полицейские и уголовные, 7) ;Начала Общественного Правоведения (jus gentium)[23]. Один взгляд на распределение наук обнаруживает тенденцию правительства поставить преподавание юриспруденции в университетах в соотношение с изданным Сводом Законов. Философский элемент, преобладавший прежде, почти совершенно изгнан, если не считать энциклопедии, которая должна была составить введение к изучению прочих наук, и римского права, как испытанного теоретического средства. Вместе с тем нельзя не признать, что в новом уставе юридический факультет получил более правильную организацию, чем та, которая установлена была ранее. В частности гражданское право впервые выделено в самостоятельную науку, в отдельный предмет преподавания. В уставе киевского университета 1833 года кафедра гражданского права очерчена несколько иными словами: <Российские гражданские законы, как общие, так и особенные, как-то: кредитные, торговые, и о фабриках, со включением и тех местных законов, кои действуют в некоторых только губерниях> ( 34). [14] Булич, Из первых лет Казанского Университета, ч. II, гл. Х. [15] Интересен список подписчиков на книгу, приложенный к ней. [16] Булич, Зап. Каз. Унив., 1890, кн. I, стр. 68. [17] Распределение предметов учения в Ярославском Демидовском высших наук училище, с 1811 по 1820 гг. [18] Мейер, Русское гражданское право, изд. 1873, стр. 14. [19] Дегай, Пособия и правила изучения российских законов, 1831, стр. 61; Благовещенский, История метод законоведения, Ж. М. Н. Пр. 1835, кн. VII, стр. 50; Станиславский, О ходе законоведения в России, 1856, стр. 37. [20] Чтения в Императорском Обществе Истории и Древностей российских при Московском Университете, 1861, кн. IV, стр. 157-158. [21] Станиславский, О ходе законоведения в России, стр. 60. [22] Предисловие к Опыту истории Рейца, стр. XIV. [23] П. С. З. № 8337, 12. Этот переворот во взглядах на задачу юриспруденции совпал с изданием Свода Законов, этого в высшей степени важного события, которое невольно должно было обратить на себя внимание людей науки. Так как Свод Законов был построен на исторических началах, так как в основание его было положено такое капитальное произведение исторических изысканий, как Полное Собрание Законов, то естественно возбужден был интерес к историческим исследованиям русского права, к дополнению исторических данных русского законодательства. В 1834 году археолог Строев, командированный академией в путешествие по России для изучения всех письменных памятников отечественной истории, доносил, что им собрано до 3000 историко-юридических актов. В 1836 году издаются Акты, собранные в библиотеках и архивах российской Империи Археографической Экспедицией Императорской Академии Наук. К этому нужно присоединить весьма ценные юридические акты, о которых Неволин выразился, что <наше время трудилось не бесплодно, если бы не произвело ничего более, кроме изданий Археографической комиссии>[24]. Какой бы несвоевременной насмешкой звучали в то время увлечения историческими изысканиями слова Рудольфа Иеринга, сказанные несколько позднее по поводу замечания комиссии, учрежденной для составления Свода Законов, что, к сожалению, многие из указов за период времени от уложения 1649 года утеряны безвозвратно для истории: <комиссия, - восклицает Иеринг, - усматривает главную причину несовершенства русского законодательств в недостаточном количестве законов: только если бы вся масса была налицо, она могла бы подвинуть успех юриспруденции - правильнее было бы сжечь большую часть этого хлама!>[25]. Такое замечание было бы слишком жестоко в период столь искреннего увлечения. Не следует, однако, приписывать успехи исторической школы исключительно таким внешним обстоятельствам, давлением правительства, практическим составом университетских кафедр, необходимостью комментировать Свод Законов. В учении исторической школы скрывалась внутренняя притягательная сила, которой невольно подчинились русские ученые. Наука двигается вперед толчками, которые ей дают гениальные люди. В брешь, образованную новым движением мысли, немедленно бросается масса добросовестных, но посредственных работников, которые трудятся над разработкой нового пути, над выравниванием шероховатостей, сноской обломков, образованных толчком. Всякое направление представляется наиболее увлекательным, когда оно созерцается в своем первом, быстром движении, и наоборот, чем дальше от этого момента, чем более мелочей перед глазами наблюдается, тем менее притягательной силы заключает оно в себе. Философское направление в науке права, полное энергии и привлекательности в лице Вольфа, Канта, Руссо, превратилось постепенно в скучное, монотонное повторение тех же мыслей в схоластической форме, в сухой схеме, на которую только и способны последователи той или другой философской школы. Утомленный этим однообразием, отсутствием жизненности, ум беспокойно ищет нового света и лишь только завидит его мерцание, как тотчас устремляется туда. Особенной чуткостью к новым научным веяниям, восприимчивостью к новым направлениям отличается русская наука. Она зорко следит за движением западной мысли и не упустит нового направления, хотя бы еще не окрепшего на родине, не ознакомив с ним русское общество, но как часто случалось ей принимать блуждающие огни за научный свет и потом горько убеждаться в своей ошибке! Весьма естественно, что только что вступающая в жизнь русская наука права скоро утомилась повторением идей естественного права, возникшего и развивавшегося на чужой почве, и, не встречая возможности применения их к русскому быту, стала искать чего-нибудь более свежего, способного связать науку с жизнью и сознанием практической пользы возбудить ученый ум. Молодая страна с далеким и темным прошлым составляла благодарную почву для исторических изысканий. Составление Свода Законов и Полного Собрания Законов встряхнуло пыль с исторических памятников и возбудило к исследованию прошлого государственного быта России. Что же удивительного, что и русская юриспруденция поддалась общему научному увлечению? Первые исследования по истории русского права были произведены не русскими, а немецкими (Эверст, Рейц) и польскими (Мацеевский) учеными. Приходилось начинать с переводов. В 1835 году появился перевод сочинения Эверса <Древнейшее русское право>, сделанный Платоновым, а в 1836 году профессор московского университета, Морошкин, предложил русской публике перевод сочинения Рейца <Опыт истории российских государственных и гражданских законов>. Переводная литература послужила началом оригинальных исследований по истории русского права, из которых наиболее капитальным представляется работа Неволина. Исторические исследования представляют собой безмолвное и практическое осуществление нового направления. Но этого было мало. Необходимо было пропагандировать идеи Савиньи и его школы. Одним из талантливых проводников исторического направления в русскую жизнь является преждевременно погибший Благовещенский. В своем весьма интересном и прекрасно написанном исследовании <История - метод науки законоведения в XVIII веке>[26] молодой ученый, отдавая должную справедливость философии, объясняет отпадение от нее юристов тем, что <она хотела быть не подругой, но госпожой над законоведением, она хотела не только учить, но и господствовать, не только объяснять и толковать существующие законы, но и законодательствовать и уничтожать оные, в силу уполномочия вечного ума> (IV, стр. ;385). Считая естественное право за <учение весьма неопределенное и шаткое> (IV, стр. 406), Благовещенский нападает на характер преподавания, господствовавший ранее в русских университетах. <Право естественное, политическое, народное, были преподаваемы по какому-либо из тех бесчисленных Naturrechte, которыми потопилась Германия со времени Канта и которыми разлились и по нашим высшим училищам, как духовным, так и народным: сии Naturrechte были или принужденные копии с какого-либо положительного законодательства, особливо с римского гражданского (jus civile), либо теории, построенные немецкими умниками из своей головы и независимо от опыта и истории (a priori) и потому мало полезны или вовсе бесполезны для нашей науки> (VII, стр. 49). Взамен того Благовещенский обращает внимание на необходимость изучения русского права. <Те законы, по которым мы управляемся, должны быть нам прежде всего известны, дабы неведение их не послужило ни нам, ни другим во вред, подобно тому, как воздух, которым дышим, должен быть всегда известен, дабы по незнанию не заразиться и не заразить других. Так очевидна необходимость познания действующих законов своего отечества или того места, где находимся> (VI, стр. ;416). При этом Благовещенский в увлечении отечественным правом доходит до мысли о непригодности какой-либо общей научной системы права для положительных законодательств. <Порядок, в котором имеют быть предлагаемые отдельные части науки законоведения, должен быть не произвольный и подчиненный какой-либо чужой системе, но заимствованный из существ и характера самих положительных законодательств. Поскольку при сем прилагаются в основание обыкновенно отечественные законы какого-либо определенного государства, то порядок может быть заимствован из них и по нему устроено сравнение> (VI, стр. 417). Не следует, однако, считать Благовещенского представителем того узко национального направления, которое проповедует полную отрешенность одного народа от других. Убежденный, что право каждого государства развивается из основ, заложенных в его народной жизни, что строй и дух права носят на себе печать национальности, рассматриваемый автор высказывается, хотя и несколько несмело, за полезность сравнительного приема в науке права. <В заключение мы излагаем собственное свое убеждение в необходимости и пользе сравнительного законоведения, не почитая его отнюдь за учение догматическое, но в виде искреннего и твердого желания споспешествовать к вящему усовершенствованию нашей науки. Под именем сравнительного законоведения можно понимать тот образ изучения и преподавания законов, по которому законы и законные правила какого-либо определенного государства (напр., российского) сравниваются с законами того же самого государства, напр., настоящие с прежними, или с законами других государств, в большем или меньшем количестве взятых или, наконец, с законами и обычаями всех государств и народов, прежде существовавших и ныне существующих. Мы понимаем в сем последнем и пространнейшем смысле и признаем собственно наукой законоведения, открывающей вечные начала правды, справедливости и благочестия, сии непоколебимые основания бытия и благоденствия родов, царств и народов> (VI, стр. 414). Очевидно, Благовещенский не предлагает только догматическое изложение положительного права с экскурсиями в область истории и иностранных законодательств, но ищет результата такого сравнения и сопоставления. Нельзя, однако, приписать ему идеи сравнительного правоведения, в современном значении этого слова, Благовещенский далек от мысли искать общих законов развития права, которые только и могут обнаружиться из сопоставления явлений, различных по условиям времени и пространства. В приведенных словах его мы должны скорее искать невольное отражение философского духа его времени. Как ни решительно становится он на сторону исторической школы права, как ни твердо убежден в национальном характере права, но все же он не может отказаться от мысли, что в истории права заложена какая-то общая идея, раскрытие которой и придает правоведению научный характер. В этом отношении влияние Гегеля и его школы было слишком сильно, чтобы, попав в Германию в конце двадцатых годов, молодой ученый мог выйти оттуда не зараженным, хотя отчасти, стремлением искать идеи, во имя которой развивается история человечества. Влияние германской философии заметно почти на всех русских ученых рассматриваемого времени, все они как бы сидят между двух стульев и весьма нередко попадают в противоречия. Такая двойственность замечается в богатом по содержанию сочинении Неволина <Энциклопедия законоведения>, вышедшем в двух томах в 1839 году. Сочинение это, заключающее в себе, кроме собственно энциклопедии права, еще историю философии права и историю положительного права, имело несомненно весьма значительное воспитательное значение для русского общества, предложив ему такую массу разнообразных сведений, какую не вмещала вся предшествовавшая русская юридическая литература, вместе взятая. Автор выражает свое сочувствие исторической школе, которое особенно ярко выступает в изложении учений современных ему в Германии школ (II, стр. 535, 563). Идеи Савиньи о постепенном развитии права из народного сознания, о формах права, совмещаются с философией Гегеля, с учением о существе и ступенях развития воли со стороны ее формы и содержания, с знаменитыми триадами[27]. Согласно с духом времени, в которое писал Неволин, но не вполне согласно с духом его выдающегося произведения, автор смотрит на науку права с чисто практической точки зрения. <Законоведение есть преимущественно наука практическая и изучается наиболее для целей практических. В практическом отношении человек имеет определенный круг прав и обязанностей, который, при невозможности знать все, он и должен стараться узнать предпочтительно. Сей круг ограничивается для каждого преимущественно его отечеством и его временем. Почему и его законоведение должно ограничиться законами отечественными, в его время действующими> ( 125). Эта практическая точка зрения заставляет Неволина держаться системы права, установленной Сводом Законов, что оказалось особенно неудобным в истории положительного права. В нашу задачу не входит подробное рассмотрение этого произведения Неволина, так как в нем он почти вовсе не касается гражданского права ( ;98, 99, 100). Необходимость изучения отечественного права, выставленная Благовещенским и Неволиным, была понята последующими учеными не в догматическом смысле, а в духе исторической школы, как необходимость изучения исторических основ отечественного юридического быта. Энергичным пропагандистом исторического направления выступил несколько позднее профессор казанского и харьковского университетов Антон Станиславский, особенно в его двух речах <О ходе законоведения в России и о результатах его современного направления>, 1853, и <О происхождении положительного права>, 1856. <Каждому моменту в развитии данного государства соответствует непременно такой же момент в развитии его законодательства, и в настоящее время никто не сомневается более, что исследователь, имея пред глазами законодательство известного народа, в историческом его развитии может делать весьма близкие к правде, иногда даже совершенно верные заключения о постепенном развитии этого народа>[28]. В своем изложении теории происхождения права Станиславский придерживается взглядов исторической школы, которые она выразила во второй фазе своего существования, после появления System des heutigen Römischen Rechts Савиньи, с дальнейшим развитием их в сочинениях талантливого его последователя - Пухты. <Первым по времени, а может быть и по внутреннему значению, источником положительного права надобно признать непосредственное убеждение народа о праве. Это убеждение проявляется сначала во внутренней сфере духа - в сознании членов общества>. <Вслед за появлением его в народном сознании, оно, при первом удобном случае, высказывается во внешних действиях, которые можно уже назвать осуществлением юридического убеждения> (стр. 25). Действия эти, повторяясь более или менее часто, обращаются в привычку, в обычаи. <Совокупность правил, вытекающих из народного сознания и осуществившихся в обычаях, называется обычным правом> (стр. 26). <Таким образом, народное сознание, имеющее за собой все прошедшее народа, его нравы, религиозные верования, историю - вот истинный и единственный источник положительного права, не только обычного, но и законодательного>. <Власть государственная есть внешний орган, служащий представителем общей народной воли. Задача ее заключается в том, чтобы, во-первых, сознать и, во-вторых, осуществить свою волю. Соответственно своему назначению сущность власти государственной состоит в том, что, как скоро она, по установленным для того правилам, признает что-нибудь в данном случае общей волей, то вместе с тем она имеет право требовать, чтобы эта общая воля была также признаваема и исполняема всеми членами государства> (стр. 30). Следовательно задача законодателя сводится к возможно точному воспроизведению народного сознания в форме велений закона, соединенных с санкцией. Теория, придающая такое важное значение народному правосознанию, не могла не отразиться на вопросе о соотношении между обычным правом и законом. Станиславский предостерегает от вывода <будто право народное может быть рассматриваемо только как суррогат законодательства, когда оно оказывается недостаточным, и что как скоро для данного случая есть закон, то уже не должно быть и речи об данном праве. Обоим источникам положительного права, законодательству и народному сознанию (?), надобно признать равное и самостоятельное значение и в таком случае окажется, что даже правило, первоначально установленное законом, впоследствии времени, сообразно с изменившимися потребностями, может быть изменено или отменено другим правилом, вытекшим из народного убеждения о праве и воплотившемся в обычае> (стр. 37). В этом случае Станиславский допускает некоторое противоречие: с одной стороны, признает, что в основании законодательства лежит также народное правосознание, с другой - отождествляет народное сознание с обычным правом и дает последнему место в ряду источников права, не соответствующее ни современным научным воззрениям, ни истории русского права. То же положение было отстаиваемо современником Станиславского - профессором Мейером. <Третьим, наконец, источником положительного права, - говорит Станиславский, ;- мы признаем знание права и учение о нем - одним словом, науку права> (стр. 39). Из приведенных отрывков видно, что Станиславский всецело проникся идеями исторической школы и с горячей убежденностью предлагает их русскому обществу. Человек с широким образованием, притом поэт, Станиславский был далек от мысли пропагандировать мелочное исследование исторического материала. Его сочинения посвящены были истории права, но при этом он искал в прошедшем народной жизни объяснения явлений современного быта, а не довольствовался нагромождением одних архивных данных, как это делали многие германские последователи исторической школы, справедливо заслужившие упреки от своих противников. Как ни незначительны были русские ученые силы, посвятившие себя изучению гражданского права, но все они под влиянием исторической школы, занялись в течение сороковых и пятидесятых годов разработкой истории русского права, преимущественно древнего юридического быта. Вместе с тем исторические памятники как общие, так и собственно правовые, подверглись подробному исследованию с точки зрения их значения для истории гражданского права. Профессор Станиславский, обративший внимание на это, современное ему, направление и пытаясь дать ему объяснение, отвергает, как причину, влияние исторической школы. <Едва ли можно допустить, что все, следующие этому направлению, объединены общим сознанием необходимости делать так, а не иначе. Допустить это - значило бы то же самое, что признать существование исторической школы законоведения; но, сколько мне известно, никто еще не думал дать такое значение современной деятельности русских законоведцев. Я готов скорее видеть в этом, как и во многих других проявлениях человеческой деятельности, таинственное сочетание воли и необходимости>[29]. Но мы, рассматривая это явление в отдаленной перспективе, не поверим современнику, отвергнем вмешательство таинственных сил и признаем именно влияние исторической школы, иногда сознательное, иногда невольное. Мы имеем перед собой целый ряд исторических исследований по гражданскому праву, появившихся в рассматриваемое время. Профессор московского университета Морошкин издал в 1837 году исследование <О владении по началам российского законодательства>. В этом сочинении Морошкин, следуя теории одного из представителей исторической школы, Рудольфа, применяет (стр. 34) его взгляд на первоначальное владение, который составлял вывод из теории германского права, всецело к древнему русскому быту. Он объясняет владение в древние времена нашей истории идеей общего мира, охранение собственности и владения запрещением насилия. Вслед за Рудольфом Морошкин признает владение не правом, а только фактом. В подтверждение своей теории или лучше сказать, применимости теории Рудольфа к русской истории, автор делает много ссылок на древние акты и памятники. В 1839 году Морошкиным произнесена была речь на публичном акте московского университета <Об уложении Царя Алексея Михайловича и о последующем его развитии>. В том же 1839 году появилось <Историческое изложение русского законодательства о наследстве> Рождественского. В этом сочинении автор рассматривает сначала влияние чужеземного права на порядок наследования (стр. 3-32), а затем народные русские элементы наследственного права, причем делит свое историческое обозрение на 3 периода, от Русской Правды до Уложения (стр. 33-53), от Уложения до закона 1714 года о единонаследии (стр. 53-70) и, наконец, с этого момента до царство-вания Николая I. В этом же историческом направлении работал и Станиславский, оставивший русской литературе два исторических исследования. <Об актах укрепления прав на имущества>, 1842, и <Исследование начал ограждения имущественных отношений в древнейших памятниках русского законодательства>, 1855. Первое из этих сочинений посвящено весьма интересному вопросу о постепенном развитии форм укрепления соответственно степени общественного развития. Укрепление прав выражается первоначально в символах, мимических действиях, которые заменяют слова, вследствие бедности языка первобытного человека (стр. 33). На смену символам выступают формулы, которые предполагают некоторое совершенство в языке народа, хотя и здесь, при небольшом запасе слов, одно удачно найденное, краткое энергическое выражение надолго сохраняется ненарушимо и применяется к другим случаям, отличающимся от первоначальных условий применения (стр. ;35 и 78); наконец, с развитием языка и письменности средством укрепления прав на имущества служат документы. Сочинение Станиславского посвящено, таким образом, символике права, которой автор придает большое значение. <Символика права, - говорит он, - вскоре сделается для многих ученых предметом ближайшего исследования, а тем самым займет почетное место в области наук юридических. Кажется, она должна со временем войти в состав истории права, именно образовать собой первую часть оной, историю, так сказать, баснословного, доисторического периода времени> (стр. 51). К сожалению, автор мало обратил внимания на собственно русский быт, главным образом он пользуется данными германского и французского права, насколько они выяснились в работах Гримма и Мишлэ. Притом поэтический талант переводчика Данта берет нередко перевес над научной последовательностью и твердостью доказательств. Второе из указанных произведений Станиславского посвящено исследованию о мерах ограждения имущественных отношений частных лиц по древним памятникам, по договорам Олега и Игоря с греками и по Русской Правде. Труд исследователя заключается здесь в объяснении текста тех статей указанных памятников, которые содержат указания на имущественные права частных лиц. [24] Неволин, История гражданских законов, изд. 1858, т. I, стр. 23. [25] Iherinq, Geist des Römischen Rechts, B. I, стр. 41, прим. 14. [26] Журнал Мин. Нар. Просв. 1835, кн. VI и VII. [27] См. Ренненкампф, Очерки юридической энциклопедии, 1880, стр. 20. [28] О ходе законоведения, стр. 9. О происхождении права, стр. 23. [29] Станиславский, Юридический Сборник Мейера, 1855, стр. 154. Памятники русской истории, имеющие отношение и к гражданскому праву, нашли себе деятельного исследователя в лице профессора московского университета Калачова. В 1846 году он представил свою магистерскую диссертацию <Исследование о Русской Правде>, в 1847 году он поместил в Чтениях Московского Общества Истории и древностей статью <О значении Кормчей книги в истории древнего русского права>, которая вышла в 1850 ;году отдельной книгой. В течение сороковых и пятидесятых годов Калачов деятельно собирал древние юридические памятники и работал над приведением их в систему и над истолкованием их смысла. В университете Калачов не только читал полный курс истории русского законодательства, но и занимался со студентами толкованием текста древних памятников[30]. Несколько ранее Калачова вступил в московский университет Кавелин, защитивший в 1844 году диссертацию на степень магистра гражданского права <Основные начала русского судоустройства и гражданского судопроизводства в период времени от Уложения до Учреждения о Губерниях>. Обратив все внимание на историю русского законодательства, ученые относились пренебрежительно к догматике права и в большинстве случаев ограничивались чтением курсов непосредственно по Своду Законов, как это делали такие талантливые труженики науки, как Калачов и Кавелин, которые только сокращали, сопоставляли и поясняли историческими справками статьи Свода[31]. В первой книжке Современника за 1874 год появилась весьма интересная статья Кавелина <Взгляд на юридический быт древней России>, которая своей темой и оригинальностью воззрений автора вызвала целую полемику в журнальном мире. В ней Кавелин стремился дать теоретическое объяснение истории русского права, как и вообще всей русской истории. В живых и ярких красках набрасывает он картину русского родового быта в противоположность западному. Историческим исследованиям посвятил свою первоначальную научную деятельность выдающийся русский цивилист, бывший профессором в казанском, харьковском и петербургском университете, Пахман, который выпустил в свет в 1851 году сочинение <О судебных доказательствах по древнему русскому праву, преимущественно гражданскому в историческом их развитии>. В этом исследовании, обнаруживающем основательное знакомство автора с источниками, положительность и логичность выводов, устанавливаются следующие положения. Образование и развитие древней русской системы судебных доказательств, равно как и системы судопроизводства, условливались преимущественно туземными началами, определявшими жизнь наших предков (стр. 12). Отвергая влияние германского элемента на русское право, автор допускает значительное и долговременное действие византийского элемента (стр. 29 и 34). Древнейшая система судебных доказательств обнаруживает господство суеверия и грубых заблуждений, так как обычаем и законом были освящены некоторые средства открытия истины (суды Божии или ордали), которые должны быть рассматриваемы, с одной стороны, как судебные доказательства, а с другой - как особые формы суда, противоположные формам обыкновенного суда человеческого. Важнейшим и основным в целой системе судебных доказательств было доказательство посредством свидетелей (стр. ;136): ниже этого средства доказательства стояли формы суда, носившие общее название судов Божьих. Присяга, как средство доказывания, примыкает к ордалиям. Другие доказательства, как собственное признание, жребий, судебный поединок, повальный обыск, развиваются позднее, в период времени от начала XV до половины XVII века. Другой известный цивилист того времени, Мейер, внес в историю гражданского права свою долю труда, предложив обществу <Древнее русское право залога>, 1855 года. Здесь рассматривается история этого института только в древнейший период. Автор устанавливает относительно русского права положение, что первоначальный залог представлял собой форму отчуждения права собственности со стороны залогодателя в пользу залогопринимателя, что такое понятие о залоге с некоторыми колебаниями может быть прослежено до начала XVIII столетия (по Юридическому Сборнику, стр. 228, 229, 263). Как естественный вывод из такого воззрения является: 1) передача заложенной вещи залогопринимателю (стр. 247), 2) право залогопринимателя, как временного собственника, отчуждать заложенное имущество. Хотя взгляд этот на древнее право залога и подлежит еще сомнению[32], однако нельзя не признать, что по ясности изложения и тонкости юридического анализа это одно из лучших исторических исследований того времени. В Юридическом Сборнике Мейера 1855 года помещена статья С. ;Капустина <Древнее русское поручительство>, в которой автор рассматривает сначала круговую поруку во времена Русской Правды, причем оспаривает взгляд, будто она установлена была князьями с целью предупреждения преступлений (стр. 290). По мнению автора, поручительство в древнем русском праве состояло в удостоверении поручителя в готовности и способности должника исполнить обязательство и в принятии на себя ответственности исполнением этого обязательства или вознаграждением убытков (стр. 299). В такой форме поручительство до XVIII века было единым, не представляло никаких видоизменений, сохраняло во всех случаях его применения одни и те же начала в противоположность позднейшему времени, когда в законодательстве установились многочисленные его виды. Сочинение вообще ничем не выдается. Все в том же 1855 году, богатом историко-юридическими исследованиями по гражданскому праву, выступил впервые на литературное поприще профессор дерптского университета, Энгельман. Его первое ученое сочинение <Систематическое изложение гражданских законов, содержащихся в псковской судной грамоте> является студенческой работой, удостоенной золотой медали таким опытным учителем, как Неволин, обративший на себя тотчас же внимание ученых. Этот систематический комментарий обнаруживает большое знакомство автора с языком и бытом времени появления этого любопытного документа. Его объяснения выражений, встречающихся в псковском юридическом памятнике, остаются в большинстве случаев авторитетными до сих пор. Но Энгельман не остался на почве чисто исторической и в дальнейшем своей научной деятельности перешел к историко-догматическому периоду развития русской науки гражданского права. На почву исторических изысканий выступил также профессор Куницын, преподававший в течение 25 лет гражданское право в харьковском университете, а под конец жизни перешедший в одесский университет. Его довольно большая речь, произнесенная на публичном акте 1844 года <О правах наследства лиц женского пола>, представляет собой главным образом экскурсию в область русской истории. В заключение речи Куницын высказывает взгляд в пользу преимущества мужчин перед женщинами в наследовании. <Как государственный человек, как воин, как гражданин, как отец семейства, мужчина, или исключительно, или преимущественно, несет сообразные каждому званию повинности; на нем лежит обязанность защиты, пропитания и содержания жены и всего семейства, на нем преимущественно лежит обязанность и воспитания детей. Женщина всегда и везде по своему полу имеет нужду быть под защитой мужчины и, разделяя с ним труд, она является не более, как его помощницей. Не требует ли того и сама справедливость, при этих исключительных или преимущественных обязанностях мужчины, представлять ему и более материальных способов к понесению всех этих повинностей. А где всего более может представиться этих способов, как не в наследстве?>[33] Наиболее ценным произведением Куницына является <Историческое изображение древнего судоустройства в России>, 1843 года, которое чрезвычайно богато историческими данными, предлагаемыми усмотрению и собственной оценке самого читателя. Автор не довольствуется одним изложением юридических памятников, но совершенно верно прибегает к общим источникам, чтобы в них найти разъяснение тех пробелов, которые допущены были древним законодателем, не обладающим еще способностью правильно и всесторонне охватить явление и дать ему соответствующее выражение. <Чтобы наполнить промежутки в системе древнего судопроизводства, я нередко прибегал к летописцам, у которых многие судебные действия описаны с довольной подробностью. Поскольку долг судьи есть наблюдение закона, и как произвол его в употреблении власти обыкновенно ограничивается установленными формами, то мы должны признать законным тот самый порядок, который он наблюдал в рассмотрении и решении дел> (предисловие, стр. II). Вопрос о древнерусском судопроизводстве особенно интересовал русских ученых того времени, насколько можно судить по тому обстоятельству, что большинство тем касалось этого вопроса. Мы видели, что этому вопросу посвятил свое первое внимание Кавелин. Профессор Петербургского университета, Михайлов, написал обе свои диссертации на тему, относящуюся к истории процесса, в 1848 году появилась его <История образования и развития системы русского гражданского судопроизводства до Уложения 1649 ;года>, а позднее, в 1856 году, он выпустил в свет <Русское гражданское судопроизводство в историческом его развитии от Уложения 1649 до издания Свода законов>. В посвящении первого из указанных сочинений министру Уварову, Михайлов объясняет преобладавшее в его время историческое направление юриспруденции следующими соображениями. <Любовь ко всему отечественному есть одно из отличительных направлений современного образования и просвещения в России. Мы, русские, дорожим нашей отечественной стариной, мы любим все, что говорит нам о России, памятники ее прежней жизни для нас священны и на них обращаются исследования исторические как по любви к науке, так и по любви к отечеству>. Читая эти строки, начинаешь думать, что историческое направление составляет нечто самобытное, выросшее собственно на русской почве, без всякого западного влияния! В первом сочинении Михайлов производит древний суд из мирового разбора отцом спора между подвластными, причем средствами решения служат разум, совесть, опытность и обычаи (стр. 18). Впоследствии, во время междуусобий у племен, вместо прежних мирных обычаев, в системе суда и расправы утвердились более суровые обычаи мести, самосуда и самоуправства (стр. ;19). Положение это весьма слабо подтверждается источниками, а между тем автор придает ему большое значение. Вопреки установившемуся ныне взгляду, что процесс вызывает законодательную деятельность ранее материального права, Михайлов пытается доказать противное на русской истории; будто в судопроизводстве обычай дольше всего сохраняет свою силу, что опять-таки не находит себе подтверждения. Во втором исследовании, составляющем продолжение первого, Михайлов проводит мысль, что учрежденный Петром I порядок суда по форме не был преобразованием древнего порядка суда, а только усовершенствованием, т.е. дальнейшим развитием древних чисто русских начал процесса под влиянием иноземных форм. В доказательство этого положения Михайлов ссылается на то, что <Петру Великому, как гению, не могло не быть ясно превосходство элементов Руси, этого юного, полного сил колосса, перед элементами уже одряхлевшими некоторых западных государств и самой Германии> (стр. 53) - славянофильские идеи выдвигают патриотизм автора выше его научной основательности. Увлечение историческим направлением со стороны Михайлова было настолько велико, что вместо торгового права, курс которого он открыл в пятидесятых годах, он предлагал слушателям одну только историю всемирной торговли (см. его <Торговое права>, 3 выпуска, 1860). К вопросам, возбуждавшим особенный интерес в русских ученых, кроме древнерусского судопроизводства, принадлежал еще вопрос о древнем русском праве наследования. На него обратили свое внимание Беляев, Никольский, Кавелин, а позднее Цитович. Первый из них, профессор московского университета Беляев, оставил нам сочинение <О наследстве без завещания по древним русским законам до уложения царя Алексея Михайловича>, 1858. Чрезвычайно полезный деятель в области истории русского права, Беляев был, однако, плохим цивилистом и еще более слабым философом, в силу чего выбор темы для диссертации оказался неудачным. В наследовании имущественном Беляев видит необходимую аналогию физиологической наследственности, этим уподоблением экономическому (?) закону природы объясняется институт наследования. Существует <три рода наследства: 1) природное, состоящее в уподоблении детей родителям по наружности и по характеру, 2) ;общественное или государственное, заключающееся в распространении фамильных прав родителей на детей, 3) ;гражданское, по которому имущества и имущественные права и обязанности переходят от родителей к детям> (стр. 3). Не говоря уже о том, что второй случай вовсе не подходит под понятие наследства, указанной <необходимой> аналогии противоречит разнообразие в порядке наследования у различных народов. Но Беляева это обстоятельство не смутило. <Гражданский род наследства у разных народов принимается разно; но все разности подходят под две главные категории, состоящие в том, какое какой народ имеет воззрение на уподобление детей родителям, т.е. простирает ли уподобление на всех детей, подражая природе, или желает видеть полное уподобление родителям в одном сыне, первенце> (стр. ;3). Таким образом, найдено легкое, но едва ли удовлетворительное, разрешение трудности. Знакомство с историей славянских и других народов не удержало Беляева от решительного ответа на вопрос, которое наследование старше, по закону или по завещанию: <не противореча истине должно допустить, что наследование по завещанию должно было явиться прежде наследования по закону> (стр. 7). Такой же порядок существовал, по мнению автора, и в русской истории, чему главным доказательством служат договоры с греками. Резкое различие в наследственном праве славянских и германских народов выражалось в том, что 1) древнейшие чисто славянские законодательства не допускали наследования ни по восходящей линии, ни боковых родственников, и ограничивали наследство только одной семьей или прямым нисходящим потомством, тогда как в германских законодательствах к наследованию допускались все родственники, 2) по славянским законам не было вообще различия между правом наследования недвижимой и движимой собственности, тогда как по германским законам недвижимую собственность не могли наследовать женщины (стр. 14). Но из молчания древних русских памятников о наследовании в недвижимой собственности нельзя делать вывода, предложенного Беляевым, а скорее можно заключить об отсутствии частной собственности на землю. Отсутствие исторического понимания древнего быта и легкость выводов Беляева вызвали чрезвычайно резкие и иронические замечания по его адресу со стороны другого исследователя древнего наследственного права, Никольского. Сочинение профессора также московского университета, Никольского, <О началах наследования в древнейшем русском праве>, 1859, как по содержанию, так и по форме изложения, особенно выгодно выделяется среди монографий по истории русского гражданского права. Если с некоторыми выводами автора трудно согласиться, то нельзя не признать, что ему удалось начертить обстоятельную и ясную картину древнего родового и семейного быта. Книга распадается на две части, из которых первая излагает период до времен Русской Правды, а вторая - эпоху Русской Правды. Изложение отличается такой живостью, наглядностью, что перед глазами читателей как бы восстает вся эпоха в самых различных проявлениях ее юридического быта. К этому нужно присоединить сравнительный прием, которым автор пользуется часто и умело, чтобы выяснить начала, общие всем славянским племенам, а также особенности скандинавского миросозерцания, внесенного к нам варягами. Редкое в русском ученом знание языков польского, чешского, сербского облегчило автору выполнение его задачи. Никольский из рассмотрения быта древнейшей эпохи выводит заключение, что <каждый родовой союз составлял собой органическое целое, скрепленное кровью, сознанием общего всем членам происхождения, одинаковостью семейных верований, преданий, обычаев и, наконец, общей местностью. Родственные чувства давали известное положение каждому члену родственного союза и вместе определяли объем его прав и обязанностей. При таком сознании и устройстве домашнего быта славян, само собой разумеется, что о раздельности имуществ и частном, единичном обладании ими не может быть и речи. Единство личное переносилось в полной силе и на имущество и делало его общим достоянием целого рода> (стр. 36). Рассмотрев причины и условия разложения родового быта, уступившего место семейному началу в эпоху Русской Правды, автор устанавливает подобное же положение и для семьи: <славянская семья этого времени есть нравственное, юридическое лицо, прикрепленное всеми правами к полновластному и в то же время фактически, бессознательно зависимому отцу семейства> (стр. 282). Поэтому имущество составляло принадлежность не отдельного лица, а всей семьи (стр. 287), чем предрешается сам вопрос о наследовании. Никольский, вместе с Эверсом, Рейцом, Кавелиным, Соловьевым, против Неволина, отстаивает взгляд, что в первоначальную эпоху русской истории не было частной поземельной собственности, потому что и нужды в ней не чувствовалось (стр. 40 и 114). <Дом, двор, хоромы, платье, да необходимые для обработки полей животные и земледельческие орудия ;- вот все достояние лица, частное имущество этого времени, оно, следовательно, только и переходило в то время по наследованию> (стр. ;333). Мы видели, что Беляев основывает свое предположение о существовании завещательного права в древнюю эпоху на договорах руссов с греками; напротив, Никольский отвергает значение этих памятников, как свидетельств древнеславянского права и считает их выражением греко-варяжских юридических понятий (стр. 220). Отрицая возможность наследования в первоначальный период русской истории, Никольский допускает ее только в позднейшее время. <Русская Правда впервые устанавливает только зачатки наследственного права, которое и у нас, как везде, начинает образовываться вместе с общественной жизнью, возникающей по разрушении родового быта> (стр. 376). Завещательное право является значительно позже наследственного (стр. 343). На годичном акте Петербургского университета 8 февраля 1860 года Кавелин произнес речь на тему <Взгляд на историческое развитие русского порядка законного наследования и сравнение теперешнего русского законодательства об этом предмете с римским, французским и прусским>. После очерка, в котором автор старался выяснить исторические основания действующего русского законодательства по наследованию, следует систематическое изложение современного наследственного права, затем изложение римского, французского и прусского законов, как наиболее типичных, и, наконец, сравнение русского права с указанными законодательствами. Упрекнув Неволина за то, что он излагал историю наследственного права только по законодательным источникам, Кавелин говорит, что такой прием при исследовании древнего права недостаточен, <когда юридические начала еще не определились, находятся еще в нестройном смешении и вследствие того, не имея возможности развиваться самостоятельно и последовательно, оказывают беспрерывное влияние друг на друга, в самых разнообразных направлениях. Для изучения таких эпох нужна другая метода; необходимо вглядеться во всю совокупность быта, посреди которого возникают исследуемые отрывочные факты, и в нем, через него, искать между ними единства, за недостатком непосредственной связи. Вот путь, на который должны, как мне кажется, ступить рано или поздно и исследователи древнего нашего права> (стр. 6). На этот путь именно и вступил, притом с несомненным успехом, Никольский, на этот путь логически наводит учение исторической школы о происхождении права, хотя многие западные ученые шли другой дорогой, предаваясь мелочным изысканиям юридических древностей. К сожалению, сам Кавелин, вероятно вследствие краткости речи, не мог остановиться на бытовых условиях, среди которых развивалось русское наследственное право, и по большей части ограничивается законодательным материалом. Относительно древнейшего наследования взгляд Кавелина совпадает с выводами Никольского, что наследственного права для отдельных лиц не существовало, что <наследовал дом, а не лицо> (стр. 19). Из этого положения автор выводит объяснение для исключения женщин из наследования. Женщина не оставалась в доме, ее связь с семьей была непрочной, а потому она не могла участвовать в доставшемся дому имуществе, она получала лишь часть, в виде приданого, при выходе из семьи она пользовалась имуществом мужа, как средством обеспечения (стр. 22). Сравнивая русское законодательство с западным, Кавелин видит решительное преимущество нашего законодательства перед иностранными в праве наследования супругов. Для его времени этот взгляд был совершенно верен, потому что не было еще итальянского кодекса 1865 года, далеко оставившего за собой в этом отношении русское законодательство. [30] Биографический Словарь московских профессоров, т. I, стр. 370. [31] Биографический Словарь, т. I, стр. 365 и 373. Впоследствии ученая деятельность Кавелина приняла другой характер, о чем мы будем говорить позднее. [32] Владимирский-Буданов, Обзор истории русского права, вып. II, стр. 217 (перв. изд.). [33] Отчет о состоянии Императорского Харьковского Университета за 184 3/4, академический год, стр. 140-141. Значительно позднее, в 1870 году, тому же вопросу посвятил свою магистерскую диссертацию Цитович <Исходные моменты в истории русского права наследования>. Если прежние исследователи рассматривали наследственное право, как историки, стараясь объяснить его условиями общинного (Беляев) или родового (Никольский) быта, то Цитович относится к своей задаче как юрист-догматик. Цитович делает упрек своим предшественникам за то, что <вопрос собственно о порядке постепенного допущения к наследству различных лиц сосредоточил на себе все внимание наших историков права> (стр. 1), тогда как <не только в истории, но и в догматике наследственного права основным вопросом представляется прежде всего вопрос о том, в каком отношении находятся между собой те необходимо противоположные принципы, борьба и примирение которых обусловили такой своеобразный характер, напр., наследования в римском праве или германском. Мы говорим об отношении и борьбе принципа субъективного произвола (testamentum) и принципа, на котором основано наследование в силу родственной связи, наследование по закону> (стр. 2). Однако этот упрек совершенно неоснователен, вопроса не обошли ни Беляев, ни Неволин, а все сочинение Никольского является ответом на этот вопрос. Если все они обращали особенное внимание на круг лиц, призываемых к наследству и постепенность их допущения, то это объясняется тем, что вопрос этот является основным в истории каждого законодательства и важностью своей для общества затемняет все прочие вопросы, выдвигаемые современной догматикой, - о принятии наследства, о переходе на наследников долгов умершего и др. (стр. 8). Цитович взялся за разработку исторической темы в то время, когда в науке гражданского права предъявлены требования догматического исследования действующего законодательства и послано немало упреков по адресу юристов-историков; вот почему г. Цитович оказывается вынужденным оправдать выбор темы. Он исследует исходные пункты действующего права, а потому надеется, что <если не по результатам, то по крайней мере, по намерению, с которым предпринята настоящая работа, и по концепции ее задачи, его никто не упрекнет в антикварных вкусах, в гонке за какими-то историческими призраками вместо современной действительности> (стр. 29). Тем не менее г. ;Цитович причисляет себя к исторической школе. Восставая против взгляда, будто юридические сделки создавали нормы положительного права, и утверждая, что они только выражают собой положительное право своего времени, г. Цитович говорит: <понимать иначе отношение юридических сделок к положительному праву, приписывать им творчество, значит в корне противоречить той теории обычного права и вообще истории происхождения положительного права, которая выработана немецкой исторической школой, и в настоящее время, после возражений Кирульфа, Тибо и др., все-таки остается корифеем обновленной исторической школы, Игерингом> (стр. 83). Это причисление Иеринга к исторической школе мы встретим далее не раз. Приемом своего исследования г. Цитович вполне оправдывает приведенные выше слова Кавелина о методе изучения древнего права. Он приступает к Русской Правде, как к современному кодексу, прилагает к ней все приемы экзегезы, не обращая внимания на исторический дух памятника, на бытовые условия, среди которых он возник. Несмотря на новый прием, с которым г. Цитович приступает к древнему праву, ему приходится в главных вопросах лишь повторять выработанное предшествовавшими исследователями. Так по вопросу, который он сам считает основным, о соотношении наследования по закону к наследованию по завещанию, ему осталось примкнуть к мнению Никольского о первенстве законного наследования (стр. ;77). С другой стороны, в толковании источников автор стремится быть оригинальным во что бы то ни стало, вопреки принятому пониманию и установленному смыслу текста, как напр., по вопросу о наследовании смерда и боярина (стр. 44 и 48), о значении слова <дом> (стр. 56). Изложение отличается свойственной автору живостью и остротой. Мы видим, таким образом, что наука гражданского права обогатилась в период времени, наступивший после университетской реформы, издания Свода Законов и перенесения на нашу почву идей исторической школы, значительным количеством монографий, посвященных историческому исследованию тех или других институтов. Но над всеми этими более или менее ценными работами возвышается замечательное произведение профессора киевского, а потом петербургского университета Константина Алексеевича Неволина <История российских гражданских законов>, 1851 года, в 3-х томах[34]. Неволин принадлежал к числу тех нескольких молодых людей, которые были отправлены Сперанским за границу для подготовления к профессорскому званию. <Можно сказать, - характеризует его г. Владимирский-Буданов[35], - что он рожден юристом: ум точный, спокойный, аналитический, ясный, хотя и не столь глубокий, способен был именно к ученому правоведению>, особенно, прибавим мы, к цивилистике в духе положительного исторического исследования. Руководство Савиньи как нельзя более подходило к его складу ума и характеру, и Неволин всегда был сторонником исторической школы. Его <История гражданских законов> является продуктом этого направления германской науки, воспринятого русскими учеными. Сочинение Неволина обнимает всю особенную часть гражданского права в ее историческом развитии. Первый том содержит в себе, кроме того, небольшое введение, посвященное выяснению предмета, метода и литературы исследования. Гражданскими законами Неволин признает те, <которыми определяются права и обязанности частных лиц в отношениях друг к другу> и притом одни только общие законы, сюда относящиеся (т. I, стр. 7). Таким определением, которое, по мнению Неволина, только граф Сперанский установил для законоведения (стр. 5), автор исключил из своей задачи рассмотрение 1) истории гражданского процесса, связываемой в его время неразрывно с материальным правом, благодаря системе Свода, за что и заслужил упрек от одного из своих критиков[36], 2) истории особенных законов, каковым именем обозначали тогда законы торговые. Из этого же определения и системы изложения обнаруживается, что Неволин под гражданскими отношениями понимает не только имущественные, но и личные, насколько они вытекают из семейного союза. Свою задачу, изложение истории гражданских законов России, Неволин понимает следующим образом. Такая история <должна изобразить последовательно развитие закона частных между лицами отношений на почве русской народности при существующих временных и местных условиях; она должна, означивши ту мысль идеи закона, которую предоставлено раскрыть русскому гражданскому закону, показать нам, чем началось его раскрытие в этой мысли и как потом он, под господством своей движущей мысли, в связи с целой народной жизнью, в связи в современным состоянием законодательства и законоведения у других народов, в связи со всеми обстоятельствами, постепенно раскрывался во всех подробностях> (стр. 7). Нетрудно заметить в этом стремлении отыскать предназначенную идею отражения всесильного влияния гегелевской философии, духом которой проникся Неволин. Однако научная добросовестность не позволила автору произвольно измыслить такую идею, раз она не обнаруживалась из самих фактов. <Но история русских гражданских законов в таком смысле в настоящее время невозможна. Надлежащее выполнение задачи ее предполагает в историке ясное сознание той идеи, которую предначертано русскому народу раскрыть в своих законах> (стр. 7). Ввиду этого Неволин полагает, что история гражданских законов <должна все свое внимание обратить на сам факт их развития и заняться исследованием и изображением того, в чем он состоит, где во времени видимое начало и конец его, откуда, из каких, для нас ясных, причин и при каких условиях он возник и в каком необходимом отношении находится к другим известным фактам> (стр. 8). Нельзя сказать, чтобы подобное определение задачи науки отличалось достаточной ясностью и научной определенностью. Различая внешнюю и внутреннюю историю гражданского права, автор делает предметом своего исследования только внутреннюю, исключая из своего изложения внешнюю (т. I, стр. 10). Однако в первом же томе содержится главное отступление от указанного плана, так как автор весьма подробно останавливается на тех источниках права, под влиянием которых сложились русские семейные отношения. Признавая, что <порядок изложения истории гражданских законов, как и вообще истории целого какого-либо законодательства, может быть двоякий, систематический и хронологический> и отдавая преимущество первому способу (т. I, стр. 16), которого и придерживается в своем сочинении, автор тем не менее не мог не представить деления истории гражданского права по периодам. Царствование Петра I составляет для истории русского законодательства эпоху и потому Неволин делит по этому моменту всю русскую историю на древнюю и новую (т. I, стр. ;11). <В той и другой части истории русского законодательства должно различать несколько периодов. Они определяются самим свойством вещей, особенным духом, который господствовал в законодательстве каждого периода или под влиянием которого находилось и раскрывалось законодательство в каждом периоде> (т. I, стр. 11). Несмотря на такую точку зрения, деление автором истории гражданского права по периодам представляется в значительной степени совершенно случайным. Древнюю историю Неволин делит на 5 периодов: 1) до принятия христианства, 2) до монгольского ига, 3) до царствования Иоанна III, 4) до Уложения Алексея Михайловича, 5) до начала самостоятельного царствования в 1689 году Петра Великого. В новой истории Неволин различает следующие периоды: 1) до царствования Екатерины II, 2) до издания Свода Законов и 3) последующее время. Какое, спрашивается, решающее значение в истории гражданского права имеет царствование Иоана ;III или период от уложения до вступления на престол Петра I? Ошибка Неволина заключается в его убеждении, будто история гражданского права идет нога в ногу с историей государственного права, будто для той и другой истории существуют одни и те же периоды развития (т. I, стр. 12). Помимо небольшого введения, весь первый том посвящен семейному праву, второй том содержит в себе вещное право, наконец, третий ;- обязательственное и наследственное. В пределах каждой из этих главных рубрик, заимствованных из германской системы, автор придерживается деления, принятого в Своде Законов. Так, первый том, касающийся семейного союза, делится на четыре раздела: о союзе брачном, о союзе родителей и детей, о союзе родственном, об опеке и попечительстве в порядке семейственном. Даже в пределах каждого раздела автор старается по возможности придерживаться системы Свода, так что <Историю Гражданских Законов> можно рассматривать, как подробный исторический комментарий к т. Х, ч. 1. В этом действительно заключается главное и несомненное значение труда Неволина. Выполнение этой работы требовало громадного знакомства с источниками русской истории вообще и русского законодательства в особенности. Если принять во внимание степень научной разработанности русской истории в его время, незначительность исследований по истории русского законодательства и чрезвычайную добросовестность автора в его отношении к источникам, то литературное значение рассматриваемого произведения не подлежит никакому сомнению. Оно надолго останется исходным пунктом для каждого не только историка, но и догматика русского гражданского права. Но, вместе с тем, сочинение Неволина не чуждо некоторых весьма существенных недостатков и, не оскорбляя памяти замечательного русского ученого, можно сказать, что научная ценность его <Истории Гражданских Законов> была несколько преувеличена его современниками. Соответственно учению исторической школы от историка-юриста можно было ожидать и требовать изложения постепенного развития частноправовых отношений в связи с общественными причинами, влиявшими на них, раскрытия духа, которым был проникнут тот или другой период истории права, обнаружения народного правосознания, в глубине которого созрели те или другие юридические нормы. Вместо того мы имеем только изложение постепенной смены законов. Но чем дальше от современной эпохи кодификации, тем менее закон может считаться полным выражением существовавшего склада гражданских отношений. В форму закона не выливаются отношения, не вызывающие никакого сомнения, основывающиеся на этических воззрениях народа, напр., личные отношения между супругами или между родителями и детьми. Указание на характер таких отношений может быть найдено только в источниках общей истории народа, в его литературе, сказаниях, пословицах. Происхождение многих институтов, переход из одной стадии развития в другую, не нашедший выражения в источниках, может быть с успехом выведен из сопоставления с историей права других народов. Но Неволин сам отрезывает себе путь к объяснению происхождения и раскрытию постепенного развития институтов заявлением, что <для истории то не существует, о чем она не знает> (т. I, стр. 19), т.е. о чем не сохранилось ясных указаний в источниках, другими словами, отвергает всякие гипотезы, сравнения, необходимые в науке[37]. В его изложении мы видим только ряд сменяющих друг друга законов, относящихся к известному институту, а не историю этого института. Автор начинает нередко историю там, где случайно сохранился закон, тогда как несомненно институт существовал и ранее; нередко в истории института оказывается пробел, благодаря отсутствию или утрате закона, но Неволин не пытается пополнить его научной гипотезой, так что остается неясной связь между законами, разделенными значительным промежутком времени, в течение которого произошли существенные перемены. При всей научной добросовестности Неволина, ему нельзя не поставить в упрек отсутствие достаточных доказательств для некоторых утверждений, категорически им высказываемых. Так, по мнению Неволина, <раздельность имущества супругов была коренным началом русского, так же, как и греко-римского законодательства> (т. I, стр. ;92). Автор утверждает, что <для времен более поздних (сравнительно с Русской Правдой) есть бесчисленное множество свидетельств> (т. I, стр. ;93), однако он их не приводит и, напротив, из последующего изложения обнаруживается нередко противное. Это положение было повторено позднее г. Победоносцевым, с не меньшей категоричностью, но не с большей доказательностью[38]. Неволин считает, будто <правило, что жена, разведенная с своим мужем за прелюбодеяние, не может вступать в новый брак, как основанное на канонических постановлениях, должно считать действовавшим у нас с древнейших времен> (т. I, стр. 174 и 204), а между тем не дает никаких доказательств для подтверждения этого сомнительного правила. При всем своем стремлении к объективности, Неволин поддается иногда влиянию известной идеи и односторонне освещает предмет. Так, Неволин проникся мыслью безусловного влияния греко-римских законов на склад наших семейственных отношений и, оставляя без внимания действие всех других элементов, национального, монгольского, западного, излагает параллельно византийское и русское право, предоставляя самому читателю заметить сходство и степень заимствования. Философская часть почти совершенно отсутствует в сочинении Неволина, он нигде не пытается найти объяснения для существования института, определить причину развития его в ту или другую сторону. Там же, где он стремится сделать обобщение, с ним трудно согласиться. Так, напр., Неволин полагает, что первым объектом права собственности являются недвижимости, и объясняет это следующим образом. <Обладание землей есть условие обладания всякими другими вещами; никто не может считать своего господства над движимыми вещами твердым, потому что, если он не имеет права на землю, на которой находится он со своими вещами, то другой, без нарушения справедливости может сдвинуть его самого и его вещи с этого места и отодвигать их все далее и далее до тех пор, пока они совершенно исчезнут из виду> (т. II, стр. 2). Но подобному взгляду противоречат данные из истории других народов и современного быта племен, стоящих на низшей степени цивилизации, в этом отношении Неволин расходится с большинством русских ученых, которые отвергают частную поземельную собственность в первоначальную эпоху русской истории, во всяком случае, поземельная собственность возникает не по тому странному соображению, какое выставляет Неволин. Также сомнительно утверждение автора, что юридическое владение предшествует праву собственности. <Праву на вещь, иначе называемому правом собственности, как отношению юридическому, противополагается и в историческом развитии предшествует владение, как отношение фактическое. Владение в этой противоположности есть содержание лицом вещи в своей власти так, как бы вещь принадлежала ему в собственность, хотя она и не есть его собственность> (т. II, стр. 107). Из приведенных слов Неволина обнаруживается, что он сам считает владение за <видимость собственности>, а потому установление защиты владения непременно предполагает уже признание права собственности. В другом месте Неволин несколько отступает от своего взгляда и признает, что <понятие владения, как фактического господства лица над вещью, современно существованию собственности> (т. II, стр. 110). Совершенно произвольно и неверно утверждение Неволина, будто <первый возникший род имуществ были имущества государственные (т. II, стр. 2), потому что идея государственного имущества весьма позднего происхождения и предполагает уже значительное развитие общественности. Все эти неточности объясняются узким пониманием задачи историка права: при громадной эрудиции, замечательном знакомстве с русскими источниками, автор совершенно чужд сравнительно исторического приема, который предохранил бы его от подобных ошибок. Но Неволин был приверженец исторической школы, требовавшей детальной разработки отечественного права, призыв к историко-сравнительному методу относится к позднейшему времени, даже простые сравнения появляются лишь в конце рассматриваемого периода. <История Российских Гражданских Законов> была встречена современниками вполне сочувственно, даже восторженно. По содержанию своему, по научным приемам, сочинение это настолько совпадало с воззрениями и требованиями времени, что не могло не обратить на себя внимания. Почти вся периодическая печать сочла своим долгом отметить новое явление в научной литературе. Профессор петербургского университета Михайлов следующими словами характеризует значение произведения Неволина. <Употребив на свой труд несколько лет, автор Истории Российских Гражданских Законов сделал это сочинение классическим в нашей юридической литературе. Мы называем его классическим, потому что по справедливости, ради самого права, мы должны сказать, что сочинение господина Неволина полнотой, обилием, точностью, строгим анализом, подробным собранием узаконений по каждой части и облечением всего этого в форму исторического развития всех узаконений по части (определительного) гражданского законодательства, превосходит все предыдущие труды. Как же не назвать такое сочинение классическим? И долго еще, скажем словами автора, любители исторического законоведения будут испытывать над предметом его свои силы. И эти будущие исследователи найдут обильную основу своим специальным трудам в сочинении господина Неволина - из него почерпнут они данные для своих исследований и в свою очередь разовьют далее и подробнее некоторые части, - такова завидная доля науки, идущей всегда вперед, но все же на чем же, главным образом, основаны будут их дальнейшие воззрения? - на сочинении Неволина, которое долго еще будет представлять основательную историю определительных русских гражданских законов. Как после этого не назвать этого сочинения классическим?>[39] Профессор московского университета, Морошкин, дает следующую характеристику. <Сочинение показывает в авторе обширный систематический ум, отличную ученость, классическое искусство в изложении предмета и достойную всякого уважения любовь к отечественному законоведению. Это свидетельствуется и прежними его сочинениями, из коих каждое приносит честь русской юридической литературе. Он отлично оправдывает лестный отзыв незабвенного графа Сперанского, сделанный о нем одному из теоретических юристов и предвидение сего государственного старца, что Неволин принесет некогда великую пользу и честь отечественному законоведению. Настоящий труд г. ;Неволина заслуживает полную признательность ученых своим отчетливым и ясным изложением предмета и приведением бесчисленных фактов истории в полное систематическое обозрение гражданских законов>[40]. Наиболее ценным Морошкин считает первый том, который он называет <знатным приобретением науки> (стр. 35). Профессор Станиславский в своем увлечении трудом Неволина доходит до признания его <монументальным произведением, которое бесспорно составляет венец всей юридической деятельности нашего времени>. Если бы юридическая литература нашего времени не произвела ничего более, кроме сочинения профессора Неволина, то и тогда уже она имела бы неоспоримое право на признательность потомства[41]. Так как слухи о подготавливающемся труде Неволина проникли в общество прежде издания книги, то появление ее ожидалось уже заранее. <Сочинение профессора Неволина - труд, молва о котором далеко определила выход его в свет и которого с нетерпением ждал каждый из тех, кому не чужды успехи науки в нашем отечестве. Мы убеждены, что как сочинение это было плодом долгих и долгих трудов, так и польза и необходимость оного будет сознана вполне не вдруг; но за то, чем дольше будут им пользоваться и теоретики и практики, чем более будут в него вчитываться, тем яснее будут сознавать его огромное влияние на дальнейшее развитие нашего права>[42]. Не прошли молчанием сочинения Неволина и общие журналы, как Современник (т. XXIX, отд. V, стр. 26). Императорская Академия Наук на основании отзыва профессора Морошкина, увенчала сочинение Неволина полной Демидовской премией. [34] Второе издание в полном собрании его сочинений, 1857-1859. [35] История университета Св. Владимира, 1884, стр. 131. [36] Михайлов, Библиотека для чтения, 1851, т. I, стр. 26. [37] Неволин только раз прибегает к сравнительному приему, именно для объяснения происхождения права выкупа родового имущества (т. II, стр. 69). [38] <У нас во всей истории с замечательной последовательностью проведено начало раздельности имуществ между супругами> (Победоносцев, Курс гражданского права, т. II, изд. 1891, стр. 125). [39] Библиотека для чтения, 1852, т. III, стр. 25. [40] 21 присуждение учрежденных Демидовских наград, 1852, стр. 42. [41] Станиславский, О ходе законоведения в России, 1853, стр. 64-66. [42] Лакиер, Журн. Мин. Нар. Просв. 1852, т. 73, стр. 12. Такое внимание общества к юридическому труду, необычное в русской литературе, объясняется, как мы указывали, совпадением его с господством исторического направления в юриспруденции, а с другой стороны, возраставшим в то время интересом вообще к русской истории. Сочинение Неволина было встречено именно, как высшее выражение этого направления. <Появление книги г. Неволина, - говорит профессор Морошкин, соответствует настоящей эпохе юридического образования в России. Господство исторической методы изучения законодательств в землях римского права отозвалось и в нашем отечестве> (21 прис. Дем. наград, стр. 27). <В новейшее время общей методой преподавания наук юридических есть метода историко-догматическая. Каждая часть законодательства, прежде ее догматического изложения, объясняется путем исторического развития - это самый надежный путь юридических исследований, спасающий нас от жалких философских заблуждений. Далекие от философских умозрений и исследований в области права, мы, путем исторических исследований, уясняем себе порядок развития жизни государственной и частной нашего дорого отечества. Итак, при юной, еще недавно возникшей юридической литературе, каждое сочинение, знакомящее нас, путем исторических исследований, с развитием отечественного законодательства, заслуживает полной благодарности современников и потомства> (Михайлов, Библ. для чтения, стр. 15). <Константин Алексеевич Неволин, говорит один из позднейших его критиков, - был одним из первых и лучших преподавателей нового, начинавшего в тридцатых годах, направления нашей юридической литературы. Он трудился неутомимо и добросовестно; его деятельность не ограничивалась одной кафедрой; сочинения его способствовали распространению правильных понятий об основных началах законоведения и положили прочное основание историческим исследованиям о русском праве>[43]. Нельзя не заметить, что при полном сочувствии сочинению Неволина, современники сознавали один существенный его недостаток - это ограничение своей задачи фактической стороной, без указания того внутреннего процесса, по которому развивалось русское гражданское право. Морошкин выразил сожаление, что Неволин <отказался от изложения истории гражданских законов в форме движения идеи закона, которую предназначено русскому народу раскрыть в своих законах, в связи с целой народной жизнью, в связи со всеми обстоятельствами, имевшими влияние на сию жизнь> (21 ;прис. Дем. наград, стр. ;31). <При повсеместном, неудержимом стремлении непризванных умов к будущему, - говорит Морошкин, ;- не бесполезно было бы слышать голос человека глубокомысленного, спокойного духом, философски умеренного в жизни, слышать голос о всемирно-историческом значении и призвании русского законодательства> (стр. 33). Особенно подробно останавливается на этой стороне произведения Неволина другой его критик, профессор Михайлов[44]. Выразителем того же исторического направления в русской юридической литературе является труд (магистерская диссертация) профессора демидовского лицея, потом одесского и, наконец, петербургского университета, Дювернуа, <Источники права и суд в древней России>, 1869. Сочинение это вышло уже в то время, когда к правоведению жизнь предъявила иные требования, но по духу своему оно, как и магистерская диссертация г. Цитовича, появившаяся в следующем (1870) году примыкает к рассматриваемому теперь периоду. <Один из элементарных и, при теперешнем состоянии науки, весьма любопытных исторических вопросов, ;- говорит г. ;Дювернуа, - составляет вопрос о том, как слагалось право в то время, когда народная жизнь текла свободно, предоставленная самой себе, своим силам, своим средствам. Обыкновенный и очень простой ответ, который давала на это старая доктрина, заключается в том, что люди блуждали во тьме до тех пор, пока не явились мудрые законодатели, которые вывели на свет темных людей и указали им пути, которым надо следовать. Мы готовы с решительностью отвернуться от этого младенческого взгляда на право, между тем далеко не всегда мы сами свободны от этой точки зрения, хотя в принципе очень охотно ее отрицаем. Заслуги правильных воззрений на историю права принадлежат, главным образом, исторической школе в Германии, и чем менее отступают позднейшие ученые от завещанных ею уроков, тем осязательнее плоды их трудов в процессе развития исторических (?) знаний> (стр. 3). Судя по последним словам, мы могли бы ожидать, что г. Дювернуа окажется строгим сторонником начала исторической школы и отнесется отрицательно к таким новаторам, как Иеринг. Между тем, напротив, г. Дювернуа постоянно прибегает к авторитету Иеринга, проникается его идеями и, к пользе своего труда, употребляет приемы германского ученого при исследовании древнего юридического быта России. Очевидно, г. Дювернуа смотрел на Иеринга, известного в то время по его Geist des Römischen Recht, как на одного из приверженцев школы Савиньи. Впоследствии впрочем профессор Дювернуа, как мы это увидим дальше, сознал свою ошибку и совершенно иначе отнесся в Иерингу. Во всяком случае, следует признать, что сочинение г. Дювернуа представляет собой весьма интересное, написанное живым языком, исследование путей, по которым развивалось древнее русское гражданское право. Автор прибегает к сравнительному приему, уясняет себе движение русского права по сравнению с римским и германским. В результате такого сопоставления является, напр., тот вывод, что процесс образования юридической догмы в русском и германском праве существенно разнится от римского в лучшую эпоху его развития. <В римском праве, прежде чем известное отношение приобретало характер юридического, необходимо должна была сложиться исковая формула; вследствие этого свойства отвлечения догма права развивалась тем сознательнее, юридический элемент лучше выделялся, непосредственный переход от фактического к юридическому состоянию был невозможен. В русском и немецком праве объективное право получает свое определяющее выражение в сделке; при отсутствии отвлечения от условий данного случая, процесс образования юридической догмы не может быть ни столь правильным ни столь обособленным>. Мы видели, что господство исторической школы вызвало значительное количество исследований по истории гражданского права. Гораздо беднее эта эпоха работами по догме гражданского права. Впрочем это явление весьма понятно, если принять во внимание условия времени. До судебной реформы 1864 года теоретическая и практическая юриспруденция шли совершенно обособленно. С одной стороны, теоретическая юриспруденция, предавшаяся сначала естественному праву, а потом глубокой старине, не могла иметь никакого значения для практики. С другой стороны, судебная организация, не требовавшая от судей специального юридического образования, довольствующаяся одним практическим навыком, избегающая гласности, которая всегда вызывает потребность в твердом юридическом обосновании своих требований, вместо хождения по квартирам судей и прибегания к средствам убеждения, не имеющим ничего общего с юридическими доказательствами, ;- такая организация старых судебных учреждений была мало способна вызвать в судьях интерес к научному правоведению. Работы по юридической догматике предполагают непременно возможность приложения их результатов к жизни, в противном случае догматика имеет так же мало основания для своего существования, как и лишенные возможности применения медицина или механика. Такое полное разъединение теории и практики отражалось вредно на той и другой. За все это время мы почти вовсе не встречаем монографий по догме гражданского права. Если мы имеем от этого времени курсы лекций Морошкина и Мейера, то этим мы обязаны не самим авторам, которые считали излишним сообщить обществу свои университетские чтения, а их благодарным ученикам. Сочинения Кранихфельда и Проскурякова представляют не столько научные труды, сколько учебники, предназначенные для практических целей - облегчения труда учащихся. Воспоминанием об имени профессора Морошкина, как догматика, является его <Гражданское право по началам российского законодательства>, которое представляет собой лекции, читанные им в 1842 ;году в Московском университете и изданные Калачовым только в 1861 году в Юридическом Вестнике. К сожалению, мы не имеем полного курса, а только общую часть, но этого отрывка вполне достаточно, чтобы убедиться, что русская наука много потеряла от того, что сам автор не издал полностью своих лекций. Систематичность, ясность и живость изложения сближают лекции Морошкина с почтенным курсом Мейера, а юмор, которым одарен автор, свидетельствует о блестящем таланте лектора, напоминающем его товарища по службе Н.И. Крылова. Под именем гражданских законов Морошкин понимает не только материальное право, но и формальное <законы, которыми определяются гражданские права и обязанности, и законы, которыми охраняются гражданские права и обязанности> (Юрид. Вестн. 1860-1861, вып. XV, стр. 2, вып. XVI, стр. 8), - взгляд, исправленный Неволиным. Содержание гражданского права составляют, по мнению Морошкина, как имущественные отношения, так и семейственные (там же). Как часть гражданского права, заключающая в себе особые гражданские законы, представляется Морошкину торговое право. По его мнению, в России <решительно образовалось особое торговое право>, обязанное своим происхождением Судебнику Иоана III, статья которого <О суде купеческом>, послужила будто бы исходным моментом (вып. XV, стр. ;5 и 6). Господствующее историческое воззрение отразилось во взгляде Морошкина на науку гражданского права. <В университетах, где каждая подготовительная или вспомогательная наука преподается отдельно, преподавание должно соединять в себе две главные методы, историческую и догматическую. По исторической методе гражданские законы излагаются в постепенном их развитии от первоначального их появления в государстве до окончательного образования. Догматическая метода предлагает гражданские законы настоящего времени в систематическом порядке, исходя от начал к дальнейшим их последствиям. При изучении римского права в средние века употреблялась метода экзегетическая, состоящая в изъяснении текста права или источников по правилам критики и герменевтики; в настоящее время она употребляется, как метода вспомогательная при исторической и догматической. При настоящем состоянии русского законодательства главный интерес преподавания заключается в методе исторической. Нам должно употреблять все усилия к открытию начал законодательства, а начала скрываются в истории и объясняются историей. Без исторической методы ученое преподавание гражданских законов почти невозможно: ибо действующее законодательство еще далеко не созрело до систематической, ученой формы> (вып. XVI, стр. 4-5). Это обстоятельство не мешает, однако, Морошкину указать систему, которой он будет держаться в своих лекциях. Предполагаемая им система - германская, которая перешла в русские университеты под прикрытием исторической школы. Всю систему он делит на общую и особенную часть. <Общая часть должна заключать в себе истины, права, содержащиеся в каждом отдельном положении законодательства, а особенная часть приложение истин общих к событиям человеческой жизни, рассматриваемым по отношению к праву или к законам гражданским> (вып. XVI, стр. 6). Общая часть состоит из учения а) о субъекте, b) об объекте права, с) о праве, как форме отношений между субъектом и объектом (?). Особенная часть имеет в виду или 1) отношение человека к внешней природе, или 2) отношение человека к подобным себе человекам. Первое отношение выражается в форме вещного, второе - в форме обязательственного права. <Если это обязательство простирается на одни внешние действия человека, то оно имеет значение обязательства имущественного, если же оно простирается и на внутреннее состояние духа, на целость существа человеческого, то оно имеет значение обязательства семейственного>. Может быть, такое сопоставление обязательственного и семейственного права представляется не вполне научным, но, если принять во внимание соотношение между ними, устанавливаемое знаменитым пандектистом Виндшейдом (Pandekten, B. ;II. S. 1), то мы найдем достаточно оправданий для Морошкина. Если по времени своей общественной деятельности Морошкин относится к периоду господства исторической школы, то по времени первоначального образования он помнит учение о естественном праве и не может отрешиться от его влияния. <Право, по его происхождению, - говорит он, - есть право всеобщее, или так называемое право естественное, право разума, дарованное человеку непосредственно самой природой, или право положительного, образовавшееся в известном народе из исторических его событий в форме обычая или в форме закона> (вып. ;XVI, стр. 8). Морошкин убежден, что естественное право имеет большое практическое применение и не может быть изгнано из гражданского общества. Действие его в современную ему эпоху он видит в следующих случаях. Законодательство связывает с политической смертью лишение правоспособности, а между тем <в пределах Сибири политически мертвые приписываются к торговым разрядам и к ремесленным цехам, приобретают собственность и владеют (?) собственностью, вступают в договоры и даже в союз супружеский, употребляют родительскую власть и т.д. Что же это значит? Какие законы определяют их права и обязанности и какие законы охраняют эти права и обязанности? Естественное право, - отвечает Морошкин, потому что <человека можно лишить гражданских прав, но расчеловечить нельзя> (вып. ;XV, стр. 14-15). Такое же применение естественного права он видит в юридическом положении крепостных, приложение того же естественного права составляет решение в общих судах случаев, не предусмотренных законом и особенно в третейских и совестных судах. <Из сего явствует, что право совести, естественная справедливость или так называемое право не совсем изгнано из русских судебных мест и приемлется иногда за источник российского гражданского права> (вып. XV, стр. 18). В 1843 году профессор Императорского училища правоведения, учрежденного в 1835 году, Кранихфельд, издал <Начертание российского гражданского права в историческом его развитии>. Сочинение это не может иметь претензии на научный характер, но оно представляет собой прекрасное руководство, написанное кратко, ясно, даже изящно. Изложение посвящено исключительно русскому праву с точки зрения его истории и действующего законодательства, сравнительный элемент совершенно отсутствует, нет даже экскурсий в область римского права. Система изложения та же, что и в своде законов, так что все недостатки последнего отражаются и на сочинении Кранихфельда. Это особенно заметно в общей части обязательственного права, которая в изложении автора страдает такой же бедностью как и в т. Х, ч. 1. После небольшого введения, в котором рассматриваются источники древнего и действующего права, изложение касается прав и обязанностей семейственных (кн. I), прав по имуществам (кн. II), способов приобретения и укрепления прав на имущества в особенности (кн. III), куда входит и все наследственное право, право по обязательствам, как способы приобретения прав на имущества (кн. IV). Кранихфельд уделяет значительное внимание историческому элементу, но при этом нужно заметить, что история у него носит чисто внешний характер. Автор не излагает постепенного развития института, а только дает картину постепенного наслоения постановлений, составляющих в совокупности действующее право. История каждого более или менее значительного отдела делится в изложении Кранихфельда на 3 ;периода: 1) древнее право (до Уложения), 2) новое право (с Уложения), 3) действующее право. Кранихфельд следующим образом указывает на содержание гражданского права или, лучше сказать, гражданских законов свода. <Гражданские законы имеют предметом: 1) личные отношения человека, как члена семейства, или отношения человека к его семейству; 2) вещественные отношения человека или отношения его к имуществу; 3) действия или отношения человека к другим лицам или к чужим имуществам, т.е. союзы или обязательства с другими лицами, относительно имущества или личных действий заключаемых> (стр. 9). Очевидно, Кранихфельд весьма свободно обошелся с римской системой. Собственно личное право им исключено, а причиной тому несомненно т. Х ч. 1, перемена же actionеs в обязательства представляется, конечно, произвольной, но она находит себе оправдание в примере западной литературы. Легкость и доступность изложения нередко переходит в поверхность и обнаруживает недостаточное знакомство автора с научными изысканиями. Так, совершенно неправильным является взгляд автора на владение. <Владение представляется или как право, или как акт, не освященный и не одобренный законом. Как право, представляется владение, когда оно основано на законном способе приобретения и укрепления и когда владелец, по правам своего звания, может владеть тем предметом, а предмет владения такого рода, что по закону может находится в частном владении. Такое владение называется законным владением и столь же неприкосновенно, как и право собственности; ибо владелец не может быть лишен оного без приговора и решения суда. Всякое иное владение называется незаконным и признается законами не как право, а как простой факт> (стр. 77). Ясно, что Кранихфельд имел довольно смутное понятие о современном ему спорном вопросе, когда допустил сопоставление владения, как права или как факта, с владением законным и незаконным. Это тем более странно, что всего 3 года до появления сочинения Кранихфельда в <Юридических Записках> Редкина была помещена статья Кавелина <О теориях владения>, в которой автор дает обстоятельное изложение различных воззрений на этот вопрос Савиньи, Рудольфа, Ганса, Гушке и др. Сам Кавелин пришел к следующим выводам. <На вопрос что есть владение само в себе, факт или право, мы можем теперь отвечать несомненно, что оно есть право>. <Право собственности и юридическое владение суть только две различные формы признания и освящения в государстве одного и того же полного, всецелого обладания человека над вещью>. <В развитии вещных прав, право собственности должно предшествовать юридическому владению> (стр. ;253). Можно указать довольно много и других еще теоретических промахов, допущенных Кранихфельдом. Так он относит к ограничениям права собственности безразлично как права участия, общего и частного, так и права угодий (стр. 79), к способам приобретения права собственности относит (стр. 97) договоры[45]. Странное понятие о договоре встречаем у Кранихфельда: <взаимное согласие двух сторон (владельца и приобретателя) относительно какого-либо имущества или действия, во внешнем его проявлении, называется либо договором, по способу заключения, либо контрактом, по образцу совершения, либо обязательством, по действию или исполнению> (стр. 220). Договором автор считает лишь словесное соглашение (от разговора или уговора), а когда соглашение закрепляется в письменную форму, то превращается в контракт. А так как, по взгляду Кранихфельда (стр. 243), все договоры должны быть облечены в письменную форму, то контракт является необходимым результатом каждого договора. Совершенно иной характер носит другой учебник гражданского права, изданный несколько позднее, в 1854 г., учителем законоведения в с.-петербургской ларинской гимназии, Проскуряковым. Он издал <Руководство к познанию действующих русских государственных, гражданских, уголовных и полицейских законов>, второй том которого содержит гражданские законы, определительные и охранительные. Это учебник самого низшего разбора, представляющий собой простую перепечатку законов, в той же системе т. Х ч. 1, без малейшего следа оригинальной мысли автора. Для гимназистов это сочинение слишком подробно и трудно, для юристов оно бесполезно. Мы должны обратиться теперь к догматическому труду рассматриваемой эпохи, которое резко выделяется из современных ему произведений и сохраняет до сих пор почти то же значение, какое оно имело при своем выходе в свет, так как нет подобного же сочинения, способного заменить его для настоящего времени. Мы говорим о <Русском гражданском праве> профессора казанского, а потом петербургского университета Дмитрия Ивановича Мейера. <Несмотря на все недостатки, присущие лекциям Мейера, - говорит г. Муромцев, они все-таки продолжают оставаться лучшим учебным руководством. Ни один из автором, печатавших свои руководства после Мейера, не превзошел его изяществом и простотой изложения, отчетливостью и стройностью в определениях и ходе мысли>[46]. Глубоко преданный делу науки и ее преподаванию, Мейер посвятил всю свою жизнь исключительно ее служению. В его лице русская наука имеет замечательного ученого и образцового по тонкости анализа цивилиста. Отдавая должную дань господствовавшему в его время историческому направлению, Мейер всегда имел в виду приложение науки к жизни. С этой целью он первый ввел в казанском университете правильные практические занятия по гражданскому праву, так что студенты, получив прекрасную теоретическую подготовку на его лекциях, под его же руководством непосредственно прилагали к жизни свои познания. Равнодушие современников к научной юриспруденции, закулисный порядок судебного производства не в состоянии были смутить почтенного профессора, который своим проницательным взором предвидел многое, что должно было совершиться вскоре после его смерти. [43] Н. С-кий, Журн. Мин. Юстиции. 1859, т. I, стр. 89. [44] Библиотека для чтения, стр. 27-34. [45] Критика учения Кранихфельда о способах приобретения собственности см. у Мейера, Русское гражданское право, стр. 287-293. [46] Критическое Обозрение, 1879, № 18. Кроме рассмотренного нами выше исторического исследования о древнем русском праве залога (докторской диссертации), Мейер оставил русской литературе еще несколько других работ. Его <Юридические исследования относительного торгового быта Одессы> 1855 года представляют интерес с точки зрения строго научного отличия обычного права от заведенного порядка, способности автора выделить в каждом отношении юридический элемент. Весьма интересным представляется его исследование <О юридических мыслях и предположениях, о скрытых и притворных действиях>, 1854 года, которое представляет собой вполне оригинальное произведение, затронувшее вопросы, мало интересовавшие в то время и западную литературу. В этом последнем сочинении Мейер приходит к отрицательному взгляду на значение фикций в гражданском праве. По его мнению, <в римском праве понятие о вымысле явилось первоначально как сообразное духу того права орудие обобщения юридических правил, что поэтому характер вымысла чисто исторический, скрадывающийся, однако же, под допущенным романистами неуместным приложением вымысла ко всякому обобщению и к облечению отвлеченных юридических понятий в форму, доступную воображению, как силе, наиболее близкой чувственному воззрению> (стр. 30). Поэтому Мейер не может признать законность заимствования юридического вымысла, как общечеловеческого достояния в любом юридическом быту, <если он (быт) сам собой не дошел до этого понятия и не придал ему практического характера, то оно совершенно лишнее и по ложности, призрачности своей вредное> (стр. 31). Мейер подробно рассматривает случаи фикций, принимаемые романистами, и отвергает их значение и необходимость, в отношении к русскому праву он признает полную неприменимость их. Далее, Мейер рассматривает, какие практические потребности вызывают существование законных предположений (praesumptiones), приводит случаи их применения в римском и русском праве (стр. 43-68). Такому же исследованию подвергаются скрытые действия (стр. 69-80) и притворные действия (стр. 85-102). Все эти случаи объединяются одним общим признаком, свойственным им, несоответствием законного определения с тем фактом, который вызывает их применение. По общему правилу <существующие в юридическом быту определения, как бы отвлеченно они ни были выражены, относятся к фактам, так что можно по применению какой-либо нормы заключить о существовании соответствующего факта> (стр. 1). Но юридическому быту известны и уклонения от нормального порядка, когда определения, рассчитанные на известные факты, получают силу, хотя последних мы и не усматриваем, это именно в фикциях, предположениях, скрытых и притворных действиях> (стр. 2). Память о Мейере более всего сохранилась в обществе благодаря не монографиям, а его курсу гражданского права. Сам автор не издал наиболее замечательного из своих научных произведений, потому ли, что не придавал своим лекциям того значения, какое в действительности они заключают в себе и которое было вполне сознано всеми юристами, или потому, что не видел в современниках потребности в таком сочинении. Появлением в печати курса профессора Мейера мы обязаны одному из его учеников, г. Вицыну, который с согласия наследников автора издал его лекции и за которым суд признал исключительное право на издание[47]. Интерес, возбужденный появлением в печати курса гражданского права профессора Мейера, был настолько велик, что распродажа его шла с поразительной быстротой и издание следовало за изданием. Впервые лекции Мейера, под именем <Русское гражданское право>, вышли на свет в 1858-1859 году, второе издание оказалось необходимым уже через год, в 1862, третье - в 1863-1864, четвертое появилось в 1868, пятое и последнее (с присоединением очерка вексельного права) - в 1873 году[48], а в настоящее время (с конца семидесятых годов) составляет библиографическую редкость. Успех последних изданий объясняется изменившимися общественными условиями, ожиданием и осуществлением судебной реформы, а вместе с тем запросом со стороны практиков на теоретическую юриспруденцию. При таком распространении и влиянии курса Мейера нельзя не удивляться, что журнальная критика прошла почти полным молчанием его появление. <Русское гражданское право> профессора Мейера представляет собой произведение, которым русская наука имеет полное основание гордиться. Мейер первый дал полное систематическое изложение русского гражданского права с объяснением, толкованием, обнаруживающим замечательную тонкость анализа, столь ценную в цивилисте. Обширное знакомство с римским правом и западной наукой дали возможность автору осветить научным светом русский юридический быт. При изложении каждого института автор не довольствуется исследованием юридической, формальной стороны, но обращается к общественным условиям его существования, дает бытовые оправдания. После известных до того времени руководств, начертаний, учебников, излагавших гражданское право в порядке, установленном т. Х, ч. 1, читателей приятно поражает и увлекает систематичность изложения, заимствованная из западной литературы. Независимо от всех достоинств курса с юридической стороны, в пользу книги много говорит чрезвычайно симпатичное, гуманное отношение автора к явлениям современной ему жизни. Автор решительно высказывается против неравноправности в зависимости от вероисповедания (стр. 79), против сословных различий (стр. 80), горячо протестует против распространенной в его время язвы - взяточничества (стр. 83 и 369), отрицает необходимость и полезность сословной юрисдикции (стр. 623), Мейер был противником крепостничества. Это обстоятельство особенно ценно, если принять во внимание время и условия его преподавания и оно же объясняет тот громадный успех, которым пользовались его сочинения не только среди студентов, но и в обществе, до которого доходили слухи о профессоре и, наконец, среди юристов-практиков, призванных к осуществлению новых идей. Достоинства сочинения и уважение к автору не устраняют необходимости признания некоторых недостатков курса. Прежде всего бросается в глаза чрезмерное участие римского элемента в курсе русского гражданского права, невольно возникает представление, будто в систему римского права насильственно втиснуты русские законы. Оригинальности русского юридического быта не нашли себе места в курсе Мейера. Поземельному праву, представляющему некоторые юридические особенности и отражающему на себе более всего исторические условия, отведено очень ограниченное пространство. Нельзя не указать не неравномерность в изложении, что составляет важный недостаток в полном курсе. Вещному и обязательственному праву автор уделяет значительно большое внимание, чем семейственному и особенно наследственному, проходя многие вопросы последнего отдела совершенным молчанием. На вопросе о юридических лицах Мейер останавливается слишком долго, рассматривая его не с главной стороны, не с точки зрения юридической конструкции, а разных неважных подробностей (счета голосов). В сочинении Мейера можно подметить некоторые противоречия, неточность научных выражений, неправильность толкования законов. Но все эти недостатки не в состоянии подорвать несомненного научного значения, которое имеет <Русское гражданское право>. Научная самостоятельность автора обнаруживается на первых же страницах его курса, в вопросе о пределах гражданского права. Здесь Мейер высказывает взгляд, противоположный не только обычным до того времени утверждениям русских юристов, но и общепринятому в западной науке воззрению. По его мнению, неправильно видеть содержание гражданского права в семейственных и имущественных отношениях, предмет этой науки должны составлять только последние. <Имущественные права имеют самостоятельный характер, резко отличающий их от других прав, и следовательно должна быть особая самостоятельная наука об имущественных правах, которую мы и называем гражданским правом> (стр. 6). Что касается включаемого обыкновенно в гражданское право учения о семейственных отношениях, о браке, об отношениях между родителями и детьми, о союзе родственном и опеке, то это, по мнению Мейера, объясняется исторически, традициями, перешедшими от римских юристов. Последние, разделяя право на jus publicum и jus privatum, клали в основание этой классификации отличие частных отношений от общественных, причем <в сферу частного права должны были войти, конечно, и учреждения семейственные>. С разрушением власти римской на Западе, утратило там значение и jus publicum. Но jus privatum сохранило силу в новых государствах Западной Европы и получило также название jus civile, название, означавшее прежде всю систему римского права. Этот аргумент был впоследствии повторен Кавелиным и встретил достойное возражение со стороны г. ;Муромцева. Исходя из указанного взгляда на содержание гражданского права, Мейер семейственные отношения распределяет между другими науками. <Так, брак с точки зрения христианской религии представляется учреждением религиозным: условия заключения брака, само совершение его и расторжение определяются постановлениями церкви. Потому и место учению о браке - в системе канонического права. Юридическая сторона отношений между родителями и детьми заключается преимущественно в родительской власти и следовательно прилично поместить учение о ней в государственном праве> (стр. 5). Совершенно последовательно Мейер утверждает, что <действие как предмет обязательства, должно быть таково, чтобы его можно было свети к имущественным отношениям>, что действие это всегда должно представлять имущественный интерес (стр. 353, 357, 382), что опека может занять место в системе гражданского права лишь настолько, насколько она касается имущественных отношений> (стр. 620). Несмотря на такой теоретический взгляд, Мейер вводит в свой курс и семейственные отношения, делая уступку общепринятому приему и педагогическим соображениям. Мнение об имущественном характере гражданского права, как известно, встретило сочувствие среди русских юристов. Мы рассмотрим позднее судьбу этого вопроса, поднятого Мейером, когда перейдем к Кавелину. Заметим здесь только, что последний является последовательнее Мейера, потому что, считая предметом гражданского права имущественные отношения, он не останавливается перед выводами из этого положения и вводит в систему такие отделы, которые никогда ни до него, ни после не включались в состав гражданского права. Мейер же, признав, что гражданское право имеет своим содержанием имущественные отношения, не дает критерия для определения, какие же именно отношения по имуществу входят в гражданское право и какие ему чужды, а между тем в своем изложении он допускает только те, которые обыкновенно входят в систему по своему частному характеру. Сопоставляя науку гражданского права с естествознанием, Мейер утверждает, что первой присущ тот же неизменный, постоянный характер, как и второму, что принципы, установленные в ней, так же тверды, как и в естественных науках. В доказательство он приводит следующие соображения. <Имущество служит человеку средством для удовлетворения потребностей, потребности же постоянно присущи природе человека и вложены в него Провидением; следовательно и удовлетворение их должно следовать твердым началам> (стр. 7). Однако Мейер упускает из виду, что неизменным является только обладание потребностями, но характер потребностей и в особенности способы их удовлетворения подлежат чрезвычайной изменяемости во времени и пространстве. Вопрос о соотношении между юридическим принципом и научным законом был поднят позднее в русской литературе, и нам придется еще вернуться к нему. Влияние германской исторической школы на Мейера проявилось во многих местах его курса. Это особенно заметно в его взглядах на образование права. <Современные юридические воззрения народа образовались не вдруг; но как современное народонаселение есть только последний результат органической жизни народа, так и современные юридические воззрения его только результат всей предшествовавшей юридической жизни> (стр. 11). Отсюда Мейер делает следующие выводы. Законодательная власть не создает правовых норм, а только закрепляет уже сформулированные в народном сознании, устраняет шаткость в их построении, местные особенности, даже более, она исправляет юридические воззрения народа, но <все-таки деятельность общественной власти второстепенная, дополнительная: она примыкает лишь к тем юридическим воззрениям, которые общественная власть застает уже готовыми> (стр. 9). Во-вторых, исходя из той же точки зрения, Мейер опровергает взгляд Бентама, будто лучшим законодателем для народа может быть иностранец, потому что он совершенно чужд всяким местным интересам, свободен от местных предрассудков. <Если законодательство, возражает Мейер, - особенно гражданское, должно быть воспроизведением и вместе с тем очисткой народных юридических воззрений, то все лица, совершающие процесс воспроизведения, должны стоять среди народа и быть пропитаны его понятиями, разумеется, очищенными, просветленными> (стр. 10). Влиянием исторической школы объясняется и та чрезмерная сила и значение, какие придает Мейер обычному праву: по его мнению, обычное право способно отменять действие закона (стр. 19, 37). Впрочем, по вопросу о так называемом праве юристов (Juristenrecht), Мейер расходится с главными представителями исторической школы, Савиньи и Пухтой, отвергая за ним значение самостоятельного источника юридических определений (стр. 49). Благодаря германской науке Мейер вводит совершенно новую для русской литературы (если не считать Морошкина) систему права, именно 1) общую часть и 2) особенную часть, с подразделением последней на а) ;вещное, b) обязательственное, с) семейное и d) наследственное право. Со времени Мейера эта система утвердилась у нас в литературе и в преподавании. Методология гражданского права у Мейера представляется интересной и новой для русской науки. <В науке гражданского права должно различать три элемента: исторический, догматический и практический> (стр. 11). <Значение исторического элемента заключается в том, что историей объясняется, как образовались те существующие юридические определения, которые для нашего времени, собственно, уже утратили свой смысл> (стр. 12). <Под догматическим элементом гражданского права разумеется изложение самих законов, по которым происходят имущественные явления в юридическом быту. Законы эти или исходят от общественной власти, или существуют независимо от нее. Те и другие представляются в действительности отдельными определениями. Но о множестве отдельных определений, относящихся к одному какому-либо предмету, лежит одно основное начало, которое и составляет сущность учреждения; отдельные же определения - только логические выводы из основного начала. Раскрыть начала различных учреждений, показать отношение отдельных определений к этим началам и есть дело науки> (стр. 12). Наконец, <элемент практический имеет в виду точку соприкосновения права с действительной жизнью>. <Науке приходится относительно каждого учреждения обращать внимание не только на то, каковым представляется оно в положительном законодательстве или в воззрениях народа, но ей следует определить также, в каком виде представляется учреждение, когда призывается к установлению действительности, сохраняет ли оно свой первоначальный вид или ему приходится измениться, подчиниться влиянию действительности> (стр. 13). Практическому элементу Мейер придавал особенно важное значение, считая, что <назначение права имеет приложение к жизни>, и посвятил этому вопросу отдельную статью <О значении практики в системе современного юридического образования>, 1855. <При устранении практической стороны в юридическом образовании, - говорит здесь Мейер, ;- самая обширная и стройная чисто теоретическая система обращается в великолепную фантасмагорию, которая именно тем опаснее для дела цивилизации, чем величавее размер системы, ибо, с одной стороны, кажется, что все сделано, чтобы просветить будущего юриста и создать из него надежное орудие правосудия, деятельного вещателя непреложных юридических истин; с другой стороны, усматривают, что умственные и нравственные сокровища, которыми щедрой рукой наделила его наука в напутствие на практическое поприще, на первых же порах рассыпаются>. Весьма интересным представляется взгляд Мейера на соотношение между различными видами прав в историческом развитии и вероятную судьбу их в будущем. <По объекту права разделяются на три вида: на права власти, права вещные и права обязательные. Между всеми этими видами прав существует тесная связь, ибо грани, отделяющие один вид прав от другого, не занимают постоянно одного и того же места, а зависят от ступени развития юридического быта, так что на одной ступени развития юридического быта они лежат на одном месте, а на другой передвигаются на другое место. Так на низшей ступени развития юридического быта права на действия почти не существуют: право на действие есть нечто отвлеченное, а отвлеченные понятия не доступны младенчествующим народам, право на действие другого лица им кажется господством над самим лицом и потому вместо прав на действия у них существуют права на людей. Этим объясняется отчасти чрезвычайное развитие рабства в античном мире и у современных восточных народов. Но возьмем более развитый юридический быт: в нем уже сознается право на действие другого лица, хотя и не всеми, но, по крайней мере, понятие о договорах всем доступно. Наконец, в образованном юридическом быту обязательственное право нередко заменят вещное и значительно стесняет круг его действия: напр., нередко, вместо того, чтобы приобрести право собственности на известную вещь, в развитом юридическом быту лицо вступает в договор имущественного найма относительно вещи, по которому собственник предоставляет ему пользование вещью в течение известного времени; наниматель не господствует над вещью, а имеет только право на действие собственника, на то, чтобы собственник предоставил ему пользование вещью. Но как бы не менялись грани, отделяющие одно право от другого, отличного по объекту, можно решительно сказать, что деление права по объекту на три вида будет существовать всегда: быть может, нынешние наши вещные права заменятся впоследствии правами на действия, но вещные права все-таки будут существовать всегда, напр., право собственности, в каком бы то ни было виде; быть может, многие наши права на лицо заменятся со временем правами на действия> (стр. 185). У Мейера можно найти немало неточностей, противоречий, даже прямо ошибочных положений. Однако существование их оправдывается тем обстоятельством, что курс издан не самим автором, а другими, прямо по запискам может быть ошибочно передавшим мысли профессора. Так, напр., вместе с прекрасным и точным определением вещного права, как такого, которому <соответствует обязательство всех и каждого и притом обязательство отрицательное - обязательство не препятствовать субъекту права в его осуществлении> (стр. 184, см. поправку Thon'a Rechtsnorm und subjectives Recht, стр. 166), встречаем мысль: <господство лица над вещью существует само по себе, независимо от отношений между лицами> (стр. ;3). Утверждая, что <в настоящее время найдется уже немного юристов, которые будут признавать владение правом> (стр. 253), Мейер постоянно говорит о праве владения. Признавая, что каждое право имеет известный объект, Мейер вводит категорию <безъобъектных прав>, т.е. таких, которые непосредственно вытекают из личности гражданина, как право на жизнь, на употребление членов тела, умственных сил, право на вступление в брак, на совершение сделок (стр. 183). Мейер дает такое определение понятия о вещи, которое подрывает его же собственное определение вещных прав, понятие о вещи <обнимает не только вещи физические, но и действия других лиц, служащие заменой физических вещей или орудием к достижению господства над ними; в этом обширном смысле вещь то же, что имущество> (стр. 4). Повторяем, что для нас остается не решенным, на кого должна падать ответственность за все эти и другие недоразумения, на Мейера или его издателя. Во всяком случае, если даже приписать их самому профессору, они не могут ослабить несомненных достоинств прекрасного курса, остающегося до сих пор, несмотря на устарелость законодательного материала, лучшим теоретическим руководством в этой науке. [47] Критику решения Сената по этому делу см. в моем сочинении <Авторское право на литературные произведения>, 1891, стр. 152-153. [48] По этому последнему изданию мы будем цитировать. Из догматических трудов этого периода мы можем указать только на сочинения Вицына и Варадинова. Сочинение Вицына, преемника Мейера в Казани по преподаванию гражданского права, <Третейский суд по русскому праву>, 1856 года, посвящено памяти умершего в этом году профессора Мейера. Автор имел в виду <проследить развитие третейского суда от древних времен до наших дней и показать на основании его, как народного суда, отношение юридических воззрений народа к определениям положительного законодательства>. Но за отсутствием каких-либо данных, указаний в сохранившихся памятниках древнего быта, автору осталось ограничиться фактической разработкой (см. предисловие). Г. Вицин проводит взгляд, что третейский суд - первобытная форма суда, общая многим народам, хотя доказательств этого положения в его сочинении не находится. Автор выражает также сомнение в будущности третейского суда. Сравнительно лучшей работой г. Вицына представляется <Договор морского страхования по русскому праву>, 1865 года. Здесь автор прибегает постоянно к сравнительному приему, что и неизбежно в морском праве. Сам анализ договора и его составных элементов делает довольно интересным последнее исследование г. Вицына. Что касается сочинения г. Варадинова под заглавием <Исследование об имущественных или вещественных правах по законодательству русскому> 1855 года, то оно не имеет большого значения, хотя оно не лишено претензий на научный характер. Лучшей частью является вторая, посвященная владению, но масса перепутанных теорий, слабость собственной философской мысли автора затрудняют уяснение изложения. Варадинов примыкает к исторической школе и на первой странице буквально повторяет классическое место о происхождении права. Впрочем, приверженность автора к историческому направлению послужила ему только к тому, чтобы оправдать и выставить законность и святость исторически сложившегося неравенства в правах сословий (стр. 2). Глава III Введение судебных уставов 1864 года является крупным событием в юридическом быту России, имевшим огромное влияние на общественное правосознание. Прежнее секретное делопроизводство сменяется гласным процессом, в котором каждый довод подвергается общей критике со стороны его верности и убедительности. Теперь всякий знал, что если только право на его стороне, то дело будет решено в его пользу. Такая уверенность, основанная на организации новых судебных учреждений, а еще более на том духе, тех ожиданиях, которые сопутствовали реформе, способствовала развитию в обществе чувства законности. Наиболее забитый крестьянин понимает в настоящее время, что для успешного исхода дела не надо идти к судье с поклоном и подношением, а нужно найти хорошего адвоката, если сам не твердо знаешь законы. Такое положение дела вызвало в обществе запрос на образованных юристов. Талантливому человеку открывалась полная возможность проявления своих способностей и знаний. Требование подготовленных юридически судей, прокуроров, адвокатов, наполнило университеты массой молодежи, которая ожидала приготовления ее к новой общественной деятельности. Предложить этим молодым людям вместо знания современного законодательства, усвоения принципов права, одно только знакомство, хотя бы самое детальное, с происхождением и содержанием Русской Правды, значило бы дать им камень вместо хлеба. Приготовить этих молодых людей к судебной деятельности, дать им теоретическое понимание права и основательное знакомство с действующим законодательством, создать из них не простых законников, но образованных юристов, способных стать на высоте новой общественной деятельности - такова благородная задача, открывшаяся для университетской науки. Если у практики явилась потребность в теории, то последняя уже не имела права зарываться в археологические древности, отговариваясь индифферентизмом общества к науке. Конечно, старым профессорам было несколько трудно изменить свой прежний взгляд на изолированность науки, на ее священные задачи, не имеющие ничего общего с мирской суетой, но пример молодых преподавателей, которые пошли на встречу запросам жизни, заставил и их, если не составлять систематические курсы, то по крайней мере приняться за комментирование новых законов. Таким образом, постепенно преподавание и литература права изменили свое историческое направление на догматическое. Прежняя рознь между теорией и практикой под давлением времени переходит в общение: теория начинает задаваться практическими целями, а потому и практика охотно обращается к ней с требованием советов и указаний. Мы видели, что в предшествующую эпоху Мейер отстаивал необходимость практического изучения права и указывал на совершенную бесполезность одного изучения теории. Эта идея Мейера твердо укрепилась в родном ему казанском университете и ни переход его в Петербург, ни смерть не заставили его преемников бросить начатого им дела. В 1860 году юридический факультет представил на утверждение министерства народного просвещения проект учреждения юридической консультации или, по выражению Мейера, юридической клиники[49]. Сущность проекта заключалась в том, чтобы дать возможность студентам при изучении догматики права ознакомляться с практическим применением законов. С этой целью профессора и приглашаемые для этого юристы-практики должны были в присутствии студентов давать советы всем обращающимся к ним за даровой консультацией. Консультация назначалась раз в неделю от 6-8 вечера. На студентов возлагалась обязанность делопроизводства, составление бумаг. В ноябре 1860 года московская гражданская палата объявила в полицейских ведомостях, что к ней могут обращаться все, имеющие надобность в советах по делам и желающие воспользоваться этими советами[50]. Для этого назначался особый день суббота 11 и 12 час. Студентам университета разрешено было присутствовать при этих консультациях, причем в более важных и запутанных случаях они получали объяснения от товарища председателя, который знакомил их вообще с делопроизводством, с внешней стороной совершения различных актов, предлагал им под его руководством вести дела (против последнего сильно восставал Мейер). Мысль такого соединения университетского и практического изучения права принадлежала преподавателю университета Победоносцеву и председателю палаты Оболенскому. Общение между теорией и практикой обнаруживается также в учреждении при университетах юридических обществ, московского в 1863 и петербургского в 1876, в которых должны были встретиться взгляды науки и житейской опытности. Провинциальные юридические общества возникли в семидесятых годах. Вследствие новой потребности в образованных юристах, возникшей в обществе со времени судебных уставов, поднимаются голоса против прежней системы преподавания и направления юридической литературы, выставляются требования о догматической разработке отечественного права в видах подготовления достойных деятелей. <Нам нужны, - заявляет г. Муллов накануне реформы, - крайне нужны юристы-чиновники, образованные адвокаты и именно в настоящее время более настоятельна эта потребность, чем была прежде. Нам нужно вывести, по возможности, дух кляузничества, ябеды, сутяжничества, - для этого нам необходимо иметь как можно более честных, образованных и знающих юридическое дело адвокатов, ходатаев по делам>[51]. Поэтому он требует, чтобы университетские науки, оставив историческую почву, занялись теоретической и практической подготовкой молодых юристов. Одновременно с реформой судебных учреждений имелось в виду переработать материальное гражданское право, создать гражданское уложение. Ввиду этих слухов, неоднократно обманывающих ожидания русского общества, известный своими историческими исследованиями Калачов приглашает русских юристов к догматическому изучению отечественного законодательства. <Ввиду предстоящей государственной работы составления гражданского уложения, которого необходимость не раз представлялась и государственному совету, заявлявшему, однако, в то же время, что перемены в отдельных статьях свода гражданских законов невозможны без полного систематического пересмотра коренных начал нашего законодательства, не обязаны ли мы все, насколько имеем способностей и средств, готовиться к участию в этом важном деле. Станем же изучать и комментировать те отделы гражданских законов, которые каждому из нас наиболее доступны; будем стараться выяснить их применение на практике и таким образом приготовим надежный материал для начертания русского гражданского устава по мысли Карамзина>[52]. Особенно энергично и резко выступил против университетского преподавания и направления юридической литературы Думашевский в своей статье <Наше правоведение, что оно и чем оно должно быть>, помещенной в журнале министерства юстиции за 1867 год. <Будущий историк культуры русского народа, - говорит он, обследовав все относящиеся сюда документы и дошедший в своем исследовании до того дня, в который мы написали эти строки, т.е. anno domino 1866 сентября 10, будет поражен следующим странным фактом в нашей культурной жизни. В описываемую нами эпоху он найдет наше отечество могущественным государством с громадной территорией и 7-миллионным населением, с академиями, университетами и учеными обществами, с журналами, газетами и разнообразной литературой по всем отраслям человеческого знания. Словом, в рассматриваемый нами момент, будущий историк нашей культуры найдет наше отечество государством со всеми признаками богатой культурной жизни. Одного только не найдет он у нас: он не найдет у нас ни одного учебника или руководства по действовавшим у нас в эту эпоху гражданскому праву и процессу> (т. ;XXXI, стр. 3). <Еще более: во всей нашей юридической литературе данной эпохи будущий исследователь нашей культуры не найдет почти ни одной монографии, ни одного исследования из области нашего положительного действующего гражданского права и процесса; он не найдет ни одного исследования, которое бы заслужило название того, что у немцев называется еine juristische Abhandlung> (т. ;XXXI, стр. 4). Находя оправдание историческому направлению в прошедшем русского государственного быта, Думашевский возмущается таким игнорированием со стороны науки запросов действительной жизни, углублением в исследование бесполезных исторических древностей в то время, когда все общество призывается к реформе своего юридического быта. <Мы думаем, что правоведению нашему теперь особенно необходимо изменить свое современное направление; к этому призывают его самые насущные, самые святые интересы нашего отечества - успех наших новых судебных реформ и зависящие от него нравственное развитие и материальное благосостояние нашего народа> (т. XXXI, стр. 32). Указав, что <современное направление нашего правоведения следует назвать историко-философствующим, что это направление решительно не соответствует ни задачам науки права, ни насущным потребностям нашего отечества>, Думашевский требует, чтобы русское правоведение сделалось <по преимуществу догматическим> (т. XXXII, стр. 4). Думашевский дает следующее определение науки гражданского права, которое содержит в то же время указание на задачу университетского преподавания. <Наука гражданского права состоит в познании тех правовых норм, которыми определяются правовые частные имущественные отношения в нашем отечестве (элемент догматический), - познании, почерпнутом в наших действующих правовых источниках (элемент народный), опирающемся на историческом уразумении этих последних (элемент исторический)> (т. XXXII, стр. 33, т. ;XXXIV, стр. 215). Таким образом, Думашевский предъявляет науке гражданского права, выражается ли она в преподавании или в литературе, требование изучения правовых институтов с точки зрения действующего законодательства, но вместе с тем он настаивает на необходимости исторического объяснения их происхождения, сравнения закона с порядком его применения и, сверх того, еще критики законодательства, указания слабых сторон в его построении и необходимых изменений. В начале семидесятых годов с университетской кафедры раздается голос, решающий вопрос о преподавании в пользу догматического направления. <Было время в истории наших университетов, - говорит г. ;Малышев в своей вступительной лекции, читанной 11 ;сентября 1873 ;года в петербургской университете[53], - время важных заслуг их в науке гражданского права, когда в изложении этой науки преобладало направление историческое, когда главной целью университетского образования считалось раскрытие исторических оснований действующего права, как такой стороны его, которая всего удобнее изучается только в университете и не может быть изучена путем судебной практики>. <Таков был смысл старого направления университетской науки. Новое время поставило науке другие запросы, выдвинуло на первый план другие потребности и наука успела уже ответить на них. Наше время требует более тесной, более непосредственной связи теории с практикой, и вот почему практический элемент науки получил теперь решительное преобладание, а историческая сторона ее отступила на задний план. Этому новому направлению обязаны своим образованием многие из лучших деятелей нашей современной практики, а теория обязана ему разработкой системы действующего права и судебной юриспруденции. Нельзя не заметить, что при этом направлении наука служит насущным потребностям дня и соответствует отвращению практики от всего того, чтò отжило свой век и сдано в архив. Это отвращение весьма понятно. Практику нужно действовать не во времена тиунов или дьяков приказных, не при XII таблицах; он имеет перед собой другой мир, другие дела, другие законы; все его потребности обращены в другую сторону. И чем более наука погрузилась бы в глубину веков, давно прошедших, чем более растерялась бы в историческом разнообразии процесса, тем менее она удовлетворяла бы требованиям современной практики. Юрист практический не может успокоиться на той мысли, что закон всегда будет у него под руками и справки всегда возможны. Судебная практика есть постоянное применение закона, а чтобы применять его, нужно его знать, нужно изучить его предварительно, вдуматься в общий его дух и в логическое соотношение деталей, одним словом ;- нужно основательное знакомство с теорией закона. В этой теории, как в прочной форме, он нуждается прежде всего, потому что текучее состояние идей, это perpetuum mobile истории, не дает ему никакой надежной опоры; и для целого гражданского быта оно гораздо менее важно, чем твердые формы и неизменимые, для данного времени, начала. В настоящее время у нас только что совершилась судебная реформа и ни один юрист не может желать, чтобы мы вернулись к прежнему порядку вещей, развивавшемуся исторически. Его надо вытеснить из жизни и всю нашу любовь перенести на новые начала, обеспечивающие правосудие. Таково направление нашего времени. Если бы затем нам нужно было выбирать между стремлениями старого и нового времени, то мы не могли бы колебаться в выборе, потому что разумные потребности живого мира во всяком случае ближе к нам, чем интересы истории>. Для удовлетворения тем же практическим целям в видах разработки догматики русского права появляются специальные юридические журналы, Юридический Вестник (1867), Журнал Гражданского и Торгового (1871), а потом и Уголовного права (1873), Журнал Министерства Юстиции (1859). <Судебная реформа, - объясняет Юридический Вестник свое появление, - дала нам новые, более совершенные формы производства суда, но материальное право, как гражданское, так и уголовное, осталось то же, которое было и до введения в действие уставов 20 ноября 1864 г.; по сему никогда, быть может, не возникло столько вопросов, требующих разрешения, как в настоящее время. Судебные уставы, в числе других важных улучшений, признали полезным узаконить, что в случае неполноты, неясности или противоречия законов судебные установления должны основывать свои. На помощь практике первым явился г. Победоносцев, бывший преподаватель гражданского права в московском университете. После нескольких статей по государственному и гражданскому праву, помещенных в Архиве Калачова (Некоторые вопросы, возникающие по духовным завещаниям, 1859, N 1 и 2), в журнале Министерства Юстиции (Имение родовое и благоприобретенное, 1861, N ;4, Юридические заметки и вопросы по наследственному и завещательному праву, об опеках, 1864, N 11, Однодворческие земли и Начало специального межевания в России, 1863, N 1), в Русском Вестнике (Вещный кредит и закладное право, 1861, N 6), в Юридическом Вестнике (О чресполосном владении, 1867-1868, N 3), Победоносцев предложил русскому обществу <Курс гражданского права>, составленный по лекциям, которые он читал в московском университете. Первый том этого обширного сочинения (по крайней мере для русской литературы, привыкшей к работам небольшого объема, обыкновенно однотомным) появился в 1868 году, следовательно как раз поспел к началу деятельности новых судебных учреждений, второй том - в 1871, а третий только в 1880. Первый том, содержащий вотчинные права, выдержал четыре издания: 1868, 1876, 1883, 1892, второй том, заключающий в себе учение о семейном и наследственном праве, появился вторым изданием в 1875, а третьим - в 1891, третий том, посвященный обязательственному праву, был издан вторично в 1890 году. Такая частая повторяемость изданий, столь необычная в русской литературе, в которой редкое сочинение дождется второго издания, лучше всего свидетельствует о значении книги для практики. Действительно, курс г. Победоносцева стал необходимым руководством для каж-дого юриста, имеющего отношение к гражданским делам, стал принадлежностью самой скромной юридической библиотеки. Влияние его обнаруживалось не только на судьях и адвокатах, но и на практике высшей судебной инстанции. Во многих решениях гражданского кассационного департамента, преимущественно семидесятых годов, можно заметить отражение взглядов г. ;Победоносцева, нередко излагаемых его собственными словами. Сочинение г. Победоносцева стало рядом с курсом Мейера в научном отношении, но в практическом отношении оно стало впереди. При всех теоретических достоинствах курса Мейера, которые во многом ставят его выше курса г. Победоносцева, он представляет собою произведение западной науки, преимущественно римского права, он не касается тех юридических отношений, которые составляют особенность русского быта и потому должны были особенно интересовать судебную практику. Между тем г. Победоносцев, понимая потребности последней, считал своею обязанностью останавливаться с большею подробностью на вопросах, <имеющих в эту минуту особливое значение для нашего законодательства и для нашей практики> (пред. к I ;т. изд. 1868). Поземельные правоотношения складываются оригинально в каждой стране, и г. Победоносцев обращает особенное, даже чрезмерное, внимание на поземельное право, стараясь помочь практике в разрешении массы вопросов этого рода, поднявшихся с открытием новых учреждений. Сравнивая курсы Победоносцева и Мейера, талантливый юрист Оршанский говорит следующее. <На обоих этих трудах ясно отразилось различие в общем характере двух эпох в истории нашего правоведения, к которым они относятся. Курс Мейера составлялся в то время, когда благодаря прежнему судоустройству, полному отсутствию свободы печати и другим общественным условиям, теория права шла совершенно врознь с практикой, самостоятельная наука действующего русского права не существовала и в зародыше и немногие труды по русскому праву не выходили из заколдованного круга допетровского права. Отсюда сильное подчинение теории русского гражданского права иностранной юриспруденции и римскому праву, привычка теоретиков прилагать к вопросам русского права обыкновенные приемы европейской юриспруденции, без серьезного исследования нашего правового быта. Труд г. Победоносцева относится к периоду сближения между теорией и практикой на русской почве, развития самостоятельной догматической доктрины русского права и стремления к изучению особенностей нашего правового строя. Отсюда недоверие к простому пересаживанию иностранных теорий, с одной стороны, и равнодушное отношение к чисто историческим работам по отечественному праву без практических результатов для права действующего - с другой стороны>[54]. [49] Юридическая консультация в Казанском университете. Ж. М. Ю., июль 1861. [50] Юрид. Вестник, 1861, кн. XVII. [51] ;Муллов, О практическом юридическом образовании (Юрид. Вестн., 1861, кн. XVII, стр. ;27). [52] Речь, произнесенная 1 декабря 1866 в московском университете на тему: <О значении Карамзина в истории русского законодательства>. [53] Помещена в его Курсе гражданского судопроизводства, т. I. [54] Оршанский, журн. Гражд. и Угол. Права, 1876, кн. II, стр. 259. В лице г. Победоносцева мы видим совершенно особый тип юриста, не подходящий к большинству русских ученых. Не поддаваясь влиянию западной науки, не связанный выводами предшествовавших русских ученых, г. Победоносцев отличается полною самостоятельностью взглядов на исторические и догматические вопросы русского права. Спокойный и тонкий анализ, бесстрастное изложение[55], упорный консерватизм в вопросах de lege ferenda - таковы отличительные черты г. ;Победоносцева как ученого. По складу юридического мышления можно заметить некоторое сходство между г. Победоносцевым и Неволиным, с тою лишь разницею, что последний - систематик, тогда как первый - практик в лучшем значении этого слова. Если все сочинение не отличается систематичностью, если в изложении не соблюдены научные требования последовательности, зато в решении отдельных спорных вопросов г. Победоносцев не имеет себе равных. Читателю дается не только самое решение, но перед его глазами восстает весь логический процесс, посредством которого автор пришел к данному выводу. Мы не преувеличим, если сравним г. Победоносцева с римским юристом. Как и последний, г. Победоносцев опасается обобщений, избегает определений, предпочитая описание фактов, но зато поражает логичностью рассуждений, когда дело касается толкования действующего законодательства. Следить за автором в его заключениях и таким путем приобретать способность к самостоятельным юридическим решениям - такова главная польза, которую можно получить при чтении. Если курс Мейера врезает в память читателя систему гражданского права, что имеет несомненное громадное значение для юриста, то курс Победоносцева приучает к цивилистическому мышлению, и с этой стороны он является лучшею школой для догматика. Ценности его догматических заключений в области семейного права мешает в значительной степени то обстоятельство, что в его лице, как выразился г. Спасович, <вмещаются две персоны: он прежде всего историк-юрист, одаренный верным чутьем при оценке явлений прошедшего, но он порою бывает и богослов>[56]. Теологическая точка зрения нередко сталкивается с юридической и отсюда получается непоследовательность. Поэтому семейственное право составляет одну из слабых частей курса Победоносцева, тогда как наиболее выдающимися местами является изложение о родовых имуществах, выделе и приданом (I, стр. 51-102), об укреплении прав на недвижимое имущество (I, стр. 238-275), об отношении вещного права к межевому (I, 671-718), о наследовании по закону (II, стр. 236-444)[57]. В изложении гражданского права г. Победоносцев прибегает к сравнительному приему, догматическому изъяснению русского права предпосылает исторический очерк развития института, обращается к экономическому объяснению постановлений права, возбуждает вопросы de lege ferenda. <В изложении главной моей целью было способствовать полнейшему, по возможности, разъяснению понятий о главных предметах гражданского права. С этой целью выбрал я сравнительную методу изложения и старался прежде всего в начале каждой статьи указывать на основную идею учреждения, потом переходил к объяснению учреждения, в отличительных его чертах, по римскому, французскому и германскому праву. Затем уже, приготовив в уме слушателя или читателя по возможности полный и закругленный образ учреждения, приступал я к изложению его по русскому закону, с предварительным очерком его происхождения и исторического развития на нашей почве> (пред. к т. I). Действительно, автор впервые знакомит русское общество с важнейшими постановлениями французского, итальянского, английского и германских законодательств, предоставляя полную возможность читателю <судить, в чем русский закон учреждения соответствует или не соответствует его общему типу, как он выразился в истории, в экономии и в праве Западной Европы> (пред. к т. I). Но все-таки главная цель этого сравнительного приема остается все-таки мало достигнутою в курсе г. ;Победоносцева. Автор избегает общих определений, конструкций, а потому <идея учреждения> ускользает от внимания читателя, оставляя ему лишь интересное сопоставление русского и западных законодательств. Такое сравнение не выясняет сущности института, а только выдвигает вопросы законодательной политики, указывая, в чем русское законодательство отстает от западных. Значительно выше стоит исторический прием г. Победоносцева, который обнаруживает основательное знание и глубокое понимание истории русского гражданского права. Автор, видимо, проникся духом прошедшего и выясняет многие черты прошлого, ускользнувшие от внимания историков права. Особенно выдается выяснение истории укрепления прав на имущество. Автор придает большое значение политической экономии для цивилиста. <Тесная связь предметов гражданского, особливо вотчинного, права с экономией, делает невозможным, в наше время, изучение первого без изучения последней> (т. I, стр. 744). Однако познания автора в области политической экономии не отличаются основательностью и открывают лишь возможность ссылаться на экономические законы как препятствующие законодательной реформе. Высшее достоинство труда г. Победоносцева заключается в догматике. Однако автор не остается на этой, свойственной ему, почве, а переходит, к сожалению, в область законодательной политики. Эта сторона его сочинения представляется наиболее слабой, потому что автор по всем вопросам крепко придерживается существующего порядка и отрицает всякую полезность каких бы то ни было изменений в гражданском законодательстве. Единственный случай, когда г. Победоносцев отнесся критически к действующему праву в смысле признания нецелесообразности его постановлений и необходимости отмены их - это по вопросу о выкупе родовых имуществ (II, стр. 437). Кроме того, в последнее время, автор поднял вопрос о неделимости и неотчуждаемости мелких участков, которому он придает настолько важное значение, что помещает статью о семейных участках, напечатанную впервые в Русском Вестнике, дважды в своем курсе (I, стр. 728-737, II, стр. 346-359). Введение вопросов de lege ferenda положительно портит то приятное впечатление, которое производят рассуждения автора de lege lata. Автор высказывает решительное <нет> на все предложения отмены постановлений, явно потерявших всякое значение для современной жизни в глазах всех и даже самого г. Победоносцева. Главным основанием отрицания выставляется соображение о неподготовленности нашего экономического быта, - <позволительно еще усомниться, своевременна ли была бы ныне и насколько соответствовала бы нынешнему экономическому состоянию наших владений такая перестройка закона>, - вот основное и часто единственное возражение автора. Такое отрицательное отношение г. ;Победоносцев высказывет по вопросам: об отмене различия между родовыми и благоприобретенными имуществами (I, стр. 63), о дополнении законов о давности (I, стр. 180), о введении у нас (а не на Западе) гражданской формы брака (II, стр. 62), о допущении более широких оснований к разводу (II, стр. ;88), о секуляризации церковного суда по делам брачным (II, стр. ;102), об обязательном народном обучении (II, стр. ;161 и 175), об уничтожении закона, требующего крещения в православии ребенка, рожденного в смешанном браке, в котором один из супругов принадлежит к православной вере (II, стр. 169), о введении налога с наследства (II, стр. 411), о введении указной части для ближайших наследников (II, стр. 479), об отмене паспортной системы (III, стр. 400). По поводу рассуждений г. Победоносцева de lege ferenda один из его критиков замечает: <В этих взглядах он является защитником statù quo, идеал его: патриархальный строй семьи и абсолютно вотчинные начала имущественных отношений. Это одна из темных сторон его капитального труда, а потому-то нельзя не выразить удовольствия, что взглядам автора de lege ferenda отведено в курсе весьма незначительное место>[58]. <Ясность, определительность и чистота русской речи, - говорит г. ;Победоносцев, - качество, необходимое для юриста, правая рука, без которой обойтись ему невозможно> (т. I, стр. 746). Против этого несомненного правила грешит больше всего сам г. Победоносцев. Слог его не может быть назван литературно-русским, склад его речи старинный, а между тем он пишет для современников. <В некоторых местах книги читатель заметит желание заменить, по возможности, русскими словами иные юридические и философские термины. Я позволял себе писать иногда (!) вместо слова субъект - владетель, держатель; вместо объективный - внешний, вместо виндицировать - добывать, вместо индивидуальный - особенный> (т. I, изд. 1868, предисл.). Нельзя не присоединиться к этому стремлению автора ввести русскую терминологию, нельзя не одобрить замены слов вроде сукцессия, ауктор, словами преемство, передатчик, но, во-первых, необходимо строго держаться раз избранных выражений, а во-вторых, не переходить границы, за которыми начинается отрицание иностранных слов, уже приучивших к себе наше ухо. Между тем г. Победоносцев не соблюдает строгой терминологии, напр. употребляет слово владение в смысле права собственности, prossessio, detentio и пользования. К чему отвергать столь употребительные слова, как объект, факт, которые получили право гражданства в русской речи, и заменять их непременно словами предмет, событие, явление. В этом стремлении к чисто русской терминологии г. Победоносцев устраняет слово <вещный> и подставляет вместо него слово <вотчинный>. Если первое слово представляется автору <весьма не русским по своей конструкции> (предисл. к I т. изд. 1868), то второе слово в придаваемом ему значении не соответствует историческому смыслу, потому что а) приложимо только к недвижимому имуществу и b) ;обнимает только право собственности. Самое понятие о вотчинном праве у г. ;Победоносцева не отличается ясностью и точностью. С одной стороны, <наследство (право наследования?) в совокупности своей причисляется к правам вотчинным> (I, стр. 7), с другой - <к благоприобретенному имению причисляется не только право собственности, вотчинное право, но и всякое право вообще, как вещное, так личное> (I, стр. 81). Курс г. Победоносцева отличается необыкновенным богатством материала, содержащегося в нем. Автор не ограничился теми нормами, которые заключает в себе т. Х, ч. I, но обратился ко всему Своду и всюду отыскивал частноправовые постановления. В этом отношении курс г. ;Победоносцева представляет полную сводку законодательного материала по гражданскому праву. Принимая во внимание отсутствие в то время сборников, подобных сборнику Гожева и Цветкова, мы должны признать в авторе необыкновенное знакомство с русским законодательством, отличающимся своею разбросанностью, которая способна затруднить самого добросовестного исследователя. Г. Победоносцев впервые обратил внимание науки на многие постановления, обходившиеся до сих пор учеными ввиду несоответствия их с западными образцами. Автор остановился на крестьянском землевладении, на общине, на вопросе о межевании, на различных формах поземельной собственности, образовавшихся чисто исторически, на основаниях и доказательствах вотчинного права и др. Мало того, автор не ограничивается законодательным материалом и обращается к обычному праву, раскрывает народные воззрения на тот или другой институт (напр., на брак), указывает уклонение практики от постановлений положительного законодательства. Поэтому нельзя не согласиться, что <в отношении к материалу науки курс не оставляет желать ничего лучшего>[59]. Но эта масса нового материала, самобытность автора, несколько пренебрежительное отношение к науке отразились на системе курса, которая составляет наиболее слабую сторону в этом замечательном произведении. <По самой сущности задачи, - говорит Оршанский, - труд г. ;Победоносцева не может не страдать существенными недостатками, так как автору на каждом шагу приходилось обрабатывать почти девственную почву> или, как он выражается, несколько резко, в другом месте, <область сведений, захватываемых изложением автора, велика и обильна, а порядка в ней нет>[60]. Курс г. ;Победоносцева состоит из трех томов, из которых первый содержит в себе вещное право (вотчинные права), второй том - семейственное и наследственное право, третий - обязательственное. В предисловии к первому изданию первого тома автор обещал еще четвертый том, который должен был <составить так называемую общую часть гражданского права, т.е. учение о лицах, юридических отношениях и об общих свойствах и категориях вещей>. Но такая общая часть не явилась до сих пор, хотя автор нередко ссылается на нее в своем изложении (I, стр. 30, 104, 152, II, стр. ;163), и есть основание думать, что она и вовсе не появится. А между тем неудобство отсутствия общей части сказалось в самом начале изложения и неоднократно обнаруживалось далее в течение курса. Так, <по связи статьи о вещах или о предметах гражданского обладания со статьей о правах вотчинных> автор решился выделить учение об объекте из общей части и поместить ее в начале первого тома (предисл. к изд. 1868). Вследствие отсутствия общей части автор излагает учение об условии частью в наследственном праве (II, стр. 453), частью - в обязательственном (III, стр. ;8). Той же причиною объясняется, что учение о дееспособности несовершеннолетних лиц рассеяно по различным отделам курса, в опеке, в наследственном праве, обязательствах. Отсутствием систематичности объясняется чрезвычайная недостаточность изложения обязательственного права, составляющего самую слабую часть сочинения, между тем как обязательственное право более всего требует системы. <Предметы торгового права так тесно соприкасаются и переплетаются с предметами и понятиями гражданского права, что весьма трудно, говоря об одном, не касаться в то же время и другого; а нередко и необходимо бывает, для полного разъяснения понятия об учреждении гражданского права, рассматривать его в связи с теми формами, какие приняло то же учреждение в сфере торговых отношений> (т. III, стр. ;323). После этого мы могли бы ожидать, что автор даст нам совместное изложение гражданского и торгового права. Между тем в вещном праве автор, имея в виду почти исключительно поземельные отношения, совершенно оставляет без внимания те изменения, которые были произведены торговым правом в абсолютных правах, да и в обязательственном праве автор в высшей степени поверхностно относится к торговым сделкам, векселю, комиссионному, страховому договору. Отсутствие общей части затрудняет выяснение взгляда г. Победоносцева на гражданское право и его границы. Содержание курса дает основание предположить, что автор понимает гражданское право так, как оно обыкновенно понимается в германских учебниках, в курсе имеется вещное, обязательственное, наследственное и семейственное право, следовательно, автор включает в круг частноправовых отношений и чисто личные. Но, с другой стороны, мы встречаем у г. Победоносцева места, способные внушить читателю мысль, что автор считает гражданским правом только имущественные отношения. <Содержание всякого гражданского права, по существу его - хозяйственное, цель его - экономическая> (т. I, стр. ;108, т. III, стр. 185); на обязательства г. ;Победоносцев смотрит так же, как на имущественные отношения (т. ;III, стр. 3, 6, 19). Мы уже указывали, что главное достоинство курса г. Победоносцева заключается в решении отдельных вопросов, что г. Победоносцев более практик, чем систематик. В связи с этим находится непременно и слабость юридической конструкции, неразрывно связанной с системою гражданского права. Мы напрасно искали бы точного юридического различия вещного и обязательственного права, определения сущности наследства, договора вообще и отдельных видов в частности. Вводя в свой курс учения о русской общине, автор не делает попытки выяснить ее юридической природы, ограничиваясь лишь не обоснованным замечанием, что <<владение> (?) общины не есть владение лица идеального, юридического> (I, стр. ;532), а вместо того вдается в рассуждения об экономическом и государственном значении общины. Нельзя же считать научным установлением отличия вещного права от обязательственного, когда автор предлагает следующие рассуждения. <У меня есть деньги. Покуда они в моей собственности, я могу сказать, не ошибаясь: мои деньги, моя тысяча рублей; но как скоро я дал их взаймы, я не имею уже права сказать: мои деньги, в строгом смысле. Теперь мое требование, мое заемное письмо, а деньги перешли во власть моего должника и сделались его вещью> (т. I, стр. 4). Известно, как затруднительно для практики отличие договора покупки от запродажи и поставки, личного найма от подряда, заказа, доверенности. Между тем г. Победоносцев не делает ни малейшей попытки определения границ между ними. Главное достоинство особенной части обязательственного права, как и особенной части уголовного права, заключается в установлении точных признаков каждого из договоров и преступлений - этого-то мы и не видим в курсе г. ;Победоносцева. В гражданском праве весьма важным является понятие об имуществе. Между тем г. Победоносцев дает такое определение: <внешние блага - суть так называемые имущества (bona, facultates), составляющие, по отношению к личности человека, внешнюю ее принадлежность, внешнее ее дополнение или ее имущество> (т. I, стр. 1). Нельзя считать правильной конструкцию конкурса: <с объявления несостоятельности все его (должника) имущество по закону считается не его принадлежностью, а принадлежностью кредиторов, т.е. массы> (т. I, стр. 221), между тем г. Победоносцеву известно, что тот же закон предоставляет остаток по удостоверении кредиторов должнику <как его собственность>. Не установив понятия об индоссаменте, г. Победоносцев говорит следующее: <надписатели ответствуют векселедержателю в платеже совокупно, так же, как и сам векселедержатель, хотя бы даже самый вексель признан был недействительным, ибо, независимо от сего ;(?), при передаче он предполагался и полагался в счет, как действительная ценность> (III, стр. ;245). Трудно понять, в чем тут заключается основание ответственности надписателей и почему существует различие в передаче векселя и заемного письма? Так же неправильна конструкция акции: <владелец (?) такого акта есть не кредитор компании, не кредитор напр. общества железной дороги, но соучастник в собственности> (т. III, стр. 250). Что это за собственность, когда сам автор утверждает, что в акционерном товариществе нет общей собственности? Г. Победоносцев относит куплю-продажу не к договорам, а к способам приобретения собственности, потому что <по идее нашего закона продажа есть действие, коим одна сторона передает другой вещь за определенную цену> (т. I, стр. 314, т. III, стр. 324). Но подобную идею можно найти в купле-продаже недвижимого имущества, там, где необходима купчая крепость. Применимы ли эти соображения к купле-продаже движимости, составляет ли она также действие, а не обязательственное отношение? Если нет, - то г. Победоносцеву следовало отделить изложение купли-продажи недвижимости и движимости, первую поместить в способах приобретения собственности, а вторую - в договорах. Если да, - то зачем г. Победоносцев отыскивает момент перехода права собственности при покупке движимости (т. I, стр. 689-690)? Это уже явная непоследовательность. К случаям beneficium competentiae, встречающимся в русском праве, автор относит неприкосновенность рукописей, составляющих литературную собственность должника (т. III, стр. 223). Слабость юридической конструкции обусловливается практическим направлением г. Победоносцева. Тем более странно встречать в курсе такого знатока русского законодательства прямые ошибки в понимании законов. Так, автор утверждает, будто для прекращения права въезда в казенные леса положено выделить владельцам в собственность участки по размеру писцовой пашенной дачи их по 20 четвертей на 100 (I, стр. 469), тогда как дело идет о 20 ;десятинах на 100 четвертей; будто требование родителей о заключении в тюрьму их детей удовлетворяется непосредственно правительственной властью без судебного приговора (т. II, стр. 171, в изд. 1891 г.); будто все отставные чиновники лишены права на ходатайство по чужим делам (т. III, стр. ;35); будто закон требует, чтобы переводный вексель был непременно написан в нескольких образцах (т. III, стр. 54), будто в нашем законодательстве не встречается слово <солидарность> (т. III, стр. ;101), тогда как в Уставе о векселях приведено даже римское выражение in solidium; будто запрещение писать векселя на предъявителя все равно что запрещение давать вексельные бланки (т. III, стр. 224), будто со взысканием по векселям соединяется в настоящее время личное задержание (т. III, стр. 344). Встречаются у автора пробелы в знании иностранного права, так приводится совершенно неправильное толкование итальянского закона об авторском праве (т. I, стр. 644), обнаруживается незнакомство с английским законом 1882 года, установившим имущественную раздельность между супругами (т. II, стр. ;125 и 449), с французским законом 1885 года, открывшим свободу для сделок на разность (т. III, стр. 568). Автор говорит, что <римское выражение re contrahitur obligatio ныне уже не имеет важности, потому что все нынешние контракты консенсуальные, т.е. основанные на взаимном соглашении> (т. III, стр. 108), как будто реальные договоры в римском праве не были основаны на взаимном соглашении. [55] Интересно, что г. Победоносцев, изложение которого отличается чрезвычайной монотонностью, упрекает Неволина в сухости изложения (т. I, стр. 745), а Неволин упрекает в том же Рейца. [56] Спасович, журн. Гр. и Торг. Права, 1871, т. I, стр. 140. [57] Цитаты по последнему изданию. [58] С.-Петербургские Ведомости, 1876, № 75. [59] С.-Петербургские Ведомости, 1876, № 75. [60] Журн. Гражд. и Угол. Права, 1876, кн. II, стр. 260 и 261. Если автор хотел прийти на помощь новой судебной практике, а таково действительно было его намерение, то он должен был иметь в виду прежде всего новые судебные уставы, и уже, как дополнение, приводить постановления, касающиеся старых учреждений. Между тем г. ;Победоносцев в большинстве случаев (т. I, стр. ;167, 184, 274, 601, 662, т. II, стр. 142, 505, т. III, стр. 408 и др.) имеет в виду старый порядок, а новый приводит в дополнение. Это обстоятельство обусловливается, вероятно, тем, что лекции были составлены при действии старых учреждений, но такой порядок изложения должен бы быть изменен при печатании сочинения, потому что затрудняет пользование книгой. Нельзя также не упрекнуть автора за упущение в последних изданиях некоторых новых русских законов, так, напр., говоря о варрантах, он не упоминает вовсе положения о товарных складах 1889 го-да, как будто его и не существовало. К достоинствам сочинения г. Победоносцева следует отнести указание с его стороны, довольно подробное, иностранной литературы. Русское общество во время первого издания курса не имело возможности найти литературные указания вследствие отсутствия еще юридических журналов. Но в последующих изданиях г. Победоносцев перестал следить за западной литературой, ссылается на старые издания, давно измененные несколькими новыми, упускает новые сочинения, имеющие более или менее важное значение для теории гражданского права, так что пользование литературными указаниями по последним изданиям г. ;Победоносцева совершенно невозможно. Появление курса г. Победоносцева, совпавшего с запросом общества на подобные сочинения, не могло не быть не замечено в русской литературе. Первым отозвался Лешков в Юридическом Вестнике. <Непозволительно молчать при появлении в русской юридической литературе сочинений, подобных лежащей перед нами в двух томах первой части курса гражданского права, составленного столько известным юристом-литератором и практиком К.П. Победоносцевым. Всеми ощущаемая в наше время живая потребность в руководствах для уяснения юридических начал, установлений, понятий, должна возбудить у специалистов живой интерес к книге и живое участие в деле разъяснения юридических истин, посредством критики на эту книгу, ее разбора и анализа> (1868, кн. III, стр. 51). Впрочем критика самого Лешкова не могла иметь большого значения, потому что он был весьма слабый цивилист, что можно видеть, напр. из совета его г. Победоносцеву заменить название <вещь>, как понятие физическое, юридическим термином <имущество>, а вещное право называть имущественным (Юрид. Вестн., 1868, кн. III, стр. 53). Если не считать краткой заметки г. Малышева в Судебном Вестнике за 1868, N 68, рецензия Лешкова оставалась почти единичной до 1871 года, когда выступил с критикой г. Спасович в Журнале Гражданского и Торгового Права, так что он мог сказать, что <сочинение, не одинаково разработанное во всех своих частях, весьма богатое по содержанию, не дождалось еще критической оценки в литературе нашей, хотя и заняло место в ряду самых необходимых книг для всякого из наших цивилистов> (1871, кн. ;I, стр. ;134). В том же журнале выступил с критикой, не менее основательной, Оршанский (1876, кн. II). Краткая, но верная оценка курса сделана в С.-Петербургских Ведомостях (1876, N 75). Не соглашаясь с автором в отдельных вопросах, все критики признавали, что курс г. ;Победоносцева представляет собою капитальное произведение русской юридической литературы. Рецензии последнего времени, встречающиеся в общих журналах, не имеют никакого научного значения. Человек с философским взглядом, каким обладал Кавелин, не мог не остановиться прежде всего перед вопросом, что составляет содержание гражданского права, какие его характерные признаки и где пограничная черта, отделяющая его от других отраслей правоведения. Этому вопросу посвящены его брошюра <Что есть гражданское право и где его пределы?>, 1864 года, составляющая оттиск из С.-Петербургских Ведомостей, а затем книга <Права и обязанности по имуществам и обязательствам>, 1879 года, представляющая попытку систематического осуществления идей, выраженных в первом сочинении. Вопрос, затронутый Кавелиным, настолько интересен, что следует подробнее изложить его взгляд на этот предмет. <Гражданское право в теперешнем своем составе и построении, исполнено противоречий; чтобы из них выпутаться, ученые вынуждены прибегать к объяснениям, нелепость которых бросается в глаза. Под покровом ошибочной теории, обветшавшие римские понятия о публичном и приватном праве, о необходимости юридических фикций, об основаниях обязательств и т.п., все еще пользуются в науке и практике правом гражданства, повторяются и комментируются на разные лады. Гражданское право, где эти понятия теперь исключительно гнездятся, представляет какую-то ветхую храмину, посреди прочных и стройных зданий государственного, уголовного, полицейского (общественного), финансового права, задуманных и исполненных по новому плану. Искусственно сложенная из обрывков римского права, в разные эпохи и много раз подправленная и кое-как прилаженная к новым постройкам, эта руина между юридическими науками безобразит всю систему юридических отношений, мешает их правильному сочленению и спутывает понятия> (Права и обязанности, стр. VI, брош., стр. ;134). Кавелин не признает традиционного отличия гражданского права от публичного по признаку частного или общественного интереса. Предполагая, что римское деление имеет в виду отношения, представляющие частный интерес, и отношения, представляющие общественный интерес, Кавелин справедливо замечает, что в так называемых гражданских правоотношениях участвует общественный интерес, а в публичных правоотношениях затрагиваются частные интересы отдельных лиц (брош., стр. 15), потому что частное не отделено от публичного китайской стеной (брош. стр. 4). Как неправильно ульпиановское отличие частного права от публичного, так же несостоятельна попытка найти характерный признак гражданских правоотношений в том, что они создаются индивидуальной, единоличной волей в противоположность государственным правоотношениям, в основании которых лежат законные определения, потому что <юридические отношения, причисляемые к гражданскому праву, возникают, продолжаются, прекращаются не только вследствие изъявления или выражения воли, но также вследствие закона, правительственных распоряжений и мер, публичных действий судебной власти, вследствие уже существующих юридических отношений, как их необходимое последствие, наконец, вследствие случаев или фактов, в которых воля людей вовсе не участвует> (брош., стр. 72 и 103). В конце концов Кавелин приходит к тому выводу, что государственное право не может быть противополагаемо гражданскому праву, потому что оно имеет предметом условия, вносимые юридическим началом государства в гражданский быт. Эти две юридические области не однородны, принадлежат к разным категориям. Сопоставлять их, ставить на одну доску ;- все равно, что определять сходство и различие между Лондоном и квадратурой круга, между понятиями древних греков о Зевсе и о Ниагарском водопаде (брош., стр. 59). Каким образом все эти разнородные правоотношения, составляющие в совокупности современное гражданское право, объединились в одной науке? Кавелин объясняет это исключительно историческими причинами. <Некоторые части бывшего римского права получили мало-помалу в Западной Европе обязательную силу; эти части и удержали название гражданского права, которое у римлян относилось ко всем вообще правам римских граждан и в этом смысле было гораздо точнее, определеннее и понятнее. Части или отрывки римского гражданского права, получившие значение действующего закона, стали объяснять, потом излагать систематически, после старались разными соображениями оправдать и теоретически такое, на самом деле случайное, соединение разнородных и разнохарактерных юридических учений в одно целое. Мы называем их соединение случайным именно потому, что бывшее римское право стало в Западной Европе обязательным не в полном своем составе, а частями, которые, правильно или неправильно, казались применимыми к новому европейскому быту. Эти части, выхваченные из общего состава римского права и соединенные вместе, уже не могли представлять органического целого, как все римское право, в полном его составе, тем более, что практические соображения, а не общие теоретические основания, руководили выбором римских юридических учений, которые получили у новых народов силу закона и образовали теперешнее гражданское право> (брош., стр. 112, Права и обязанности, стр. 2). Так как, по мнению Кавелина, современное гражданское право имеет самое разнородное содержание, не объединяемое общим признаком (личные и имущественные отношения), и следовательно не удовлетворяет требованиям научной классификации, то необходимо прежде всего найти такой характерный признак гражданских правоотношений и на нем построить новую систему целой отрасли правоведения. <Место так называемого гражданского права должен занять, в системе права, разряд или отдел юридических отношений с характерными признаками, ему одному свойственными, и связанный единством общего начала. Таковые юридические отношения между лицами об имуществах и вообще и ценностях, стоимость которых может быть определена на деньги. Согласно с тем, из теперешнего гражданского права должны быть исключены все юридические отношения личные, не переводимые на деньги и перенесены в него из других отделов системы права разбросанные в ней теперь повсюду юридические отношения между лицами (в юридическом смысле) об имуществе или ценностях> (Права и обязанности, стр. ;2, брош., стр. 137, 145). С этой точки зрения Кавелин исключает из гражданского права все личное семейственное право, отношения между супругами, между родителями и детьми, между опекуном и опекаемым и сохраняет только имущественные отношения, возникающие на семейной почве. Несравненно больше отнимает он у других юридических наук и переносит в новую отрасль правоведения. Сюда входят, по мысли Кавелина, подати, пошлины, налоги, акцизы, всевозможные сборы, повинности сословные, земские, городские и сельские, к которым он присоединяет даже воинскую и конскую повинность, пенсии, эмеритура, конфискация и денежные наказания. Понятно, что весь этот состав правоотношений, соединенных имущественным признаком, слишком мало походит на обычное содержание гражданского права, чтобы сохранить последнее название за совершенно новой отраслью, создаваемой Кавелиным. Он находит, что термин <гражданское право> вообще неудобен, потому что не соответствует содержанию науки. <Почему эта часть законодательства и правоведения называется гражданским правом? Что значит это название? Чтобы понять это, надобно наперед знать, что слово <гражданский> есть буквальный перевод римского civilis; что civilis происходит от слова civis, гражданин; итак, гражданское право, судя по названию, должно бы обнимать все права, все юридические отношения гражданина, какие бы они не были. Так действительно и понимали римляне; но теперь значение гражданского права совсем не то; права и отношения, которые называются гражданскими, составляют только часть, отдел всех прав и юридических отношений гражданина; а какую именно, и почему ту, а не другую, это остается неопределенным> (брош., стр. ;108). Ввиду нового состава, название <гражданское право> должно быть заменено другим, более соответствующим содержанию, а именно: <юридические отношения, или права и обязанности лиц по имуществам и ценностям, или по обязательствам>, разумея под последними юридические отношения о ценностях, какие бы они ни были, лишь бы могли быть переведены на деньги (Права и обязанности, стр. 3). Вопрос о границах науки гражданского права, об имущественном или неимущественном ее содержании, особенно заинтересовал русских цивилистов, причем многие из них высказывались за исключение из ее состава личных отношений и ограничение ее пределами имущественных отношений. Мы видели уже взгляд Мейера на этот предмет. Он также стоит за исключение из гражданского права личных семейных отношений и за ограничение содержания этой науки имущественными отношениями. Но на этом прекращается сходство воззрений Мейера и Кавелина: первый ограничивает пределы гражданского права частными имущественными отношениями и сокращает область этой науки исключением семейного права, напротив, второй расширяет ее область включением целого ряда имущественных отношений публичного права, другими словами, Кавелин определяет содержание по одному признаку - имущественному характеру отношения, тогда как Мейер, кроме этого признака, устанавливает второй - частный характер отношения. При выходе в свет брошюры Кавелина <Что есть гражданское право> согласие с основной ее точкой зрения выразил Думашевский в рецензии, помещенной в Журнале Министерства Юстиции за 1865 (N 8 и 9). Позднее, в своей статье <Наше правоведение, что оно есть и чем должно быть> он дает следующее определение гражданского права: <частным имущественным или гражданским правом называется совокупность правовых норм, определяющих те имущественные отношение (т.е. отношения, имеющие имущественный интерес, могущий быть оценен на деньги), в которых каждый может по своему собственному произволу распоряжаться принадлежащим ему имущественным интересом>[61]. Следовательно Думашевский дает два характерных признака гражданского права: 1) имущественный интерес и 2) свобода распоряжения. Точно так же к его воззрению примкнул Лешков в рецензии на сочинение г. ;Победоносцева, помещенной в Юридическом Вестнике за 1868 (кн. ;III, стр. 51). Тот же взгляд на имущественный характер гражданского права был выражен и подробнее развит во вступительной лекции Умова. <Гражданское право по определению современных ученых, ;- говорит Умов, есть наука об имущественных отношениях, в которые вступают частные лица, как таковые. Это определение не выводится наукой ни из истории, ни из положений законодательств, а прямо вытекает из стремления человеческого ума систематизировать явления, с которыми приходится ему иметь дело> (Моск. Унив. Известия, 1872, N ;4, стр. 404). Если к гражданским отношениям причисляются иногда и такие, которые преследуют цели не имущественные, то в действительности и эти права, как только доходит до их осуществления, получают имущественное содержание, напр., если лицо, обязанное по сервитуту, застроить мне вид на море, то в силу моего права я могу потребовать уничтожения строения, возведенного против моих окон (стр. 405). Таким образом, гражданское право имеет своим предметом отношения имущественные. <Но и из этих отношений оно рассматривает только такие, в которые вступают частные лица, как таковые. Под именем частного лица мы разумеем человека, как индивида, как члена семейства> (стр. 408). Положение лица, как индивида и члена семейства, противополагается его положению, как члена общественных союзов, народа, государства. Отношения, в которые вступают лица, как индивиды и члены семейства, называются частными и составляют предмет частного гражданского права; отношения, в которые они вступают, как члены общественных союзов и государства, называются государственными и рассматриваются государственным правом> (стр. 409). <Область частных отношений, а следовательно и область гражданского права, есть область по преимуществу индивидуальной свободы> (стр. 410). Умов устанавливает следующие характерные черты гражданских прав. 1) Гражданские права - это такие, которые принадлежат частным лицам непосредственно, как таковым, а потому права, принадлежащие государственной власти в силу ее верховенства, не делаются гражданскими, если в отдельных случаях и будут переданы частным лицам, как, напр., право экспроприации, когда оно дается государством частным обществам, или право откупа, когда оно вручается частному лицу. 2) Так как область гражданского права есть область индивидуальной свободы, то по общему правилу частные лица могут по своему произволу приобретать эти права и отказываться от них. 3) Так как гражданские отношения имеют своим предметом личные, индивидуальные интересы, то гражданские права находятся в исключительном обладании управомоченного, если только последний сам не допустил к участию в них других лиц (стр. 410411). Взгляд Кавелина на имущественное содержание гражданского права и на его границы встретил научные возражения со стороны лица, которое менее всего может быть названо рутинером[62], г. Муромцева[63]. Против положения Кавелина, будто содержание гражданского права образовалось случайно благодаря рецепции некоторых частей римского права, г. Муромцев говорит следующее. <Гражданское право в теперешнем его виде вовсе не составилось только из тех частей права римских граждан, которые получили на Западе силу закона в средние века. Потому гражданское право вовсе не представляет той отрывочности, отсутствия цельности, на которые намекают слова автора. Римское право не оказало почти никакого влияния на семейственные и во многих местностях на наследственные отношения, а между тем семейственное и наследственное право включаются всецело в систему гражданского права. Сюда включаются институты, вовсе неизвестные римлянам, либо совершенно переделанные сравнительно с тем, как они существовали в Риме. Припомним современное гипотечное право, бумаги на предъявителя, передачу обязательств. Наконец, никто, вероятно, не откажется признать под отделами гражданского права право торговое и вексельное, хотя с ними не были знакомы римляне. Следовательно современное гражданское право вовсе не есть обломок римского права> (Крит. Обозр. N 18). Рассматривая возражения Кавелина против обычного определения гражданского права, как частного права в противоположность публичному, как область частной инициативы, г. ;Муромцев признает аргументацию Кавелина против обычной классификации права слабой и не выдерживающей критики. Затем он переходит к анализу определения, предлагаемого г. ;Кавелиным. По поводу исключения семейственных отношений из области гражданского права, г. Муромцев спрашивает, <куда девать семейственное право, куда отнести другие неимущественные отношения как древнего, так и современного гражданского права, коих немалое количество?> (Крит. Обозр. N 19). Действительно на этот вопрос, который Мейер не обошел молчанием, Кавелин ответа не дал. По поводу перенесения в гражданское право совершенно новых юридических отношений, составляющих до сих пор достояние иных отраслей права, г. ;Муромцев говорит. <Спрашивается далее, следует ли признать отделы <финансовое и полицейское право> уничтоженными или урезанными, вследствие перенесения в новый отдел, созданный автором, таких институтов, как обязательное страхование, пенсии, подати, налоги, поземельная подать, пошлины, акцизы, сословные, земские и другие повинности, все акционерное право, воинская повинность, конфискация и нек. др. Сам автор восхищается прочностью и стройностью зданий государственного, уголовного, полицейского, финансового права, задуманных и исполненных по новому плану, как говорит он, и сам же он нарушает безжалостно этот план своим предложением> (Крит. Обозр. N 19). Кавелин придавал особенно важное значение своей системе гражданского права за то, что в основе ее лежит один характерный признак - имущественное содержание отношения. <Между тем, - говорит г. Муромцев, имущественность юридических отношений, переводимость их на деньги вовсе не обладает особенной важностью. Собственно говоря, это не составляет юридического свойства. Это свойство экономическое>. Притом, по мнению г. Муромцева, обособление имущественных правоотношений не дает никаких научных результатов. <Много ли общего существует между теперешними гражданскими правами, столько нелюбимыми автором, и правом государства на подати, налоги или повинности? Мы думаем, что общие начала найдутся здесь только в той мере, в которой они касаются всего права. Но вряд ли окажутся важные юридические принципы, которые были бы свойственны имущественным правам в отличие от права прочих групп> (Крит. Обозр. N 19). Г. ;Муромцев, в противоположность Кавелину, неоднократно указывал обществу на возможность и необходимость защиты различных неимущественных отношений, которые принадлежат к гражданскому праву. Предложение Кавелина, его новый взгляд на науку гражданского права встретили замечание со стороны другого еще критика, г. Слонимского. Однако рецензия эта не заслуживает внимания, потому что в ней резкость замечаний прикрывает недостаток научных обоснований делаемых возражений. [61] Журн. Мин. Юст., 1867, т. XXXII, стр. 21. [62] Корсаков, Последние годы Кавелина, Вест. Евр., 1888, май, стр. 6. [63] Крит. Обозр., 1879, № 18 и 19, а также в книге, Опред и разд. права, 89. Кавелин не оставил без внимания ту и другую рецензию и поспешил дать ответы на выставленные возражения, которые, однако, не выходят за пределы прежних положений. Решение правительств в 1882 году приступить к созданию гражданского уложения и назначение с этой целью особой комиссии, составленной из лучших наших теоретиков и практиков, дало повод Кавелину с новой энергией выдвинуть свою излюбленную идею о содержании и границах гражданского права. В обширной статье под заглавием <Русское гражданское уложение>, помещенной в Журнале Гражданского и Уголовного Права (за 1882, N 8 и 9, за 1883, N 1 и 2), Кавелин дал новое развитие своим положениям, рассмотренным нами выше. На этот раз Кавелину пришлось выдержать полемику с г. ;Пахманом, который считал себя также обязанным подать свой голос в столь важном деле и прочел в петербургском юридическом обществе реферат под заглавием <К вопросу о предмете и системе русского гражданского уложения>, помещенный также в Журнале гражданского и Уголовного Права (за 1882, N 8). Оппонентом Пахману в заседании юридического общества снова выступил Кавелин. В дополнение и разъяснение своих взглядов г. ;Пахман поместил все в том же журнале еще статью <О значении личности в области гражданского права> (за 1883, N 1). Статья Кавелина делится на две части: в одной автор отстаивает свое положение о предмете и системе гражданского права, причем, ввиду сделанных упреков со стороны критики, дает систему права вообще. Во второй части, рассматривая отдельные постановления наших гражданских законов, предлагает те или другие желательные в них изменения. В противоположность системе права, в основание которой положено классическое разделение на публичное и частное право, Кавелин предлагает следующую схему (1882, N 8, стр. 26). ; Право общее. I. Законы определительные. А. Права имущественные. Б. Права личные. 1) Основные государственные законы. 2) Права состояния. 3) Законы административные (об управлении). II. Законы о судопроизводстве. III. Законы о наказаниях. Права местные. Права международные. ; Это разделение законов на три группы, определительные, процессуальные и уголовные, вытекает, по словам Кавелина, из следующих соображений. <Обязательное правило или закон, определяя организацию государственной власти и ее орудий, нормируя отношение подданных и жителей как между собой, так и к государственной власти и к ее органам, тем самым устанавливает права и обязанности, которые в случае сомнения и споров, разбираются, с целью установить, в каждом данном случае, их точный смысл и границы; в случае же нарушения, нарушенное право и законный порядок вещей восстанавливаются и каждый понуждается силой наказаний к исполнению своих обязанностей и к уважению чужих прав> (1882, N 8, стр. 18-19). Рассматривая ближе данную систему, мы заметим, что в основание ее положено различие имущественных и личных права. Группа Б, под общим именем прав личных, обнимает как законы, определяющие государственную организацию, так и законы о состояниях людей, начиная с союза семейственного и оканчивая составными, сельскими, городскими и земскими обществами, сюда входят законы об усыновлении, опеке. Таким образом, Кавелин указывает, куда следует отнести те отброски из гражданского права, которые возникают вследствие его операции. Такое же указание давал Мейер, но он сохранял общепринятую классификацию юридических наук и распределял личные правоотношения между каноническим и государственным правами. Между тем классификация Кавелина сама собой вызывает сомнение, неужели правило, определяющее порядок оглашения закона, должно войти в группу личных прав? Стараясь предупредить один упрек г. Муромцева, Кавелин оставляет без внимания другой, не замечая, что предлагаемой системой он в корне разрушает ту стройность всех прочих юридических наук, которой он же восхищается. Кроме вновь выдвинутой системы права и повторения прежних аргументов об имущественном содержании гражданского права, Кавелин рассматривает действующее законодательство и предлагает различные изменения его постановлений. В этой, ему свойственной сфере, Кавелин проявляет широкую точку зрения, какую можно было ожидать от социолога. Кавелин настаивает на устранении всех тех препятствий к браку, которые в основании своем имеют политические цели, не вытекающие из существа брака, вероисповедные, сословные, национальные, на ограничении препятствий к браку, вытекающих из родства, плотского и духовного, свойства, на облегчении способов расторжения браков, на допущении гражданской формы брака, на установлении связи между незаконнорожденными и семьей (1882, N 9, стр. 11-12). <Что касается личных отношений между членами семейства, то все юридические определения и всякие ограничения личных прав в семейном союзе должны быть безусловно вычеркнуты из закона, как стесняющие свободный рост семьи и падающие повод к злоупотреблениям>. Эта мысль, подробнее развитая им в <Очерке юридических отношений, возникающих из семейного союза> (стр. 71-78), вполне согласуется с воззрением другого русского юриста, совершенно противоположного по духу, г. ;Победоносцева (Курс, т. II, стр. 15). В сфере имущественных отношений семьи Кавелин предлагает устранить принцип индивидуальности и установить некоторую общность на имущество, приобретенное в большинстве случаев общими усилиями (1882, N 9, стр. ;7-9). Не менее радикальны его предположения в сфере наследственного права. Восставая против такого порядка, при котором наследство падает <как снег на голову> лиц, не имевших ничего общего с наследователем, Кавелин предлагает установить узкий круг родственников, наследующих в имуществе, за отсутствием которых наследство должно считаться выморочным (N 9, стр. 22), ограничить свободу завещаний (N 9, стр. 19), отменить ответственность наследника свыше ценности приобретаемого имущества (N 9, стр. 24), наконец, уничтожить потерявшее всякий смысл деление имуществ на родовые и благоприобретенные (N 9, стр. 14 и 19). Менее определительны и ясны предложения автора относительно вещного и обязательственного права, вероятно, потому, что здесь необходимо переменить социальную точку зрения на чисто юридическую. В заседании петербургского юридического общества, состоявшемся 30 октября 1882 года, г. Пахман, принявший самое деятельное участие в работах комиссии по составлению гражданского уложения, сделал доклад по вопросу о предмете и системе последнего[64]. В своем реферате г. Пахман отнесся критически к системам, принятым в западных кодексах, не исключая саксонского, и пришел к убеждению, что <вопросы о предмете и системе гражданского уложения могут быть разрешены удовлетворительно на основании тех указаний, какие содержатся в действующем нашем законодательстве и в истории нашей кодификации> (пол. I, а также 1882, N 8, стр. ;196, 1883, N 7, стр. 26). По вопросу об отношении гражданского права к торговому г. Пахман приходит к выводу о необходимости слияния этих двух областей частного права (1882, N 8, стр. 202204). Главный вопрос, на который было обращено внимание г. ;Пахмана, состоял в содержании гражданского права, и здесь г. ;Пахман является решительным противником Кавелина. <В состав гражданского уложения должно входить не одно имущественное, но и личное право, и притом не одно семейное, но общее право лиц, насколько им определяются или обусловливаются юридические отношения в частном быту> (пол. II). Из этого положения мы видим, что 1) ;г. ;Пахман также далеко отклоняется от общепринятого взгляда, как и Кавелин, только в совершенно противоположную сторону, 2) стоит на точке зрения различия права частного и публичного. Указывая на ошибочный пример английской литературы (1882, N 8, стр. 205), пренебрегший таким различием, г. Пахман отстаивает его необходимость теоретическую и практическую, причем полагает, что близость той и другой отрасли права, трудность разграничения их областей в некоторых отношениях не составляют препятствия, как явления, общие всем наукам (1882, N 8, стр. 207). В следующем заседании, посвященном обсуждению того же вопроса, Кавелин представил свои возражения против доклада г. ;Пахмана. С настойчивостью продолжает он отвергать слияние в одной отрасли правоведения прав личных и имущественных. <Что общего между личными отношениями членов семьи, личными правами и обязанностями, возникающими из усыновления, заботами о личности и воспитании малолетних, и имущественными правами, обязанностями и отношениями, возникающими из вещных прав, договоров и преступлений? Какими общими или однородными началами связаны установление и прекращение семейных отношений, приобщение лица постороннего к семейному союзу, установление и прекращение опеки и попечительства, порядок наследования по закону, порядок закрепления имуществ за тем и другим лицом - с теми имущественными отношениями, которые возникают из указанных факторов и явлений? Если г. ;Пахман объединяет их признаком частного интереса, и, стоя на точке зрения различия частного и публичного права, опровергает теоретическую и практическую пользу их смешения, то Кавелин со своей стороны требует указания ему этих границ, обоснования этого различия. <Современная система русского законодательства не имеет в своем основании никакого характерного признака, даже частного интереса, потому что из т. Х, ч. 1 исключены <тысячи юридических явлений и факторов, относящихся к приватным интересам>. Как пример, Кавелин указывает, что <права посессионных владельцев, права по площади, отводимые частным лицам для добывания золота и каменного угля, хотя и относятся к приватным интересам, однако излагаются в горном уставе>. <На каком основании, - спрашивает он, - не вошли в свод гражданских законов права владения сельских обществ, городов, церквей и монастырей, православных и иноверных, сословий, ведомств, учебных и благотворительных заведений и т.п.>, тогда когда здесь <подробно излагаются права на майораты, пожалованные в западных губерниях, права участия общего в пользовании сухопутными и водяными путями сообщения>. Кавелин упускает из виду, что возражения его относятся к ошибкам системы Свода Законов, а не имеют общего теоретического основания и менее всего уместны при обсуждении вопроса о системе будущего гражданского уложения. Г. Пахман не оставил без ответа возражений Кавелина и усилил свои доказательства в пользу различия гражданского права от публичного по характеру интереса, а также, как следствие, в пользу включения личных прав в систему уложения. На происхождение частного права, по мнению г. Пахмана, едва ли можно смотреть как на явление случайное, объяснять его римскими традициями. Различие частного права от публичного возникло впервые не у римлян, а является исторической необходимостью. <Выделение частного права, как оно понимается ныне, есть необходимое последствие появления жизни политической, государственной. Тут частное сводится уже не к безграничному господству, а лишь к обособлению своих интересов от интересов других людей, к индивидуализации частных сфер>. В так называемое доисторическое время подобного различия не могло существовать, только возникновение и развитие общественности могло установить подобное противоположение частного интереса общему. Такое раздвоение сфер быта - частной и публичной, не есть научное измышление, а коренится в природе общественной жизни, составляет явление первой важности в правовых отношениях, и потому наука, подметившая впервые это разграничение, совершила величайшее открытие в области права. Исходя из частного интереса, г. Пахман отстаивает соединение в системе гражданского права личных прав. <Каждому человеку, как человеку, свойственны интересы не только имущественные, но и личные, не только отдельная собственность, но и свой отдельный семейный союз и, прежде всего, личная неприкосновенность по отношению к другим отдельным же лицам. Поэтому прежде всего представляется странным мнение, что из области частного права должны быть выделены семейные отношения и перенесены в область права публичного. Ведь семья имеет свое основание не в политическом союзе, а непосредственно в потребностях человеческой природы и в стремлении человека к обособлению по отношению к третьим лицам. Притом в семье не одни личные, но и имущественные отношения, да без нее добрая половина наследственного права не имела бы смысла. Наконец, каждому известно, что семья и собственность, в области всех социальных теорий, представляются как бы нераздельными элементами той сферы быта, которая не имеет ничего общего или, по крайней мере, никакой непосредственной связи с областью государственного строя общества>. Но Пахман не ограничивается теми личными правами, которые вытекают из семейных отношений, он стремится ввести и те личные права, которые принадлежат индивидууму, как таковому, и охраняются уголовными законами (Rechte der Persönlichkeit, Individualrechte), т.е. права, определяющие свободу лица в отношениях к другим лицам. В статье <О значении личности в области гражданского права> г. Пахман приводит даже проект 7 статей о правах лиц (1883, N ;1, стр. ;22-26), но бессодержательность их лучше всего свидетельствует против необходимости введения в систему гражданского права этой категории личных прав. Возбуждением вопроса о содержании гражданского права Кавелин сделал для нашей науки несравненно более, чем догматической стороной своих трудов. Кроме уже известного нам сочинения <Права и обязанности по имуществам и обязательствам>, 1879 года, Кавелин выпустил еще две работы по догматике гражданского права, а именно <Очерк юридических отношений, возникающих из семейного союза>, 1884 и <Очерк юридических отношений, возникающих из наследования имущества>, 1885, напечатанные сначала в Журнале Гражданского и Уголовного Права. Если первое сочинение имело в виду представить осуществление идеи автора о предмете гражданского права и является попыткой оригинальной систематизации богатого законодательного материала, то в педагогическом отношении два последних очерка, при менее богатом материале и меньшей самостоятельности автора, составляют более полезное приобретение. Невозможно согласиться с мнением г. ;Муромцева, чтобы <книга Кавелина, по полноте содержания и обилию положенного в ней законодательного материала, составила драгоценное пособие при обучении и самообучении русскому гражданскому праву> (Крит. Обозр., 1879, N 18). <Права и обязанности> Кавелина не удовлетворяют вовсе педагогическим требованиям, потому что не обладают ни системой, ни образцами юридического толкования, богатство же материала, не приведенное в порядок, не оставит ни малейшего следа в памяти изучающего. В этом отношении <Очерки> стоят значительно выше и могут служить цели первоначального ознакомления с семейным и наследственным правом. С научной стороны они представляются слабыми потому, что носят компилятивный характер: вопросы римского права разрешаются по Муромцеву, русского гражданского права по Победоносцеву, канонического права - по Альбову. При этом заимствования производятся без достаточной проверки. Так, Кавелин по поводу обречения на безбрачие супруга, виновного в прелюбодеянии, говорит: <и в нашем законодательстве существовало такое ограничение, но оно отменено> и при этом делает ссылку на Победоносцева (Очерк сем. отн., стр. 28), между тем как последний уже во втором издании своего курса (1875) отказался от этого взгляда вследствие сделанных ему критикой возражений. В другом месте Кавелин указывает, что <по французскому праву супруги, которые расторгли свой брак по взаимному согласию, могут вступить в новый лишь спустя 3 года после того>, и снова ссылка на Победоносцева> (Очерк сем. отн., стр. 29), тогда как в указанном месте курса г. Победоносцева излагается история французского разводного права и приведенное правило относится к закону, действовавшему до 1816 года. Понятно, что такая несамостоятельность, отсутствие критики и знакомства с западными законодательствами, сохраняя педагогическое значение <Очерков>, сильно подрывают их научную ценность. Для характеристики догматического значения трудов Кавелина обратимся к особенностям его конструкций. Заметим прежде всего, что в своей брошюре <Что есть гражданское право и где его пределы> Кавелин восстал против общей части гражданского права, которая, по его мнению, приобрела не только педагогическое значение, но и стала необходимой составной частью самого гражданского права. <Что общая часть считается составной частью гражданского права - это всего лучше доказывается тем, что она нигде больше, кроме учебников гражданского права, и не излагается в такой подробности, следовательно служит в них не введением, не для сообщения необходимых предварительных сведений, а напротив сама предполагается во всех других отраслях правоведения, как уже известная из гражданского права> (стр. 114). Такое категорическое утверждение совершенно непонятно, так как каждому юристу известно, что в уголовном праве общая часть играет, если не большую, то во всяком случае не меньшую роль, чем в гражданском праве. Впрочем, протест против законности существования общей части гражданского права не удержал самого Кавелина от введения ее в <Права и обязанности по имуществам и обязательствам>. К особенностям конструкции Кавелина относится заслуживающее полного внимания введение рядом с семьей законной гражданской семьи, в которой недостаток родителей или детей восполняется искусственно (опекой, с одной стороны, и усыновлением - с другой). Подобное распределение этих институтов едва ли не правильнее общепринятого расположения. Но с большинством конструктивных приемов Кавелина нельзя согласиться. Бесполезно и неверно правоспособность и дееспособность называть юридической и фактической (?) способностью (Права и обязанности, стр. 7), причем допускаются выражения, что <в правах по наследованию женщины имеют меньшую правоспособность сравнительно с мужчинами (стр. ;11). Торговые товарищества Кавелин называет фирмами (стр. ;21). К юридическим лицам автор относит заповедные имения, майораты, фабрики, заводы, наследство (стр. 21). Странное разрешение вопроса о соотношении главной и принадлежностной вещи можно встретить у Кавелина. <Бывает, что одни реальные предметы соединены с другими непосредственно, и так тесно, что не могут быть от них отделены, без существенного изменения индивидуальных свойств того или другого, или обоих вместе. Такие предметы нераздельны. Если один из них меньше другого и не составляет его характерной особенности, то называется принадлежностью, а тот, с которым он соединен - главным предметом> (стр. 24). По определению Кавелина в перстне золотое кольцо будет главной вещью, а вставленный в него солитер принадлежностью. По аналогии с лицами, которые бывают физическими или юридическими, Кавелин предлагает все то, что не будучи реальным предметом, представляет материальную ценность, называть <юридическими предметами> (стр. 31). Определяя право собственности как <закрепление за одним лицом, или несколькими лицами, всех отношений к вещи, которым придается юридическое значение> (стр. 71), Кавелин полагает, будто <в юридическом отношении оно выработано весьма тщательно и последовательно и не вызывает никаких недоразумений> (стр. 71), между тем как данное им определение страдает отсутствием всякой определенности. <Лица, которые имеют общую собственность, составляют, в отношении к посторонним, одно юридическое лицо> (стр. 73). Это совершенно новое воззрение, заключающее в себе внутреннее противоречие, служит лишним доказательством возможности <недоразумений> в учении о собственности. К особенностям терминологии Кавелина следует отнести то, что он вещные права называет имущественными (брош., стр. 5 и др., Права и обязанности, стр. 63). В результате получается следующее странно звучащее положение: <наем имуществ сам по себе не устанавливает имущественных прав на нанятое имущество> (стр. 103). Кавелин считает суд представителем прав и обязанностей сторон, <все принимаемые им меры к обеспечению прав и интересов трудящихся, поставляемое им решение и способы принудительного исполнения, должны быть рассматриваемы как действия, меры и распоряжения самих лиц> (стр. 120). Вполне оригинальное воззрение, которое едва ли когда-нибудь найдет последователей. Встречаются у Кавелина и явные ошибки. Так, напр., он утверждает, что <закон устанавливает правила для выдачи видов и паспортов женам отдельно от мужей, с согласия мужа> (Очерк сем. отн., стр. 59), но ссылки на закон (несуществующий) не делает. Кавелин говорит, что в России действуют правила о поводах к разводу протестантов те же, что и на Западе (Очерк сем. отн., стр. 69), между тем как сам, несколькими страницами раньше (стр. 65) указал на разнообразие постановлений по этому вопросу германских законодательств. [64] Протоколы этого и последующих заседаний в Журн. Гражд. и Угол. Права за 1884, № 7. Все эти чисто юридические недостатки догматических работ Кавелина до некоторой степени покрываются философскими достоинствами их, попыткой философски объяснить происхождение института, указать его современное социальное значение и наметить тот путь, по которому должно идти его дальнейшее развитие. Этим характером отличаются его рассуждения о брачном союзе (Очерк сем. отн., стр. ;71-78), о личных и имущественных отношениях между родителями и детьми (стр. ;101-105), о значении родства в вопросе о наследовании (Очерк сем. отн., стр. ;161), о характере современного наследования (Право наследования, стр. 7383), о значении наследования в древнем быту (стр. 3). Среди русских цивилистов весьма почтенное место занимает Семен Викентьевич Пахман, бывший профессор казанского, потом харьковского и, наконец, петербургского университета, а в настоящее время сенатор. Обладая прекрасной техникой цивилиста, как это можно судить особенно по его литографированным лекциям, имеющим большое распространение и до сих пор не появляющимся, к сожалению, в печати, - г. Пахман в своей литературной деятельности обращал внимание не столько на систематическую разработку действующего права, сколько на его реформу. На первых ступенях научной карьеры г. Пахман, как мы уже видели, отдал дань исторической школе, но затем все его внимание было обращено на законодательную политику. В половине семидесятых годов появляются два самых крупных его сочинения, <История кодификации гражданского права> и <Обычное гражданское право России>, имеющие в виду облегчение задачи русской кодификации, о которой вопрос был поднят еще в шестидесятых годах. Лишь только вопрос о составлении гражданского уложения получил новый толчок в 1882 году, как г. Пахман снова воспрянул, и, назначенный в комиссию, явился одним из наиболее энергичных и деятельных ее членов. Кроме того, он считал своей обязанностью изложить перед обществом свои взгляды на задачу кодификации, преимущественно по вопросу о системе, впрочем более с технической, чем с идейной стороны, и поддерживал свои воззрения в рефератах юридического общества. Не последнюю роль играет он в качестве члена кассационного гражданского департамента, и здесь его склонность к законодательной политике нашла себе применение благодаря тому значению, какое придает сенат своим решениям. Первое из двух указанных сочинений, История кодификации гражданских законов, появилась в 1876 году, заняв два обширных тома. Первый том содержит в себе обзор кодификации римского и западных государств, куда отнесены и все славянские народы, а затем в большей своей части посвящен кодификации русского права до 1826 года. Во втором томе находим историю кодификации русского права с 1826 года, а также местных прав России, остзейских, царства Польского, черниговской и полтавской губерний, Бассарабии, Кавказа, Сибири, Финляндии. Кодификации русского права до XVIII века автор уделяет очень мало внимания, напротив, кодификационным попыткам прошлого столетия отводит около 150 страниц. Изложение касается только внешней истории, т.е. времени появления и обзора содержания законодательных источников. Второй том, который предназначен к истории кодификации русского права с 1826 года до последнего времени, заключает в себе подробное перечисление содержания частей Свода, имеющих отношение к гражданскому праву, причем автор не входит в область догматики, а ограничивается указанием содержания статьи и кратким перечислением источников, из которых она образовалась. Задача, которую преследовал г. Пахман, издавая свою Историю кодификации, была двоякая: законодательная и педагогическая. <Пересмотр гражданских законов составляет одну из самых настоятельных потребностей нашего юридического быта. Она сознана и нашим правительством. Но многочисленные опыты не только иностранной, но и нашей кодификации убеждают, что для составления уложения крайне необходимо близкое ознакомление с предшествующими работами по этой части. Содействовать, по крайней мере отчасти, этому ознакомлению - такова ближайшая цель настоящей книги>. <При изложении же самого содержания различных кодексов я имел в виду и другую цель - облегчить предварительное учебное ознакомление с источниками законодательства, так как для обстоятельного их обзора рамки курса гражданского права, которому он должен предшествовать, были узки> (предисловие). Характер своего произведения сам автор определяет следующими словами. <По существу настоящего труда, в нем не могло найти места исследование самих начал, содержащихся в тех или других кодексах, так как это уже задача систематического курса гражданского права; при этом и сама критика кодификационных трудов сходилась в настоящей книге преимущественно к указанию одних внешних достоинств и недостатков того или другого кодекса> (предисловие). Сочинению г. Пахмана суждено было произвести необыкновенную и трудно объяснимую сенсацию в литературном мире. Вскоре после выхода в свет истории кодификации газеты <Голос>, <С.-Петербургские Ведомости>, <Биржевые Ведомости>, не имеющие, казалось бы, никакого отношения к специальному юридическому вопросу, отнеслись с чрезмерной похвалой к труду г. Пахмана. Находили, что сочинение это не имеет ничего себе подобного даже в западной литературе, что оно представляет <замечательную критическую монографию о составлении и содержании права остзейского>, что ему предстоит огромное значение в теоретической и практической области. <Судебный Вестник> (рец. Е. ;Кор-ша) признал сочинение г. Пахмана <капитальным трудом ученого, преследующим общенаучные цели>. Однако серьезные и знающие критики отнеслись несколько более сдержанно, а некоторые, под влиянием чувства реакции, с чрезмерной строгостью. Суровый разбор встретило сочинение г. Пахмана со стороны профессора Сергеевича. Рассматривая двойную цель, преследовавшуюся автором, законодательную и педагогическую, г. Сергеевич замечает следующее. <Такая двойственность цели представляет совершенно невозможную попытку соединить две несоединимые вещи. Г. Пах-ман предназначает свою книгу вместе и для наших кодификаторов и для юношества, которому еще нужно учебное ознакомление с источниками законодательства, долженствующее, по его мнению, предшествовать курсу гражданского права. Лица же, призывающиеся к пересмотру законов, предполагается, знают не только содержание кодексов и гражданское право, как науку, но и нечто большее: они знают условия, в которых находится государство, и следовательно могут делать от этих условий заключения к тому направлению, какое надо дать законодательству в известное время. Им нужно, конечно, не то, что учащемуся: как же написать книгу полезную и тем и другим? Думаем, что автор поступил бы гораздо лучше, если бы написал две разных книги: одну для пользы наших кодификаторов, а другую - для руководства студентов младших курсов>. Педагогическая цель несовместима, по мнению г. Сергеевича, с таким огромным объемом сочинения, иначе пришлось бы учредить новую кафедру для обзора содержания кодексов (Вест. Евр., 1876, т. VI, стр. 457-458). Профессор Сергеевич разошелся с г. Пахманом в понимании самой задачи кодификации, которая, по его мнению, состоит в проверке положений свода по источникам. <Важность такой работы как с научно-исторической точки зрения, так и с законодательной, ввиду давно ожидаемого пересмотра свода, совершенно очевидна. Но задача эта не легкая. Она требует от историка кодификации несравненно большого знакомства с источниками, чем то, каким обладали редакторы свода. Для решения ее мало проверить их работу по тем ссылкам, которые они сами приводят. Надо знать и то, что, благодаря кодификации, давно уже умерло. Эта трудность дела и объясняет тот факт, что мы до сих пор не имеем истории кодификации> (Вестн. Евр., стр. 457). <История кодификации, - говорит критик, - должна разъяснить отношение свода к тому праву, которое действовало в момент кодификации. Для этого она должна начать свою работу с издания 1832 г., на которое, вне всякого сомнения, выпала гораздо более трудная задача, чем на все последующие. Она должна указать, все ли действующее право введено в свод, правильно ли оно формулировано, как примирены противоречия в направлении наших законодателей, ибо с царя Алексея Михайловича до императора Николая направление это часто менялось, статьи же Свода имеют под собой ссылки на указы, проникнутые совершенно разным духом; наконец, история кодификации должна показать, не внесено ли чего нового, в источниках не заключающегося. Закончив эту работу по отношению к первому изданию, надо было перейти ко 2-му и показать, правильно ли внесены новые законы, хорошо ли они согласованы со старыми или обогатили Свод новыми противоречиями. Наконец, та же работа должна быть сделана и для 3-го издания> (Вест. Евр., стр. 462). С этой точки зрения сочинение г. Пахмана не удовлетворяет г. Сергеевича, потому что автор не проверяет текста закона по его источникам, а только передает содержание и перечисляет источники. Отвергнув всякую научную ценность в изложении г. Пахманом содержания Свода, г. Сергеевич указывает, что те сравнительно немногие страницы, которые посвящены описанию состава разных законодательных комиссий и внешнего хода их работ, могли бы иметь научное значение, если бы принадлежали перу г. Пахмана, <но, к сожалению, они написаны не автором>, <лично автору принадлежат только ошибки, свидетельствующие о крайней небрежности, с которой эти выписки делались> (стр. 463). Проф. Сергеевич упрекает г. Пахмана в неправильном усвоении установленного Калачовым деления списков Русской Правды, в неосновательном приписывании Розенкампфу мнения о предназначении Правды для святительского суда (стр. 464), в произвольном делении судебников на статьи, принятом Будановым для педагогических целей (стр. 466). Кроме этих литературных недосмотров, г. Сергеевич упрекает автора в несистематичности выписок, делаемых из источников, на допускаемые неточности, так что <на выписки у г. Пахмана положиться нельзя> (стр. 472). В противоположность другим рецензентам, признававшим особенную ценность за обзором кодификации в остзейском крае, г. Сергеевич доказывает, что весь этот обзор не принадлежит г. Пахману, а выписан из одного официального издания II ;отделения (стр. 476). Другой критик, Калачов, упрекал г. Пахмана за то, что он ограничился перечислением кодексов и кратким описанием их содержания, а не коснулся внутренней стороны законодательного творчества, мотивов, которые двигали законодателя, и условий его деятельности. <Пояснение взглядов, приемов и расположения статей закона, какими руководствовались кодификаторы даже и наиболее отдаленных от нас времен и стран, тем более современных нам государств и в ближайшие к нам эпохи, особенно же в нашем отечестве, в высшей степени назидательно для предстоящей нам кодификации гражданских законов ввиду уложения> (Сборник госуд. знаний, 1877, т. III, стр. 36). Критик находит, что <остается, следовательно, одна ценная в наших глазах заслуга автора - изложение данных, заключающихся как в известных нам кодексах с древнейших времен, так и в поясняющих издание их материалах>. Поэтому, по мнению Калачова, <при невозможности удовлетворительной разработки каждой части взятого на себя автором обозрения, он напрасно не придал ему гораздо более скромного заглавия, как напр., <Материалы для истории кодификации гражданского права> (стр. 38). Критика г. Сергеевича вызвала защиту Пахмана со стороны г. ;Платонова в статье, помещенной в Журнале Гражданского и Уголовного Права (за 1877, кн. 6), в которой автор выставляет задачу г. ;Пахмана в другом свете, относит его работу к внешней истории права, как части последней. Эта защита вызвала в свою очередь ответ со стороны профессоров Горчакова и Сегеевича в Русской Старине (1877, т. XVIII, N 3). Крестьянская реформа 19 февраля 1861 года возбудила интерес к быту и праву этой громадной части русского народа. Масса людей, живших до сих пор в кругу отношений, самостоятельно и своеобразно сложившихся, переходя в число граждан русского государства, потребовала внимания к себе со стороны науки. Этот еще вовсе неизвестный мир отношений сделали предметом своих исследований некоторые юристы, предупрежденные в этом отношении со стороны этнографов. К изучению народного обычного права обратились Якушкин, в своем сочинении <Обычное право>, 1875 (материалы для библиографов), Оршанский в статьей <Народный суд и народное право>, 1875, Смирнов в <Очерках семейных отношений по обычному праву>, 1877, Метла в статье <Обычай и закон как формы права>, Чижов в статье того же названия, Богишич в своем исследовании <Обычное право древних славян>, перев. 1876-1877, Ефименко в заметках об обычном праве, 1876-1878, Матвеев в <Сборнике народных обычаев>, 1878, Самоквасов в <Сборнике обычного права сибирских инородцев>, 1878, Кристяковский, Загоскин, Муллов, Леонтович, Карасевич. Этому же вопросу посвятил и г. ;Пахман свой труд, в результате которого получилось большое двухтомное сочинение <Обычное гражданское право в России>, 1877-1879 года. Работа ученых по исследованию обычного права до некоторой степени облегчилась благодаря <Трудам комиссии по преобразованию волостных судов>, 1873-1874, доставившей обширный практический материал. В этом сочинении г. Пахман преследует те же две цели, что и в первом произведении, законодательную и педагогическую. <Известно, ;- говорит он, - что громадное большинство нашего населения руководится в сфере частных гражданских отношений, не писанным законом, а правилами, слагавшимися путем обычая и во многом несогласованными с началами законодательства. Сам закон признал за этими правилами силу действующих юридических норм, предоставив ближайшим к массе населения органам юстиции разрешать спорные дела на основании местных юридических обычаев. Этим, очевидно, предуказан и путь, по которому должна будет идти дальнейшая кодификация гражданского права. Она не может уже игнорировать те обычные юридические начала, которые существуют и соблюдаются в самой жизни обширного населения страны>. Вместе с тем независимо от вопроса о кодификации г. ;Пахман полагает, что обычные начала юридического быта должны входить и в саму науку гражданского права (предисл. к т. I). Автор находит, что возможность исследования обычного права открылась только благодаря трудам комиссии, ознакомившим общество с практикой волостных судов. Ввиду той трудности, с которой <приходилось из громадной массы решений, изложенных большей частью в форме своеобразной, извлекать те начала, которые можно было признать юридическими и затем уже приводить их, по возможности, в стройную систему>, г. Пахман предлагает смотреть на его труд, как на первую попытку систематического изложения начал нашего обычного права, совершенную притом под непосредственным давлением массы сырого материала. Систематизация материала, делаемая г. ;Пахманом, состоит в распределении его по отделам, принятым для изложения гражданского права. То есть за вещным и обязательственным правом следуют семейственное и наследственное, - недостает только общей части. В пределах каждого из указанных отделов автор продолжает держаться установленных рубрик, так, напр., брачное право излагается по следующим вопросам: общий характер брачного союза, условия вступления в брак, возраст, родство, согласие брачующихся и родителей, форма заключения брака, предбрачные условия, личные и имущественные отношения супругов, прекращение брачного союза. Сочинение г. Пахмана представляет собой громадный труд, требовавший от автора кропотливости и большого терпения. Автор разобрал громадный материал и облегчил задачу пользования им для будущих исследователей, которым остается только поверять ссылки по интересующим их вопросам. Не касаясь правильности обобщений и выводов автора по отдельным вопросам, нельзя не обратить внимания на ошибочность основной точки зрения, лежащей в идее сочинения. Г. Пахман сделал попытку уложить все обычное русское право в рамки системы, выработанной на почве римского права. <Мы полагаем, - говорит один из рецензентов г. ;Муллов, - что труд этот имеет двойственную ценность: с одной стороны, мы должны быть в высокой степени благодарны ему за обработку огромного материала, требовавшую усиленного труда, сложных соображений, обширных знаний и особой любви к этой именно области права; с другой стороны, за научную систематическую разработку нашего обычного права> (Журн. Гр. и Уг. Права, 1877, N 4, стр. 184). В последнем отношении критик ставит труд автора выше, чем в первом, упуская из виду, что система эта общепринятая и что труд г. Пахмана заключался в распределении нового материала в ее рубрики. Между тем, сама мысль эта подлежит сомнению со стороны ее научной верности. В современных гражданских обществах обычное право дополняет закон, а потому систематическое изложение его возможно только совместно с законодательным материалом, но не отдельно, как это делает г. ;Пахман, который поневоле принужден или делать ссылки на законы или дополнять пробелы изложения соображениями не юридического характера, напр., по вопросу о возрасте брачующихся замечания его носят не юридический, а бытовой, этический характер. По многим вопросам обычное право не выработало ответов или же нашло себе место в приведенных комиссией решениях, между тем система не допускает пропусков. Далее, как бы ни был громаден материал, добытый комиссией, все же он представляется чрезвычайно незначительным при огромном населении и обширной территории России. Между тем, г. Пахман излагает в системе обычное право всего русского народа. Естественно, что по многим вопросам сделанные им выводы должны быть признаны преждевременными и несоответствующими действительности, во всяком случае, они требуют проверки по новым данным. Возможность систематического изложения русского обычного права тем более сомнительна, что не существует общих обычаев, а есть только местные. Географические, этнографические и исторические условия разъединили население русского государства, установили различие в культуре, правах и, конечно, юридических воззрениях. Этим именно обстоятельством объясняется трудность задачи русского кодификатора, если только он не захочет насильственно навязывать населению той или другой местности законы, противоречащие его быту и всему складу мировоззрения. Если бы существовали общие для всей России обычаи, то законодателю легко было бы издать гражданское уложение. Что же представляет сочинение г. ;Пахмана при таком разнообразии юридических обычаев? Одно или два решения лежат в основании сделанного обобщения, общего правила, а тут же следует целый ряд исключений, основанных на многочисленных решениях. Почему мы в первом случае имеем дело с общим правилом, а во втором - с исключением? Невольно закрадывается подозрение, не случайность ли дала два или три решения в пользу одного положения и только одно в пользу исключения? Может быть другие исследователи, другие местности изменили бы совершенно в обратную сторону это соотношение? Наконец, нельзя не упрекнуть автора, как это сделал г. ;Филлиппов (Крит. Обозр., 1879, N 23), в совершенном игнорировании исторического элемента в обычном праве. Многие положения современного обычного права могут быть сопоставлены и объяснены при сравнении с историей русского гражданского права, между тем г. ;Пахман упускает из внимания это обстоятельство. Во всяком случае, своим сочинением г. Пахман обнаружил настолько тонкое понимание требований времени, такую громадную усидчивость, что невольно заставляет пожалеть петербургский университет, забаллотировавший его после 30-летней службы и лишившийся опытного преподавателя. <Мы считаем появление этой книги, - замечает г. Матвеев, - не лишенным значения признаком времени, указывающим на настоятельную необходимость более серьезного отношения к народному юридическому быту, конечно, заслуживающему внимательного и разностороннего изучения> (Сборн. Госуд. Знаний, 1878, т. VI, стр. 84). Ввиду такого означения, совпадения предмета сочинения с интересовавшими все общество вопросами о крестьянском быте, произведение г. ;Пахмана обратило на себя внимания журналов и было награждено премией гр. Сперанского. Сочинение г. Пахмана подверглось подробному разбору такого знатока обычного права, как г. Малышев. В <Отзыве о сочинении г. ;Пахмана <Обычное гражданское право в России>, 1879 г., г. Малышев признает это произведение ценным вкладом в русскую литературу, потому что <оно не только раскрывает с полной ясностью богатое содержание того сборника волостной судебной практики, которым русское общество обязано трудам комиссии по преобразованию этих трудов, но, вместе с тем, указывает и дальнейший путь, коим должно следовать к изучению обычного права России> (стр. 51). Вместе с тем, однако, г. ;Малышев делает целый ряд упреков г. Пахману. Прежде всего недостатком в труде последнего критик считает ограничение обычного материала данными волостных судов, игнорирование обычаев, установившихся в купеческой среде и выразившихся в решениях коммерческих судов (стр. 8); поэтому г. Малышев полагает, что сочинение следовало бы озаглавить <Обычное крестьянское право в России> (стр. 3). В частности, к недостаткам сочинения г. Малышев относит неодинаковость обработки и полноты (стр. 12), отсутствие научных подтверждений в отношении некоторых существенных вопросов (стр. 13), недосмотры, в которых выражается недостаток критического отношения к источникам (стр. 15), отсутствие критической оценки материалов с точки зрения законности или противозаконности, правомерности и разумности (стр. ;16). Совершенно иначе смотрел на разработку обычного права талантливый русский юрист, так рано умерший, Оршанский. В своей обширной статье <Народный суд и народное право> (Журн. Гражд. и Угол. Права, 1875, N 3, 4 и 5), посвященной главным образом защите волостного суда и народных обычаев, он стремится <по возможности сравнить нормы русского обычного права с постановлениями нашего официального права и данными судебной практики, с одной стороны, а с другой стороны - с обычным и писанным правом других народов. Только путем таких сравнительных исследований возможно усвоить себе правильное воззрение на достоинства и недостатки обычного нашего права как целой системы правового быта. Только широкое сравнительно историческое изучение обычного права в связи с правильным пониманием экономических и социальных условий современного народного быта можно рассматривать как серьезный шаг к разрешению вопроса о народном суде и народном праве> (стр. ;101-102). Благодаря различию в приемах Оршанский по многим вопросам приходит к выводам, противоположным тем, которые сделаны были г. Пахманом, так, напр., последний утверждал, что в основании наследования у крестьян лежит родственная связь, а по мнению Оршанского таким основанием служит личный труд и степень участия в создании хозяйственного имущества. Оршанский неоднократно указывает на партикуляризм обычного права в России и потому строго воздерживается от обобщений и установления правоположений для всей территории. Глава IV Эпоха, наступившая после введения судебной реформы оживила деятельность университетской науки, вызвала много ученых сил, приложивших свой труд к догматической обработке русского гражданского права. За это время мы почти вовсе не встречаем историко-юридических трудов, все монографии имеют своим предметом догматику русского законодательства. Если история права и затрагивается, то лишь настолько, насколько это необходимо для уяснения действующего права. Все эти монографии мы рассмотрим в обычной системе гражданского права, но предварительно остановим наше внимание на попытках дать полное систематическое изложение гражданского права. К сожалению, эти попытки не достигали конца - мы имеем только начала нескольких курсов, остановившихся на одном введении и не затронувших еще ни одного отдела особенной части гражданского права, так что Мейер и Победоносцев остаются до сих пор единственными средствами ознакомления с системой гражданского права. Это обстоятельство обусловливается, очевидно, трудностью задачи, падающей на составителя курса. В самом деле, кому не известно, сколько затруднений представляет почти каждая статья нашего гражданского законодательства, как только начинаешь уяснять себе ближе ее значение, смысл и отношение к другим статьям, сколько вопросов возбуждается при исследовании ее исторического происхождения. Составителю курса приходится самостоятельно разрабатывать гражданское право во всем его объеме с догматической и исторической стороны, потому что только по немногим вопросам он может найти готовые ответы у предшественников. Кроме того, догматик не может пренебрегать тем материалом, который доставляется кассационной практикой, потому что он должен знать, как законы применяются в действительности, чем восполняет практика пробелы законодательства и какое направление принимает творческая деятельность русских судов. Между тем, материал судебной практики представляет массу, постепенно нарастающую в кассационных решениях и содержащуюся в 3-х с лишним десятках томов, а кроме того, судебная практика находит себе выражение и в других еще источниках. Наконец, следует заметить, что как бы ни был юрист вооружен знанием действующего законодательства, обычного права, истории - он не удовлетворит русскую юридическую литературу, если даст ей, по примеру французских юристов, только комментарии на ч. 1 т. Х. От него потребуют строгой системы и теоретической конструкции институтов, что может быть достигнуто только при помощи основательного знакомства с громадной немецкой литературой. Вот причины, по которым, как нам кажется, начатые Борзенко, Цитовичем, Малышевым, Дювернуа курсы гражданского права не имеют и едва ли дождутся конца. Первый опыт по составлению курса гражданского права сделал доцент демидовского лицея, а теперь присяжный поверенный, Борзенко. В русской юридической литературе г. Борзенко известен, как автор весьма слабой, с точки зрения цивилистики, работы <Гражданские ограничения железнодорожных предприятий>, 1881, продолжением которой служит <Концессия железнодорожного права>, 1883. В этом сочинении, представленном для получения степени магистра гражданского права, нельзя найти следов гражданского права, книга наполнена массой материала, взятого из западного железнодорожного права, с приведением подлинников на нескольких страницах. В противоположность г. Гольцеву, признавшему, что <труд г. Борзенко является весьма кстати и будет полезен и для юристов и для экономистов> (Юрид. Вестн., 1881, N 12, стр. ;715), г. Малышев нашел в нем <недостаточное изучение источников и литературы предмета> (Журн. Гражд. и Угол. Права, 1882, N 1, стр. 205), <неумение автора усвоить себе и те немногие источники, которые были у него под руками, недостаток внимательности, многочисленные искажения ясного смысла законов и произвольные выводы из данных материалов (стр. 207). Кроме того, во Временнике Демидовского Юридического Лицея, за 1881, т. XXVI, помещена статья г. Борзенко <Личность, общественность, собственность>, которая, по словам самого автора, не была принята ни одним журналом. Бессодержательность статьи вполне объясняет отношение к ней со стороны редакции. Автор подобных произведений решился выпустить в свет <Русское гражданское право>, 1875, которого вышло только введение. Все это сочинение представляет собой сплошное недоразумение, выдается необыкновенной беспорядочностью изложения, массой совершенно ненужных цитат, отсутствием собственной мысли и полной неопределенностью основных понятий. По прочтении введения, которое посвящено определению понятия гражданского права, системе институтов гражданского права, источников права, у читателя не остается ни малейшего представления обо всех этих вопросах. Вторую попытку систематического изложения гражданского права проявил Петр Павлович Цитович, бывший профессор харьковского, одесского, киевского университетов, выступавший одно время на поприще публицистики и сосредоточивший в последнее время свое внимание на торговом праве. Кроме рассмотренной нами уже магистерской работы, которой он отдал дань историческому направлению, г. ;Цитович издал еще <Деньги в области гражданского права>, небольшое сочинение, не имеющее особенного научного значения. Г. ;Цитович несомненно талантливый юрист, но, к сожалению, не отличается научной выдержкой, а обнаруживает нервность в работе, имеющую своим последствием чрезвычайную неустойчивость его научных взглядов. В его сочинениях проявляется стремление к оригинальным во что бы то ни стало выводам. Слог у него неровный, отрывочный, повторяющийся, но в то же время живой, остроумный. В 1878 году он выпустил в свет <Курс русского гражданского права>, т. I, причем ограничился только общей частью и из последней изложил лишь учение об источниках права. Мы не будем рассматривать детального учения о законе, принадлежавшего более к энциклопедии права, чем к гражданскому праву, но остановимся на оригинальном определении гражданского права, которое дает нам г. Цитович на первых страницах своего курса. Еще в 1866 ;году он перевел этюды Данкварта <Гражданское право и общественная экономия>, в чем выразилось его сочувствие экономическому направлению в юриспруденции. В курсе такой взгляд обнаружился уже вполне ясно. Г. Цитович не удовлетворяется общепринятым понятием о гражданском праве, которое выставлено было еще Ульпианом и которое определяет эту науку, как учение о взаимных частноправовых отношениях граждан. Против такого воззрения он делает два возражения: а) под действием гражданского права данного государства находятся иностранцы, а не одни только подданные, граждане, b) под действием гражданского права находятся не только частные лица, но и так называемые лица юридические и во главе их государство> (стр. 2). Еще более слабое возражение делает проф. Цитович против взгляда Мейера и Кавелина на имущественное содержание гражданского права, - <мы не занимаемся гражданским правом будущего, но в современном гражданском праве, как оно выразилось в 1 ч. нашего Х т. и в европейских кодексах, семейные отношения, наравне с отношениями имущественными, покрыты печатью права и поставлены под судебную охрану> (стр. 3). Не соглашаясь с указанными воззрениями, автор совершенно неожиданного предлагает следующее определение гражданского права (стр. 5): <оно есть совокупность постановлений, велений положительного права, дающих порядок и формы экономическому распределению в данное время у данного народа, короче - гражданское право есть право распределения (Verkehrsrecht)>. Заметим неправильность употребления последнего термина: Verkehrsrecht - это оборот, право обмена, а не распределения. По мнению г. Цитовича, <три главных вопроса предлежат решению со стороны положительного права: а) между кем и для чего происходит распределение, b) что распределяется, с) по каким поводам и в каких формах? На первый вопрос гражданское право отвечает рядом постановлений о субъектах и целях, между которыми и для которых происходит распределение. Ответ на второй вопрос вызывает ряд постановлений об объектах, предметах распределения. Ответ на третий вопрос - ряд постановлений о способах приобретения ценностей> (стр. 5). Очевидно, что для автора не выяснилось в достаточной степени экономическое различие между понятиями об обмене и распределении, очевидно, что во всех этих вопросах, речь идет именно об обмене. Как может наука гражданского права ответить на вопрос, между кем и для чего происходит распределение, как выяснит она отношение между представителями труда, капитала и земли? Неужели учение о способах приобретения прав по имуществу составляет ответ на вопрос, по каким основаниям происходит распределение? Принимая исходную точку зрения г. Цитовича, естественно прийти к заключению, что семейные отношения должны быть исключены из области гражданского права. <Нисколько, - отвечает автор. - Во-первых, эти отношения примыкают к распределению в том смысле, что они дают особые поводы, из которых происходит распределение: важнейший из таких поводов есть наследование по закону. Во-вторых, наиболее частый деятель и субъект распределения, лицо, является в той или иной обстановке, не безразличной для права, смотря по тому, каково его семейное положение, которое не безразлично для него, как его право состояния. В-третьих, собственно экономическое распределение не действует внутри семьи: здесь происходит свое распределение, в основании которого лежит начало нравственного единства и семейного наряда> (стр. ;6). Ясно, что приведенные объяснения говорят очень мало в пользу включения семейных отношений в область гражданского права, регулирующего, по мнению г. Цитовича, распределение ценностей в обществе. Благодаря особенной склонности русского общества к экономическим наукам, взгляд проф. Цитовича не остался одиноким. В пользу его высказались еще г. Слонимский и известный экономист Зибер. Тот и другой, однако, давая чувствовать несомненную, близкую связь между гражданским правом и политической экономией, не сумели выяснить, в чем должно состоять отношение между экономическим содержанием и юридической формой. В статье <Новая юриспруденция>, посвященной собственно критике книге Кавелина, г. Слонимский высказывает следующую мысль. <Теория гражданского права без политико-экономических основ - это здание без фундамента, постройка без почвы, система понятий без положительного содержания. Нельзя устанавливать нормы для явлений, которых действительная природа не определена и не исследована предварительно; невозможно обобщать понятия без изучения соответствующих им факторов. Понятия могут быть неправильны и односторонни; и определяемые по ним юридические нормы могут быть слишком широки или слишком узки для фактических условий данного института. Умозрительная юридическая метафизика должна уступить место трезвой экономической науке: таково должно быть, по нашему мнению, новое направление теоретической юриспруденции> (Слово, 1879, июль, стр. 117). Другой статьей, <Правоведение и политическая экономия>, Г. ;Слонимский заключает заявлением, что <юристы должны быть в то же время экономистами и правоведение должно слиться воедино с политической экономией> (Слово, 1879, октябрь, стр. ;83). Таким образом, дело идет не о перестройке устаревшего здания юриспруденции, а о полном разрушении и переселении его обитателей в здание политической экономии, как науки трезвой. Однако сам г. Слонимский принужден сознаться, что и эта наука заражена метафизическим духом. <Не следует думать, что для юристов обязательны различные теории политической экономии. Такое требование могло бы быть справедливо отвергнуто указанием на шаткость, неустановленность и противоречивость существующих экономических учений. Нынешняя политическая экономия также сильно заражена схоластикой и потому сама по себе не может служить достойным подражания образцом для правоведения. Для юриспруденции важны не те или другие теории экономистов, а важна и обязательна экономическая точка зрения вообще> (Слово, 1879, октябрь, стр. 82). Очевидно, трезвость политической экономии оказывается мнимой и правоведение ничего не выигрывает от слияния с политической экономией, зараженной тем же схоластическим духом. В словах г. ;Слонимского нельзя не видеть противоречия: если правоведение должно слиться воедино с политической экономией, тогда для него не могут не быть обязательными экономические теории, если же они остаются чужды ему, если дело идет только об экономической точке зрения, то значит правоведение сохраняет свою самостоятельность и тогда категорическое положение г. Слонимского неверно. Если правоведение не должно сливаться с политической экономией, то весь вопрос в том и заключается, чтобы выяснить, каким образом положить экономическую точку зрения в основу правоведения. Но этого именно г. Слонимский не разрешает. Также мало удалось выяснить это соотношение и указать правильную постановку юриспруденции на экономических началах почтенному русскому экономисту, Зиберу, в его статье <Мысли об отношении между общественной экономией и правом> (Слово, 1879, N 2, 1880, N 6). Значительную часть своей статьи Зибер наполняет статистическими данными, доказывающими, насколько современный экономический порядок удалился от прежнего. Затем достаточное число страниц он посвящает разъяснению и доказательству той общей, как он сам выражается, истины, что экономия должна давать содержание праву, что последнее относится к первой, как форма к материалу. Автор приводит целый ряд писателей, в большей или меньшей степени признающих тесную связь между этими двумя проявлениями общественной жизни. В результате такого литературного обзора мнений, Зибер устанавливает следующие выводы, к которым и сам примыкает. <Во-первых, все приводимые им ученые разделяют мнение, что отдельные институты права, и особенно имущественного, носят чисто исторический характер, и потому отрицают те определения права, которые покоятся на абсолютной, метафизической основе. Во-вторых, они согласно признают, что изменяемость отдельных институтов права имеет ближайшей причиной полезность и целесообразность подобных мер для общества во всем его составе. В-третьих, в прямой связи с только что упомянутым воззрением, все они указывают на недостаточность тех определений имущественного права, которые принимают во внимание одни только частные, а не общие интересы. В-четвертых, наконец, они почти единогласно утверждают, что абсолютная идея римского права, не допускающая никаких ограничений права собственности, не только не находится в соответствии с экономическими и общественными потребностями нынешнего времени, но и не встречает себе подтверждения в ближайшей исторической и современной юридической действительности европейских народов и государств> (1880, N 6, стр. 88). Зибер обещал дать, но не успел выполнить, - выяснение вопроса об общественном характере имущественного права, заменяющим индивидуалистическое воззрение[65]. Как русские юристы и экономисты, так и их западные учителя, стремились доказать одно: что каждому экономическому строю должно соответствовать особое право, а потому римское право, при значительном уклонении современных экономических условий от условий быта классических народов, не может быть пригодно для настоящего времени, что форма не соответствует содержанию отношения. Но как поставить правовые определения в отношение с новыми экономическими условиями, насколько и в каком направлении следует отрешиться от установленных юридических понятий и какие должны их заменить - на это мы тщетно искали бы ответа. Да и едва ли экономисты в состоянии дать подобный ответ. Что юноша вырос из сшитого ему давно платья, - это может заметить всякий, но переделать платье или скроить новое может только специалист портной. Наиболее замечательная попытка систематического изложения гражданского права принадлежит бывшему доценту с.-петербург-ского университета, Крониду Ивановичу Малышеву. Некоторые обстоятельства заставили этого выдающегося русского юриста оставить преподавательский труд и заняться работами в кодификационном отделе. Вместе с тем, к сожалению, прекращается его плодотворная научная деятельность и сменяется кодификационной работой, стоящей несомненно ниже его знаний и способностей. Русская наука и университет должны жалеть, что лишились такого замечательного труженика. При громадной, поразительной эрудиции, способности живо и ясно излагать свои мысли г. Малышев в течение всей своей научной карьеры шел на встречу запросам жизни и оказал такую помощь новым деятелям судебной практики, что вызвал в них редкое уважение к своим трудам. После <Исторического очерка конкурсного процесса> 1871 го-да, представляющего его магистерскую диссертацию, г. Малышев вскоре за открытием курса гражданского судопроизводства издал свои лекции в 3-х томах, 1873-1879. В нашу задачу не входит рассмотрение и оценка современной литературы по гражданскому процессу, а потому мы заметим только, что, несмотря на некоторую невыдержанность системы[66], труд этот остается единственным в своем роде и если его практическое значение несколько понизилось в последнее время, то причина тому находится не в сочинении, а в той коренной ломке, которой подверглись судебные уставы Императора Александра II. Человек, всецело погрузившийся в свою любимую науку, обещал сделать чрезвычайно много для русской юриспруденции: После выхода профессора Пахмана из петербургского университета, г. Малышев взял на себя чтение лекций по гражданскому праву и вел с успехом дело преподавания, как это можно судить по его сжатому, но содержательному литографическому курсу. В более широких рамках задумал г. Малышев свой печатный курс, первый том которого вышел в 1878 году под заглавием <Курс общего гражданского права России>. Автор поставил себе весьма широкую задачу. За первым томом, который представляет собой лишь введение и содержит определение понятия о гражданском праве, исторический очерк гражданского права, учение о нормах гражданского права и, наконец, установление системы гражданского права, должно было, по плану автора, следовать еще 12 ;томов. Сначала предполагалось изложить понятия о гражданских правах вообще, с основными элементами их (т. II), затем права личности (т. ;III), права на вещи (т. IV), права по обязательствам (т. V), семейное право (т. VI), право наследования (т. VII), далее особенные отрасли гражданского права: поземельное право (т. VIII), промышленное (т. IX) и торговое право (т. Х), корпоративное право казны, земства, городов и других обществ и установлений (т. XI), гражданское право инородцев (т. XII) и, наконец (т. XIII), международные отношения русского гражданского права (стр. 355). Против такого плана можно, конечно, возражать с точки зрения его научной правильности, но несомненно, что только г. Малышев, при его эрудиции, мог дать весь этот громадный материал в научной, обработанной форме. [65] Если не считать его, мало выясняющей дело, статьи <Общественная экономия и право> в Юридическом Вестнике за 1883, № 5, 9 и 10. [66] Во всяком случае утверждение г. Гольмстена, будто сочинение г. Малышева <не удовлетворяет учебным целям благодаря отсутствию всякого метода и крайней неравномерности в разработке и объеме отдельных учений> (Учебник русского гражданского судопроизводства, 1885, предисловие), следует признать слишком смелым. Цель, которую преследовал автор, он излагает в следующих словах. <Мы желаем установить самые основные понятия гражданского права, которые должны быть по преимуществу общими для всей России. Особенное внимание обращено здесь на прочную постановку самой науки гражданского права, определение ее отношений в ряду других наук права, описание историко-сравни-тельной и общей русской почвы ее, объяснение методов и системы, указание положительных источников, практических и литературных материалов и пособий> (предисловие). Со стороны законодательного материала и полноты литературных указаний, доходящей до указания мельчайших газетных статей, курс г. Малышева представляет незаменимое пособие при изучении науки гражданского права. Гражданское право г. Малышева понимает, как систему положительных норм, определяющих частные права каждого лица в гражданском обществе (стр. 1). <Частные гражданские правоотношения можно разделить на две группы: личные и имущественные> (стр. 2). К частным, гражданским правам автор относит и основные права личности, которым он предполагал, как мы это видели, посвятить целый том. Посмотрим, как автор ближе характеризует гражданские правоотношения в отличие от публичных. <Провести точную грань между ними довольно трудно и в истории она постоянно меняется. Можно сказать вообще, что частные юридические отношения суть те, которые, вытекая из факторов, призываемых по закону или по обычаю основаниями частных прав, связывают с определенным лицом какое-либо частное право, как его собственность (?), и образуют вследствие того основную лично-имущественную сферу каждого отдельного лица, охраняемую гражданским судом. Напротив, публичные отношения суть или внешние отношения между государствами или отношения государственной власти к подданным в порядке государственного устройства и управления. Они рассматриваются с точки зрения прав государственной власти или государственной пользы и политики, с точки зрения публичного порядка, устройства и управления, и, в случае нарушения связанных с ними публичных прав или интересов, охраняются или международным судом и расправой, или судом уголовным, или административным порядком. Разделяя таким образом две группы отношений, не следует, однако, упускать из виду, что и частные или публичные отношения суть элементы общественной организации и что в каждом частном отношении есть своя публичная сторона, если рассматривать его с точки зрения общественного устройства и управления> (стр. 6). Еще более яркими красками описывает г. Малышев различие частных и публичных правоотношений в своем курсе гражданского судопроизводства (т. I, стр. 357-358), но, к сожалению, следует признать, что это описание говорит больше чувству, чем уму. Не достает точных научных признаков отличия. Притом автор совершенно обходит те возражения, которые неоднократно делались против этого классического способа разграничения областей частного и публичного права. Наука гражданского права имеет перед собой две группы материалов: а) действительный гражданский быт с его конкретными отношениями и фактами и b) общие нормы гражданского быта и законы, общие начала обычного права, общие убеждения науки и практики (стр. 12). Г. ;Малышев обращает особенное внимание на изучение современного, действующего права и притом не по одним только законодательным формам, но в бытовой обстановке, среди конкретных отношений. Только таким путем можно ознакомиться с правом народа и прийти на помощь правосудию. Исходя из этой точки зрения, автор, хотя и придает значение историческому исследованию, но лишь настолько, насколько оно <указывает ошибки и недоразумения наших предков, неточные понятия и вредные для гражданского быта меры> (стр. 15). <Для догматики права интерес исторического очерка сосредоточивается естественно на тех только народах, которые оставили нам богатый материал права> (стр. 20). Изучение истории права является, таким образом, пособием для догматики, как главной задачи юриспруденции. <Направление ученых работ, имеющее в виду раскрыть ту сторону права, выяснить логический строй современной его системы для руководства практики и гражданского быта вообще, называются догматическим направлением. Этот элемент науки в настоящее время везде считается преобладающим, что и понятно само собой: живые потребности и интересы народа, его действительная гражданская свобода и охранение ее естественно дороже для науки, чем предания истории и неосуществившиеся идеалы будущего> (стр. ;16). Автор признает значение и за критическим направлением, потому что <каждый народ, в котором не погасла искра жизни, естественно заботится об улучшении и усовершенствовании своего права, о приспособлении его к возрастающим потребностям, об исправлениях и реформах в той или другой части законодательства> (стр. 17). Однако критика права в глазах г. Малышева значительно уступает догме права, <чтò означается теперь как действительное право и охраняется судом как юридическая форма уже существующей гражданской свободы, то гораздо дороже тех же идей, отнесенных к будущему времени и поставленных в зависимость от каких-то еще дальнейших работ законодательства> (стр. 18). К изучению материала гражданского права применяются два метода - индукции и дедукции. <Общие нормы права составляют, по преимуществу, как бы готовый материал для дедуктивных работ: изучив содержание закона, можно делать из него логические выводы, развивать общие его понятия и положения и строить на этом основании систему гражданского права> (стр. 12). Признавая значение дедукции в науке права, как придающей последнему систематическую форму, г. ;Малышев видит в ней тот недостаток, <что она связана содержанием положительных законов и не дает нам по существу ничего нового, ее результаты - чисто формальные>. <Действительный гражданский быт можно изучать не иначе, как индуктивным путем. С этой целью нужно, во-первых, наблюдать и изучать конкретные гражданские отношения и факты быта, собирать образцы сделок и актов, определяющих эти отношения и в особенности самый надежный материал этого рода ;- судебные решения> (стр. 13). В 1880 году г. Малышев издал особое приложение к первому тому, в котором изложил в систематическом порядке гражданские законы и обычное право России в общем их своде со включением законов Финляндии, Царства Польского, Остзейского края и Бессарабии, европейских и мусульманских. Это по истине гигантский труд, требовавший необыкновенного самоотвержения от ученого, которому приходится вложить массу работы в невидное и мало оцененное сочинение. Цель этого сборника заключалась в том, чтобы <содействовать, по мере возможности, обозрению и сравнительному изучению существующих материалов права, изложенных на разных языках в нескольких сотнях томов официальных и частных изданий; вместе с тем я желал содействовать и ученой разработке этих материалов в университетских курсах общего гражданского права России> (предисловие). С этой стороны наука должна быть в высшей степени благодарна г. Малышеву, хотя он и дал ей лишь один том приложения, содержащий постановления только о лицах и семейственных отношениях. Последняя по времени попытка издания курса принадлежит профессору сначала демидовского лицея, потом одесского и, наконец, петербургского университета, Николаю Львовичу Дювернуа. Мы уже видели его вступление в научную область. После своей магистерской работы, относившейся всецело к русскому праву, г. Дювернуа обратил свое внимание более на римское право, посвятил ему свою докторскую диссертацию <основная форма корреального обязательства>, проникся его духом и, хотя преподает русское гражданское право, но, судя по лекциям, - с точки зрения романиста. В 1889 году он издал первый выпуск своего курса под заглавием <Из курса лекций по русскому гражданскому праву>. Заглавие возбуждает некоторое недоумение, имеем ли мы дело с наиболее интересными, с точки зрения автора, местами из его ежегодных чтений или мы должны видеть в книге систематическое изложение гражданского права (тогда заглавие неуместно), или же перед нами краткий конспект из лекций профессора (но чрезмерная подробность опровергает подобное предположение). В лице г. ;Дювернуа русская литература имеет несомненно весьма оригинального писателя, как это признано его официальным рецензентом, г. ;Цитовичем (Зап. Новоросс. Универс., 1875, т. XVI, стр. 36); широкий размах мысли, не укладывающийся в строго научные рамки, живое и острое перо, увлекающее автора нередко в область фельетонной полемики вместо научной критики, преклонение перед римским правом, не согласующееся с его научным свободомыслием - такова характеристика этого ученого. Изданный им выпуск курса содержит введение и начало общей части (о физических лицах). Введение заключает в себе: выяснение предмета и задачи курса ( 1), историческая школа и оппортунизм некоторых современных учений о праве, право и закон ( 2), публичное и частное право ( 3), право общее и особенное ( ;4), рецепция римского права на Западе ( 5), кодификация во Франции и Германии ( 6), обозрение тех же вопросов по отношению в отечественному праву ( 7). Из перечня этих отделов нетрудно заметить отрывочность мысли, отсутствие систематичности. В изложении нет последовательности, а только преемственность вопросов. Благодаря многословности, расплывчатости и перебрасывания мысли с одного предмета на другой, лекции г. Дювернуа теряют всякое педагогическое значение. Напр., автор уделяет очень много места полемике с Иерингом и иронизированию над его учением, над политическим направлением его, не ознакомив слушателей с сущностью школы Иеринга; студентам остается повторять остроты своего профессора без понимания степени их основательности. Сам автор ошибается на счет педагогической пригодности своего курса, когда утверждает, напр., что <разъяснил в 2 вопросы метода изучения права в связи с природой его> (стр. 34), между тем как при самом внимательном чтении нельзя в этом найти какого-либо разъяснения поставленных вопросов. Передать содержание введения положительно невозможно, потому что ценность его заключается в тех метких мелких замечаниях, которые разбросаны по всей книге и имеют научное значение для специалиста, но не для учащегося. Мы обратим внимание только на установленное автором разграничение области частного и публичного права. В этом отношении г. ;Дювернуа слепо принимает взгляд, выдвинутый Августом Тоном в его Rechtsnorm und subjectives Recht, и совершенно игнорирует все те возражения, которые были сгруппированы товарищем автора г. Коркуновым в его <Лекциях по общей теории права>, 1886 года. <В последнее десятилетие на наших глазах, говорит г. Дювернуа, - молодому, талантливому немецкому ученому Августу Тону удалось вполне правильно поставить проблему определения границы права публичного и частного, связать этот вопрос с рядом других, тоже довольно сложных юридических понятий, и приготовить таким образом почву для ясной постановки и еще дальнейших, тесно с этими вопросами связанных, задач юриспруденции> (стр. 48). Автору особенно нравится в Тоне <совершенно спокойная разработка задачи, никаких деструктивных целей, ничего напоминающего Sturmund Drang-Periode>. Восхваляя Тона, г. Дювернуа постоянно имеет в виду несимпатичного ему революционера, Sturmvögel Иеринга. Одного только не может он извинить Тону, конечно, со своей романистической точки зрения - <незначительность наличной разработки римских источников и постоянное внимание к новым писателям, новым законам> (стр. ;49). Г. Дювернуа убежден, что учение Тона представляет собой только новую форму учения Ульпиана, - в самом деле, как можно найти что-нибудь хорошее в современных воззрениях, что не было бы уже высказано римскими юристами! <Заслуга Тона в том, что он дал нам это правильное разумение Ульпиановского расчленения>, <его заслуга есть именно методологического свойства, он правильно понял смысл этого разделения у римлян и у нас, истолковал точнее текст Ульпиана> (стр. 55). Это учение г. Дювернуа выражает следующим образом. <За нарушением нормы следует известная реакция. В массе случаев такая реакция будет исходить непосредственно от органов, ограждающих публичные, общие, всем одинаково близкие интересы. Но возможны условия, где ограждение нарушенных норм права вовсе не вызывает непосредственно такой реакции. Противодействие этому нарушению ставится в зависимость от воли заинтересованного. Не государство защищает меня в ту же минуту, когда мне N не заплатит долга, займет часть принадлежащей мне земли под постройку, перейдет пределы дозволенного в сближении с моей женой. Нормы права, ограждающие силу обязательств, неприкосновенность вещных прав, чистоту семейных нравов (?), существуют для всех и каждого, но интерес, ими огражденный, есть в той мере личный для каждого, что притязание к защите нормы (?) может, без всякой опасности для права, быть предоставлено самому заинтересованному. Вот этот диспозитивный характер ограждения юридических норм и определяет особенность известной группы норм и дает им свойство частноправовых> (стр. 53). Итак, - для г. Дювернуа не существуют возражения, сделанные против теории Тона. Здесь будет уместно указать на совершенно оригинальную попытку разрешения вопроса о пределах гражданского права, сделанную в последнее время приват-доцентом с.-петербургского университета, Коркуновым, в его лекциях по общей теории права. Представив предварительно весьма обстоятельный очерк предшествующих теорий по настоящему вопросу вместе с критикой, г. Коркунов предложил свою собственную теорию. По мнению этого писателя <надо искать объяснения различия частного и публичного права в различии общего характера юридической формы тех и других отношений. Право есть вообще возможность пользоваться чем-либо; эта возможность может быть обеспечена лицу в двоякой форме. Самая простая форма - это поделение объекта пользования в частное обладание по частям; другими словами, установление различия моего и твоего. На таком различии моего и твоего основывается весь институт частной собственности, приводящий к поделению определяемых частей народного богатства в частное раздельное обладание. На этом же начале основывается и институт семьи, ограничивающий каждую отдельную сферу, как исключающую вмешательство сторонних лиц>. <Рядом с этой формой разделения объекта, различения моего и твоего, существует еще другая форма - приспособление объекта к осуществлению определенного интереса> (стр. 162, по изд. 1890). Так, институт дорожного права представляет приспособление определенной части территории к общему пользованию его, как средством сообщения, институт монетного права представляет приспособление металлов к пользованию ими, как орудием обмена (стр. 162). Автор полагает, что <группировка, основывающаяся на таком различии поделения объекта в частное обладание и приспособление его к общему пользованию, совпадает с исторически установившимся различием частного и публичного права> (стр. 163). При всей своей оригинальности теория эта не имеет научного значения. Сама исходная точка автора неверна: право не есть возможность пользования, потому что такая возможность способна существовать независимо от права и, наоборот, наличность права еще не обеспечивает возможности пользования. Говоря о делении и приспособлении объекта, автор не объясняет, что он понимает под именем объекта, данную ли вещь или вообще все народное богатство; утверждая, что <правоспособность имеют все те, кто вообще признается способным получить обладание частью данного объекта> (стр. 164), г. Коркунов, очевидно, придерживается первого предположения. Но в таком случае позволительно спросить, о поделении какого объекта идет речь в договоре личного найма, доверенности? Если даже автор понимает под объектом вообще все народное богатство, то где будет поделение и приспособление в области семейственных отношений, которую г. Коркунов не исключает из гражданского права? При построении рассматриваемой теории перед автором носилось, очевидно, представление о земле, как выдающемся объекте в гражданском праве, допускающем до некоторой степени приложение его теории, хотя и здесь можно поставить вопрос, следует ли считать сервитут за поделение или приспособление. Монографии по гражданскому праву за этот период времени, т.е. с ;введения судебной реформы, носят все, за исключением указанных диссертаций Дювернуа и Цитовича, догматический характер. Содействие практике разработкой важных для нее вопросов - такова задача научной юриспруденции. К сожалению, русская наука не решилась самостоятельно пойти в глубь своеобразных юридических отношений, сложившихся в русской истории, а продолжала обращаться за указаниями к западной науке. Вооружившись теорией, выработанной западными учеными, и материалом, доставленным западными законодательствами, русские ученые приступали к русскому праву, подводя его постановления под заимствованные теорию и систему. Само по себе это обстоятельство не может служить упреком, теория права всюду одна и данные, выработанные западной наукой, имеют несомненное значение и для России, но дело в том, что русские ученые не выходят из пределов вопросов, поставленных и исследованных на Западе, и вследствие того особенности юридического быта России остались без разработки. Поземельные отношения, межевое право, крестьянская семья - представляют массу совершенно оригинальных юридических черт, которые особенно интересуют суды такой земледельческой страны, как Россия. Между тем, практика не имеет возможности обращаться к науке за разрешением возникающих для нее в этой области вопросов. Только г. Победоносцев, как сам практик, может до известной степени служить руководителем практике в этой сфере. Рассматривая результаты сделанных исследований в области вещного права, мы должны заметить, что эта часть гражданского права менее всего разработана в современной русской литературе. Вопрос о владении принадлежит, по справедливому замечанию г. ;Муромцева (Ж. Гр. и Уг. Пр., 1876, кн. 4, стр. 1), к излюбленным вопросам гражданского права. При неясном еще различии владения и права собственности в нашем законодательстве и быту было бы весьма важно иметь полное исследование о владении по русскому праву, насколько оно выразилось в истории и разных местах свода законов. Однако подобного исследования нет. Мы не имеем даже полного изложения теорий владения, если не считать устаревшего труда Кавелина, отрывочных данных в статьях Муромцева и Митюкова, посвященных преимущественно полемике по поводу взгляда Иеринга, и, наконец, перевода сочинения Иеринга <Об основании защиты владения>, 1883. Вопросу о владении уделил свое внимание только г. Попов в обширной и заслуживающей внимания статье под заглавием <Владение и его защита по русскому гражданскому праву> (Ж. Гр. и Уг. Пр., 1874, N 4 и 5). По уверению самого автора предлагаемый труд имеет в виду опыт комментирования отечественных законов римской теорией владения, потому что <истины римской теории владения общечеловечны> (N ;4, стр. 57). С теоретической стороны главным руководителем автора, по собственному его призванию, был Савиньи (стр. 58). Поэтому-то, в противоположность Кавелину и Победоносцеву, приближающемуся в своем взгляде на этот предмет к Иерингу г. Попов вместе с Морошкиным и Мейером считает владение с точки зрения русского права фактом, а не правом (N 5, стр. 128). Хотя <наше право вовсе не представляет ни одной статьи, прямо определяющей, что оно разумеет под владением>, однако г. ;Попов полагает, что <и у нас владение принимается в том же смысле, как в римском и основанных на нем иностранных законодательствах> (N 4, стр. 64). В своем очерке автор рассматривает сначала понятие владения (гл. I), потом приобретение и прекращение владения (гл. II и III), защиту владения (гл. IV) и в заключение делает выводы об основаниях защиты владения преимущественно в русском праве. С практической стороны имеют значение следующие выводы автора, сделанные в отношении русского права. Автор отрицает возможность иска о восстановлении владения движимыми вещами (N 5, стр. 93). По вопросу о подсудности, возбуждающему сомнения вследствие неясной редакции 4 п. 29 ст. уст. гражд. судопроизводства, автор приходит к заключению, что иски о нарушении владения имеют двоякую подсудность, - разграничительной чертой служит шестимесячный срок, а отчасти и характер нарушенного владения; до истечения 6-месячного срока посессорный иск предъявляется в мировой инстанции, а после того окружному суду опять-таки в посессорном, а не петиторном порядке (N ;5, стр. 97). Другой характер носит статья г. Юренева <Иск о защите владения по русскому праву> (Ж. Гр. и Уг. Пр. 1875, N 2). Автор чужд теории и рассматривает только кассационную практику и по некоторым вопросам, как напр., о возможности иска, о защите владения движимостью (стр. 49), приходит к другим выводам, чем г. Попов. Вопрос о владении был на рассмотрении петербургского юридического общества, ко-торому г. Деларов предложил реферат в заседании 24 февраля 1879 го-да. Реферат коснулся теории владения, но несколько односторонне, уделив внимание только тем взглядам, которые основание защиты владения искали в личности владельца. По вопросу о том, что такое владение, право или факт, г. Деларов полагает, вслед за Кунтце, что это вопрос устарелый. Однако его положение, что <оно есть, как всякое право, факт в своих предположениях и право в своих последствиях>, не отличается достаточной ясностью. Некоторые вопросы о владении, преимущественно процессуальные, нашли себе разрешение в Опыте комментария г. ;Анненкова (т. I). Право собственности составляет основу современного правового порядка и потому понятно, насколько важно было бы для практики иметь всестороннее исследование этого института как со стороны его юридической конструкции, так и со стороны разновидностей, образовавшихся исторически на почве поземельных отношений в России. Однако русская литература не имеет подобных сочинений ни оригинальных, ни переводных, так как сочинения Чичерина, Тьера и Лавеле не относятся к догматике. Некоторые вопросы из области права собственности нашли себе даровитого исследователя в лице профессора дерптского университета Ивана Егоровича Энгельмана. Его перу принадлежат два сочинения по гражданскому праву - <О приобретении права собственности на землю по русскому праву>, 1859, и <О давности по русскому гражданскому праву>, 1868. Оба сочинения носят характер историко-догма-тический. Внимание автора главным образом обращено на догматику, но вместе с тем он углубляется в историю настолько, насколько это необходимо для выяснения действующего права. Для сравнения и оценки постановлений русского права автор приводит также постановления римского и западных законодательств. Еще одна черта весьма выгодно выделяет г. Энгельмана из ряда юристов - это умение сочетать экономическую точку зрения с юридическим анализом. То и другое сочинение удостоились меньшей уваровской награды по рецензиям Дмитриева и Калачова. Первое из указанных произведений г. Энгельмана <О приобретении права собственности на землю по русскому праву> разделяется на 3 части: в первой автор излагает историческое развитие способов приобретения бесспорного права собственности на землю в России, вторая часть содержит в себе изложение по ныне действующим законам и, наконец, третья заключает обозрение постановлений о приобретении права собственности на землю по законодательствам римскому, общегерманскому и французскому в сравнении с русским. Нельзя не согласиться с г. ;Дмитриевым, что <изложение способов приобретения собственности по различным изданиям Свода Законов составляет бесспорно лучшую часть труда г. Энгельмана>[67] и, прибавим мы, наиболее ценную для практики. В историческом развитии способов приобретения права собственности на землю автор видит 3 ступени, причем характер каждого периода определяется известным началом, соответствующим характеру самой собственности и понятием о ней современников. В древнейшие времена при преобладании фактического отношения к земле владение определялось единственно деятельностью отдельного лица, а потому способами приобретения собственности на землю являлись завладение и обработка. С большим устройством общественного порядка сам факт владения уступает место большей или меньшей его продолжительности, откуда возникает понятие о давности. Во второй период практика приказов стремится провести то правило, что все, что не приказано или не определено со стороны правительства, не может быть признано и не имеет права на признание со стороны общества. Собственностью, по этим началам, считается лишь то владение, которое признано со стороны правительства и в той мере, в какой последовало его признание. Третий период лишен, в описании г. Энгельмана, какого-либо определенного начала (предисловие, стр. ;XXVII и след.). Свое сочинение автор оканчивает указанием некоторых необходимых реформ, а именно введения публичных поземельных книг по губерниям, обязательного внесения в поземельные книги всех вообще переходов и изменений права собственности, обеспечения недвижимым имуществом только долгов, внесенных в книги. Вторая работа г. Энгельмана, его докторская диссертация, появилась сначала на немецком языке . После изложения учения о давности по римскому праву, автор дает обстоятельный обзор русской литературы, относящейся к вопросу о давности, историю этого института в России и, наконец, догматическое изложение постановлений русского права о давности. Так как появление сочинения г. ;Энгельмана совпало с возбуждением вопроса о пересмотре в законодательном порядке постановлений о давности, то оно, по словам г. ;Калачова, <было встречено с искренней радостью и приветствовано как одно из самых дельных юридических сочинений>[68]. В догматической части автор выказал себя замечательным юристом и несомненно, что практика не могла не почувствовать для нее значения этого сочинения. Г. Энгельман высказывается против внесения в теорию права абстрактного понятия о давности, особенно в том виде, как оно сформировалось в средние века, так как приобретающая и погашающая давность глубоко разнятся между собой (стр. 6, по русск. изд.). Автор доказывает, что русское право не выработало общего отвлеченного понятия о давности. Тому же вопросу о давности посвятил свое внимание автор нескольких статей, собранных позднее в сборник, Любавский, который поместил в Журн. Мин. Юстиции исследование <О давности в гражданских делах> (1863, N 12, в Юрид. моногр. и исслед., т. ;I, стр. ;115-210). В этой работе автор старается установить понятие о давности, найти философское обоснование, выяснить историческое значение, дает очерк постановлений различных законодательств, историю и догму этого института по русскому праву. Однако полнота плана не совпадает с достаточной обстоятельностью содержания и сочинение далеко уступает труду г. Энгельмана. Вопросу о давности г. ;Лю-бавский уделил еще брошюру <Опыт комментирования русских законов о давности>, 1865. Интерес, возбужденный появлением сочинения г. Энгельмана, вызвал статьи о давности Думашевского (Журн. Мин. Юст., 1868, N ;4), Хоткевича (Моск. Унив. Изв., 1868, т. II) и некоторые другие, еще менее обращающие на себя внимание. <После освобождения крестьян, при наделении их землей по уставным грамотам, не представлялось иногда возможности выделять для них к одним местам и все угодия. Поэтому возникли (сначала, по-видимому, временно, впредь до разверстания угодий) общие выгоны и выпасы, общие водопои, прогоны к водопою и пастбищам и другие виды сервитутных отношений>. Так объясняет г. ;Горонович тот интерес, который должен был возникнуть в русском обществе к сервитутному праву и причину появления в печати его сочинения <Исследование о сервитутах>, 1883. Эта работа состоит, кроме небольшого введения, из двух частей: в первой излагается теория сервитутного права, преимущественно с римской точки зрения, а во второй - постановления русского законодательства. В отношении теории г. Горонович находится под непосредственным влиянием Шёнемана (Schöneman, Die Servitu-ten, 1866), взгляды которого излагает подробно. Шёнеман определяет сервитуты, как вещные права на употребление и пользование плодами вещи без потребления ее. Этот ученый идет вразрез с господствующим воззрением, которое смотрит на сервитуты, как ограничения права собственности, предполагающие существование последней. Напротив, Шёнеман высказался против этого мнения и полагает, что сервитуты - институт вполне самостоятельный, независимый от института собственности, что в историческом развитии права сервитуты предшествуют собственности. Г. ;Горонович принимает этот взгляд Шёнемана и указанное определение, к которому он делает только некоторое дополнение, не совсем согласное с сущностью сервитутов, - <надо, - говорит автор, ;- добавить - краткое обозначение фактического содержания тех сервитутов, которые ограничивают собственника не в употреблении и не в пользовании его вещью, а в распоряжении его в пределах, законом установленных> (стр. 18). Гораздо больше самостоятельности и научной критики в статье приват-доцента московского университета г. Гусакова (Журнал Гражд. и Угол. Права, 1884, N 8 и 9). В противоположность г. Гороновичу, г. Гусаков не соглашается с Шёнеманом и приходит к противоположному мнению. <То, что Шёнеман называет фактическим состоянием сервитутов у первобытных народов, было для последних целостным господством и представляло собой содержание права собственности, а не сервитутов. Собственность, вопреки утверждению Шёнемана, возникла ранее, чем сервитуты> (N 8, стр. ;78, N 9, стр. 83). Г. Гусаков проверяет положение Шёнемана на истории права, на первоначальных экономических условиях, так как он придерживается взгляда, что только уяснение экономической цели института может дать понимание юридической его сущности. В результате г. Гусаков дает свое, весьма интересное, объяснение происхождения сервитутов. <Сервитуты вызваны распадением общинного землевладения и возникновения мелкой поземельной собственности и имеют целью обеспечивать существование последней ;- вот исторический мотив, raison d'être этого института, экономическое основание его, с изменением которого будет изменяться и означение самого института> (N 9, стр. 91). В половине восьмидесятых годов, по поводу предполагавшегося к изданию закона, в русской литературе возбудился интерес к одному из своеобразных поземельных отношений, сложившихся в юго-западном крае, а именно к чиншевому праву. Правда, и в семидесятых годах поднимался вопрос о положении чиншевиков, так можно указать статьи Нелькина, Линевича, Незабитовского и особенно Пихно, профессора киевского университета. Но в восьмидесятых мы имеем уже целые исследования, как Шимановского <О чиншевых правоотношениях>, 1886, Рембовского <История и значение чиншевого владения в западном крае>, 1886. Ввиду местного значения этого юридического отношения мы не будем останавливаться на указанных юридических исследованиях. В самое последнее время русская юридическая литература обратила свое внимание на ипотечное право ввиду предполагаемой реформы. Предлагаются переводы (Дуткевича), статьи (Лукошина), даже книги (Сопова, Башмакова). <На родине, - говорит последний из указанных писателей, - готовится значительное дело, для коего потребуется много подготовленных голов. Тогда наступит момент общего и сильного запроса и в правительственных учреждениях, и в банках, и в рядах адвокатуры - на людей, знающих и видевших, что такое ипотечная система>. Сочинение Сопова <Ипотека по римскому праву и по новейшим законодательствам>, 1889, едва ли способно удовлетворить любопытству подготовляющихся практиков, потому что вместо систематического изложения ипотечного права с указанием различий между современными законодательствами по этому вопросу автор задается главной целью - сравнить и указать различие в ипотеке римской и современной. В действительности различие это так велико, что едва ли требует подобного специального исследования, тем более, что этим не достигается вовсе практическая польза. Автор держится взгляда, что современная ипотечная система обязана своим происхождением римскому праву (стр. 10 и др.), однако не выясняет, каким образом установилась эта преемственность. Различие между римским и современным правом г. Сопов видит в том, что по первому возникновение и прекращение ипотеки стояло в зависимости от обязательства, тогда как по новейшим законодательствам ипотека нуждалась в требовании для своего возникновения, не зависит от него для своего дальнейшего существования (стр. 43), что предметом ипотеки по новому праву могут быть только недвижимости, тогда как по римскому могло быть и движимое имущество (стр. ;50), что сервитуты теперь не могут быть предметом ипотеки, тогда как римское право допускало этот объект (стр. 61) и т.п. Повторяем, работа г. Сопова не имеет значения для практики, а теоретических целей автор, по-видимому, и не преследовал. Другая работа по ипотечному праву принадлежит практику г. Башмакову <Основные начала ипотечного права>, 1891 года. Сочинение составилось из 14 лекций, прочтенных автором в Либаве. Заметим, что заглавие не вполне соответствует содержанию, потому что большая часть работы заключает в себе изложение прибалтийского положительного законодательства и только первые 66 страниц содержат теорию и историю ипотечного права. <Конечно целью нашей, - говорит сам автор, - будет возвращение к тому, что ближе всего касается нам, т.е. к изучению здешнего закона> (стр. ;6). Следует отдать справедливость автору - на тех страницах, которые он уделил общему учению об ипотечном праве, он с достаточной ясностью излагает сущность этого института. Римское право его не интересует, он обращает исключительное внимание на современные положительные законодательства, на их различия, относительные достоинства и недостатки. Тем не менее, несмотря на появление специальных монографий по ипотечному праву, нельзя не признать, что лучшее, наиболее ясное и обстоятельное изложение общих начал ипотечного права мы находим в курсе г. ;Победоносцева. По вопросу об экспроприации мы имеем брошюру г. Шалфеева <Краткий очерк постановлений важнейших иностранных законодательств об экспроприации>, 1872 года. Эта работа в ясном и простом изложении дает теоретическое определение института с анализом существенных признаков (стр. 3-10), и рассмотрение некоторых вопросов об экспроприации по западным законодательствам. Упущение многих важных вопросов составляет главный недостаток труда г. ;Шалфеева. Значительно выше стоит другое сочинение, немного большее по объему, но гораздо богаче содержанием, г. ;Венецианова <Экспроприация с точки зрения гражданского права>, 1891. При некоторой неточности юридического языка, которая обнаружилась даже в определении (стр. 5), автор обстоятельно и точно анализирует случаи применения экспроприации, так что с методологической точки зрения это одна из лучших догматических работ. Понятие экспроприации г. Венецианов ограничивает правами на недвижимости (стр. 4, 5, 44), происхождение института относит к концу 18 столетия, когда он был вызван к жизни радикальными изменениями экономического быта и сильным развитием правового и политического сознания народов (стр. 16). Автор весьма подробно останавливается на юридической конструкции экспроприации с точки зрения гражданского права ( 8) и приходит к заключению, вместе с Лабандом, Тилем и Роландом, что она представляет собой <односторонний акт государственной власти, действиями которого являются, с одной стороны, переход собственности в силу закона, а с другой - возникновение частноправового обязательства> (стр. 60), обязательства ex lege (стр. 61). Обращаясь к вопросу о месте института в системе гражданского права, г. Венецианов разделяет его между государственным и гражданским правом. <В частном праве экспроприация занимает место как один из способов прекращения права собственности по закону и входит в обязательственное права, как одно из оснований возникновения обязательств по закону (стр. 67). При слабой догматической разработке наиболее важных в практическом отношении институтов трудно, конечно, ожидать, чтобы внимание русских цивилистов обратилось к так называемой отвлеченной собственности. Сочинение г. Спасовича <Права авторские и контрафакция>, 1864, обращает главное внимание на уголовную сторону, а гражданская природа института авторского права выясняется автором лишь насколько это необходимо для уголовного права, для понятия о контрафакции. Если не считать студенческой работы Панкевича <Объект авторского права>, 1878, представляющей собой отчетливую компиляцию, то нам придется остановиться на сочинении Ивана Григорьевича Табашникова, профессора демидовского лицея, а теперь одесского университета. Его работа <Литературная, музыкальная и художественная собственность с точки зрения науки гражданского права и по постановлениям законодательств Германии, Австрии, Франции, Англии и России>, представляющая магистерскую диссертацию, - неоконченный труд. В ней он пытается представить понятие о литературной собственности, дает большой очерк исторического развития и исследует вопрос о субъекте и объекте литературной собственности. К сожалению, сочинение это не имеет вовсе юридического характера, а следовательно и юридического значения. Автор вместо того, чтобы остановиться на юридическом анализе авторского права, излагает мнения как юристов, так и философов и смешивает вопрос о юридической конструкции с вопросом о необходимости защиты авторских интересов. Исходя из последнего воззрения автор утверждает, в противоположность г. ;Спасовичу, признавшему самостоятельный характер за авторским правом, что это институт собственности, потому что труд интеллектуального труженика заслуживает не меньшего уважения, чем труд рабочего. Исторический очерк не имеет ничего оригинального, а представляет переложение сочинения Rénouard'a. При отсутствии юридического анализа автор пытается наполнить сочинение фейерверком трескучих и не относящихся к делу фраз, напыщенностью и искусственной энергией критики, производящей чрезвычайно неприятное впечатление фальшивости. Лучшее, что можно сказать об этом сочинении, это то, что оно, как выразился г. Муромцев, отнесшийся к нему с необыкновенной снисходительностью, <не заслуживает одного сплошного порицания> (Крит. Обозр., 1879, N 13, стр. 16), если принять во внимание многочисленность литературных указаний, правда, несколько теперь устаревших. Переходя к обзору литературы по обязательственному праву, мы замечаем несколько большее число работ. Однако, принимая во внимание быстрое развитие обязательственных отношений, обнаружившееся в русском обществе вслед за освобождением крестьян, мы не можем не пожалеть о незначительности в этой области исследований, тем более важным для практики, что русское законодательство представляет наиболее существенные пробелы по договорному праву, как это легко объяснить историческим происхождением Свода Законов и неразвитостью в прежнее время договорных отношений. Здесь теория оказывается наиболее необходимой для практика, а для ученых работа тем легче, что они могут воспользоваться свободно всем опытом западных законодательств и богатым содержанием западноевропейской литературы. Тем не менее, только некоторые отделы подверглись научной обработке, а большая часть договоров с точки зрения конструкций, законодательных определений и бытового применения осталась без исследования. Особенно чувствительным кажется недостаток в сочинениях, которые бы захватывали общую часть обязательственного права, потому что при хорошей теоретической обработке этого отдела юристу легко встретиться с каждой новой формой обязательственного отношения. В русской литературе нет ни одного исследования, оригинального или переводного, о сущности договора и его важнейших моментах, если не считать, конечно, небольшие статьи вроде Евецкого <О договоре между отсутствующими> (Ж. Гр. и Уг. Пр., 1880, кн. 4) или Загоровского <О ;принуждении и ошибке в договорах> (юрид. Вест., 1890, N 1), или Исаченко <Лица в договоре> (Юрид. Вестн., 1882, N 8). Общая часть обязательственного права в изложении Мейера остается до сих пор единственным средством ознакомления для практиков, потому что этот отдел очень слабо разработан у г. Победоносцева и Кавелина. До некоторой степени это пробел восполняет прекрасное сочинение Голевинского. Докторская диссертация профессора варшавского университета Владислава Ивановича Голевинского <О происхождении и делении обязательств>, 1872, представляет собой систематическое изложение общей части обязательственного права. Другие работы того же ученого, достойные внимания, писаны на польском языке и затрагивают вопросы, мало интересные для русского юриста. Отличительная черта изложения г. Голевинского замечательная ясность и простота слога, чистота русского языка, столь ценные и, к сожалению, редкие качества ученых трудов. Автор излагает отдел гражданского права в порядке учебника и в этом приеме заключается сильная и слабая сторона произведения. Не только русская, но и иностранная литература не может указать много систематических руководств к обязательственному праву, не построенных на римских источниках. С другой стороны, систематическое изложение требует соответственного объема для каждого вопроса, без изложения одних в ущерб полноте других частей; благодаря этому, стремясь на 300 страницах изложить всю общую часть обязательственного права, автор поневоле скользит по многим трудным и сомнительным вопросам. Следует заметить, что г. Голевинский не дает каких-либо новых исследований, оригинальных решений - весь труд сводится к систематическому изложению в решениях других ученых. Поэтому-то, по верному мнению профессора Азаревича, <за трудом г. Голевинского собственно строго научного значения признать нельзя, в практическом же отношении он неоценен> (Ж. Гр. и Уг. Пр., 1872, кн. 4, стр. ;769). [67] Отчет о четвертом присуждении наград графа Уварова, 1860, стр. 112. [68] Отчет о двенадцатом присуждении наград графа Уварова, 1870, стр. 243. Голевинский поставил своей задачей <в небольших размерах и самым доступным образом, представить опыт догматического изложения теории обязательств, именно учения о происхождении и делении обязательств по началам нового права, т.е. права, испытавшего влияние философских учений последних времен, а также влияние кодификации. Юридическая литература богата сочинениями, касающимися теории обязательств, но они имеют в виду главным образом римское право. Между тем как, нисколько не отрицая преобладания римского элемента в новом правоведении, нельзя не признать, что новая кодификация имела существенное влияние на материальное гражданское право и внесла важные изменения в римскую теорию. Новое право, руководствуясь потребностями современной жизни, в особенности экономическими условиями общества, которые требуют легкого обращения ценностей, непременно должно было отступить от многих римских начал, от римского юридического формализма>[69]. Признавая важность построения теории обязательственного права для всякого развивающегося законодательства, г. Голевинский исходил из того воззрения, что установление этой теории не может состояться путем дедукции, на одних абстрактных началах, <обязательства, как произведение практической жизни, должны быть изучаемы по явлениям самой жизни, которой выражением служат положительные законодательства> (предисловие). Задача поставлена автором совершенно правильно; к сожалению, решение ее едва ли можно признать верным. Этому способствовали два обстоятельства: ограниченность материала для построения и незнакомство автора с теми экономическими условиями, которые заставили новое право уклониться от римского. Действительно г. Голевинский строит свою теорию обязательственного права почти исключительно на французском законодательстве, оставляя без внимания германские законодательства и бросая мимоходом замечания по поводу русского права, что дало основание г. Пахману заявить, что сочинение г. Голевинского напоминает собой лучшие из французских комментариев (Журн. Гражд. и Угол. Права, 1872, N 5, стр. 965). Слабость экономической точки зрения автора доказывается, напр., следующим замечанием. По поводу нарушения договора из-за убыточности г. Голевинский говорит: <не следует забывать, что в основании самого факта оборота ценностей лежит предположение об известном их неравенстве, ибо если бы получаемое действие во всех отношениях равнялось воздаваемому, то не было бы действительного побуждения к взаимному обмену действий, а потому и не было бы договоров, ведущих к этой цели> (стр. 83). Автор не вполне свободен от идей естественного права, прорывающихся в искании причины исполнительности обязательств, которую он находит, по рассмотрении теорий философов от Гроция до Канта, в необходимости обязательств для осуществления целей, свойственных существу человеческой природы (стр. 20). Повторяем, что если г. Голевинский не внес ничего нового в науку гражданского права, зато дал возможность юристам усвоить общее теоретическое понимание обязательственного права, что составляет не меньшую заслугу, чем нередко искание, превышающее силы, какой-либо новой точки зрения на мелочный вопрос. Немногие договоры подверглись монографической разработке со стороны догматиков. Владимир Умов дал русской науке два исследования: <Договор найма имуществ по римскому праву и новейшим иностранным законодательствам>, 1872 и <Дарение, его понятие, характерные черты и место в системе права>, 1876. Критика отнеслась недоброжелательно к трудам молодого ученого, что объясняется методологической ошибкой автора, поставившей его вразлад с запросами дня. В самом деле, в предисловии к первому сочинению автор указывает, какое огромное значение имеет имущественный наем в обществе, построенном на свободных договорных отношениях, указывает на то, что освобождение крестьян открыло <новую эпоху в истории развития договора найма в нашем отечестве>, что <договор аренды с реформы 1861 года получает у нас все большее и большее распространение и по всему этому нам можно будет судить о том значении, которое получит этот договор в нашей гражданской и политической жизни>. Но в то же время уклоняется от исследования русского права, с его исторической, бытовой и догматической стороны, а обращается к римскому праву. Автор ясно сознавал значение догматической разработки русского права, когда говорил, что <все это по нашему мнению должно обратить внимание нашей юридической практики, которой предстоит положить основание всесторонней и полной обработке договора найма по русскому праву>. Непонятно, почему Умов освободил от этой задачи науку и возложил всю тяжесть ее на практику. Изучение римского права и западных законодательств способно выработать в исследователе такое теоретическое воззрение, при помощи которого он легко мог бы приступить к исследованию русского права. Вооруженный теорией, Умов тем не менее отступает, предлагая свое оружие практикам, не привычным к такому тяжелому вооружению и имеющим полное основание требовать, чтобы он сам непосредственно применил его к делу. Вот почему его сочинение было признано <простой компиляцией мнений разных ученых и постановлений некоторых иностранных законодательств (Журн. Гражд. и Угол. Пр., 1872, N 3, стр. 540). Изучая известный юридический институт с теоретической стороны, юрист обязан обозреть его применение в разных государствах и чем более уклоняется он в той или другой стране, тем больший интерес представляет последняя для исследователя, так как при резком уклонении легко выяснить себе сущность института. Между тем догматики, прибегая к сравнительному приему, чаще всего ограничиваются законодательствами французским и германским, вероятно, вследствие большей доступности и богатства литературы. Так, напр., Умов, изучая договор, имеющий громадное значение в такой оригинальной с юридической точки зрения стране, как Англия, не обращает вовсе внимания на ее правовую жизнь. Если оставим эти методологические недостатки, то мы все-таки должны признать некоторое практическое значение работы Умова, а именно она возбуждает в читателе много вопросов, поставленных западной жизнью, и дает ему много решений, теоретически мотивированных, а следовательно до известной степени применимых и в русской практике. Имущественному найму Умов посвятил позднее еще брошюру <О ;влиянии отчуждения нанятого имущества на существование найма>, 1877, в которой он высказывает взгляд, что отчуждение нанятого имущества прекращает договор найма вообще (стр. 2) и в русском праве в частности (стр. 66). Такое воззрение идет вразрез с мнением, которое высказывалось юристами в начале шестидесятых годов. Так, Пестржецкий в заметке, помещенной в Журнале Министерства Юстиции за 1861, N 7, стр. 32, признавал за наймом вещный характер, а Куницын в обширной статье <О силе договора найма имуществ> в том же журнале за 1861 год, N 9, высказал взгляд, что переход имущества по каким бы то ни было основаниям есть обстоятельство постороннее для нанимателя (стр. 502-506). Напротив, в пользу мнения Умова высказался позднее г. ;Домашевский-Песляк (Журн. Гр. и Угол. Пр., 1883, N 6, стр. 13). Второе сочинение Умова, о дарении, представляет собой также сравнительное исследование по римскому праву и новейшим законодательствам, но автор не обходит молчанием и русское право. Относя дарение к числу сделок, которые основаны на одном желании благодетельствовать известное лицо или оказать ему дружескую услугу (стр. ;1), Умов возражает против мнения, будто дарение есть способ приобретения права собственности, восстает против господствующего взгляда, который дает место дарению в общей части гражданского права, и утверждает, приводя доводы Виндшейда, к которым он своих соображений не прибавляет, что дарение есть договорное отношение, а потому и место его - в обязательственном праве (стр. 130-132). В отношении русского права автор полагает, что <дарение будет таким же обязательством, как купля и мена> (стр. 206). Русские цивилисты обратили необыкновенное внимание на вопрос о представительстве по доверенности. Мы имеем по этому вопросу исследования г. Евецкого, Казанцева, Гордона, Нерсесова, различные по объему и достоинству. При бедности нашей литературы, подобное обилие монографий невольно вызывает вопрос о причине такого единодушного внимания. Напрасно, однако, старались бы мы объяснить это явление запросами русской жизни, развитием торговых отношений, для которых этот вопрос имеет особенное значение, введением адвокатуры ;- оно вскоре объясняется тем обстоятельством, что и на Западе этот вопрос принадлежит к числу наиболее интересующих науку и создал богатую литературу, преимущественно в Германии, где столкновение римских начал с новыми правовыми понятиями выразилось наиболее рельефно. Меньшая по объему и низшая по достоинству работа, под заглавием <О представительстве при заключении юридических сделок>, 1878, принадлежит Евецкому, готовившемуся к занятию кафедры в Харьковском университете. На 62 страницах автор пытается дать понятие о различных мнениях юристов по вопросу о сущности представительства, установить отличие его от смежных правоотношений, договоров в пользу третьих лиц и юридического содействия, выяснить взгляд римского и современного права на этот институт. Главный, существенный недостаток работы Евецкого заключается в отсутствии сколько-нибудь точного определения представительства, исходя из которого автор мог бы оправдать свою критику теорий других ученых. Изложение отличается неясностью и непоследовательностью. Второе исследование по вопросу о представительстве принадлежит профессору сначала демидовского лицея, а теперь киевского университета - Леониду Николаевичу Казанцеву - <Учение о представительстве в гражданском праве>, 1879, выпуск I. Несколько позднее, в 1884 году, г. Казанцев издал <Свободное представительство в римском гражданском праве>. Нас интересует только первое исследование, потому что второе относится специально к римскому праву. Изданный автором первый выпуск имеет своей целью установить понятие представительства посредством сопоставления его с другими смежными правоотношениями. Второй выпуск, по обещанию автора, должен был содержать изложение исторического очерка развития института представительства, что составило бы несомненно более трудную задачу ввиду меньшей разработанности этой темы сравнительно с первой. Автор начинает свое изложение сравнением представительства с подобными отношениями. В объяснении юридической природы этого института г. ;Казанцев признает полную целесообразность юридических фикций (стр. 109). В результате исследований г. Казанцев приходит к выводам, что в институте представительства свойств контрагента и субъекта права распределяются между двумя лицами, представителем и представляемым (стр. 105), что договорная воля представителя рассматривается как воля представляемого. Наиболее обширная работа в этой области написана присяжным поверенным Гордоном <Представительство в гражданском праве>, 1879, составляющее переработку отдельных статей, помещенных ранее в юридических журналах. В своем сочинении г. ;Гордон захватывает много вопросов. Он говорит как о добровольном, так и законном представительстве, о доверенности, о товариществе, о negotiorum gestio, которое он называет фактическим представительством, о душеприказчичестве. В его сочинении дано место как теории, так и практике, русскому законодательству уделяется значительное внимание. Автор придает большое значение сравнительному изучению русского гражданского права и потому сравнительный элемент играет немалую роль в его труде. У г. Гордона мы находим объяснение общего интереса к представительству и по отношению к нему лично объяснение заслуживает полного доверия. <Живой обмен ценностей, существующий в настоящее время, не только между частями одного и того же государства, но и между различными государствами, гласный суд и, обусловливаемое им, необходимое для уравновешения силы состязающихся в суде сторон, сословие поверенных, существование множества юридических лиц, имеющих столь важное значение в различных отраслях экономической деятельности нашего времени - все это придает представительству громадное значение в промышленном и юридическом быту современной Европы> (стр. 8). Главное достоинство произведения г. ;Гордона заключается в том, что на юридическое отношение, вызванное новыми условиями жизни, он смотрит с точки зрения современного права. Главный недостаток состоит в слабости юридической конструкции, в отсутствии точного определения понятия о представительстве. <Представительство имеет значение замены одного лица другим, понятие о юридической замене лиц составляет основную, фундаментальную идею представительства> (стр. 7). <Практическая суть представительства - юридическая деятельность одного лица взамен другого> (стр. 33). Таковы неясные признаки важного института гражданского права. Тем не менее, по своим частностям, сочинение г. Гордона заслуживает полного внимания. Из всех указанных работ по рассматриваемому вопросу выше всех, в научном отношении, стоит сочинение профессора московского университета Нерсеса Иосифовича Нерсесова. <Понятие добровольного представительства в гражданском праве>, 1878, составляет его магистерскую диссертацию. Сочинение состоит из трех частей: в первой сравнение представительства с другими сходственными юридическими институтами, во второй - установление понятия добровольного представительств, в третьей - об отношении положительного права к этому институту. Институт представительства есть продукт творчества новых народов, появившийся вследствие усложнения юридических отношений и благодаря освобождению права от первоначального формализма (стр. ;11). Поэтому разработка его на римских началах совершенно невозможна. Выяснить природу представительства возможно из судебной практики и путем сравнительного правоведения. Восставая против господствующего в Германии учения, признающего представителя единственным и настоящим контрагентом и прибегающего к фикции, будто воля представителя должна рассматриваться как воля представляемого, г. Нерсесов говорит: <вообще фикция ведет к ложному и неправильному представлению понятий, она дает основание к признанию того, чего нет в действительности> (стр. ;84). Этот взгляд на фикции был уже выражен, как мы видели, Мейером, и снова развит г. Муромцевым в его сочинении <О консерватизме римской юриспруденции> (стр. ;96). Обоснование данного института г. Нерсесов находит в том, что <существование представительства, как понятия искусственного, уклоняющегося от естественного порядка, можно исключительно объяснить санкцией положительного права> (стр. 85). <Представительство основано на идее предпочтения общественного интереса перед частным> (стр. IV) и этим обусловливается законодательная санкция. Юридическую конструкцию г. ;Нерсесов предлагает в следующем виде. <Из формулы представительства видно, что свойства контрагента и юридического субъекта распределяются между двумя различными лицами: представителем и его принципалом>. <Первый заключает юридическую сделку, следовательно является настоящим контрагентом, второй непосредственно приобретает из оной права и обязанности, следовательно считается первоначальным и настоящим юридическим субъектом по такой сделке> (стр. 86). Сочинение г. Нерсесова было встречено не сочувственно; один из его критиков г. Фальковский упрекал <за априорное установление понятия представительства> (Юрид. Вестн., 1878, N 11, стр. 645), а другой, г. Рихтер, нашел два недостатка, а именно методологическую неправильность определения института после сравнения его с другими и слишком большое внимание к римскому праву в ущерб русскому (Журн. Гр. и Угол. Права, 1879, N 1, стр. 233-234). Оставление без внимания русского права достаточно оправдывается тем, что основной задачей г. Нерсесова, по его словам, было только правильное определение представительства, установление теоретического понятия о нем (Крит. Обозр., 1879, N 16, стр. 25). Но это соображение едва ли объясняет преобладание материала римского права над материалом вообще современных законодательств. Весьма одобрительно отнесся к сочинению г. Нерсесова г. Муромцев в Сборнике Госуд. Знаний за 1879, N 7, стр. 70. Докторская диссертация г. Нерсесова представляет историко-догматическое исследование <О бумагах на предъявителя с точки зрения гражданского права>, 1889. После введения, посвященного определению понятия о ценных бумагах, классификации их, автор дает исторический очерк происхождения бумаг на предъявителя и потом догматический очерк учения о бумагах на предъявителя. Исследование это выполнено с той же добросовестностью, как и первое. Вопрос, поднятый г. Нерсесовым, так же мало связан с римским правом, как и вопрос о представительстве. Но во втором своем произведении профессор Нерсесов решительнее отрекается от римских начал, чем в первом. <Римское право, - говорит он, - имеет для настоящего времени интерес исторический и служит прекрасной школой для подготовления юристов, но нельзя искать в нем ответа на все вопросы, встречающиеся в жизни других народов во всякое время> (стр. 80). Нерсесов определяет бумаги на предъявителя как <односторонние формальные обязательства, циркулирующие в обороте наподобие реальных вещей> (стр. 89). Юридическим основанием возникновения бумаг на предъявителя служит односторонне обещание должника; для приобретения же права из них необходимо владение документом. Отсюда видно, что автор различает эти два момента, возникновения и приобретения права (стр. 80), хотя не отграничивает их точнее. Остается невыясненным, как возникает право до приобретения его кем-либо? Таким образом, мы видим, что по вопросу о природе бумаг на предъявителя г. Нерсесов примыкает к теории, известной в германской науке под именем Kreationstheorie. В системе гражданского права автор отводит бумагам на предъявителя место между вещным и обязательственным правом. <Некоторые из институтов гражданского права стоят как бы на рубеже вещного и обязательственного права. К числу их относятся и бумаги на предъявителя. По некоторым свойствам они подлежат определениям обязательственного права, а по другим - вещного права> (стр. 87). Когда речь идет о возникновении без именного документа, то следует руководствоваться началами обязательственного права. Когда же приходится иметь дело с бумагами на предъявителя во время циркулирования их в гражданском обороте, то следует к ним применять нормы вещного права (стр. 88). Однако едва ли можно согласиться с автором в том, что установленное в римском праве различие области вещного и обязательственного права теряет в настоящее время свой резкий характер. Рассматривая вопрос о том, кому принадлежит право выдачи бумаг на предъявителя, г. Нерсесов находит, что <нет общего, правового основания, чтобы не признать за частными лицами права обязываться пред предъявителем документа> (стр. ;129). В отношении русского законодательства автор утверждает, что <за частным лицом остается право выпуска всяких бумаг на предъявителя, не подходящих под понятие денежных знаков> (стр. 133). Особенно спорным является вопрос о виндикации бумаг на предъявителя. Г. Нерсесов держится того взгляда, что, как не страдает от того торговый оборот, по ясному смыслу наших законов безусловное применение виндикационного иска к бумагам на предъявителя не подлежит сомнению (стр. 176-177). Того же взгляда придерживается в нашей литературе г. Победоносцев (Курс гражданского права, т. III, стр. 252), г. Окс в своей статье <Виндикация> (Журн. Гр. и Угол. Права, 1874, N 3, стр. 1-7). Существует, однако, и противоположное мнение, защитником которого является, напр., профессор Цитович в <Очерке основных понятий торгового права>, стр. 139-140, в Учебнике торгового права, стр. 192. При рассмотрении юридической природы представительства указанные исследователи должны были останавливаться на отличии этого правоотношения от договора в пользу третьих лиц. Но, кроме того, мы имеем еще две специальные работы по этому вопросу, барона Нолькена, <Договоры в пользу третьих лиц>, 1885, опыт теоретического исследования по гражданскому праву, и Дубовицкого <Договоры в пользу третьих лиц>, обширная статья в Юридическом Вестнике за 1885, N 6-7. Сочинение второго из приведенных авторов, по систематичности и последовательности, оставляет далеко за собой первое. Оно делится на 3 части, из которых первая содержит определение договора в пользу третьих лиц, вторая ;- историю этого вопроса и третья - догму. Первому автору, барону Нолькену, принадлежит еще другое сочинение, не оконченное впрочем. <Учение о поручительстве по римскому праву и новейшим законодательствам>, 1884, которое содержит в себе определение поручительства и отличие его от других смежных юридических отношений, очерк исторического развития института и начало догмы (общие условия действительности поручительства). Исходная точка зрения автора - римская и главное внимание его обращено на римское право. [69] Речь перед диспутом, - Журн. Гражд. и Угол. Права, 1872, № 5, стр. 960. Рассматривая основание представительства, внутреннюю сторону отношения, исследователи этого института невольно коснулись вопроса о комиссионном договоре. Однако договор этот имеет специального исследователя в лице известного практика, г. Носенко, который написал большую статью в Журнале Гражданского и Уголовного Права <О договоре комиссии> (1879, N 1, 2, 3, 4, 1882, N 6, 8, 9). Автор устанавливает совершенно правильное теоретическое понятие о комиссионном отношении как о деятельности от своего имени за чужой счет, согласно со взглядом германского права, в котором он оспаривает только признак профессиональности (1879, N 1, стр. 94). Автор дает сравнительное догматическое изложение договора, и как знаток практики, обращает главное внимание на решение вопросов с точки зрения русского права. О юридической природе комиссионного договора мы имеем еще небольшую заметку г. Миловидова в Юридическом Вестнике (1879, N ;11). По поводу этого договора поместил две статьи в Журнале Гражданского и Уголовного Права другой практик г. Садовский <Договор комиссии и несостоятельность участвующих в нем лиц> (1890, N ;5) и <Договор комиссии по действующим законодательствам и по нашей судебной практике>. Обе статьи не имеют никакого, ни научного, ни практического значения. Особенную трудность представляет у нас разграничение договоров запродажи, купли-продажи, поставки. Решение этого вопроса тем важнее, что с ним соединен значительный практический интерес ввиду той роли, какую играют эти договоры в гражданском обороте. Между тем русская литература не имеет полного догматического исследования относительно этих договоров, а юридическая природа их и отличительные признаки остаются до сих пор спорными. Достаточно сказать, что такие цивилисты, как Мейер и Победоносцев, придерживаются совершенно противоположных взглядов на куплю-продажу: первый считает ее за договор, второй - за действие, которым переносится право собственности с одного лица на другое. Постановления нашего законодательства о купле-продаже нашли себе комментатора в лице Любавского, написавшего <Опыт комментария законов о купле-продаже> (Юрид. Вестник, 1869, также в Юридических монографиях, т. III). Практический интерес к вопросу исследования Любавский объясняет тем, что <издание Высочайше утвержденного 14 апреля 1866 года Положения о нотариальной части, изменившего в нашем отечестве всю систему совершения актов и договоров и порядка укрепления имуществ, должно побудить юристов к изучению не только буквы, но и духа постановлений по сему предмету свода законов> (Юрид. Вестник, 1869, N 4, стр. 3). На куплю-продажу Любавский смотрит как на договор (стр. ;6). В противоположность этому постатейному комментарию с историческими и литературными пояснениями, г. Пестржецкий в своей статье <О договоре купли-продажи> (Журн. Гр. и Уг. Права, 1873, N 6, 1874, N 1) имел в виду дать систематическое изложение русского права в его бытовой форме. <Задача настоящего труда, - говорит г. Пестржецкий, - представить читателям обозрение состояния нашей судебной практики по делам о купле-продаже (1873, N 6, стр. ;25). Статья делится на две части, в первой указывается на главнейшие моменты договора купли-продажи в европейских законодательствах, преимущественно во французском и прусском, а во второй автор следит, по решениям гражданского кассационного департамента сената, за развитием этого учения у нас и делает его оценку. Однако нужно заметить, что в изложении не замечается никакой последовательности, это скорее решение отрывочных вопросов, вытекающих из договора купли-продажи. Той же цели, выяснению существенных признаков последнего, посвящена статья г. Змирлова <О договоре купли-продажи, запродажи и поставки по нашим законам> (Журн. Гражд. и Угол. Права, 1882, N ;3). К решению этого вопроса г. ;Змирлов старается приблизиться главным образом с точки зрения исторической. Насколько неясно различие в договорах купли-продажи, поставки и запродажи, насколько такая неясность вредна для практики, показывают лучше всего прения в с.-петербургском юридическом обществе по поводу читанных в 1880 году рефератов на эту тему гг. Юренева и Рихтера. Члены ученого общества, теоретики и практики, выказали самые противоречие взгляды, едва ли допускающие какое-либо соглашение. Достаточно сравнить тезисы обоих референтов-практиков, чтобы увидеть, как должен страдать торговый оборот от такой неясности в конструкции основной его сделки. Положение N 3 г. Юренева гласит, что продавать имущество может только собственник, тогда как г. ;Рихтер, в положении N 1 говорит: при купле-продаже движимости со сдачей на срок не требуется, чтобы продавец в самый момент заключения сделки был собственником продаваемой вещи. В положениях N ;2 и 4 г. ;Юренева высказывается, что объектом купли-продажи может быть только индивидуально определенная вещь или имущество, против чего г. Рихтер, в положении N 2, заявляет, что предметом купли-продажи могут быть вещи, определенные лишь по родовым признакам, и наоборот, предметом поставки могут быть вещи, определяемые по индивидуальным признакам. По мнению г. Юренева (положение N 6), договор поставки отличается от договора купли-продажи тем: а) что предметом поставки служит имущество, определенное лишь по роду, количеству и качеству, а при продаже требуется более точное определение имущества, b) что поставщик обыкновенно не бывает при заключении договора собственником поставляемых вещей, тогда как, при продаже, продавец должен быть собственником предмета сделки, с) что при поставке срок ;- существенное условие, а при продаже он назначается лишь в виде исключения. Совершенно иначе смотрит на дело г. Рихтер (положение N 3). Различие между договорами купли-продажи и поставки заключается в том, что предмет первого составляют вещь или вещи, доставляемые или не доставляемые в известное время, а предметом договора поставки служит совокупность как вещей, так и действий, направленных к их доставке, составляющая для поставщика предприятие по своей сложности, обширности и ценности. По договору поклажи в русской литературе имеется догматическая работа Хоткевича <О договоре поклажи или отдаче и приеме на сохранение движимого имущества между частными лицами>, помещенная в Московских Университетских Известиях (1869, N 9, 1870, N 1, 3, 7, 8 и 9). Сочинение не отличается научными достоинствами, страдает отсутствием систематичности изложения и поверхностным решением многих вопросов договора поклажи. Договор товарищества в общем не нашел себе исследователя, только акционерное товарищество рассмотрено в ясной, хотя и не особенно глубокой работе Писемского <Акционерные компании с точки зрения гражданского права>, 1876. Автор прибегает к сравнительному приему, а, переходя на русскую почву, не ограничивается законодательным материалом, но обращается к уставам акционерных товариществ. Сочинение г. Тарасова об акционерных компаниях, проникнутое полицейской точкой зрения, не имеет отношения к гражданскому праву. Издание общего устава российских железных дорог вызвало несколько комментариев к нему Вербловского, Квачевского, а в последнее время целое сочинение присяжного поверенного г. Рабиновича <Теория и практика железнодорожного права по перевозке грузов, багажа и пассажиров>, 1891 года. Со стороны догматической разработки русского права и критической оценки его постановлений, это произведение заслуживает полного внимания. Автор не упускает ни одного вопроса, который может возникнуть в этой области и решения его отличаются солидностью благодаря основательной мотивировке. Но теоретическая часть сочинения весьма недостаточна. Его анализ природы договора перевозки по железной дороге довольно слаб, а его литературные указания и ссылки ограничены и выбор неудачен. Автор отстаивает чисто договорный характер железнодорожной перевозки, но аргументация его неубедительна. <Обращаясь для этого к положительному закону, мы находим в нем ясный и категорический ответ. Общий устав российских железных дорог прямо признает существование договора между дорогой и отправителем> (стр. 2). Но дело не в том, как называет закон это отношение, а как он его конструирует, а именно с точки зрения установленных обязанностей железной дороги и возникает сомнение в договорном характере перевозки. Во всяком случае для практиков сочинение г. ;Рабиновича представляет большую ценность. По договору страхования мы имеем, если не считать книги г. ;Ноткина <Страхование имуществ по русскому законодательству>, 1888, с неопределенным содержанием, не то экономическим, не то юридическим, прекрасную с теоретической точки зрения работу присяжного поверенного г. Степанова <Опыт теории страхового договора>, 1875. Автор проявил замечательную способность к юридическому анализу и полную самостоятельность выводов. Г. Степанов исходным моментом взял экономическое понятие страхования и логически вывел из него юридическое понятие договора страхования, далеко не соответствующее господствующему воззрению на этот предмет. После исторического очерка развития договора страхования, г. ;Степанов устанавливает понятие о нем, причем признает, что предметом страхования могут быть только вещи физические (стр. 15), и ограничивает его от смежных правоотношений. В следующих главах автор разлагает страховой договор на основные элементы и рассматривает каждый в отдельности. Сочинение г. Степанова принадлежит к лучшим догматическим произведениям русской литературы. Мы имеем еще интересную статью г. Брандта <О страховом от огня договоре>, помещенную в Журнале Гражданского и Уголовного Права за 1875, N ;3 и 4. Один из институтов, которому посчастливилось в России, - это вексель. Мы видели, что уже Дильтей уделил ему внимание, а затем профессор Мейер читал лекции специально по этому вопросу и его <Очерк русского вексельного права> остается до сих пор едва ли не лучшим средством ознакомления с теорией и практикой векселя. С того времени появилось несколько сочинений, посвященных этому институту, Миловидова, Скалова, Бараца, Цитовича. Труд Николая Алексеевича Миловидова, доцента демидовского лицея, <Вексельное право>, 1876, представляет собой сжатое и ясное, но нередко поверхностное, изложение вексельного права. Автор прибегает к сравнительному приему, но главное его внимание обращено на русское законодательство. По вопросу о конструкции векселя, автор присоединяется к теории Кунтце и считает вексель за <одностороннее формальное обязательство> (стр. ;35). Однако вскоре затем, в отдельной статье <Юридический характер вексельного обязательства> (Юрид. Вестник, 1880, N 4), г. Миловидов отказался от этого взгляда и перешел на сторону договорной теории. Труд проф. Цитовича <Курс вексельного права>, 1887, составляет обширное сочинение по рассматриваемому вопросу. Особенную ценность в сочинении имеют ссылки на иностранные законодательства, которые приводятся автором в огромном числе, в противоположность Миловидову, который ограничился только французским и германским правом и изредка забегал в английское законодательство. Несомненно в курсе г. Цитовича подробно рассматриваются все отношения, вытекающие из обращения векселя, но мы думаем, что без вреда для содержания объем сочинения мог бы быть значительно уменьшен, потому что многословность и повторяемость автора только затрудняют уяснение его основной мысли и уменьшают педагогическое значение курса. В этом произведении г. Цитовича заслуживает особенного внимания исторический очерк развития вексельного института. Напротив, наиболее неудовлетворительной следует признать теоретическую часть, что объясняется намеренным избеганием со стороны автора всяких конструкций. Кроме сочинений, охватывающих все вексельное право, можно указать несколько монографий по отдельным его вопросам. Сюда относятся работы г. Чирихина <О протесте векселей>, 1879, и <О вексельной правоспособности>, 1882, но научного значения они не имеют, потому что автора задавил огромный материал, собранный из западных законодательств, в котором он не сумел разобраться. Не отличается научными достоинствами и сочинение профессора Табашникова <Прошлое векселя>, 1891 года, в котором автор имел в виду изложить историческое развитие вексельного права на Западе. К сожалению, автор не взялся непосредственно за изучение средневековых источников, статутов итальянских и германских городов, а пользуется ими из вторых рук. Даже средневековая литература по вексельному праву приводится из новейших книг германских ученых. Поэтому сочинение носит характер не самостоятельного исследования, а простой компиляции, не отличающейся и внешними достоинствами. Изложение страдает отсутствием всякой последовательности и системы. Последняя глава (об индоссаменте) обнаруживает в авторе незнакомство с основными юридическими понятиями. В области семейственного права, которое с практической точки зрения менее всего нуждается в научной разработке, литература обнаруживает самую большую бедность юридических исследований. Брачное право, как бы в оправдание слов Мейера, разрабатывается более канонистами, чем юристами, как в курсах церковного права (Суворов, Бердников), так и в монографиях (Горчаков, Павлов). В числе последних заслуживает внимания труд профессора петербургского университета священника Михаила Ивановича Горчакова <О тайне супружества>, 1880, удостоенный, по отзыву профессора Бердникова[70], Уваровской премии. Сочинение представляет собой исследование по истории русского права, но преследует практическую цель - установить, насколько правила 50-й главы Кормчей книги допускают законодательную реформу. Автор изучает происхождение этого источника русского обычного права, его историко-юридическое значение и определяет каноническое его достоинство. В нашу задачу не входит, конечно, рассмотрение всего того, что внесено было 50-й главой Кормчей книги в существовавшее до нее церковное понятие о браке. Для науки гражданского права, для критики законодательства имеет важность то обстоятельство, что глава эта, обязанная своим происхождением отчасти булле римского Папы Павла V (проф. Горчаков смешивает его с Павлом IV), отчасти ритору и хартофилаксу константинопольской церкви Мануилу, не имевшему в пределах великорусской церкви никакой власти, сама по себе канонического авторитета в русской церкви иметь не могла и не может (стр. 282). В результате исследования автор приходит к заключению, что <правительственная власть русской церкви, автокефальной и не зависимой от других поместных церквей, обладает каноническим авторитетом заменить всю 50-ю главу изданием самостоятельного законодательного памятника или руководственного наставления. С его изданием 50-я глава Кормчей книги отойдет в ряд таких источников права, память о которых сохраняется только в истории церковного права> (стр. ;384). Этот важный вывод соединен, однако, с многочисленными ошибками в исследовании, которые были указаны ему профессорами Павловым и Бердниковым. Тому же вопросу посвящено сочинение профессора московского университета Алексея Степановича Павлова <50-я глава Кормчей книги, как исторический и практический источник русского брачного права>, 1887. Нас не касается каноническая конструкция брака, предлагаемая г. Павловым, которая составляет, может быть, наиболее ценный вывод из многочисленных исследований почтенного ученого, но остановимся только на его мнении о значении 50-й главы Кормчей книги. <Происхождение составных частей этой главы из источников, не имеющих для православной и, в частности, для русской церкви законодательного авторитета, не может служить предосуждением ее каноническому достоинству. Как источник русского брачного права, она происходит не от римского папы Павла V, издавшего ритуал католической церкви, в котором находится подлинник первой части главы - статьи о тайне супружества, и не от хартофилакса константинопольской патриархии Мануила Ксанфинянина, которому принадлежит первоисточник второй части - о сродствах в тайне супружества, а от киевского митрополита Петра Могилы, который внес ее в свой Требник в качестве обязательного для духовенства своей митрополии руководства при совершении браков, и от святейших патриархов Иосифа и Никона с освященным собором великорусской церкви, которые приняли ее, конечно, с тем же самым значением, какое имела она в киевском Требнике, в состав изданной от их лица печатной Кормчей> (стр. ;219). Сочинение г. Павлова носит по преимуществу канонический характер и с этой стороны вызвало оживленную полемику между автором, проф. Бердниковым и Лашкаревым. В противоположность канонистам русские юристы совершенно обходят брачное право с его социальной и догматической стороны, между тем как при существовании различных вероисповеданий в России практика возбуждает много юридических вопросов. Только специалист по римскому праву профессор демидовского лицея, а потом одесского и наконец варшавского университета Дмитрий Иванович Азаревич обратил на этот институт свое внимание, посвятив ему небольшое сочинение <Брачные элементы и их значение>, 1879. По мысли автора, современный брак есть результат исторического развития народов. Поэтому, разложив современное понятие о браке на составные элементы, автор старается найти в истории соотношение между ними. <В каждом браке мы можем различать в настоящее время следующие три элемента: элемент реальный (?) или физический, элемент соглашения волей (?) и элемент этический. Реальный элемент брака заключается в осуществлении путем его того естественного закона, который основывается на различии полов. Брак по этому элементу составляет такое установление, путем которого поддерживается расположение человечества. Второй элемент брачного сожительства состоит в том, что соединение лиц разных полов в браке основывается не иначе, как на соглашении волей сторон, основывается на свободном определении этих волей. Наконец, брак есть тот союз любви, полного духовного общения, которое изъемлет его от каких-либо определений внешними положениями. Это есть третий элемент брака - элемент этический, нравственный> (стр. 5). Эти элементы, выведенные автором из наблюдения над современным браком, он хочет видеть в истории римского права постепенно усложняющимися. В древнейшем римском государстве общее назначение брака состояло в расположении семьи мужа (стр. 8), поэтому почти исключительной основой древнейшего римского брака был элемент физический или, как его почему-то называет автор, реальный (стр. 18), без присоединения элемента соглашения воли, тем менее этического (стр. 21). Позднее - автор не определяет этого момента даже приблизительно - согласие воли провозглашено необходимым элементом брака (стр. 24), отсутствие же этического характера в брачном союзе выражалось в свободе развода (стр. 30). Этический элемент в супружеских отношениях, как главнейшее следующее начало в браке, впервые выдвинут был христианством (стр. ;62, 68). Однако влияние христианства не было так безусловно, потому что г. Азаревич сам утверждает, что <разные социальные причины, о которых тут не может быть и речи, уже с последних годов республики вызвали такие явления брачной жизни, которые значительно напоминают христианский брак по своему высокому этическому смыслу> (стр. 74). Свою теорию трех элементов г. Азаревич проверяет на германской истории, в которой он видит аналогичные явления. В древнем германском браке существенным элементом был только элемент реальный, физический; обоих остальных элементов современного нормального брака мы не замечаем (стр. 107). Под влиянием римского права замечается стремление внести в германский брак элемент соглашения воли (стр. 112). Однако только торжество этического элемента христианского брака отодвигало на второй план физический элемент супружеских отношений (стр. 119). Продолжением этого сочинения является обширная статья г. ;Азаревича <Русский брак>, помещенная в Журнале Гражданского и Уголовного Права (1880, кн. 5 и 6) и вызванная упреком со стороны критика г. ;Деппа (Журн. Гр. и Уг. Пр., 1879, кн. 5, стр. 122), что автор не обратился к отечественному праву, как бы опасаясь коснуться материала, в литературе вовсе не разработанного. Рассматривая различные формы брака в древней России, г. Азаревич приходит к выводу, что свободного соглашения, как брачного элемента, в ту пору не существовало (N 5, стр. 94), а потому он признает в древнем браке наличность, главным образом, реального элемента. Господство этого элемента весьма ясно сказалось уже в самой обстановке брака. Насилие, употребляемое при умычке без предварительного уговора, ясно выражает лишь физические потребности мужчины (N 5, стр. 113). По мнению автора <господство физического элемента брака способствовало к крайнему развитию в русском обществе сладострастия и разврата> (N ;5, 116 и 123), как будто форма брака способна сама по себе произвести подобное действие, да еще в патриархальном быту. Христианство и здесь способствовало установлению нравственного начала в браке. Церковь стала во враждебное отношение ко всему, способному вызвать озлобление тела (N 5, стр. 124), физический элемент был признан грехом (N 5, стр. 126). Выдвигая на первый план нравственный элемент брачного сожития, законодательство следует логически за церковью в ее взгляде на физический элемент брака (N 6, стр. 102). Статья не лишена некоторых выводов в отношении законодательной политики по брачному вопросу. [70] Отчет о двадцать шестом присуждении наград графа Уварова, 1884. Пример западных стран возбудил и в русском обществе мысль о гражданском браке, которая нашла себе здесь благоприятную почву среди интеллигенции. К сожалению, гражданский брак понимался иногда в самой извращенной форме, как простое сожитие, не освященное ни божеским, ни человеческим правом. Такие толкователи понятия о гражданском браке способствовали только подрыву доверия в обществе к этому учреждению. Задача науки была установить действительный смысл этой идеи и выяснить, насколько русское общество нуждается в перенесении к нему этого института и насколько оно приготовлено к его восприятию. Мы уже видели, что один из выдающихся наших ученых, более других одаренный широкой социологической точкой зрения, кавелин, высказался в пользу гражданского брака. Действительно, многое говорит в пользу последнего. Рождение, брак и смерть - это такие события, которые имеют громадное частноправовое и публичное значение для государства и потому желательно, чтобы наблюдение за ними было устроено возможно правильнее и точнее. Это возможно только при установлении однообразной государственной системы регистрации. Затем, церковное венчание, подобно исповеди, как религиозный акт, не может быть вынуждаемо, а может быть только выражением свободного религиозного чувства. При существовании в государстве различных вероисповеданий гражданский брак является прекрасным средством выхода из религиозных затруднений, стоящих на пути брачного соединения между гражданами. Такие и другие еще соображения приводятся в защиту гражданского брака. Однако наши цивилисты и канонисты выступили против гражданского брака. В этом духе составлены пробная лекция профессора Загоровского <Гражданский брак>, помещенная в Судебном Вестнике за 1876 год, публичные лекции профессора Суворова <О гражданском браке>, 1887, и особенно профессора Бердникова в его актовых речах <Форма заключения брака у европейских народов в ее историческом развитии>, 1887 и <Новое государство в его отношении к религии>, 1888. Все они сходятся на том, что русская жизнь не выработала почвы для гражданского брака, который по идее своей противен религиозному чувству народа. Взгляд г. Победоносцева на этот предмет нам уже известен. Находя вполне естественным появление гражданского брака на Западе, ввиду борьбы между государством и церковью, считая католическую церковь саму виновной в успехе новой идеи, г. Победоносцев восстает против мысли о перенесении гражданского брака в Россию, как глубоко противной народному религиозному сознанию. <Где масса народная принадлежит к единому вероисповеданию, глубоко слившемуся с национальностью, где народ и не слыхивал о политической борьбе между церковью и государством>, там, говорит г. Победоносцев, возможна только церковная форма брака (Курс II, стр. 64). Можно, однако, усомниться, чтобы приведенные слова относились к русскому государству, если принять во внимание национальное и вероисповедное разнообразие состава его населения. Профессор Загоровский, рассматривающий гражданский брак главным образом с исторической стороны, приходит к заключению, что <правительства, санкционировавшие гражданский брак, и народ, для которого он был санкционирован, всегда смотрели на сей брак, как на известного рода крайнее средство, вызванное критическим положением брачного права> (Суд. Вестн., N 90). Так как наша история не представляет тех условий, при которых развился общеобязательный гражданский брак на Западе, то введение его в нашем государстве не находит для себя убедительных мотивов. <Оно не может быть оправдываемо ни отношением церкви к государству, ни настоятельностью реформы в брачном праве, а в том числе и необходимостью более легкого развода, ни интеллектуальным развитием нашего народа, ни его национальным воззрением на брак, ни, наконец, практическими выгодами. Церковный брак, таким образом, необходимо должен оставаться у нас общим правилом> (Суд. Вестн., N 91). Особенно энергическим противником гражданского брака выступил профессор казанской духовной академии, а вместе и казанского университета, известный многочисленными изысканиями в области канонического права, Илья Степанович Бердников. В первой из его речей автор дает очерк, довольно поверхностный, различных форм брака от похищения до гражданского брака, и в конце задается вопросом, как следует отнестись к историческому процессу изменений в форме заключения брака? Все ли в нем совершается к лучшему? <Едва ли, - говорит он, - можно отвечать на этот вопрос утвердительно с полной справедливостью> (стр. ;42). Автор находит неуместным позволение детям жаловаться суду на родителей в случае отказа последних в согласии на их брак. Это позволение чувствительно затрагивает авторитет родительской власти, колеблет твердость семьи ради некоторых исключительных случаев. Но как же, однако, поступить в случае безосновательного или даже злоумышленного отказа? Автор полагает, что лучшее разрешение вопроса дает наше законодательство, которое, не давая детям такого позволения, не расторгает браков, заключенных помимо воли родителей (стр. 44). Но разве можно назвать разрешением вопроса представление дела случаю, когда брачующиеся найдут священника, который согласится венчать без согласия родителей. А если не найдут? Да и служит ли такой тайный брак к укреплению родительского авторитета? Главное нападение направляет г. Бердников на гражданский брак, который он считает явлением ненормальным (стр. 44). Ссылаясь на то, что законодатель должен преследовать интересы наибольшего числа граждан, автор утверждает, что гражданский брак противен большинству и может быть приятен немногим, очевидно, плохим христианам (стр. ;46). При этом автор упускает из виду руководительную роль законодателя. <Ради удобств небольшого числа граждан государство решается оскорблять религиозную совесть огромного большинства населения, ломает порядок, установившийся веками (?), вошедший в плоть и кровь населения и полагает начало новому порядку, где нет места влиянию религии, где совсем игнорируются церковные правила>. Из исторического очерка г. Бердникова обнаруживается, что церковное венчание не составляет формы, возникшей с христианством. Во-вторых, установление гражданского брака не исключает церковного венчания и если в большинстве населения тверды религиозные правила, то браки не обойдутся без благословения церкви; если же народ будет избегать церковного освящения и довольствоваться гражданской формой, значит в нем нет твердых религиозных убеждений, а тогда не может быть и речи об оскорблении религиозной совести. Еще более резко проявляется враждебное отношение г. Бердникова к гражданскому браку, как одной из форм выражения идеи разделения государства и церкви, в его речи <Новое государство в его отношении к религии>, проникнутой, к сожалению, столь сильно богословским мировоззрением, что отстраняет совершенно государственную точку зрения. Сдержаннее высказывается, хотя также в отрицательном смысле, автор замечательного курса церковного права, профессор демидовского лицея Николай Семенович Суворов в брошюре <О гражданском браке>. Автор дает ясный и обстоятельный очерк развития идеи гражданского брака у европейских народов. Установив понятия о трех типах гражданского брака, необходимом, факультативном и обязательном (стр. 56), г. Суворов отвергает возможность перенесения к нам двух последних форм, но склоняется к допущению первой. <Гражданский брак, в границах государственной необходимости, не есть ни кощунственная пародия на брак, ни нападение на народную нравственность, ни покушение на индивидуальную человеческую свободу, а означает успех человеческой культуры и завоевание человеческого ума, указывает на прогресс в истории человечества, даже служит признаком христианской цивилизации, которая, в отличие от античной цивилизации, совершенно смешивавшей и сливавшей религиозное с государственным и государственное и религиозным, до насилия над совестью человеческой, зиждется на различии Божьего и кесарева> (стр. 86-87). Под именем гражданского брака, вызванного государственной необходимостью (Nothcivilehe) понимается институт, обусловленный невозможностью примирения вероисповедных различий, которые отражаются вредно на юридических актах, а, следовательно, и на государственных интересах. Г. ;Суворов выражает сожаление, что закон 19 апреля 1874 года, установивший гражданский брак для раскольников, не распространяется на прочих диссидентов, чем могла бы быть устранена совершенная неясность и непрочность отношений сожительствующих между собой мужчин и женщин и их детей (стр. 84). Личные и имущественные отношения, возникающие из брака, обратили на себя внимание наших юристов ввиду жизненного интереса, возбуждаемого этим вопросом. Впрочем, этот предмет рассматривается главным образом в журнальных статьях, правда, иногда очень больших, как напр., Оршанского или Юренева. Имущественные отношения супругов, помимо догматической разработки, возбудили главным образом два вопроса в русской литературе - о происхождении системы раздельности имуществ и о целесообразности ее. На первый вопрос некоторые юристы отвечали, что эта система является логическим выводом из истории русского законодательства. Мы уже видели, что это мнение Неволина и г. Победоносцева; к нему присоединяется г. Савельев в статье <Очерк личных и имущественных отношений между супругами по русским законам и обычному праву> (Юрид. Вестник, 1878, N 12, стр. 781, 1879, N 1, стр. 149). Иные объясняют это явление женским влиянием на законодательную деятельность, особенно при императрицах Елизавете и Екатерине II, к этому взгляду отчасти примыкает Мейер ( 50). Совершенно оригинальную попытку объяснения выдвигает Оршанский, о котором нам приходилось уже говорить неоднократно. В своей статье <Личные и имущественные отношения супругов> (Суд. Журнал, 1874, N ;1, 2, 3 и 4), признавая некоторое значение исторического элемента и женского влияния, Оршанский проводит мысль, что система раздельности имуществ между супругами является плодом кодификационного недоразумения. <Принцип раздельности имуществ не есть в нашем праве нечто положительное, результат известного правового убеждения, а факт отрицательный. Это не закон о раздельности, а отсутствие закона об общности имущественных интересов и прав супругов> (N 4, стр. ;128). <Единственный мотив, руководивший нашими высшими учреждениями при установлении самостоятельности супругов по имуществу, заключался в отсутствии указов, устанавливающих противоположное начало> (стр. 129). Лучшим ответом на это предположение могут служить собственные слова Оршанского - <еще менее мы можем допустить, чтобы закон, вызванный стечением обстоятельств, мог укорениться, получить полное развитие и удержаться до сих пор. Очевидно, должны быть причины, глубже лежащие, когда дело идет о правовом институте, затрагивающем обыденные интересы всего населения и придающем этим интересам другое направление, чем у всех цивилизованных народов> (стр. ;126). Несмотря на различные попытки объяснения, институт раздельности имуществ между супругами остается до сих пор сфинксом русского права, по меткому замечанию того же Оршанского> (стр. 122). Оценка русской системы вызвала разногласие среди русских юристов. Так, Мейер находил, что имущественная раздельность составляет благодеяние со стороны законодательства, потому что общность имущества устанавливается фактически при семейном согласии и мире и в этом случае вообще нет надобности в юридических нормах, напротив, при раздоре в семье только раздельность имуществ может обеспечить интересы каждого из супругов, потому что эта система охраняет интересы жены, когда муж обнаруживает наклонность промотать в кутежах все достояние семьи, и интересы мужа, когда жена склонна к роскоши в обстановке и костюмах. К этой системе склоняются также симпатии г. ;Победоносцева. Оршанский считает основной принцип нашего законодательства по этому предмету гораздо более разумным и справедливым, чем системы других европейских законодательств. Однако, признавая, что начало раздельности представляет в сущности не более как фикцию, потому что брак несомненно оказывает влияние на имущественные отношения супругов, Оршанский отстаивает необходимость некоторых изменений, весьма, впрочем, незначительных. Так он утверждает, что действие давности неприменимо к отношениям между супругами, что следует усилить законы, направленные к предупреждению сделок между супругами во вред третьих лиц и представить суду большую свободу оценки и др. (Суд. Журн., 1874, май-июнь, стр. 150-155). Однако другие юристы иначе относятся к оригинальной русской системе. Так, г. Юренев, указывая, что муж может растратить все состояние и не только лишить жену содержания, на которое она по закону имеет право, но и сам еще будет кормиться на средства жены или детей, говорит, что устранить это зло можно, если признается необходимым установить какие-нибудь ограничительные условия как для жены относительно ее приданого, так и для мужа относительно имущества, предназначаемого (?) на содержание семейства. (Семейственные и гражданские права женщин по русским и польским законам, Ж. ;Гр. и Уг. Пр. 1877, N 6, стр. 62.) Особенно энергичным противником системы раздельности имуществ выступил профессор Азаревич в статье <Семейные имущественные отношения по русскому праву> (Ж. ;Гр. и Уг. Пр. 1883, N ;4). <Всегда и везде, - говорит он, брак налагает обязанность содержать семью, как при детях, так и без них. Брак, устанавливая семью, рождает особую совокупность интересов, которым оба супруга должны служить. Брак несовместим с господством эгоистических личных интересов. Потому каждый, вступая в брак, знает, что он принимает на себя обязанность содержать семью, служить ее особым, от своих личных, интересам. Вот для осуществления этих обязанностей и необходим особый имущественный источник, которого назначение должно состоять в содержании семьи, независимо от каких-либо случайностей, и в случае потомства, в обеспечении последнего в прохождении жизненного пути> (стр. 105). Исходя из этого взгляда, г. Азаревич приходит к заключению, что принцип раздельности имущества, который не имеет за себя никаких солидных основ в истории русского семейного права (стр. 107), совершенно нерационален с современной точки зрения (стр. 128). Возражения его против системы раздельности довольно слабы и сводятся к тому, что брак по идее есть полное единение, а начало имущественной раздельности вводит в него обособленность (стр. 111). Свою статью проф. Азаревич заканчивает следующими словами: <горячо принимая к сердцу судьбу нашей русской семьи, автор считал бы себя счастливым, если высказанный в этой статье взгляд действительно пригоден к тому, чтобы скрепить расшатанные семейные узы, хотя пока только с имущественной стороны> (стр. 136). В восьмидесятых годах русская литература открыла целый поход против нашего бракоразводного права. Не говоря о массе газетных заметок и статей в общих журналах, настаивавших на расширении свободы развода и изъятия бракоразводного процесса из ведения духовных судов, в том же духе высказались и юристы. В 1883 году московское юридическое общество выслушало доклад г. Лазовского, который настаивал на расширении свободы развода. По его мнению, необходимо уничтожить казуистическое перечисление поводов к разводу, как идущее вразрез с требованиями жизни, и регламентировать в более общем духе то состояние семейных отношений, при которых, как разрушающих брак внутренне, должно быть признано и внешнее его уничтожение посредством развода (положение I), а решение вопроса о наличности условий для расторжения брака предоставить суду присяжных (положение II). Замечательно, что члены общества высказались в том же духе и даже авторитетный канонист А.С. Павлов, не соглашаясь с предложением референта, признал, однако, неудовлетворительность постановки развода в нашем законодательстве и заявил, что к реформе брачного права, сообразно современным потребностям, не может быть препятствий со стороны церкви. В следующем году и петербургскому юридическому обществу был доложен присяжным поверенным Арсеньевым реферат на тему <Разлучение супругов как необходимый институт брачного права> (напечатан в Вестнике Европы, 1884, март), в котором докладчик доказывал, что разлучение супругов, существующее у нас как факт, должно быть возведено на степень правильно организованного юридического института, поставленного рядом с разводом. В 1881 году вышло сочинение Способина <О разводе в России>, представляющее критику существующего порядка. Этот труд состоит из трех частей, исторической, догматической и критической. Принимая во внимание <исторический закон, по коему, как бы ни высоки были нравственные принципы религии, они не могут войти в жизнь народа, если низко его умственное развитие>, г. Способин отрицает влияние христианских начал на русский брак (стр. ;18-19), и предполагает, что народ, в области семейных отношений, руководствовался своими языческими обычаями (стр. ;30). Автор приходит к заключению, что <брак, по существу своему, был у нас институтом строго гражданского права> (стр. ;49). В догматической части автор останавливается не только на разводе между православными, но приводит постановления о разводе между иноверцами, евреями, махометанами. Приступая к оценке действующего права, г. Способин относится к нему вполне отрицательно. Главным недостатком нашего бракоразводного права автор считает то обстоятельство, что <законодатель не может отказаться от взгляда на брак, как союз религиозный по существу> (стр. 137), тогда как учреждение это должно рассматриваться с государственной точки зрения. Так как религия не является даже главным фактором жизни и развития отдельных лиц и государства (стр. 141) и так как развод имеет большое значение в жизни правовой, физической, экономической, в быту строго государственном, то нормировать развод только под влиянием сознания о его религиозном смысле невозможно (стр. ;143 и 156). Переходя к предложению изменений в действующем законодательстве, г. Способин настаивает на необходимости расширить основания, по которым должен быть допущен развод, причем следует обратить внимание не только на физическую сторону (стр. 169), а также на изъятие бракоразводных дел из ведомства духовных судов. Сочинение написано легко и живо, хотя нередко переходит в легкомысленность, в утверждение положений без всяких доказательств, как напр., <история указывает, что где допускается развод, там семейный союз более уважается и прочнее> (стр. 176). К тому же вопросу подступил в своей докторской диссертации <О ;разводе по русскому праву>, 1884, профессор харьковского, а в настоящее время одесского университета, Александр Иванович Загоровский. Этот ученый обратил свое внимание главным образом на те части гражданского брака, которые имеют выдающееся социальное значение. При решении вопросов автор стоит всегда на высоте современных требований и горячо защищает свои взгляды, причем, владея прекрасным литературным языком, возбуждает интерес к излагаемому предмету. Значительно слабее его попытки вступить в область чистой цивилистики. Статьи, помещенные им в юридических журналах, представляются очень слабыми и доказывают, что автор не цивилист по призванию. Кроме <Исторического очерка займа по русскому праву до конца XVIII века>, 1875, с которым г. Загоровский вступил на научное поприще, мы имеем еще от него сочинение <Незаконнорожденные по саксонскому и французскому гражданским кодексам в связи с принципиальным решением вопроса о незаконнорожденности вообще>, 1879. В этом труде, составляющем его магистерскую диссертацию, автор, после обзора исторического развития вопроса, сопоставляет две противоположные системы, саксонскую и французскую, высказывается решительно в пользу первой, находя, что <она не только согласуется с началами правды, права и законодательной политики, но и имеет за собой последнее слово науки (стр. 193) и осуждает вторую систему, отвергающую всякую связь незаконного ребенка с его отцом. Касаясь иногда русского права, автор подвергает его строгой критике. В своем сочинении <О разводе по русскому праву> г. Загоровский задается главным образом целью проследить исторический ход русского правосознания в институте развода (предисловие), но не ограничивается одной историей, а дает вслед за ней догматико-критический анализ русского права. Историческая часть составляет, конечно, наиболее ценную часть сочинения, потому что в ней автор дает много нового материала. Догматика его несколько поверхностна, так как автор скользит по многим важным вопросам, а его критика не достаточно ясна, так что следует признать правильность замечания проф. Суворова - <нельзя сказать, - говорит он, - чтобы исследованием г. Загоровского разъяснено было очень многое относительно того направления, в котором должно идти будущее развитие бракоразводного права>[71]. [71] Отчет о 29 присуждении наград графа Уварова, стр. 57. Из частных вопросов бракоразводного права заслуживает внимания запрещение вступать в новый брак лицу, осужденному за прелюбодеяние. Вопрос этот, некогда поднятый проф. Павловым, подвергли снова пересмотру со стороны проф. Суворова в его статье <О безбрачии, как о последствии расторжения брака по причине прелюбодеяния> (Юрид. Вестник, 1889, август). В противоположность взгляду г. ;Барсова, выраженному в статье <О последствиях расторжения брака в случае прелюбодеяния> (Христианское чтение, 1882, N 5), проф. Суворов, высказывая сомнение в силе правила об осуждении на безбрачие в действующем законодательстве, приходит к заключению, что с точки зрения канонического права, нет никаких препятствий к уничтожению этого постановления[72]. Наследственное право приобрело менее всего исследователей. Если не считать не имеющих значения журнальных статей, то мы имеем в этой области только две монографии, Никольского и Демченко. Владимир Николаевич Никольский, который в пятидесятых годах выступил с исторической работой, теперь, под влиянием запроса на догматические сочинения, издал труд <Об основных моментах наследования>, 1871. В том и другом направлении автор оказался вполне на своем месте и его догматическая работа не уступает по достоинству исторической, так что невольно вызывается сожаление о ранней кончине автора, лишившей науку полезного деятеля. Насколько в исторических изысканиях Никольский сумел погрузиться в дух истории, настолько в догматических исследованиях он устремился в самую глубь института. В указанном сочинении Никольский предлагает юридическую конструкцию наследования и проверяет ее на отдельных моментах наследственного права. Если нельзя согласиться с некоторыми основными положениями автора, зато нельзя не отдать чести его методу исследования, его глубокому анализу, его философскому взгляду, которым он освящает многие существенные вопросы русского права. Основанием наследования, по мнению Никольского, является непрерывность человеческой жизни. <Юридические отношения суть отношения самой жизни, т.е. постоянные ее потребности, возведенные в обыкновенную принудительную силу, не зависимую от произвола частных лиц и случайностей единичного их бытия. Человек, как отдельное существо, как индивид, проходит, но юридические отношения, как потребности жизни, остаются; носитель их выпадает из жизни, но они, как объективные силы, как праздной ставшая власть или подчинение, как право чего-либо требовать или как обязанность удовлетворять требованию других, переживают своего господина. На упраздненное место вступают другие лица и восполняют пустоту, произведенную смертью. Таким образом, потребности жизни, как юридические силы в формах власти и подчинения, являются чем-то постоянным и существенным, лица же, напротив, преходящим и случайным> (стр. 6-7). Из этих слов можно было бы предугадать конструкцию, которую дает автор наследованию. <Перенесение юридических отношений умершего на новое лицо совершается здесь посредством юридической фикции в момент смерти или исчезновения. Эта юридическая фикция есть не что иное, как выражение непрерывности юридических отношений, юридической жизни> (стр. 10). Поэтому наследственное право, которое не есть сумма прав, принадлежащих оставителю наследства, но одно особенное право на имущественное состояние его, составляет, по взгляду Никольского, право на личность, т.е. по преимуществу личное право (стр. 57). Имущественное же свойство его обнаруживается скорее в последствиях, нежели заключается в его существе (стр. ;58). С этой точки зрения автор объясняет и вполне оправдывает ответственность наследника свыше полученной ценности (стр. ;54-55). Автор полагает, что его взгляд согласуется с воззрением римского права, противоречит германскому праву (стр. 68) и до известной степени примиряется с французским (стр. 72) и русским правом (стр. 87). Как трудно согласиться с его конструкцией права наследования, так же нельзя признать верности отдельных выводов. <Наследник осуществляет право собственности, право на чужую вещь и т.д. не потому, что он собственник или веритель, а потому что он наследник> (стр. ;59). Собственность защищается именно в силу права собственности, а не основания ее возникновения. Повторяем, что с методологической стороны сочинение Никольского не имеет себе равного среди русских догматических работ. Как конструктор, он может служить прекрасным образцом. Притом, отдавая должную дань римскому праву, автор не поддается его влиянию и, в противоположность германским теоретикам, строит свою теорию не на римском праве, а на новейших законодательствах, особенно на русском. В этом обстоятельстве кроется трудность предпринятой автором задачи, но тем большей является его заслуга. Ниже по достоинству[73] стоит сочинение профессора киевского университета Василия Григорьевича Демченко <Существо наследства и призвание к наследованию по русскому праву>, 1877, вып. ;I. Главным предметом исследования автора является не конструкция наследования, как у Никольского, а установление с исторической и догматической стороны круга лиц, призываемых к наследованию. Существо же наследства очень мало выясняется в рассматриваемом сочинении. <Со смертью лица имущественные отношения его, по общему правилу, не ликвидируются (!) и не прекращаются, но сохраняются и после него> (стр. ;1). На этом положении Никольский создал свою конструкцию, тогда как г. Демченко не сделал из него никакого употребления. <Ближайшее непосредственное основание наследования заключается в силе частной принадлежности имуществ, именно - в той высшей степени ее, которая называется наследственностью, принадлежностью наследственной, принадлежностью вечной и потомственной>. Это положение содержит в себе явное для каждого petitio principii и мало способствует выяснению существа наследования вообще и русского в частности. Заслуживает внимания догматическая часть сочинения, насколько она касается определения круга лиц, призываемых по нашему законодательству к наследованию, отношения многих наследников к наследству и отношения различных оснований призвания наследников к одному наследственному имуществу. Наш обзор догматических работ по гражданскому праву был бы неполон, если бы мы не указали на труды в области особой части этой науки, в торговом праве, которое в последнее время все более привлекает к себе внимание русских ученых. В 1829 году появилось в Риге сочинение Бунге Darstellung des heutigen russischen Handelsrechts, которое имело своим содержанием главным образом сословные права купцов. В 1860 году профессор петербургского университета Михайлов издал <Торговое право> в 3-х выпусках. Автор настолько односторонне понял требования исторической школы, что под указанным заглавием дал изложение одной только истории всемирной торговли. Судебная реформа, отразившаяся также на характере судопроизводства в коммерческих судах, возбудила практическую потребность в догматической разработке того отдела гражданского права, который носит название торгового права. К тому же побуждало и необыкновенное развитие торговли, проявившееся после крымской войны. Чувствуя эту жизненную потребность, университеты старались удовлетворить ей, добровольно открывая курсы науки, успевшей уже на Западе оказать большие успехи. Профессора Цитович и Малышев открыли чтения по этому предмету. Преподавание торгового права впервые было внесено в демидовский лицей по уставу 1874 года, который странным образом соединил в одной кафедре торговое право и гражданский процесс. Затем в 1883 году торговое право внесено в круг наук, преподаваемых в училище правоведения, а по университетскому уставу 1884 года кафедра торгового права учреждена во всех университетах. С этого времени курсы и монографии по этому предмету появляется все чаще, возбуждается вопрос о его научной самостоятельности и методах его разработки. Особенная заслуга в деле постановки у нас торгового права принадлежит профессору Цитовичу, несмотря на значительные недостатки, присущие его трудам. Еще в 1873 году, в бытность свою в Одессе, г. Цитович начал издание <Лекций по торговому праву>, но оставил работу неоконченной. Издание вышло несколько небрежным, поспешным, но заслуживающим внимания, потому что в основание лекций положено русское право. С возвращением в 1884 году к преподавательской деятельности, г. Цитович обратился главным образом к торговому праву. В 1886 году он издал <Очерк основных понятий торгового права>, в 1891 году ;- <Учебник торгового права>, вып. I. Первое из указанных сочинений страдает существенным недостатком отрешенностью от почвы положительных законодательств. Напротив, последнее произведение, в котором г. ;Цитович отступил от многих оригинальных взглядов, сгладил своеобразный слог, затруднявший уяснение мысли автора, обещает быть ценным приобретением для русской науки. Профессор Цитович снова обращается в нем к русскому законодательству, к судебной практике, которую он до сих пор игнорировал, расширил объем изложения. Неоконченную попытку издания курса представил преподаватель училища правоведения Александр Павлович Башилов в сочинении <Русское торговое право>, которого вышел только первый выпуск в 1887 году. Как практик, автор оказывает науке услугу, выставляя требования жизни, торгового оборота, но вместе с тем слишком мало обращает внимания на теорию права, на иностранную литературу и западные законодательства, между тем как такой сравнительный прием в торговом праве безусловно необходим. Следует заметить, что в русской литературе не обнаружилось особенное сочувствие обособлению науки торгового права, так же как и выделению торгового законодательства из гражданского. Мы уже видели, что г. Пахман, при возбуждении вопроса о системе будущего русского гражданского уложения, отстаивал необходимость единства кодекса. В рецензии на сочинение Кавелина г. Муромцев заметил, что <никто, вероятно, не откажется признать под отделами гражданского права торговое и вексельное> (Крит. Обозр., 1879, N ;18). Тем не менее в нашей литературе отстаивалась самостоятельность науки торгового права и отдельность торгового кодекса. На этой точке зрения стоит г. ;Малышев в статье <Об ученой разработке торгового права в России> (Ж. Гр. и Уг. Пр., 1875, N 6), г. ;Башилов в <Русском торговом праве> (предисловие), г. Цитович в Учебнике (стр. 11, прим. 4), Гельбке в брошюре <Торговое право и гражданское уложение>, 1884. Критике этого взгляда посвящено мое сочинение <Система торговых действий>. Заметим, в нашей литературе еще не вполне выяснилось, что торговое право носит характер цивилистический, как это можно судить по указанной сейчас брошюре Гельбке (стр. 4) и <Очеркам юридической энциклопедии> профессора Рененкамфа (стр. 190). По вопросу о научной постановке и методе разработки торгового права соглашения между русскими юристами также не состоялось. В своей вступительной лекции г. Малышев, настаивал на научной самостоятельности торгового права, полагал, что средством к построению ее, за бедностью нашего законодательства, должны служить теория и законодательства Западной Европы, обычаи русского торгового быта и судебная практика; весь этот материал должен быть разрабатываем в системе, принятой в иностранных руководствах (Ж. Гр. и Уг. Пр. 1875, N ;6). Профессор Цитович стоит главным образом на теоретической почве, предлагая торговые институты в том виде, как они выработались на Западе, независимо от местных особенностей. Со своей стороны я настаивал на отсутствии в России особого торгового законодательства, на излишестве создания особой науки торгового права, на полезности более подробного исследования тех отделов гражданского права, которые имеют ближайшее отношение к торговле; с этой точки зрения материал для торгового права тот же, что и для гражданского права, настолько он касается торговли. В последнее время приват-доцент петербургского университета г. Гольмстен в статье <Настоящее и будущее науки русского торгового права> (Юрид. Лет., 1891, N 12), признал что построение русского (?) торгового права из того материала, которым пользовались в своих курсах г. Цитович и я, невозможно. Он находит совершенно неправильным включение в состав торгового права институтов, подобных вексельному, акционерному, страховому, что вся построенная нами система и разрешение отдельных вопросов не что иное, как импровизация. Г. Гольмстен того мнения, что задача торгового права исследовать лишь особенности общегражданских институтов. <У нас всегда была и есть своя цельная система торгового обычного права; русское торговое право есть почти исключительно обычное торговое право и это последнее только и может быть предметом исследования науки русского права> (стр. 487). Так как до сих пор этот материал не исследован, то г. ;Гольмстен обращается к совокупной деятельности правительства, общества и ученых. Однако каждому юристу ясно, что подобная работа невыполнима и во многие годы. Между тем торговля развивается, торговые сделки заключаются ежедневно в массе, а суд остается без научной помощи. Г. Гольмстен упускает из виду, что в быту торговом сделки имеют интерес в совокупности, а не настолько лишь, насколько они представляют особенности сравнительно с постановлениями гражданского права. Поэтому отрывочное изложение обрывков не может иметь ни научного, ни практического значения. Нельзя не отметить одной особенности в изложении г. Гольмстена: он упрекает г. Цитовича в неверности взгляда на periculum при покупке и считает его противоречащим воззрению нашего торгового быта, ссылаясь при этом на решения петербургского коммерческого суда (стр. 479), затем меня он упрекает за пользование материалом судебной практики, потому что последняя также импровизирует и строит ни на чем не основанные теории, следовательно не выражает действительного обычного права (стр. 480), а предлагая порядок собирания обычаев, он указывает, как на образец, на сборники решений петербургского коммерческого суда (стр. 488). Отвергая возможность систематического изложения торгового права при современном положении дела, г. Гольмстен открыл в петербургском университете курс по торговому праву. Глава V Не успело практическое направление окрепнуть, не успело дать сколько-нибудь ценных для жизни результатов, связать теорию с практикой, как в науку гражданского права ворвалось новое течение мысли, оторвавшее снова теорию от практики. Причиной этого явления опять-таки оказывается влияние Запада. <Высшая задача науки содействовать отечественному правосудию>, <благородная цель открытия духа новых судебных уставов> были оставлены ради новой блестящей звезды, открывшей русским ученым путь, по которому не пошли соотечественники новатора. Служение практическим целям - отправлению правосудия, показалось унизительным, недостойным истинной науки, которая должна быть вполне объективна. Новому направлению мысли в юриспруденции способствовали два обстоятельства, успех социологии в русском обществе и привлекательность новизны в учении Иеринга. Редкий философ в своем отечестве имел такое значение, как Герберт Спенсер в русском обществе. Мы имеем почти все сочинения английского писателя в русском переводе - факт замечательный на нашем книжном рынке, объясняемый только спросом, превосходящим обычный уровень. Под его влиянием социология стала любимой наукой в русском обществе, с которой должен был знаться каждый образованный человек. Русская литература видела и внесла много социологических этюдов, даже целых социологией, каждому явлению необходимо было подыскать социологическое обоснование. При таком распространении социологической точки зрения трудно предполагать, чтобы она могла отразиться на юриспруденции. Молодые ученые невольно переносили в свои занятия вынесенное ими из студенческой атмосферы увлечение социологией. Спенсер, Тейлор, Леббок, воспринятые еще на университетской скамье и значительно расширившие умственный кругозор ученых, начинают все чаще и чаще мелькать на страницах специальных юридических сочинений. В связи с социологическим направлением находится склонность русских ученых, особенно публицистов, к историко-сравни-тельному методу. Как социология задается целью установления законов развития человечества, так в частности государственные науки преследуют цель изучения законов развития государственных форм на основании сравнения одинаковых ступеней в истории различных народов. Особенно представителем этого направления является бывший профессор московского университета Максим Максимович Ковалевский, выразивший свой взгляд на этот предмет в брошюре <Историко-сравнительный метод юриспруденции и приемы изучения истории права>, 1880. Многие исследования содержали в себе и раньше как историю, так и сравнение с другими законодательствами постановлений русского права. Однако сочинения эти не могут считаться написанными в духе историко-сравнительного направления, - заблуждение, нередко встречаемое и у новейших писателей. Такой прием г. Ковалевский называет методом сопоставительным (может быть, лучше было бы назвать его параллельным) и противополагает ему историко-сравнительный. История права у одного народа представляет собой простое перечисление предшествовавших законов, в лучшем случае - преемственность форм и условия развития известного института у данного народа. Сравнение с иностранными законодательствами может удовлетворить любознательности сообщением новых фактов, в лучшем случае вызвать критику отечественного законодательства, пользуясь примером западных государств. Совершенно иную цель имеет историко-сравнительное направление. <Задача сравнительного метода сводится к тому, чтобы, выделивши в особую группу сходные у разных народов на сходных ступенях развития обычаи и учреждения, дать тем самым материал для построения истории прогрессивного развития форм общежития и их внешнего выражения права> (стр. 19). <Одно лишь пользование им открывает путь к научному объяснению причин возникновения того или другого учреждения в истории изучаемого права. Путем сравнения одного законодательства с возможно большим числом других, притом не случайно взятых, а принадлежащих народам, близким по своему общественному развитию к тому, законодательство которого представляет прямой предмет изучения, юрист-историк приобретает возможность постепенного восхождения до общих мировых причин развития тех или других юридических отношений> (стр. 25). Никто не пользовался так искусно историко-сравнительным методом, как сам г. Ковалевский, давший много исследований подобного рода не только из области публичного, но и частного права, как на русском (Первобытное право), так и на французском языке (Les origins de la famille et de la propriété). Другие русские публицисты пользовались историко-сравнительным приемом или в весьма ограниченной степени, или только для того, чтобы сказать о важности его во введении, забыть о нем в дальнейшем исследовании. Но во всяком случае обойти молчанием вопрос о сравнительном методе уже никто не решался. Социология и историко-сравнительное направление публицистов подготовили почву, которая легко восприняла учение Иеринга, хотя сам германский ученый был далек от английских и французских позитивистов и социологов. Новое направление, вместо мелочной работы над толкованием и систематизированием отечественного законодательства, манило широтой обобщений, свободой для философской мысли. В сравнении с ним служение практике показалось ниже достоинства истинной науки, <труды Иеринга выражают собой новый, сильный шаг вперед на пути уничтожения цехового, ремесленного характера юриспруденции>[74]. Таким образом, практическое направление русской науки гражданского права, едва увидевшее свет, не успевшее выполнить своего назначения, оказалось уже устаревшим и отжившим. Идеи Иеринга начали проникать в русскую литературу еще в конце шестидесятых годов, когда в Журнале Министерства Юстиции были помещены отрывки из сочинения его <Дух римского права>. В Юридическом Вестнике за 1871 год (N 2) находим статью г. Ляпидевского <Значение римского права>, составленную под очевидным влиянием иеринговского учения. В половине семидесятых годов влияние его усиливается, судя по переводам знаменитой брошюры германского ученого <Борьба за право> и первого тома его <Духа римского права>, относящимся к 1875 году. С этого года в русской литературе выступает такой горячий защитник учения Иеринга, какого последний не имел нигде на Западе, - это г. Муромцев. Благодаря его настоятельной пропаганде идей Иеринга в обществе еще более обозначилась симпатия к новому учению. В течение каких-нибудь 10 лет большая часть сочинений германского ученого была переведена на русский язык, несколько университетов и юридических обществ выбрало его своим почетным членом. Сам Иеринг отлично понял причину своего успеха в России, как это он выразил в своем письме к русским издателям его сочинения <Цель в праве> (Журн. Гр. и Уг. Пр. 1882, N 2). <Русский язык является первым, на который переведен мой труд и этот факт служит для меня новым доказательством того высокого интереса, с коим относится русская юриспруденция к иностранной литературе: Мне кажется, что мое направление и мои идеи нигде не встречают столь восприимчивой почвы, как в России: русские слушатели были первыми, явившимися из-за границы в мою аудиторию и между ними я насчитываю несколько лиц, уже успевших составить себе почетное имя; русскому правительству я обязан первыми знаками внимания за границей к моим трудам: Россия имеет для меня значения девственной научной почвы, воспринимающей насаждаемые мной семена науки легче, чем всякая иная, издавна возделываемая, на которой могущество традиции и вкоренившихся научных идей и направлений противятся всему новому, что по преимуществу замечается в Германии, где я лишь с трудом стал твердой ногой и где сначала мои стремления вызвали на меня немало нападок и встретили скорее неприязнь, чем признательность>. [72] Этот взгляд проф. Суворов выразил ранее в Отчете о 29 присуждении наград графа Уварова, стр. 47 и позднее в Курсе церковного права, т. II, стр. 286-287. [73] Противоположного мнения, как кажется, Митюков в своей официальной рецензии, Киевские Унив. Изв., 1877, № 5, стр. 66. [74] Журн. Гр. и Уг. Пр., 1876, книга IV, стр. 4. Новое направление возникло и нашло себе приют главным образом в московском университете, который особенно оживился в семидесятых годах благодаря молодым ученым силам, сразу завоевавшим себе общую симпатию как в общей, так и в специальной литературе юридической и экономической. Во главе нового направления юриспруденции в России стал профессор московского университета по кафедре римского права, а теперь присяжный поверенный, Сергей Андреевич Муромцев. Деятельность г. ;Муромцева, по профессии романиста, оставила плодотворные следы не только в области римского, но и вообще гражданского права и теории права. В этом внешнее сходство г. Муромцева с Рудольфом фон-Иерингом. Но сравнение этих лиц приводит к открытию и более глубокого внутреннего сродства между ними. Учение германского юриста, наставника г. Муромцева, послужило исходным пунктом, отправляясь от которого последний пришел к самостоятельным выводам о сущности права, о задаче правоведения вообще и науки гражданского права в частности. Уважение и преклонение передом авторитетом Иеринга доходит у г. Муромцева до крайних пределов. <Для г. Муромцева все выходящее из-под пера Иеринга дышит одновременно как широтой и глубиной воззрения, так и большой жизненной правдой>[75]. Ему по преимуществу принадлежит титул иерингианца, им самим изобретенный[76]. Однако следует ему отдать справедливость - он не просто знакомит русскую публику с воззрениями Иеринга, но дает им самостоятельное развитие. Римское право, которое обыкновенно выставляется как лучшее средство развития юридического мышления и логики, вроде латинской грамматики, г. Муромцев рассматривает как богатый и разработанный материал для историко-философских выводов. Гражданское правоведение он старается поставить в связь с социологией и направить его на изучение законов развития прав, как одной из форм общественности. Для теории права г. Муромцев, кроме методологических указаний, дает новое построение права, подходящее, хотя и иным путем, к точке зрения Иеринга. Как ученый, г. Муромцев выдается своим широким образованием, поднимающимся высоко над уровнем профессиональных знаний, обладает тонким анализом самых отвлеченных понятий, логичностью выводов, воспитанной на Милле и Бокле. Как писатель, г. ;Муромцев отличается спокойным, ровным изложением, весьма подходящим к объективно-научному направлению, и чуждым увлечения, горячности, несколько туманным способом выражения, часто затрудняющих понимание его мысли, снисходительным, даже презрительным отношением к догматикам. Несомненно, в лице г. Муромцева русская наука имеет замечательного ученого, который должен был обладать громадной силой нравственного авторитета, чтобы в момент увлечения идеей содействия новым учреждениям, остановить общее движение, хотя до известной степени, и дать части ученых сил иное направление. Обширность эрудиции, солидность изложения и богатство мысли внушили даже его противникам уважение к нему, если не считать странной и прискорбной выходки г. Азаревича, который позволил себе печатно назвать деятельность г. Муромцева сплошным научным развратом[77]. Впрочем, необходимо признать, что труды г. Муромцева имели значение только для научной юриспруденции, и особенно тем, что оживили русскую литературу, заставили многих ученых высказать свои взгляды по важнейшим вопросам и резко обозначить различие в направлениях. Практики же, хотя понаслышке, относятся с полным уважением к глубокой учености г. Муромцева, но редко осмеливаются сами заглянуть в его учение, опасаясь, что их слабое зрение не различит ничего на такой глубине. Впервые г. Муромцев выступил на литературное поприще выпуском своей магистерской диссертации <О консерватизме римской юриспруденции>, 1875, где уже ясно обозначилось влияние Иеринга. В следующем же году он напечатал в Журнале Гражданского и Уголовного Права свою вступительную лекцию, в которой выразил свое profession de foi, положенное в основание его дальнейшей преподавательской и литературной деятельности. Еще более отчетливо обнаружился его методологический прием в <Очерках общей теории гражданского права>, 1877, состоящих из двух отделов: а) к вопросу о научно-историческом изучении гражданского права и b) к учению об образовании гражданского права. В 1879 году вышло наиболее важное из его сочинений <Определение и основное разделение права>, в котором, кроме главных положений, щедрой рукой разъяснена масса идей, затронутых автором мимоходом. <Гражданское право древнего Рима>, 1883, составляющее лекции г. Муромцева, представляет оригинальный труд, выполнение которого потребовало больше знаний и работы, чем, может быть, все другие его произведения. Попытка, совершенно самостоятельная (вопреки стремлению г. Азаревича низвести ее на степень простой компиляции), - изложить римское право в его постепенном внутреннем развитии в зависимости от других общественных фактором, заслуживает полного внимания, хотя бы с одной методологической стороны, если уже подвергать сомнению точность изображенного хода развития и соответствие данным, содержащимся в источниках. По оставлении университета, вследствие независящих от него обстоятельств, г. Муромцев продолжал работать и в 1886 году издал два сочинения, <Рецензия римского права на Западе>, которое ни в каком случае не может быть названо брошюрой по сравнению с такой же работой Модермана[78], и <Образование права по учениям немецкой юриспруденции>, которое представляет собой воспроизведение, в исправленном виде, второго отдела изданных в 1877 году Очерков. Кроме того, перу г. Муромцева принадлежат многочисленные журнальные статьи, разъясняющие его основные воззрения или опровергающие выставленные против него возражения. Вступив в редакцию Юридического Вестника, г. Муромцев успел внести в него направление, далеко уклонившееся от прежнего, практического и сделать его проводником своих научных воззрений. Главная задача г. Муромцева состоит в направлении гражданского правоведения на путь историко-сравнительный. Этот прием, имеющий такое громадное значение для социологии, должен быть принят и для изучения права. Первоначально, под влиянием успеха Geist des Römischen Rechts, г. Муромцев понимал историю права главным образом, как историю развития юридического мышления. <История должна выяснить влияние, которое юриспруденция оказывает на право; рядом с исследованием законов взаимодействия юриспруденции и жизни народа, она должна определить область тех явлений права, которые обязаны своим происхождением не потребностям юридической жизни, а исключительно присущим юристам (и обществу) представлениям о природе юридических явлений, известным привычкам, свойственным юридическому мышлению, наконец недостаткам последнего; необходимо определить законы исторического развития различных свойств юридического мышления и зависящих от них юридических явлений> (Консерватизм, стр. 4). Позднее, в Очерках, г. Муромцев ставит шире и проще задачу научного правоведения - изучение законов развития права. Этому направлению он дает название историко-философс-кого исследования, которое, конечно, не имеет в виду возвратиться к прежнему историческому приему и во всяком случае не имеет ничего общего с разыскиванием археологических древностей. С точки зрения историко-философского направления <наука гражданского права есть наука о порядке, в котором происходят комбинации различных элементов народной жизни, производящие в истории гражданские институты> (Очерки, стр. 196). Г. Муромцев полагает, что и в этом смысле правоведение не лишено практического значения. Конечно, от него нельзя ожидать непосредственных практических результатов, как это возможно при догматической разработке права, выводы не подлежат немедленному приложению. Тем не менее <чисто исторические труды дадут прочное основание для исследований практического характера; выводы о том, как совершалось формулирование права, поведут к выводам о том, как оно должно совершаться, и укажут, может быть, на ложные приемы, господствующие несознательно для нас самих и по настоящее время> (Консерватизм, стр. ;4). Такое предположение оправдывается тем обстоятельством, что многие современные технические усовершенствования имеют в основании научную идею, выработанную любознательным ученым, независимо от каких бы то ни было практических целей. Поэтому <историко-философское изучение гражданского права, придавая гражданскому правоведению вполне научный характер и содействуя усовершенствованию гражданской практики, вообще имеет важное теоретическое и практическое значение и заслуживает первенствующего места в нашей науке> (Очерки, стр. ;12). Что же понимает г. Муромцев под именем закона и какие законы открыты? Как социолог, он, очевидно, принимает закон не в узком смысле государственного постановления, которое содержит какое-либо юридическое определение или правило, но в общенаучном смысле, как постоянство, которое существует в силу природы вещей в отношениях между явлениями или явлениями и их условиями и последствиями (Определение, стр. 15). Понимая в таком значении слово закон, г. Муромцев неоднократно указывает на различие между законом и юридическим принципом, который, представляя собой только обобщение свойств нескольких и многих юридических постановлений, есть не что иное как явление, и в этом смысле противополагается закону (Очерки, стр. 85, Определение, стр. 15, Что такое догма права, стр. 23). <Юридический принцип указывает на то, что должно быть; закон - на то, что есть в силу свойств человека, общества и мира. Юридический принцип составляет продукт человеческой деятельности; закон стоит над ней. Юридический принцип может быть нарушен человеком; нарушение закона свыше человеческих сил. Юридический принцип подлежит критике; критика закона не имеет смысла> (Определение, стр. ;17, Что такое догма права, стр. 26). Так, напр., формула, которая утверждает, что каждый предполагается добросовестным, пока противное не доказано, - есть явление в истории права; напротив, формула, которая гласит, что юриспруденция образованного общества склонна предполагать в каждом лице добросовестность, - подобная формула выражает собой закон. Успех всякого нового направления обеспечивается достигнутыми ими научными результатами. Каждый вправе спросить, что сделано при помощи нового методологического приема, насколько он лучше в приложении. На обязанности г. Муромцева лежало доказательство возможности открытия законов развития права, тем более, что по его собственным словам <науки подготовили некоторый запас сведений о законах явлений прежде, чем дошли до той мысли, что открытие законов составляет основную задачу научного исследования>. (Определение, стр. ;20). Действительно г. ;Муромцев предлагает несколько формул. Кроме указанного выше, автор устанавливает закон, в силу которого в жизни каждого народа периоду свободного развития юридических идей предшествует период формализма, что такие-то (?) изменения в гражданском обороте сопровождаются признанием преступности обмана (Определение, стр. 17, Что такое догма права, стр. 25). Такая бедность установленных законов не смущает г. Муромцева и не удерживает его от заявления, что уже при современном состоянии науки гражданского права последняя обладает замечательными обобщениями, которые указывают нам на законы (Определение, стр. ;31). Отстаивая историко-философское направление, представляя ему первенствующее значение, г. Муромцев не отвергает вовсе догматического исследования. <Как бы ни был разрешен вопрос о положительной науке гражданского права, право догмы на существование остается неприкосновенным. За догму говорит вековой опыт юриспруденции, и позитивность охотно признает в ней отдел правоведения как искусства. Нечего, конечно, претендовать на то, что в догме не признают науки, в строгом смысле этого слова; такая классификация не умаляет значения догмы. Физиология - наука, медицина - искусство, психология - наука, теория воспитания ;- искусство; и, конечно, сделать исследование или написать трактат по медицине или воспитанию не менее почтенно, чем в физиологии или психологии> (Что такое догма права, стр. 8 и 9). Муромцев восстает только против догматического изучения римского права, которое господствует в школе как на Западе, так и у нас. Нельзя, конечно, не сожалеть, что в России, где римское право не имело и не имеет непосредственной силы, тратится так много ученых сил на догматическую разработку римского права в смысле ли современной теории права или с присоединением исторического элемента, объясняющего развитие институтов в римской истории права (Н.И. Крылов, Н.А. Кремлев). И все это ввиду полной неприкосновенности отечественного законодательства. Мы имеем массу вступительных лекций по римскому праву и только одну (Умова) по русскому гражданскому праву! Указывая на многочисленные ошибки римского права, противоречия, г. Муромцев подрывает его авторитет, как лучшего теоретического средства развития юридического мышления. Напротив того, он утверждает, что <долгое подчинение римскому праву отозвалось на современной юриспруденции робостью в конструировании новых юридических понятий и упорным желанием объяснять правовые явления современной жизни принципами римского права> (Консерватизм, стр. 182). Исходя из того взгляда, что догматическое исследование гражданского права уместно только по отношению к современному действующему праву, но не к праву прошедшего времени, г. Муромцев признает, что право римлян должно быть предметом систематического изучения с историческими целями (Очерки, стр. ;82). По его мнению в русских университетах римское право должно преподаваться именно с исторической стороны, а догматическая систематика с большими удобствами может быть излагаема в связи с курсом гражданского права, нежели независимо от него, так как с ней сопряжен непременно и критический разбор и сопоставление действующего русского гражданского права с римским правом. Преклонение перед римским правом, как теорией, содержащей такие принципы гражданского права, которые, по их разумности, могут и должны быть приложены в каждой стране, у каждого народа, г. Муромцев сравнивает с верой в естественное право, предписывающее законы, одинаково спасительные для всех народов мира (Определение, стр. 5). Теоретическое средство развития юридического мышления г. Муромцев видит в другом. <Служа потребности современного правосудия, общая догматическая теория должна ограничиться сравнением тех гражданских законодательств, которые стоят на уровне современного развития гражданской жизни образованных наций; желательно было бы иметь общую догматическую теорию современного гражданского права образованных наций> (Что такое догма права, стр. ;19). Эти сильные доводы против современной постановки преподавания римского права едва ли могут быть опровергнуты такими соображениями, как те, напр., которые выставил проф. Митюков по поводу статьи г. Муромцева о владении. <Еще несколько подобных статей по римскому праву, и русские юристы, черпая только из них знания этого права, сочтут всеобщим заблуждением признанное везде и упроченное вековым опытом высокое образовательное значение римской юриспруденции. Может ли, в самом деле, стоять римское право на этой высоте, если мы будем утверждать, что юристы римские не владели даром сознательно относиться к процессу своего мышления, если в трактатах по римскому праву мы будем безотчетно увлекаться теориями новых, хотя бесспорно знаменитых, но и способных ошибаться цивилистов, если в угоду этим теориям мы будем мотивировать решения римских юристов не по их мысли, а по своим соображениям очень сомнительного достоинства, желая не изучать и понимать Ульпиана, Папиниана и др., а исправлять их?>[79]. Рабский тон защиты лучше всего говорит в пользу г. Муромцева. Историко-философское направление, поставившее себе задачей изучение законов развития права, дает основание сблизить гражданское правоведение с социологией. <Мы исходим из того воззрения на задачи правоведения, которое сложилось под влиянием позитивизма. С точки зрения этого воззрения задача правоведения, как науки, состоит в том, чтобы изучать законы определенной группы социальных явлений, которые своей совокупностью образуют право. Поставленное таким образом правоведение должно стать отделом социологии> (Что такое догма права, стр. 7). На гражданско-правовые явления надо смотреть, как на частное выражение, как только на сторону всей социальной жизни и потому мыслить о них, не разрывая этой связи. <Влияние гражданско-правовых явлений на развитие прочих социальных явлений и влияние этих последних на развитие гражданско-правовых явлений не должно быть никогда упускаемо из виду> (Определение, стр. 46). <Будучи поставлено на положительную почву, правоведение представляется отделом социологии, который посвящен изучению юридической защиты, как одной из важнейших функций социального организма (Определение, стр. 164). <Правоведению надлежит изучить законы развития той области социальных явлений, которая известна под именем права. При отсутствии одного идеального правового состояния и при постоянной смене форм общественной и юридической жизни, наука должна открыть законы, по которым происходит означенная смена. Право составляет группу явлений среди прочих групп явлений общественной жизни. Наука должна определить отношения, в которых состоят правовые явления между собой, к явлениям других групп и к прочим условиям и факторам общественного развития. Первый шаг науки - чисто объективный, наблюдательный. Она определяет, что есть. Политика, в смысле теории искусства, исполняет второй шаг. Она определяет, что должно быть, к чему следует стремиться>. Соответственно тому г. Муромцев различает общегражданское правоведение и гражданско-правовую политику. <Общее гражданское правоведение есть наука в строгом смысле. Не преследуя никакой практической цели, но руководствуясь исключительно требованиями любознательности, оно изучает законы развития гражданского права. Оно предполагает, как подготовительную стадию, описательное гражданское правоведение, которое описывает в правильной системе факты гражданского права. Гражданско-пра-вовая политика определяет цели и приемы, которыми должны руководиться гражданский законодатель и судья. На основании ее указаний слагается догма гражданских правоопределений, которая излагает действующие в стране правоопределения в таком виде и по такой системе, которые прямо отвечают требованиям гражданско-судебной политики> (Определение, стр. 14). Однако г. Муромцев не указывает, в чем заключается связь между исследованием законов развития права и догмой, в чем состоит взаимное их соотношение и как соединить их в одной науке? Нам следовало бы рассмотреть теперь, как ограничивает г. Муромцев область гражданского права от смежных областей. Но для решения этого вопроса г. Муромцев поднимается выше. <Так как в науке не выяснен вполне не только смысл названия гражданское право, но и смысл названия право, то определению гражданского права должно предшествовать общее определение права> (Определение, стр. 47). И действительно г. Муромцев устанавливает особое понятие и определение права вообще. Так как правоведение изучает особый вид социальных отношений ;- правовые отношения, то г. Муромцев останавливается на понятии отношения. <Отношением данного человека к окружающим его предметам и людям мы называем здесь возможность известного рода событий, которые обусловлены воздействием предметов и людей на человека и человека на людей> (Определение, стр. 57). В отношении следует различать активный и пассивный элементы. <Активный элемент состоит в открытой для человека возможности совершения известного рода поступков относительно объекта отношения; пассивный элемент есть возможность событий, в которых данный человек играет страдательную (пассивную ;?) роль> (стр. 58). Бессодержательность подобного определения очевидна для каждого, но, ввиду общепонятности выражения, в дальнейшем изложении неточность понятия об отношении не имеет влияния. В той среде, в которой имеют место фактические отношения, оказывается группа лиц, готовых помогать человеку в деле установления и поддержания отношений. Эта помощь или защита имеет два направления: 1) она может быть направлена против всяких препятствий, которые лежат вне группы, - защита первого рода, 2) общество защищает отношения одних из числа своих членов против посягательств, возможных со стороны других, - защита второго рода. Защита второго рода происходит в двух главных формах, неорганизованной и организованной. Первая из них выражается в формах, заранее неопределенных, в виде порицания со стороны общественного мнения, переходящего в негодование и даже в насилие, или в виде исключения провинившегося из кружка, лишения его известных выгод, уважения, почета и т.п. Организованная или юридическая защита осуществляется заранее определенным порядком и обыкновенно особенными, установленными для того органами. В организации юридической защиты обнаруживаются: отношения вынужденные, защищающие или юридические. (Таким образом, выражениям: правовой и юридический, которые до сих пор употреблялись в русской литературе, как синонимы, г. Муромцев дает различное значение.) В результате анализа г. Муромцев приходит к заключению, что юридическая (организованная) защита составляет основное отличительное свойство права, своим существованием обусловливающее и вызывающее другие характерные свойства его (стр. 122). Итак, право есть организованная защита отношений - трудно не заметить созвучия и близости понятий с определением Иеринга, право есть юридически защищенный интерес, право есть юридическая обеспеченность пользования. Впрочем, заметим, что г. Муромцев пришел к этому определению совершенно самостоятельным путем. [75] Митюков, в Киевских Унив. Известиях, 1877, № 3, стр. 96. [76] Консерватизм, стр. 3. [77] Азаревич, Система римского права, т. II (предисловие). [78] Дювернуа, Из курса лекций по русскому гражданскому праву, стр. 102. [79] Киевские Унив. Известия, 1877, № 3, стр. 115. С точки зрения добытого понятия о праве определяется и область гражданского права. <Дошедшие к нам от римлян, в качестве основного разделения, разделение права на гражданское и публичное обладает достоинством естественной (?) классификации. Это разделение связано непосредственно с тем раздвоением (власть и частные лица), которое вызывается в обществе фактом организованной (юридической) защиты отношений. Инициатива защиты в гражданско-правовом порядке принадлежит частному лицу - субъекту защищенного отношения, которое представляет для него непосредственный интерес; в качестве такового, это отношение по преимуществу имущественное. Напротив, в публично-правовом порядке защита ведется самодеятельностью органов власти; защищенные отношения представляют общественный интерес и, в качестве таковых, представляют по преимуществу неимущественную, идеальную ценность> (Определение, стр. 200). Таким образом, следуя за Иерингом и Тоном, г. Муромцев при различии частного и публичного права решительное значение дает формальному признаку. Странно только, что г. Муромцев, который не ограничивается поверхностной стороной явлений, а заглядывает в самую глубь, который устанавливает рядом с гражданским правоведением еще гражданскую политику, не обращает внимания на основание, почему в одном случае инициатива защиты принадлежит частному лицу, в другом органам власти, чем должен руководствоваться законодатель при установлении новой защиты. В учении г. ;Муромцева мы не замечаем связи между распределением инициативы защиты и характером защищаемого интереса, которому он, как кажется, также придает важное значение. Итак, гражданские права - это те, в которых защита отношения представлена лицу, в них заинтересованному. С этой точки зрения гражданское право не совпадает с общепринятым определением его границ. Во-первых, не все частные интересы защищаются непременно гражданским путем (стр. 198). Во-вторых, по мнению г. Муромцева, совершенно произвольно исключать уголовный элемент из сферы гражданского права (стр. 232). Мы вправе были бы предположить, что он имеет в виду вообще все преступления, преследование которых возбуждается по частной жалобе. Однако г. Муромцев почему-то уклоняется от этого последовательного вывода и включает в гражданское право только те правонарушения, которые влекут за собой денежный штраф. Он утверждает далее, что гражданское право не только защищает, но должно защищать неимущественные интересы. В вопросе об образовании права г. Муромцев вполне примыкает к Иерингу и ограничивает свою роль распространением идей последнего. <Среди новых идей, высказанных в историко-юриди-ческих исследованиях последнего двадцатипятилетия, - гласят первые строчки, вышедшие из-под пера г. Муромцева, - едва ли не первое место по значению принадлежит идее о том, что объективное право начиная с древнейшей эпохи его развития представляет непосредственный продукт умственного труда, названного в данном случае юридическим мышлением или юриспруденцией в широком смысле слова> (Консерватизм, стр. 1). <Учение Иеринга исправляет господствующее учение о процессе образования юридических норм. Исправление это заключается в указании, что процесс этот есть результат взаимодействия двух деятелей: жизни народа, творящей потребности в нормах и мыслительной способности всего народа вообще, и сословия юристов в частности, направленной к отысканию средств удовлетворения этих потребностей> (Консерватизм, стр. 3). Принимая от старой исторической школы идею закономерного движения истории права, новое воззрение утверждает, что правовой порядок создается не сам собой, а борьбой из-за отношений, которые нуждаются в правовой защите, из-за норм, которые уже установлены для защиты. Эту борьбу нужно понимать, конечно, не в смысле господства силы и кулака, но также в смысле убеждения словом и примером (Образование права, стр. 33). Следовательно новое учение в противоположность исторической школе отводит широкое место для личной инициативы, для личного воздействия. Самостоятельным выводом г. Муромцева из этого учения об образовании права является взгляд на творческую деятельность суда, выраженный им в статье <Суд и закон в гражданском праве> (Юрид. Вестник, 1880, N 11). В современном гражданском правоведении господствует учение о толковании закона, принуждающем судью к пассивному отношению, к обязанности только применять право, но не творить. Как ни крепко установилось это положение, однако оно составляет плод весьма недавнего времени. На первоначальных ступенях развития в гражданском правосудии акт применения права всегда совпадает с актом его творчества. Даже в период, ближайший к нам, когда закон начинает играть роль, образующую гражданское право, деятельность законодательства вовсе не подавляет активной деятельности суда. Современное учение о пассивном подчинении суда законодателю вытекло не из непосредственных нужд современной гражданской жизни, но порождено некоторыми случайными, побочными условиями. К этим причинам г. Муромцев относит: 1) рецепцию римского права, отучившего юриспруденцию от самостоятельного творчества, 2) ;теорию разделения властей, которая, ввиду низкого уровня суда в качественном отношении, находила обеспечение от произвола в строгом подчинении суда по закону, 3) философский объективизм, в глазах которого право есть непосредственное проявление духа народа и каждый отдельный судья олицетворял пред лицом народного духа идею произвола. С устранением в настоящее время действия всех этих условий, должно измениться отношение судьи к законодателю. В мирные периоды развития гражданского права главным двигателем его служит суд. Самодеятельность суда, его активное, но не пассивное положение перед лицом закона составляет нормальную форму его деятельности и является не только идеалом, но неустранимым фактом действительности. Законодательная функция никогда не была и не может быть отделена вполне от власти судебной и толкование или применение закона всегда содержит в себе явное или скрытое преобразование его. Стоя лицом к лицу к закону несовершенному, сталкиваясь подчас с полным отсутствием закона, судья должен положиться немедленно на свои собственные силы и серьезно приступить к регламентации гражданско-правового порядка, не дожидаясь, пока выступит законодатель на пополнение допущенных им пробелов. И закон, и обычай, и наука регулируют гражданскую жизнь, но регулируют через судью, который один есть непосредственный творец гражданско-правового порядка. Отлагая общую критику направления и учения г. Муромцева, мы укажем только на отдельные промахи, на неточности, особенно не позволительные у такого глубокого аналитика, как рассматриваемый ученый. <Обыкновенно думают исчерпать предмет правоведения, определив право в субъективном (единичном) смысле и собирательном (объективном) смысле> (Определение, стр. 159). Г. ;Муромцеву, вероятно, хорошо известно, что в правоведении следует признать совершенно необыкновенным тот взгляд, по которому сумма субъективных прав составляет объективное право. <Права, принадлежащие к типу обязательств, или права личные отличаются тем, что объектом правового отношения является в них не вещь, а лицо> (Определение, стр. ;76). Предположение, будто объектом обязательственных прав является лицо, а не действие должника, едва ли может быть подкреплено ссылкой на юридические авторитеты, а права, объектом которых служит лицо, - это будут личные права власти, как права родителей, опекунов, мужа. Если наука устанавливает известные понятия, то, конечно, для того, чтобы с ним соединилось определенное представление. Поэтому установленному выражению давать иное применение - значит вызвать смешение представлений. Такую ошибку допускает г. ;Муромцев, когда совершенно произвольно пользуется экономическими понятиями. <Ценой называется (?) способность предмета быть интересом (благом); интересом же обозначают все, что служит к удовлетворению потребностей, что нужно и полезно> (Определение, стр. 122). Трудно допустить большее извращение установленных понятий о цене и интересе, в результате чего выходит, что <надо различать имущественную и неимущественную (!) цену предмета>. Едва ли что-нибудь разъясняет замечание автора, что <цену права не должно смешивать с ценой предмета, который служит объектом права. Право, в качестве отношения, есть возможность известного рода деятельности, и ценой права мы должны назвать совокупную цену результатов, которые имеют быть получены от этой деятельности> (стр. 224). Темнота этого места не только не разъясняет дело, но еще более его запутывает. Вообще, представления г. ;Муромцева об имуществе чрезвычайно странны. <Даже существование вещных прав допускается в силу одного неимущественного интереса. Так, сервитут водопровода дозволяется устраивать ради украшения имения> (стр. 230). Таким образом, по мнению автора, права собственности на картины, на жемчужное колье, не имеют имущественного основания. Очевидно, автор смешивал выражения имущественный и материальный. Автор допускает явную contradictio in adjecto, когда говорит о неимущественном ущербе (стр. ;236). Недостаток экономических познаний чувствуется во всех трудах г. Муромцева и тем осязательнее, что он пускается самостоятельно в область чисто экономических отношений. К сожалению, этому почтенному научному деятелю не удалось создать школы среди русских юристов. Это обстоятельство в значительной степени обусловливается непродолжительностью его профессорской деятельности, с которой у нас всегда почти неразрывно связано научно-литературное творчество. Нельзя впрочем сказать, чтобы идеи г. Муромцева не оказали вовсе влияния на науку гражданского права - можно указать на результаты несомненно его идей. Его работы заставили русских ученых обратиться к пересмотру основных вопросов права, и вызвали оживленные прения в этой области, а начинающих ученых направили на историко-философский путь. В поклонении Иерингу г. Муромцев имеет равного себе среди русских юристов в лице профессора московского университета Юрия Степановича Гамбарова, для которого Иеринг <самый светлый и даровитый из всех современных нам юристов>. Но на этом сходство их оканчивается. В то время как для г. ;Муромцева учение германского ученого послужило исходным пунктом, отправляясь от которого он пришел к самостоятельным выводам, г. Гамбаров не сумел выбраться из круга идей, очерченного Иерингом. В его сочинении <Добровольная и безвозмездная деятельность в чужом интересе вне договорного отношения и не по предписанию закона>, 2 ;вып., 1879-1880, мы не замечаем вовсе научной самостоятельности. Это сочинение, которое представляет собой единственную печатную работу, вышедшую из-под пера г. ;Гамбарова, состоит из двух частей, между которыми нет никакой связи, хотя автор неоднократно утверждает ее наличность (пред., стр. ;XV): первый выпуск посвящен вопросу об общественном интересе в гражданском праве и задается целью перестроить все цивилистические понятия, а второй содержит в себе социологическое основание института negotiorum gestio и обзор теорий по этому вопросу. Труд остался неоконченным, так как до сих пор не появился третий выпуск, в котором автор обещал дать самое главное - юридический анализ моментов, входящих в понятие этого института (вып. II, стр. 160). Рассматриваемое сочинение представляет собой весьма несложную компиляцию из трудов Иеринга, Тона и Ад. Вагнера, заключающуюся в изложении мыслей этих писателей, которое переходит часто в простой перевод целыми страницами. Конечно, ввиду того, что указанные писатели не переведены на русский язык, нельзя сказать, чтобы для не владеющих немецким языком, сочинение г. Гамбарова не представляло известного интереса, но научного значения подобные работы не могут иметь, как бы ни велика была <важность вопроса и совершенная новизна его в русской литературе> (вып. I, стр. 21). Главная цель, поставленная себе г. Гамбаровым, - <придти только в результате нашего исследования (?) к установлению провозглашенной недавно Р. Иерингом общественной теории гражданских прав, в противоположность господствующей ныне индивидуалистической теории> (вып. I, стр. 2). Действительно Иеринг полный господин в работе г. ;Гамбарова и весьма похож на героя французского романа, полного доблести и лишенного упрека, который всюду является на помощь автору, когда действие запутывается, и одним своим словом разрешает всякие споры и сомнения, над которыми уже много голов поседело. Господствующее в юриспруденции направление характеризуется, по мнению г. Гамбарова, индивидуализмом, который лежит, как в точке отправления, так и частных отношениях его к различным институтам гражданского права. Эта точка определения может быть ближе охарактеризована, как атомистическое представление о личности, как таковой, т.е. личности, заключенной в самой себе и мыслимой вне связи с обществом, в котором она живет (вып. I, стр. 48). Иеринг и является тем именно лицом, который спасает науку гражданского права, поставив общественное направление на место индивидуалистического. Но в сочинении г. ;Гамбарова с Иерингом совершается нечто странное. Г. Гамабаров находит, что в определении Иеринга (<право есть юридическая обеспеченность пользования>) опущен важный момент, без которого невозможно представить себе никакого права. Этот момент заключается в факте сосуществования многих лиц, в обществе, составляющем первое и необходимое условие для образования и действия права (вып. I, стр. 59). Если не принять в понятие права момента общественности, то мы придем естественно к индивидуалистическому взгляду (вып. I, стр. ;62). Таким образом, Иеринг оказался сам виновным в том, от чего он спасал гражданское право. Впрочем, г. Гамбаров чувствует при этом некоторую неловкость и заявляет, что со стороны Иеринга это не более как логический промах и ошибка в определении (вып. I, стр. 62). Но почему не отнести этого соображения ко всем прочим представителям <господствующей теории>, которые в сущности никогда не забывали, что omne jus hominum causa constitutum est. Напрасно, однако, г. Гамбаров извиняет и оправдывает Иеринга, который и не думал в своем определении упускать момента общественности. Этот момент содержится в слове <юридическая> обеспеченность и тот, кто определяет право, как обеспечение условий существования общества путем принуждения (Zweck im Recht, B. I, S. 560), не мог никогда игнорировать этого момента. Что же дает новое направление, как изменяет цивилистические понятия социальная точка зрения г. Гамбарова. Не касаясь других, остановимся на понятиях о собственности и обязательстве. Общепринятые определения того и другого отношения страдают неточностью, несогласием с другими определениями - это несомненно и это хорошо известно самой <господствующей теории>. Понятие о праве собственности, как о полном, неограниченном господстве лица над вещью стоит в противоречии с законными ограничениями его, устанавливаемыми помимо воли собственника. Г. Гамбаров утверждает, вслед за Муромцевым и вполне справедливо, что известное определение вызывает соответствующее представление в обществе и что таким путем создается понятие об абсолютном праве, всякое ограничение которого потому самому встречается неблагоприятно (вып. I, стр. 8). Какое же определение дает взамен того г. ;Гамбаров? <Правом собственности будет называться относительно (чего?) полная защита от посягательства третьих лиц пользоваться благами, на которые она распространяется, но лишь в пределах ограничений и обязанностей, налагаемых на это пользование законом, ввиду общественного интереса> (вып. ;I, стр. ;114). Неужели этот тяжеловесный период составляет юридическое определение, соединяющее все существенные признаки данного института? Взамен общепринятого определения понятия обязательства, как права на действие другого лица, потому что под действием г. Гамабаров понимает только личные услуги (передача на действие?), предлагается следующее: <право по обязательству есть защита определенного интереса, основанная на соображении об общем благе, в форме личного иска заинтересованного лица против лица, которое, по договору или иному определенному правом поводу, признается обязанным к удовлетворению этого интереса> (вып. I, стр. 186). Очевидно, соображение общего блага является признаком, отличающим обязательственное право от других юридических средств, вещного права? В определении гражданского права г. Гамабаров становится решительно на сторону Иеринга и Тона, не останавливаясь даже перед теми трудностями, которые были предусмотрены этими учеными. <Различие между гражданским и публичным правом, опирающееся на различии частного и общего интереса, не выдерживает критики, так же как не может выдержать ее никакое иное различие, основанное на соображениях о существе юридической нормы> (вып. I, стр. 74). Между публичным и гражданским правом нет различия по существу, различия материального, основанного на содержании норм того и другого права. Отличительным признаком гражданского права будет гражданский (?) иск. <Гражданскими нормами станут называться, таким образом, нормы, нарушение которых производит иск для лица, против которого оно совершается. Публичными же нормами будут все прочие нормы, нарушение которых или не дает лицам, против которых оно совершается, вовсе никакого права, или дает им публичное право, осуществляемое не иском, а непосредственно государственной властью> (вып. I, стр. 77). Историко-сравнительное направление указало новый путь к разрешению вопросов гражданского права. Он оказался особенно полезен в тех частях последнего, которые отличаются наибольшей консервативной силой и благодаря тому связаны с древнейшим правовым порядком. Этим методом воспользовался профессор казанского университета Григорий Федорович Дормидонтов в своем исследовании <Об ответственности наследников по обязательствам оставителя наследства>, вып. I, 1881. Поставив себе вопрос, как сложилось, как вошло во все законодательства суровое и несправедливое правило о безграничной ответственности наследника по долгам наследодателя, г. ;Дормидонтов решился подойти к нему путем историко-сравнительным, <достоинство и значение которого в юриспруденции настолько уже выяснилось, что автору, применяющему его в своем исследовании, нет надобности оговариваться на этот счет> (предисл.). Автор справедливо считает чисто догматический метод непригодным в данном случае и обнаруживает его несостоятельность на попытках других цивилистов решить настоящий вопрос именно с этой точки зрения. Взгляд, что наследство представляет собой личность оставителя и что наследник, вступая в наследство, как бы принимает эту личность на себя (Никольский) представляет собой основание для безграничной ответственности, так же мало отвечающее действительности, как и воззрение, по которому наследник вступает в совокупность имущественных юридических отношений оставителя наследства, а наследство представляет собой не личность умершего, а только имущество, в смысле совокупности всех прав и обязанностей умершего (Демченко). Так как вопрос о безграничной ответственности наследника может выясниться только из рассмотрения всей совокупности наследственных отношений, то автор обращается к имущественному и семейному складу древних народов, отыскивая, какую роль играла в прежнее время подобная ответственность в связи с другими юридическими отношениями. К сожалению, исследование автора ограничивается только тремя народами, индусами, китайцами и греками, причем Китай, напр., не дал почтит никакого материала, так как <мы ничего не находим в источниках об ответственности наследников за долги умершего главы> (стр. 112). На основании трудов Тейлора, Лёббока, Моргана, Мак-Ленана, Жиро-Тейлона и особенно Мэна, автор утверждает существование частной собственности в донациональном периоде истории человечества (стр. 21). Но признание со стороны закона за индивидуумом права собственности не мешает в то же время существованию собственности коллективной. <Коллективная собственность часто надолго еще остается господствующей в некоторых обществах в виде собственности семейной или общинной> (стр. 25). Исследование индусского права дает автору возможность сделать то заключение, что безграничная ответственность находит себе объяснение именно в коллективном складе семьи. <Там, где закон требует, чтобы наследники отвечали за долги умершего собственным имуществом, требование это вытекает из идеи о единстве семьи, из действительной или предполагаемой общности имущества и интересов между ее членами. Наоборот, в тех случаях, где очевидно, что обязательства умершего были сделаны им в его личных целях и не могут быть считаемы действиями, направленными в пользу наследников, последние или вовсе не отвечают, или отвечают только полученным ими от умершего имуществом> (стр. 85). В результате автор склонен, кажется, видеть в современной безграничной ответственности наследника одну из форм переживания, потерявшую свое жизненное основание вместе с распадением прежней родственной и имущественной связи семьи (стр. 23). Тем же путем отправился в начале своей научной деятельности профессор петербургского университета Василий Владимирович Ефимов, романист по специальности. Его магистерская диссертация <Очерки по истории древнего римского родства и наследования>, 1885, представляет собой выражение историко-сравнитель-ного направления. Во второй своей работе, докторской диссертации, <О посильной ответственности по римскому праву>, 1888, автор оставил первоначальный путь и обратился к кропотливому изучению римских источников, ни для кого в русском обществе не интересному, кроме официальных оппонентов. Нас, конечно, не касаются выводы, делаемые автором в первом его сочинении относительно римского права, для науки гражданского права представляет интерес методологический прием романиста и его общие выводы, не связанные только с историей римского права. Сказав несколько слов об успехах сравнительного исследования, мало впрочем разъясняющих этот предмет, г. Ефимов останавливается на гипотезах начальной эволюции семьи и родства. Благодаря приложению нового метода г. Ефимов приходит к некоторым взглядам, противоположным общепринятому воззрению догматиков, напр., по вопросу о порядке призвания лиц к наследованию. Если г. Ефимов, попробовав новый путь, вернулся вскоре на старую избитую дорогу, то наоборот профессор Казанцев, выступивший сначала как догматик, в последнее время перешел на сторону историко-сравнительного направления. В этом духе написана его докторская диссертация <О разводе по римскому праву в связи с историческими формами римского брака>, 1892. Автор обращает большое внимание на данные социологии. <Время обособленного изложения истории римского права и преклонения пред римскими институтами, как чем-то вполне самобытным, проходит, если уже не прошло>, говорит г. Казанцев в предисловии. Автор не задается целью положить новый камень в построении социологии, а лишь подтвердить и иллюстрировать данные его выводы (стр. 13), хотя в сущности это одно и то же, потому что подтверждение положений социологии на римской истории есть новое их обоснование. Автор признает важность для юриста социологии. <Воззрения социологов заслуживают большого внимания, чем им обыкновенно уделяют, и хотя они далеко не совершенны и часто построены на неосновательных сближениях, однако объясняют нам многие из темных явлений древней жизни, даже такие, которые, будучи засвидетельствованы нам древними писателями, казались, однако, невероятными и относились прямо к области фантазии сообщавших их авторов> (стр. ;14). Действительно автор широко пользуется данными социологии для объяснения происхождения брака. Если г. Муромцеву не удалось создать школы на русской почве, если юриспруденция продолжает большей частью идти прежним путем, зато несомненной его заслугой остается брожение, вызванное им среди юристов. Его сочинения произвели переполох в лагере догматиков, побудили последних к оправданию своих основных взглядов и благодаря тому способствовали выяснению сильных и слабых сторон того и другого направления. В начале восьмидесятых годов наши юридические журналы наполняются статьями, затрагивающими коренные вопросы науки права. Одни восставали против влияния Иеринга, другие отстаивали догматического направление против историко-философского, третьи оспаривали правильность методологического приема в новом направлении, иные подвергали критике новое учение о существе права, о его образовании. Несомненно, все это движение, представляющее одну из интереснейших страниц в истории науки гражданского права в России, вызвано сочинениями г. Муромцева, в которых богатство идей невольно будило мысль читателей. Профессор Азаревич в статье <Рудольф фон-Иеринг>, помещенной в Журнале Гражданского и Уголовного Права (1882, N 9) подверг германского ученого строгой и несомненно пристрастной критике. Несмотря на шум, производимый каждой книгой Иеринга, на преклонение перед ними со стороны русских ученых, г. Азаревич отвергает за ним право называться основателем какого-либо нового метода (стр. ;81), считать его последователем старой школы естественного права (стр. 82). По мнению г. Азаревича, Иеринг подходит не столько к Руссо, с которым его сравнивает Феликс Дан, сколько с Прудоном, <необычайно громкая карьера обоих писателей объясняется главным образом громадной диалектической силой ума> (стр. 121), в которой оказывается влияние Гегеля (стр. 83), но владение диалектикой приводит их к парадоксам, хотя бы и высказанным в блестящей форме. Еще большей едкостью отличаются замечания по адресу Иеринга, сделанные профессором Дювернуа в его Курсе русского гражданского права. По его мнению, Иеринг ничего особенного не сделал для науки. <Мы имели ряд работ Иеринга с рассчитанными заглавиями, мы имели неоконченную и возбудившую большие надежды Allgemeine Theorie des Rechts, несколько очень ценных изысканий для догматических конструкций, мы имели, наконец, брошюру Der Kampf um's Recht, но ничего досказанного, никакого довершенного дела, которое могло бы стать на пути прежнего направления мыслей и исследований исторической школы> (стр. 25). Вслед за французскими писателями, которые, как побежденные, готовы каждое движение в Германии признать за тожество победы и угрозу по своему адресу, и профессор Дювернуа утверждает, что направление и образ мыслей Иеринга выражают собой знамение времени. <Если бы мы не имели даты на этом волюме (Zweck im Recht, 1877), мы могли бы ее определить методом внутренней хронологии, о коей пишет Ihering в своем Geist'e. Волюм появился после военных успехов Пруссии, в разгар Culturkampf'a> (стр. 26). (стр. 28). Первым из догматиков, поднявшим свой голом против возрастающего успеха нового направления, был г. Пахман. Далее, в нашей литературе труды Ковалевского и Муромцева подверглись беспощадному приговору со стороны г. Слонимского, который под видом позитивизма нашел только <устарелую схоластику в обычном немецком вкусе> (Новая школа русских юристов, Слово, 1879, N 12). Напротив, г. Пахман старался отнестись с полной объективностью к направлению, которому он не мог сочувствовать, но значение которого в жизни он отлично видел. В речи, произнесенной в годовом собрании петербургского юридического общества 14 февраля 1882 года на тему <О современном движении в науке права>, г. Пахман критикой новых тенденций имел в виду остановить их дальнейшее развитие на русской почве. Он находит, что отмалчивание со стороны догматиков в настоящем случае неуместно, когда предположения начинают переходить в самое дело, когда началось решительное ниспровержение юриспруденции (стр. 20). Последнее соображение, опасение за дальнейшее существование догматики, является главным мотивом к отрицанию нового направления. Г. Пахман упрекает новую школу в стремлении упразднить нынешнюю юриспруденцию, лишить ее права на самостоятельное существование (стр. 13, 14, 19). Это стремление кажется г. Пахману тем более странным, что Иеринг, послуживший исходным пунктом для нового направления, никогда и не думал отвергать догматики (стр. 58). Едва ли этот упрек справедлив по отношению к г. Муромцеву, который, как мы видели, отрицает исключительное изучение только римского права (Юрид. Вест., 1884, N 4, стр. 763). Г. Пахман восстает прежде всего против присвоения новой школой исключительного права изучения законов. <Недоумения по настоящему вопросу происходят от терминологии и дело несколько уяснится само собой, если мы слово <законы> (в смысле научном) заменим обыкновенным (?), тоже научным термином: <начала> или <принципы> (стр. 35). Автор не соглашается, будто юридические принципы только явления, которые также подлежат действию законов и в противоположность последним допускают критику. <Юридические принципы, т.е. начала юридической науки, никак не могут быть отождествляемы с изучаемыми явлениями, т.е. с началами положительного права: в отличие от последних, они точно так же неизменны, как и исторические законы явлений> (стр. ;41). Эту неизменность юридических начал автор обусловливает существованием таких правил, которые независимы от взгляда того или другого положительного законодательства, а потому применимы к объяснению всякого положительного права и сохраняют свою силу при всех возможных изменениях в последнем (стр. 40). Критике подлежат несомненно и юридические принципы и законы явлений, так как те и другие могут быть выведены наукой неправильно (стр. 43). Очевидно, г. Пахман неверно толкует мысль Муромцева, потому что последний, допуская критику принципов и отрицая возможность ее в отношении научных законов, имеет в виду критику принципа с точки зрения его целесообразности, если бы он был совершенно верно установлен, тогда как критика научного закона с этой стороны немыслима, а возможна только с точки зрения верности его установления. Задача юридической науки совсем не та, какой представляют ее сторонники нового направления. <Издавна признано, что право может быть изучаемо и само по себе, т.е. исключительно со стороны его содержания, след. независимо от вопросов о происхождении и развитии права, о тех жизненных целях, которые в нем осуществляются> (стр. ;21). Юридическая теория, считая право за меру свободы в общежитии, изучает право не с точки зрения интереса, а именно с точки зрения меры, грани, величины (стр. 24). В этом смысле оправдывается давнишнее сравнение юридической науки с математикой, потому что элемент математический лежит в основе всей юридической науки (стр. ;24). С этой точки зрения существует громадное различие между вещным и обязательственным правом, тогда как с точки зрения интереса, очевидно, не может быть никакого различия, напр., между такими институтами, как право собственности и договор купли-продажи, ибо в том и другом интерес один и тот же - исключительное обладание предметом, имеющим меновую ценность (стр. 26). Соединение юриспруденции с социологией представляется г. Пахману весьма опасным. <Я думаю, что медленное развитие юридической теории происходит не от отчужденности ее от социологии, как полагают многие, именно от того (между прочим), что она еще не отрешилась от примесей разного рода, наслоившихся в ней под влиянием чужих доктрин> (стр. 26). Утверждая, однако, существование неизменных юридических начал, лежащих в основании каждого настоящего и будущего положительного права, г. Пахман признает в то же время, что жизненные отношения составляют фактический, материальный базис права, которое является только формой, их внешней оболочкой, что весь строй права обусловливается не логическими соображениями, а элементами самого быта (стр. 52, 53). Это положение сильно подрывает убеждение в неизменности юридических начал: ели весь строй права зависит от бытовых условий, то с коренным изменением последних, должен измениться и весь строй права и трудно понять, что может остаться неизменным, кроме общих (а не чисто юридических) логических положений, вроде того, что in eo, quod plus sit, inest et minus. Пахман не оставляет без внимания и нового учения о праве, как о защите интересов или отношений, которое он считает высшей степени вредным и неправильным. <Заменив права интересами, новая наука и в самом определении прав все их юридическое значение перенесла на защиту, говоря, что в защите естественного и заключается формальный или юридический элемент. Такое представление о правах отзывается, по моему мнению, решительным забвением той громадной услуги, какую юридическая наука совершила в системе юридических понятий, выделив понятие т.н. материального права из той процессуальной оболочки, в какой оно заслонялось понятием иска. Важность этой услуги заключается именно в разъяснении, что юридический центр тяжести не в формальном праве, а в праве материальном> (стр. 30). Насколько неправильно новое воззрение, это можно видеть, по мнению Пахмана, из того, что оно легко приводит к выводу, будто суд защищает не право, а интересы, между тем как суду нет никакого дела до того, составляет ли иск какой-либо интерес для истца, напр., грошовый иск для миллионера (стр. 31-34). Вопреки предположению г. Пахмана нам кажется, что к такому выводу придти вовсе не так легко. Законодатель, находя известные интересы заслуживающими ввиду общего блага защиты, обещает им судебную защиту в случае нарушения их со стороны других лиц, - с этого момента возникают права. Суд, в случае обращения к нему, в состоянии защищать интерес только тогда, когда интересу заранее была обещана защита законодателем. Как бы ни казался суду важным известный интерес, суд не будет защищать его, если законодатель не обещал заранее защиту, напр., в случае взаимной конкуренции двух магазинов, подрывающих друг другу торговлю. С другой стороны, несомненно, что если суду будет представлен иск, в основании которого не лежит даже грошовый интерес, суд откажет в иске. Впрочем, г. Пахман не отрицает совершенно значения новой науки, как не отвергает догмы и г. Муромцев. Он полагает, что развитие науки, называемой историко-философской, могло бы совершаться при полной неприкосновенности юриспруденции, как науки догматико-систематической (стр. 13). <По широте и важности задач, новая наука несравненно важнее в деле разрешения жизненных вопросов права, чем юриспруденция. Поэтому я даже не настаиваю на равноправности. Я возражаю только против той исключительности, с какой одна из отраслей науки права присваивает себе не только гегемонию, но и привилегию на название науки> (стр. 66). Но мы знаем, что новая наука не добивается ниспровержения догматики. В духе г. Пахмана выступил против нового направления профессор военно-юридической академии и приват-доцент петербургского университета Адольф Христианович Гольмстен. Научная деятельность г. ;Гольмстена специализировалась главным образом на гражданском процессе и в этой области он издал два больших, не лишенных оригинальности, труда <Принцип тожества в гражданском процессе>, 1884 и <Учебник русского гражданского производства>, 1885. Автор является проводником у нас зародившегося в германской литературе под влиянием Бюлова воззрения на процесс, как на юридическое отношение. Небольшие статьи его по материальному гражданскому праву не представляют научного значения ввиду небрежности и спешности, невольно проявляющихся сквозь строки его работ. Его перу принадлежат многочисленные рецензии, помещенные в Журнале Гражданского и Уголовного Права, в котором он состоит вторым редактором (по гражданскому праву). Г. Гольмстен приверженец римского права, как единственного средства для развития юридического мышления, но в то же время он причисляет себя к числу позитивистов. Последнее обстоятельство не помешало ему возражать против социологического направления в науке права, как оно выразилось в трудах г. ;Муромцева и других. Как догматик, он защищает самостоятельность и научность догматической юриспруденции. Этой цели он посвятил свои <Этюды о современном состоянии науки права>, две статьи, из которых главное научное значение имеет первая. Статьи вызвали возражения со стороны г. Муромцева и между Журналом Гражданского и Уголовного Права и Юридическим Вестником открылась весьма интересная полемика. Нужно отдать справедливость г. Гольмстену - в этой полемике он преследовал исключительно научные цели и относился с полным уважением к своему противнику, тогда как г. Муромцев перенес дело на личную почву, третировал своего противника свысока, обвинял его в невежестве и, наконец, позволил себе заподозрить г. ;Гольмстена чуть ли не в желании сделать донос, чего тот вовсе не имел в виду. Успех нового направления г. Гольмстен объясняет не внутренними достоинствами его сравнительно с прежними, но некоторыми внешними соображениями. <Юридическая догматика наука чрезвычайно трудная и подобно математике не может быть популяризирована; как работы математические понятны лишь математикам, так и исследования по догматике доступны лишь специалистам. Иного сорта новая наука: она интересна и понятна всякому; публика ее понимает. Но разве эта популярность есть признак научности? Признак этот никакой роли в вопросе о степени научности играть не может. Одни науки, напр., история, психология и т.п., такого свойства, что понятны всякому, другие же - напр., математика, философия, астрономия не могут быть общепонятны, не могут служить для легкого чтения. Этой популярностью и объясняется большой успех юридической догматики в обществе, в публике, и та готовность, с какой бросились в ее объятия публицисты, дилетанты с криком: <вот она настоящая наука, вот она настоящая юриспруденция!>> (N ;3, стр. 115). Это объяснение настолько верно, насколько новое направление стремилось сблизить юриспруденцию с социологией, которая пользовалась большим уважением со стороны русского общества и считалась наукой легкой и общедоступной. Но приведенное соображение неверно, если имело в виду, что русские ученые вместо трудного изучения догматики предпочитали легкую болтовню в духе социологии, потому что некоторые сочинения в новом направлении представляют больше эрудиции и трудолюбия, чем иные догматические работы. Признавая, что задача науки - отыскание законов в смысле правила, по которому комбинируются известные явления в порядке причинности, г. Гольмстен утверждает, что с этой стороны юриспруденция должна считаться несомненно наукой. Предметом изучения юриспруденции служат принципы, под которыми следует понимать вообще общую мысль, проходящую сквозь целый ряд явлений. С этой точки зрения и закон подходит под общее понятие принципа (N 3, стр. 93). Возражение о неизменности законов в противоположность полной изменяемости принципов по мнению г. Гольмстена несостоятельно, не потому, как это утверждал г. ;Пахман, что принципы неизменны подобно законам, а потому, напротив, что сами законы не неизменны. Они неизменны лишь настолько, насколько постоянны обусловливающие их явления. Исчезло явление, переродилось человечество, народились новые явления - законы потеряли значение. <Когда осуществится pium desiderium социализма и мир будет устлан ассоциациями, то и экономический закон установления цен, вероятно, потеряет свою силу> (N 3, стр. ;97). Очевидно, г. Гольмстен смешивает падение закона с неприменяемостью его. Если представители нового направления, говорит Гольмстен, отрицают за юриспруденцией значение науки, называя ее искусством, то такое презрительное (?) отношение объясняется смешением догматики с герменевтикой, т.е. искусством толкования законов (N 3, стр. 120). Но нам кажется, что если бы создана была догма совершенно отвлеченно, независимо от того или другого положительного законодательства, все же представители нового направления назвали бы ее искусством, а не наукой. Г. Гольмстен, как и г. Пахман, не отвергает значение изучения законов развития права. Он отстаивает только самостоятельность догмы, ее научное достоинство и допускает совместное существование в юриспруденции обоих направлений. <Социологи-позитивисты, - говорит г. ;Гольмстен, - совершенно основательно не упускают из виду двух точек зрения на соотношение социальных явлений - статистическую и динамическую. С первой точки зрения соотношение социальных явлений исследуется безотносительно, безразлично ко времени; со второй - во времени; иначе: социальные явления исследуются или в сосуществовании их или в преемственности. Наука, исследующая условия сосуществования социальных явлений, есть социальная статистика, преемственность - социальная динамика> (N 3, стр. 97). Соответственно этому юридическая наука распадается на юридическую динамику, изучающую законы преемственности юридических явлений, и юридическую статистику, исследующую законы сосуществования этих явлений (N 3, стр. ;100). Такая попытка поставить юриспруденцию на социологическую почву, с сохранением самостоятельности догмы, была встречена иронически г. Муромцевым. <Был прежде юрист-догматик, знал он догму и историю, но вот появляется позитивист и утверждает, что должна существовать динамика и статика права. Юристу-догматику досадно, что его упрекают в недостатке чего-то; и он спешит удовлетворить пришельца: вот вам догматика - и с этими словами он подает историю, а вот и статика - и подает догму, - решение простое и спокойное, но, к сожалению, не мудрое. История по-прежнему остается историей, догма ;- догмой, а динамики и статики нет как нет> (Юрид. Вестник, 1884, N 4, стр. 761). По мнению г. Муромцева историю нельзя сравнить с динамикой, потому что история дает только материал, из дальнейшей переработки которого получаются и динамические и статистические законы (стр. 759). Такой взгляд г. ;Гольмстен, в свою очередь, считает устаревшим, потому что современные историки полагают задачей своей науки раскрытие законов развития человеческих обществ, причем он ссылается на проф. Сергеевича (N 5, стр. 214). В критике нового направления г. Гольмстен особенно возмущается отношением к римскому праву, уничтожением системы римского права. Он полагает, что при чтении истории гражданского права в том виде, как она изложена в <Гражданском праве древнего Рима>, можно было бы сохранить и систематическое изложение. Напротив, г. Муромцев утверждал, что по его сочинению студенты отлично могут изучить конструкцию институтов, в чем приходится усомниться вместе с г. ;Гольмстеном. Знания системы римского права из подобных лекций вынести нельзя, но вопрос в том, насколько это еще необходимо без связи с каким-нибудь положительным, напр., русским законодательством? Г. ;Гольмстен вполне преклоняется перед римским правом. <Положенное римскими юристами основание стоит твердо. На Западе хорошо понимают, что Америку открывать уже более не приходится, что изучение науки права надо начать с римского права, римские юристы уже много сделали, открыли много законов юридической статики и, не изучив их, рискуешь потратить бесплодно немало сил на отыскание того, что давно уже найдено> (N 3, стр. 122). Никто не отрицает сделанного римскими юристами и того, что в основание современных законодательств заложены римские начала, но следует ли отсюда, что каждому нужно начинать с изучения римского права вместо того, чтобы воспользоваться сделанным для дальнейших построений? Странно также в полемике с г. Муромцевым объяснять отрицание догмы римского права опасением перед значительным трудом, тогда как г. Муромцев, конечно, меньше всех подлежит подобному предположению и больше всякого другого имеет право свободно относиться к римской догме. Учение г. Муромцева о сущности права встретило возражения со стороны профессора московского университета Николая Андреевича Зверева и профессора военно-юридической академии Коркунова. В своей книге <Определение и разделение права> г. ;Муромцев определяет право, как отношение, защищенное организованным способом. Он видит в этом последнем свойстве признак, который не встречается вне области права; кроме организованной защиты, говорит он, никакое другое свойство не служит отличительным признаком права. Из слов г. ;Муромцева профессор Зверев выводит заключение, что область применения юридической защиты должна быть ýже сферы действия защиты нравственной, что существуют отношения, к которым юридическая защита, по свойствам своим, неприменима. <Но ведь, другими словами, это значит, что существуют отношения, по свойствам своим, исключающие возможность юридической защиты. Отсюда один шаг до заключения, что право обнимает собой только определенный специфический вид отношений и что каждое отношение должно обладать известными свойствами, чтобы стать отношением правовым> (Журн. Гражд. и Угол. Права, 1881, N 1, стр. 146). В противоположность г. ;Муромцеву, который полагает, что свойства защиты обуславливают собой свойства отношений, г. Зверев выставляет положение, что свойства отношений определяют собой свойства защиты (стр. 147). Организованная защита не обусловливает собой всех признаков права, она встречается там, где право вовсе не существует и в то же время, по сознанию самого г. Муромцева, не отыскивается во всех случаях права. Все, что можно сказать о признаке, которому г. Муромцев придает такое важное значение, это то, что он по преимуществу характеризует право, которое отличается от морали не только внешними, но и внутренними признаками (стр. 149). Эти возражения г. Муромцев не оставил без ответа. <Когда в своей книге я говорю о действующем праве, то под организованной или правовой защитой я понимаю всюду защиту действительно существующую и называю отношение правом лишь настолько, насколько его существование зависит именно от факта юридической защиты. А должен В 100 рублей и уплачивает их своему кредитору без всякой мысли об юридическом характере своего долга, а исключительно лишь вследствие побуждений честности. Это отношение я не причисляю к числу правовых, потому что в нем именно не действует организованная защита> (Ж. Гр. и Уг. Пр., 1881, N 2, стр. ;172). Следует заметить, что как рецензия г. Зверева, так и ответ на нее г. Муромцева не отличаются ясностью и определенностью. Еще более темными кажутся возражения, которые делает г. Му-ромцеву г. Коркунов в своей статьей <О научном изучении права> (Журн. Гр. и Уг. Пр., 1882, N 4 и 5). Он полагает, что определение права, даваемое г. Муромцевым, совершенно несостоятельно. Оно всецело покоится на совершенном игнорировании психического элемента и потому донельзя односторонне (N 4, стр. 10). Для возможности отличить право от всякого иного наперед определяемого порядка, необходимо обратиться к психическому элементу, к сознанию людей, к имеющемуся у их представлению о существовании такого наперед определенного порядка (стр. 11). <Словом, для отграничения права от всякого другого, наперед определенного порядка, необходимо обратиться к психической стороне правовых явлений. А раз мы это сделаем, определение права, данное г. Муромцевым, падает само собой> (стр. 12). К сожалению, из последующего изложения трудно уяснить себе, в чем заключается этот психический элемент, если только это не дух Пухты, каким образом мог г. ;Муромцев упустить из виду психическую сторону, когда он особенное внимание обращает на идею психического труда, и как, наконец, ниспровергается все учение г. Муромцева о праве. Заключение Сделанный нами обзор состояния науки гражданского права в России со времени перенесения ее на русскую почву до последних дней сам собой говорит о том, каковы могли быть ее результаты для жизни. Не имея традиций, улавливая каждую новую мысль в готовности создать из нее целое направление, наука не могла пустить глубоких корней в нашу практику и определить себе путь, по которому должны идти дальнейшие исследования ученых. Вместе с тем судебная организация прошедших времен не допускала влияния науки на судебную деятельность. Здесь нашли себе приют такие начала, которые не могли найти себе оправдания в науке какого бы то ни было направления. Для судей, не получивших юридического образования, было совершенно безразлично, придерживается ли наука идей естественного права, примкнула ли она к исторической школе, держится ли историко-сравнительного направления или же прокладывает путь правосудию разработкой догматических принципов и отечественного законодательства. Теория и практика шли у нас каждая своей дорогой, самостоятельно заботились о своем существовании и чуждались друг друга. Эта рознь составляет у нас постоянное явление, которое не потеряло своего значения и теперь, при совершенно изменившихся условиях, когда можно было ожидать, что наступит время полного общения между той и другой деятельностью. А между тем это явление должно быть признано безусловно ненормальным, потому что всегда и везде теоретическая и практическая юриспруденция были в связи между собой. О Риме и говорить нечего - там выдающиеся юристы были практиками и их практические правила были возведены на степень теоретических принципов. Римские юристы давали советы по различным возникающим в жизни вопросам и их указания имели громадную практическую ценность. Извлечением из их сочинений был придан характер положительного законодательства. В эпоху рецепции римского права легисты проводили в жизнь начала, вынесенные ими из школы, и их коренное заблуждение было в том, что они слишком энергично старались навязать жизни теоретические принципы, извлеченные из чуждого для жизни того времени права. До половины XVIII века юридические факультеты на Западе пользовались таким уважением со стороны практики, что на их усмотрение и заключение присылались наиболее трудные дела. Настоящее время дает не менее доказательств полного единения науки и судебной практики. Какая масса сочинений выходит из-под пера практиков, которые сегодня занимают судейское кресло или адвокатскую трибуну, а завтра восседают на кафедре в качестве профессора, и наоборот. Постоянные юридические съезды обнаруживают самую тесную связь между теоретиками и практиками. Судьи, прокуроры, адвокаты всюду на Западе вступают на свое поприще, не иначе как в полном научном вооружении и в последующей своей деятельности не прерывают сношений с наукой, но поддерживают постоянным чтением, что лучше всего доказывается массой расходящихся книг юридического содержания. На суде не стесняются приводить цитаты из наиболее известных сочинений, ссылаются на наиболее уважаемые авторитеты. Решения французских или германских судов представляют собой образцы умелого применения теории к практике. Тонкий анализ дела, умение выделить юридические элементы, точная и сжатая мотивировка - все это качества западных судов, прекрасно свидетельствующие о высоком практическом значении теоретической подготовки юристов. Ничего подобного не замечается в России, где не только нет общения между теорией и практикой, но, напротив, обнаруживается какая-то неприязнь, враждебность между теоретиками и практиками. Первые считают содействие правосудию ниже своего достоинства и относятся несколько презрительно к судебной практике, а на попытку отдельного ученого прийти на помощь суду смотрят как на измену научному делу. Вторые со снисходительной улыбкой посматривают на кабинетные эксперименты ученого, не имеющие никакого к ним отношения и, предполагая унизить значение науки, указывают на неумение ее воспитанников составлять канцелярские бумаги. А был момент в нашей истории, когда можно было ожидать, что эта рознь прекратится, что теория и практика, подав друг другу руки, пойдут вместе к одной общей цели - водворению правосудия и законности в русском государстве. Для этого ученые должны были разрабатывать отечественное законодательство, заимствовать все хорошее от Запада и приспособить его к русской жизни, а судьи, прокуроры, адвокаты должны были пользоваться изготовляемым для них оружием, чтобы применять его на практике. Этот момент - судебная реформа - подавал большие надежды в этом направлении. К сожалению, обычная неустойчивость русского человека, энергия первой минуты, быстро пропадающая при первом столкновении с жизнью, жалобы на внешние условия - все это нашло себе место и в нашей области. Новая судебная организация дала преимущество лицам, получившим специальное юридическое образование, от которых можно было ожидать иного отношения к науке, чем от прежних законоискусников, хотя бы из благородной памяти к своей Alma Mater, которая вправе была ожидать от своих питомцев не только телеграмм по случаю акта и участия в ежегодном обеде, но осуществления на практике вынесенных ими из аудитории принципов. Масса новых практических деятелей, выступившая в жизнь при совершенно новых для России условиях, должна была поневоле искать советов и указаний в науке, потому что прошлая юрисдикция не оставила им в наследство руководящих начал, прецедентов. На их долю выпала задача не продолжать, а начинать вновь дело. Немедленно поднялся чрезвычайный спрос на юридические книги, журналы. Почти каждый юрист-практик считал необходимым обзавестись хотя небольшой библиотекой, к которой он прибегал в затруднительные минуты. Как высшее выражение единения науки и практики может служить возникновение юридических обществ, которые учреждались имен-но в университетских городах, Петербурге, Москве, Одессе, Киеве, Казани (исключение курское юридическое общество). В этих обществах ученые принимали участие при разрешении практических вопросов, практики участвовали в спорах об основных вопросах науки права. В редакциях юридических журналов мы замечаем совместную работу теоретиков и практиков. Но увлечение прошло так же быстро, как и возникло, и наступила прежняя рознь между теорией и практикой, которую мы видим в настоящее время. Практикам надоело советоваться с теорией, они отшатнулись от науки и решили собственными средствами устроить себе modus vivendi. Уже в семидесятых годах ослабевает у практиков рвение к науке, к теоретической выработке себе принципов для своей практической деятельности, к научному уяснению себе тех отношений, с которыми они ежедневно имели дело. Вместо научной теории практики определяют свою деятельность как бы самостоятельными началами судебной практики. Что знание одних законов недостаточно ;- это понимает каждый практик в силу того обстоятельства, что по многим вопросам закон или вовсе молчит или дает противоречивые постановления. Но этот ощутительный недостаток практики восполняется не теорией, способной привести его благодаря пониманию системы и умению толковать к правильному взгляду, но к кассационным решениям, т.е. к прецедентам судебной практики, выработанной высшей судебной инстанцией. Авторитет кассационных решений основывается, очевидно, не на силе прецедента, как в Англии, потому что тогда имели бы значение решения других окружных судов и палат, но исключительно на иерархическом отношении низших инстанций к высшим. Судебная практика рабски ловит каждое замечание кассационного департамента, старается согласовать свою деятельность со взглядом сената. Эта масса решений, нарастающая с каждым годом все крепче и крепче, опутывает наш суд, который, как лев, запутавшийся в сетях, бессильно подчиняется своей участи, отказывается от борьбы и живет разумом высшей судебной инстанции. В настоящее время вся задача практика заключается в том, чтобы подыскать кассационное решение на данный случай. Борьба перед судом ведется не силой логики, не знанием соотношения конструкции института и системы права, не искусством тонкого толкования законов, а исключительно ссылкой на кассационные решения. Печальную картину представляют теперь судебные заседания, где мы видим как адвокаты поражают друг друга кассационными решениями и где торжествует тот, кто нашел наиболее подходящее и притом позднейшее. Еще более печальное явление составляют судебные решения, где мы не находим юридических мотивов и соображений, а только указание номеров решений. В тех несчастных случаях, когда сенат не успел дать ответа, стороны и суд решают дело просто по совести, к кому душа более тянет. Углубившись в этот непроницаемый лес решений, практика не видит света. Авторитет кассационных решений отучил наших практиков от самостоятельного мышления, от собственного юридического анализа. Ум обленился и рука невольно тянется к лежащему на столе Боровиковскому, как только перед глазами дело, прямо не разрешенное законом. Раз сложившиеся отношения крепко стягивают всех, и каждый новый пришелец в судебном мире должен непременно ему подчиниться. Представим, что еще свежий человек вступает на свое адвокатское поприще в полном научном вооружении. К чему оно ему пригодится? Самые тонкие исторические, систематические изъяснения закона бессильны против кассационного решения, которым владеет его противник. Такой <ученый> практик рискует, что будет остановлен председательским замечанием, что суду известны законы, тогда как его противнику суд будет очень благодарен за указание номера и года решения. Можно ли ожидать, чтобы начинающие практики сохранили в себе надолго веру в науку, которой авторитет топчется в каждом заседании. Правда, суд, отказываясь от советов науки и самостоятельного мышления, унижает авторитет суда в глазах всего общества, которое все более убеждается, что суд является только механическим исполнителем воли сената и что выигрыш или проигрыш дела зависит от степени соответствия его с кассационными решениями. Это укрывание за авторитет кассационных решений объясняется прежде всего остывшей энергией новых судебных учреждений, потерей сознания важного значения той задачи, к которой были призваны суды, неустойчивостью русского деятеля. Но во многом вина падает на то высшее учреждение, которому поручено наблюдать за правильным применением законов, но не предоставлено право законодательного творчества. С самого начала своей деятельности кассационные департаменты стали присваивать своим решениям силу, какой в действительности по закону они не имеют, составляя лишь совет, руководствуясь которым суды могли бы придавать своей практике некоторое однообразие в понимании и применении законов. Но ни в каком случае (за исключением указанного в законе) кассационные решения не имеют обязательной силы для всех судов. Русская научная литература с замечательным единодушием высказалась в этом смысле[80]. Сенат полагает, что он имеет право диктовать законы, тогда как его роль ограничивается проверкой, насколько решения судов и палат соответствуют действующему законодательству. Эта глухая борьба между наукой и сенатом, из которых каждая сторона тянула к себе судебную практику, ознаменовалась не так давно неожиданной выходкой со стороны сената, сильно компрометирующей государственное установление, так высоко поставленное. Мы говорим о решении гражданского кассационного департамента за 1891 ;год N 62. По поводу решения Виленской судебной палаты, в котором последняя, за отсутствием постановлений в русском законодательстве по вопросу о симулятивных сделках, позволила себе обратиться к науке права и цитировать сочинения Laurant, Dalloz, Правительствующий Сенат делает следующее характерное замечание: <Правительствующий Сенат считает нужным обратить внимание на допущенные по настоящему делу Виленской судебной палатой отступления от общепринятого (?) правильного (!) способа изложения судебных решений, заключающихся как в неуместных ссылках, в самом тексте обжалованного решения, вопреки ст. 9 уст. гражд. суд. (?) на начала <так называемой теории права>, на учения римского и французского права, на сочинения иностранных юристов и т.п., так и в неоднократном употреблении, - без всякой в том надобности (!) - совершенно не свойственных русскому языку выражений, как-то: абсолютная и релятивная симулятивность, фиктивность и т.д.>. Здесь все заслуживает внимания. Но особенно прелестно в устах сената - <так называемая теория права!>. Значит, сенат не знает о существовании <действительной> теории права или намеренно игнорирует ее. Мало того, он запрещает судебным учреждениям обращаться за указаниями к теории права и ею оправдывать свои решения. Неприличие замечания сената еще более увеличится, если мы примем во внимание, что он бросает перчатку науке, имея в своем составе столь видных представителей <так называемой теории права>, как гг. Таганцев, Пахман. Ирония, издевательство над наукой несомненно более неуместны в судебном решении, хотя бы и кассационном, нежели ссылка на иностранные законодательства или на литературу. Сенат указывает на правильность общепринятого способа изложения судебных решений, имея, вероятно, в виду ссылки на кассационные решения. Сенат приводит ст. 9 уст. гражд. суд. как препятствие к ссылке на научную литературу, блестяще доказывая тем, что истинно юридическое толкование относится к области так называемой теории права, с которой сенат открыто порывает связь. Сенат считает неуместным употребление иностранных терминов вроде симулятивность, фиктивность. Интересно было бы знать, какими русскими выражениями заменил бы он их, не прибегая к описанию отношения? Неужели сенат полагает, что мнимая сделка то же, что симулятивная? На это он нашел бы ответ в отвергаемой им теории права. Может быть сенат, преследуя иностранные термины, установленные в науке, запретит употребление и других иностранных выражений, как контрагент, легатарий и т.п., которые прочно привились в нашей судебной практике? Таким путем сенат стремится заглушить и без того редкое поползновение в среде практиков обращаться к науке и предлагает замкнуться исключительно в кругу кассационных решений. Мы уверены, что приведенное решение нашего сената было бы безусловно невозможно для французского сената, который стоит в самой тесной связи с наукой и пользуется полным уважением со стороны представителей последней. Нет ничего удивительного, что при таких условиях деятельность наших судов, снискавших себе уважение общества за свое честное отношение к делу, за свое беспристрастие, которое не может быть поколеблено ни денежными выгодами, ни служебными обещаниями, ни связями и родством, - с юридической стороны представляется в высшей степени неудовлетворительной и тем прискорбнее унижение юридического авторитета новых учреждений, чем выше их нравственное значение. Недостаточная постановка иска, плохая формулировка председателем спорных вопросов, отсутствие юридических соображений в решениях - таковы слабые стороны нашего судопроизводства, слишком, к сожалению, известные, чтобы необходимо было о них распространяться. [80] Градовский, Начала русского государственного права, I, стр. 96, Малышев, Курс гражданского судопроизводства, I, стр. 68, Фойницкий, Курс уголовного судопроизводства, I, стр. 196, Таганцев, Лекции по русскому уголовному праву, I, стр. 370, Тальберг, Русское уголовное судопроизводство, I, 130, Contra Романович-Славатинский, Система русского государственного права, I, стр. 235 (ссылка на Градовского?). Кроме слепого подчинения кассационным решениям, устраняющего необходимость самостоятельного мышления, игнорирование науки со стороны практики обусловливается еще неудовлетворительностью судебной организации. Чтобы самостоятельно рассуждать, чтобы заниматься наукой, юрист должен любить и знать свое дело. Не может быть речи об обращении к теории, когда юрист не освоился даже с законами гражданскими, немыслимо самостоятельное отношение к цивилистичческим вопросам, когда судья или адвокат давно забыл вынесенное из университета знание системы гражданского права. А между тем у нас именно это и происходит. Кончивший университет поступает в суд или к прокурору и весь его интерес прежде всего сосредоточивается на уголовных заседаниях. Назначенный судебным следователем, он весь погружается в уголовную практику, которую продолжает и по назначении его товарищем прокурора. Когда он явится в суд в качестве члена суда по гражданскому отделению, с какой подготовкой он приступает к делу? Он забыл давно уже изученное им и в течение всей своей практической деятельности не имел, может быть, никогда в руках гражданского дела. Не только член окружного суда может очутиться в таком положении, но и член судебной палаты и даже сенатор. Неужели можно сказать, что гражданское правосудие при таком положении дела достаточно обеспечено? Какой интерес может возникнуть у таких лиц к самому трудному для практика отделу юриспруденции - гражданскому праву и не является ли для него возможность ссылки на кассационные решения якорем спасения? Министерство юстиции само сознает прекрасно неудовлетворительность подготовки судьи и принимает различные меры для поправления дела. Но принуждение судей переходит из уголовного отделения в гражданское, и наоборот, устройство и пополнение библиотек при судебных палатах и судах, производство испытаний для кандидатов - все это меры, едва ли обещающие сколько-нибудь поправить дело. Только назначение судей из числа адвокатов, успевших обнаружить свое знание, в соединении с лучшей постановкой положения судьи в служебном и общественном отношении могли бы гарантировать правильное отправление гражданского правосудия и большую близость практики и теории. Отвержение практиков от науки обнаруживается теперь во всем. Юридические сочинения, особенно монографии, нисколько не интересуют практиков, тогда как различные издания судебных уставов и т. Х, ч. 1 с кассационными решениями расходятся в десятках тысяч экземпляров. Не только систематические работы, но даже комментарии, наподобие Опыта г. Анненкова не могут конкурировать с гг. Боровиковским, Рошковским и т.п., потому что требуют более самостоятельного отношения и не отличаются внешним авторитетом. Юридические общества, так горячо принявшиеся сначала за дело, в состав которых прежде считали своей обязанностью войти почти все адвокаты, прокуроры, судьи, вдруг утратили значение. Уже в семидесятых годах слышим жалобу на уменьшение рвения со стороны практиков в посещении заседаний и предложении рефератов, на рознь между теоретиками и практиками[81]. Московское юридическое общество почти исключительно занялось экономическими вопросами, положение дел в петербургском обществе лучше всего характеризуется известным скандалом, разыгравшимся в прошлом году по случаю выборов, положение провинциальных обществ еще хуже - совершенно отчаянное - их существование только фиктивное. Причина розни теории и практики кроется не в одних только представителях судебного мира, но и в представителях науки. Ученые цивилисты в значительной степени сами виноваты в том, что практики отшатнулись от науки. Наука гражданского права располагается чрезвычайно небольшим числом работников. Цивилисты с большим удовольствием останавливают свое внимание на римском праве, науке в высшей степени разработанной и требующей только способности умело компилировать, - таких оригинальных романистов, как гг. Муромцев или Боголепов, русская наука может выставить немного. Кафедры гражданского и торгового права пустуют или занимаются романистами, которые лишь механически связывают русское законодательство с римской системой. При чтении трех цивилистических предметов, гражданского права, гражданского процесса, торгового права, каждый университет должен иметь по крайней мере двух цивилистов. Но такой нормы мы не видим нигде, кроме казанского университета (3 ;профессора), со времени Мейера и Пахмана всегда изобиловавшего цивилистами, и московского университета (2 профессора). В большинстве случаев университеты имеют только одного представителя науки гражданского права, так что такой предмет, как торговое право, читается нередко полицеистами, финансистами, экономистами, что едва ли не отражается на правильной постановке преподавания. Кроме того, в противоположность криминалистам, цивилисты чрезмерно воздержаны в своей литературной деятельности и читающая публика знакомится с ними почти исключительно по диссертации. Имена ученых цивилистов редко встречаются на страницах журналов, еще реже выступают профессора гражданского права в юридических обществах с рефератами или для участия в прениях. Очевидно, русское гражданское право мало привлекает наших ученых, которые находят, что в его теперешнем состоянии оно не стоит траты сил. Однако все же оно действует в пределах громадного государства и чем больше его недостатки, тем более необходимо содействие науки. Вспомним, что гражданское законодательство в Германии не только не в лучшем положении, чем у нас, но, несомненно, в гораздо худшем и тем не менее какая масса ученых сил принимается за его разработку, дает ему научное освещение, придает ему систематическую форму. Предубеждение наших ученых против русского законодательства нам кажется преувеличенным, что и было не раз указано в литературе. <Наше гражданское законодательство, - говорит Оршанский, - в ;сущности не столь бедно правовыми идеями, как это кажется при поверхностном знакомстве с Х томом; но дело в том, что наша практика и юриспруденция, по недостатку научного развития, не умеют обобщать и правильно применять идей, выраженных законом в казуистической форме, которая не может, однако, вводить в заблуждение развитого юриста>[82]. <Можно сказать, - замечает Кистяковский, - не боясь впасть в ошибку, что многие из наших законов сами по себе, и по своей идее гораздо лучше, чем в практическом понимании, чем в том виде, как они применяются>[83]. Здесь-то именно открывается широкая, благодарная задача для науки гражданского права, которая вовсе не должна посвятить себя комментированию законов, но, кроме правильного уяснения их смысла на основании исторического и систематического толкования, она должна уяснить юридическую конструкцию каждого института, указать его социальную цель, подвергнуть критике действующее законодательство и предложить взамен лучший порядок. Когда же наука предлагает обращающейся к ней советом практике антикварные исследования в области римского права, то нет ничего удивительного, что разочарованная практика отворачивается от науки и ищет самостоятельно исхода для удовлетворения своих потребностей. Только при условии, что наука гражданского права примется, наконец, за историческую и догматическую разработку русского законодательства, а практика освободится от цепей, наложенных на нее кассационными решениями, и обратится к научной помощи, - только тогда можно ожидать устранения той розни между теоретической и практической юриспруденцией, которая составляет в высшей степени печальное явление современной русской правовой жизни. Печатается по: Наука гражданского права в России. профессора Казанского университета Г.Ф. Шершеневича. Казань: Типография императорского университета, 1893. [81] Юрид. Вестник, 1871, № 1, стр. 21. [82] Оршанский, Судебный Журнал, 1874, май-июнь, стр. 113. [83] Кистяковский, Журн. Гражд. и Угол. Права, 1881, № 1, стр. 16.