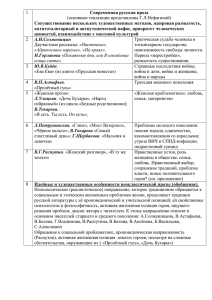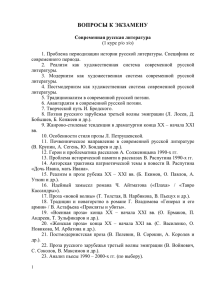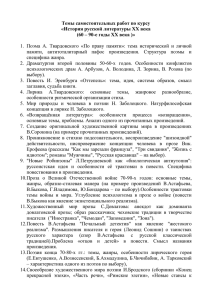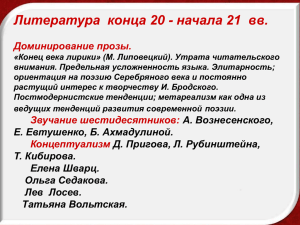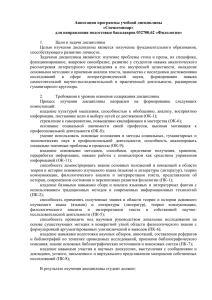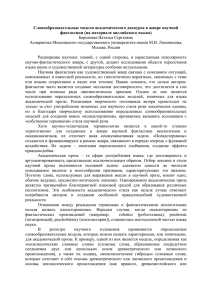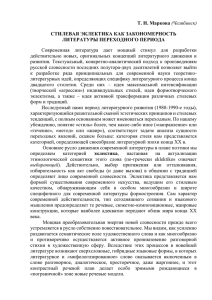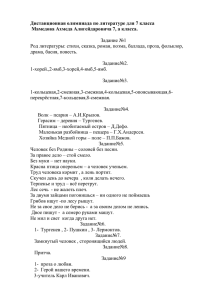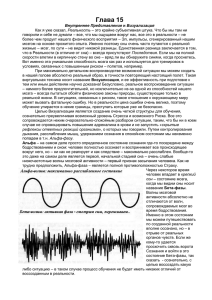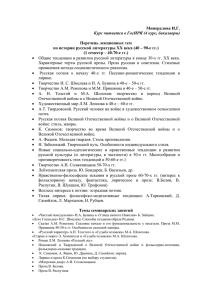НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Филологический факультет В.А. Суханов РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА 1990–2000-х ГОДОВ Часть 1. Реалистическая проза Учебное пособие Томск Издательский Дом Томского государственного университета 2017 УДК 821.161.1 ББК 83.3(2=411.2) С91 Рассмотрено и утверждено методической комиссией филологического факультета. Протокол № 7 от «30» октября 2017 г. Председатель УМК ФилФ Ю.А. Тихомирова. С91 Суханов В.А. Русская литература рубежа 1990–2000-х годов. Часть 1. Реалистическая проза : учебное пособие. – Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 2017. – 93 с. Пособие составлено в соответствии с тематикой практических занятий и программой лекционного курса «Русская литература рубежа ХХ– ХХI веков». Пособие включает характеристику социокультурных условий функционирования литературы изучаемого периода, тенденций развития реалистической прозы, анализ произведений, воплощающих в проблематике и поэтике особенности реализма. Для для студентов филологического факультета по направлению подготовки 52.05.04 «Литературное творчество», а также для социологов, философов, культурологов и читателей, интересующихся русской литературой ХХ века и новейшей русской литературой. УДК 821.161.1 ББК 83.3(2=411.2) Рецензент доктор филологических наук, профессор И.В. Силантьев © Суханов В.А., 2017 © Томский государственный университет, 2017 СОДЕРЖАНИЕ Введение ………………………………………………….............………………… 4 Проза 1990–2000-х годов: условия функционирования ………….................… 6 Проза 1990–2000-х годов: адресат, предмет изображения ………….................. 15 Место реалистической прозы в новой социокультурной ситуации …............... 18 Национальное и маргинальное в реалистической прозе …………….…........... 20 Диалог с классикой в романе 1990-х годов: В. Маканин «Андеграунд, или Герой нашего времени» ………………………………..................…………. 25 Новые ресурсы реалистического повествования ………………………………… 33 Поиск новых кодов изображения ………………………………..............……… 38 Реалистическая проза о войне ……………………………………...............……… 47 Функции «чужого» в реалистической прозе: роман М. Шишкина «Венерин волос» ……………......................………..............……… 59 Реалистическая проза с религиозным компонентом ……………….............…… 64 Гипотеза о постреализме ………………………………………………...........…. 88 Заключение ………………………………………………..........………………… 89 Литература ............................................................................................................... 91 3 Введение Литературный процесс рубежа XX–XXI веков в современных учебниках и пособиях, адресованных студентам, характеризуется по самым разным основаниям, но общепризнанным является – при всей условности терминологического определения – тот факт, что в границах современной литературы сосуществуют и взаимодействуют три основных типа художественного мышления, образовавшие магистральные направления в литературе этого периода: реализм, модернизм и постмодернизм. Теоретические дискуссии о реализме периодически повторяются в истории литературы (1920-е, конец 1950-х, середина 1980– 1990-е), но так и разрешают вопрос о его возможностях и границах. В осмыслении новейшей литературы, на наш взгляд, критика и литературоведение переживают как ситуацию нехватки языка, «языковой нужды» (Г.-Г. Гадамер), так и вызванный ею методологический сдвиг от структуралистских и пост-штудий к интеллектуальному комментарию, который становится одним из основных подходов к художественному тексту и по причине того, что весь массив трудно обозрим, и в силу отсутствия необходимой дистанции, той вненаходимости, о которой писал М.М. Бахтин, поэтому можно согласиться с утверждением отдельных исследователей о том, что «проблема определения и дифференцирования современной реалистической литературы остается нерешенной»1. Рабочая гипотеза автора связана с идеей «мягкой трансформации» реализма или, как говорят философы, с «умеренным решением» вопроса о судьбе реализма как типа художественного мышления, которое заключается в том, что изменившийся характер реальности и представлений о ней обусловил и дальнейшее приближение «средств изображения к предмету изображения» (М. Бахтин). Расширение представлений о реальности в ту или иную историческую эпоху, изменение социальной реальности меняет и сам реализм, сохраняя при этом его онтологические, гносеологические 1 Счастливцева Ю.А. Трансформации художественной системы реализма на рубеже XX–XXI веков. URL: https://bibliofond.ru/view.aspx?id=83182 (дата обращения 06.09.2017). 4 и аксиологические доминанты. «Эстетическое заявление о себе действительности – существенно первично», – писал Г. Шпет2. Реалистический тип художественного мышления в ситуации рубежа веков переживает обновление и модернизацию в поиске новых возможностей для реализации изменившейся картины мира. В настоящем пособии не дается типология реалистической прозы, а с учётом ряда замечаний, наблюдений, положений и выводов социологических, культурологических, литературоведческих, критических работ, учебников и учебных пособий рассматриваются отдельные моменты реалистической прозы, которые, по мнению автора, представляют определенные тенденции художественной практики. Они характеризуют как новые аспекты реальности, осваиваемые в реалистической прозе, так и новое в авторской стратегии и поэтике: тип героя, особенности повествования, интертекстуальность, и интермедиальность (визуальное в прозе), художественное пространство, темы и мотивы. Такой подход представляется оправданным, поскольку, как писал М.М. Бахтин, «никакая общая характеристика не бывает вполне справедливой»3. 2 Г. Г. Шпет. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Сочинения. М. 1989. С. 368. М.М. Бахтин Ответ на вопрос редакции «Нового мира» // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчествам. М.: Искусство. 1979. С. 329. 3 5 Проза 1990–2000-х годов: условия функционирования 1990-е годы начинаются в России с «парада суверенитетов»: объявления рядом республик СССР, в том числе и Российской Федерацией, деклараций о государственном суверенитете. 1991 год оказывается переломным в жизни огромной страны и характеризуется быстрой сменой политических событий: начало войны в Чечне, забастовки шахтеров; намерение подписать новый союзный договор приводит к попытке государственного переворота в августе 1991 года и, в итоге, завершается в декабре 1991 года распадом СССР. С этого момента современная Россия начинает собственный путь в истории. С распадом СССР завершается история советской многонациональной литературы вообще и прозы, в частности, и русская литература продолжает свое развитие в новых экономических, социально-политических и культурных условиях. 1992 год в России стал годом «шоковой терапии», началом рыночных реформ и кардинального переустройства всех сфер социальной жизни: политической, экономической, социальной, культурной. Переход от тоталитарного к демократическому типу государства (многопартийность, прямые выборы президента и парламента) происходит на фоне борьбы за власть между президентом и парламентом, выборами в Государственную думу и принятием новой конституции в декабре 1993 года. Современники были захвачены происходящими в стране процессами, на фоне которых окончательно оформляется социальный разворот от литературоцентризма общественной интеллектуальной жизни к реальной повседневности, к материальной плоти жизни: сходит на нет активная журнальная идеологическая борьба второй половины 1980-х годов, которая завершается в 1992 году организационным расколом Союза писателей СССР на либеральный Союз российских писателей (А. Адамович, Б. Окуджава, А. Рыбаков, В. Кондратьев, С. Каледин, В. Дудинцев) и отстаивающий путь национальной самобытности Союз писателей России (Ю. Бонда6 рев, В. Распутин, В. Крупин, С. Куняев, В. Лихоносов. А. Проханов). Катастрофически падают тиражи ведущих журналов, лишенных государственных дотаций, а содержательно – журналы утрачивают былую интеллектуальную авторитетность. К 1993 году тираж «Нового мира» с 2,71 млн. экз. падает в 10 раз. Переходный характер отечественной культуры 1990-х годов, изменения в отношениях литературы и власти (отмена цензуры) привели к исчезновению разного рода социальных, политических, идеологических, языковых табу. Падение роли серьезной литературы в социальной и общественной жизни и свобода печати приводят к возникновению журналов массовой культуры, печатающих произведения, не прошедшие не только идеологического, но и эстетического отбора4, формируется огромное поле массовой литературы (фэнтези, детектив, «розовый роман») и масскультуры (западные и российские телесериалы). Внимание массового читателя переключается от литературы к визуальным искусствам – кино и, преимущественно, – современное телевидение с его сериалами, экранизацией классики и современной массовой прозы: экранизация детективной серии Б. Акунина о Фандорине («Азазель, 2002; «Турецкий гамбит», 2005; «Статский советник». 2005; «Алмазная колесница», 2014; «Декоратор», 2014, сериал «Пелагея и белый бульдог», 2009); 68 серий (2000 – 2011) детективного сериала «Каменская», снятого по 23 романам А. Марининой и др.)5. 4 «Гламур стал не только стилем, но больше: новой идеологией российской жизни, пронизывающей все ее сферы, определяющей существование многих типов культуры». См.: Иванова Н. Б. Русский крест. Литература и читатель в начале нового века. М.: Время. 2011. С. 32. 5 По мнению Ю. Рыжова, «существование массовой культуры не только закономерно, но и желательно, поскольку она интегрирует в единое целое чрезвычайно сложное информационное общество, и осуществляет адаптацию индивида к этому обществу, формируя у него определенную систему ценностей». См.: Рыжов Ю. В. Ignoto Deo: Новая религиозность в культуре и искусстве. М.: Смысл, 2006. 328 с. URL: http://kronadaran.am/wp-content/uploads/2014/12/Ignoto-DeoНовая-религиозность-в-культуре-и-искусстве.-Ю.-Рыжов.pdf (дата обращения 04.10.2017). 7 Серьезная литература превращается в занятие для посвященных (избранных, интеллектуалов), а литературные дискуссии обретают эстетический, а не политический характер6. К концу 1990-х годов кардинально меняется место и роль писателя, критика, читателя, литература из идеологически и государственно ангажируемой окончательно становится просто литературой, хотя государство сохраняет позиции в ряде издательств и СМИ. В 1990-е годы в литературный процесс входит весь корпуса русской литературы ХХ века: 1) запрещенная в своё время к публикации советская литература 1920–1940-х годов (М. Булгаков, А. Платонов, Б. Пильняк и др.); 2) литература русской эмиграции, её трёх волн – послереволюционной, 1920-х годов (А. Аверченко, М. Алданов, И. Бунин, Г. Газданов, Б. Зайцев, Георгий Иванов, Б. Осоргин, В. Ходасевич, И. Шмелев и др.); послевоенной 1940-х годов (И. Елагин, Д. Кленовский, Ю. Иваск, Б. Нарциссов, И. Чиннов, В. Синкевич, Н. Нароков, Н. Моршен, С. Максимов, В. Марков, Б. Ширяев, Л. Ржевский, В. Юрасов); постоттепелевской, 1960 – 1970-х годов (В. Аксенов, Ю. Алешковский, И. Бродский, Г. Владимов, В. Войнович, Ф. Горенштейн, И. Губерман, С. Довлатов, А. Галич, Л. Копелев, Н. Коржавин, Ю. Кублановский, Э. Лимонов, В. Максимов, Ю. Мамлеев, В. Некрасов, С. Соколов, А. Синявский, А. Солженицын); 3) литература советского андеграунда 1950 – 1970-х годов (Вен. Ерофеев, В. Шаламов, И. Кабаков, Д. Пригов, Вс. Некрасов, Н. Глазков и др.). В этот же период происходит процесс смены писательских поколений и ее гендерного состава, переформатирование писательского корпуса. С одной стороны, актуализируются разные по уровню дарования, но прежде периферийные имена литературы 1970-х –1980-х годов (М. Арбатова, В. Сорокин, С. Гандлевский, Парщиков, Н. Коляда, Т. Толстая, В. Пьецух). Одновременно с этим появились новые имена (Ю. Буйда, В. Пелевин, А. Гостева, Т. Кибиров, В. Отрошенко, М. Успенский, О. Павлов, А. Варламов, Н. Садур, Д. Липскеров и др.). Эти группы писателей сосуществуют с персоналиями авторитетов 1970–1980-х годов, продол6 Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. Современная русская литература. 1950– 1990-е годы: учеб. пособие: в 2 т. Т. 2: 1968–1990. М.: Академия. 2003. С. 419. 8 жающих писать и в 1990 – 2000-е годы (В. Астафьев, А. Битов, И. Бродский, А Солженицын, В. Белов, В. Распутин, А. Курчаткин, В. Маканин, А. Ким, Л. Петрушевская, В. Соснора, А. Кушнер, Ю. Кузнецов, А. Вознесенский, Г. Горин и др.). В результате объединения в единый поток всей русской литературы ХХ века и восстановления полноты её реального функционирования собственно эстетические противоречия не сгладились, однако стала очевидна сложность, многоплановость и разновекторность эстетических исканий русских писателей как эмиграции, так и метрополии не только в периоды «промежутка», но и на протяжении всего ХХ века. Процесс возвращения литературы завершается во второй половине 1990-х годов, и начинаются первые попытки ее целостного обзора и изучения. Состояние текущей словесности, литературное поле 1990-х годов литературоведы определяли как «перепутье» (Г. Белая), «картину общего эстетического разброса» (С.И. Тимина), критики – как остановку в развитии литературы7, «отсроченный Апокалипсис» (С. Чупринин)8. Социокультурный кризис общества породил дестабилизацию социального положения людей и институций, расслоение общества, утрату прежней советской коллективной идентичности, утрату национальной идеи, разрушение прежней картины мира, распад социальных и культурных стереотипов и ценностей, нравственный кризис, деформацию нравственных идеалов. Эпоха «социальной аномии» (Дюркгейм) обнажила «исключительность ситуации, в которой сегодня в России находится культура»9. Все это свидетельствует о кризисе прежней литературоцентричной культуры советского периода, собственно литературы как типа культурного освоения реальности и художественного сознания, разрушении системных представлений о литературном про7 Белая Г. А. Перепутье // Вопросы литературы. 1987. № 12. С. 75–103. Чупринин С. Отсроченный апокалипсис. Беглый взгляд на русскую литературу 1992 года // Столица. 1993. №4. С. 52–57. 9 Хренов Н.А. Судьба России в эпоху глобализации: от империи к цивилизации // Культура на рубеже ХХ–ХХI веков: глобализационные процессы. СПб.: НесторИстория. 2009. С. 80. 8 9 цессе10. Вместе с этим многообразие литературного процесса способствовало постановке проблем о художественных возможностях реализма, модернизма и постмодернизма как форм времени в новых социокультурных и исторических условиях (дискуссии 1997 и 2000 годов), обнаружив широкий и противоречивый спектр предлагаемых интерпретаций: от утверждений о смерти реализма и «всякого художественного письма вообще» (В. Руднев), введения множества новых дефиниций (неокритический реализм, метареализм, ультрареализм, неосентиментализм, неонатурализм, неоэкспрессионизм, неомифологизм, поставангард, постреализм) до утверждений о смерти постмодернизма (К. Степанян) и торжества протомышления11. Литературоведы и критики дискутируют о содержания понятия реализм12, пытаются сформулировать подходы к исследованию литературного процесса рубежа веков13, создать его концептуальную модель14, определить закономерности развития15. Исторически такая ситуация не нова. Ю. Тынянов еще в 1920-е годы очень точно определил ее понятием «литературный промежу- 10 Кондаков И. По ту сторону слова (Кризис литературоцентризма в России XX – XXI вв.) // Вопросы литературы. 2008. № 5. URL: http://magazines.russ.ru/voplit/ 2008/5/ko5.html (дата обращения 12.11.2016). 11 Эпштейн М. Прото-, или Конец постмодернизма // «Знамя». 1996. № 3. С. 196– 209. 12 Компаньон А. Демон теории. Литература и здравый смысл / пер. с фр.. С. Зенкина. М.: Изд-во Сабашниковых. 2001. 336 с.; Н. Л. Лейдерман, М. Н. Липовецкий Реалистическая традиция: кризис и переосмысление // Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. Современная русская литература: 1950–1990-е годы: учеб. пособие: в 2 т. Т. 2: 1968–1990. М.: Академия. 2003. C. 523; Казначеев С. М. Феноменология русского реализма: генезис, эволюция, регенерация : автореф. дис. …. д-ра филол. наук. М., 2014. 38 с. 13 Н. Лейдерман Траектории «экспериментирующей эпохи» // Вопросы литературы. 2002. №4 URL: http://magazines.russ.ru/voplit/2002/4/lei.html (дата обращения 21.05.2016); Т.Л. Рыбальченко. История литературы XX века как история литературных течений // Вестник ТГУ. 1999. № 268. С. 68–72. 14 Скоропанова И. С. Концептуальная модель русской литературы конца ХХ – начала ХХI в. // Русская и белорусская литературы на рубеже XX–XXI вв.: сборник научных статей. В 2 ч. Ч. 1. Минск: РИВШ. 2007. C. 12–26. 15 Нефагина Г.Л. Русская проза конца ХХ века : учеб. пособие. М.: Флинта. 2005. С. 20. 10 ток»16, т.е. это время, когда утрачивается ценностный центр прежней культурной эпохи и начинаются тектонические сдвиги глубинных, прежде скрытых, эстетических пород. В посттоталитарные эпохи в такой ситуации, как правило, начинается отторжение прежней культуры с ее традиционной системой ценностей, это порождает крайности в неприятии и отталкивании от нее, в ее снижении, пародировании и обесценивании. Трезвый аналитизм и историзм мышления уступают место оценочным суждениям как проявлению открывшейся свободы любого личностного волеизъявления. Все это сопровождается тотальным скепсисом в понимании человека, общества, природы. Этот процесс уже невозможно объяснить обостряющимся в периоды социальных разломов извечным конфликтом «архаистов и новаторов», «нового» и «старого», «романтиков и классицистов», «реалистов и романтиков», «символистов и реалистов», «футуристов и символистов», «соцреалистов» и «модернистов», «соцартистов» и «неоавангардистов»... этот конфликт исчерпывается у нас на глазах, потому что мы сами старимся в той же мере и с той же скоростью, что обновляемся. Мы сами — древне-новые, мы — нео-архаика. Стремительность обновления, которую мы предполагаем в будущем, предполагает быстроту одревления нас самих»17. Кризис литературоцентризма связан не только с текущими социальными факторами, но имел и цивилизационное измерение, обусловленное включением России в противоречивый глобальный экономический, технологический и культурный миропорядок18. 16 Тынянов Ю. Промежуток // Ю.Н. Тынянов Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука. 1977. С. 168–195. 17 Эпштейн М. De’but de sieсle, или От пост- к прото-. Манифест нового века //«Знамя». 2001. № 5. URL: http://magazines.russ.ru/znamia/2001/5/epsh-pr.html (дата обращения: 04.10.2016). 18 Споры о последствиях глобализации для России. См. Блехер Л.И., Любарский Г.Ю. Главный русский спор: от западников и славянофилов до глобализма и Нового Средневековья Общинность и коллективизм. М.: Академический проект. 2003. URL: http://propagandahistory.ru/books/Blekher-L-I---Lyubarskiy-G-YU_Glavnyy-russkiy-spor-ot-zapadnikov-i-slavyanofilov-do-globalizma-i-NovogoSrednevekovya/ 11 Радикальная трансформация всех уровней социальной системы, в том числе ценностей, норм и правил поведения, осознание утраты прежней советской идентичности и отсутствие новой обозначили начало распада культивировавшегося в советской цивилизации коллективистского ядра прежней культуры со встроенной «метафизикой русского мира» (В. Бибихин). На смену массовой культуры советского типа, основанной на коллективистских ценностях, приходит массовая культура рыночного типа, основанной на индивидуальном потреблении в «цивилизации услуг» (Ж. Фурастье). Современная цивилизация с ее «визуальным поворотом», мобильностью, тотальной информатизацией, уничтожающей границы между художественностью и беллетристикой, унификацией национальных культур, мультикультурностью и «новым варварством» (А.А. Кара-Мурза), индивидуализмом и его крайней формой номадизмом (Ж. Аттали) не только породила новые цифровые способы сохранения информации и культуры, каналы ее распространения (аудиокниги, Интернет), и новые формы (электронные игры как часть массовой культуры), но и обозначила реальную опасность «антропологической катастрофы»19. Вся система ценностных ориентаций российского общества вступила в длительную полосу социальной, экономической, технологической, культурной модернизации и, отражаясь в литературе, этот всеобъемлющий процесс приводит к появлению разнонаправленных эстетических и художественных исканий, создает многослойность реального литературного процесса, проблемнотематическое, жанровое и стилевое его обновлении, способствует распространению смешанных, гибридных жанровых форм, протеистических поэтик, активной и разнонаправленной модернизации языка художественной словесности. Инфосфера современной российской культуры 19 «Аномальное знаковое пространство затягивает в себя все, что с ним соприкасается. Человеческое сознание аннигилирует и, попадая в ситуацию неопределенности, где все перемигиваются не то что двусмысленно, но многосмысленно, аннигилирует…». См.: Мамардашвили М.К. Сознание и цивилизация. Доклад на III Всесоюзной школе по проблеме сознания. Батуми. 1984 г. // Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. М.: Прогресс. 1992. С. 107–121. 12 и современная литература, как заметил один из исследователей, – «это совокупность разнонаправленных, несовпадающих векторов поисков, в которых трудно выделить эстетическую доминанту»20. Таким образом, к особенностями функционирования литературы, в том числе прозы, в 1990–2000-е годы можно отнести: 1) вхождение в литературный процесс корпуса русскоязычных текстов ХХ века (запрещенной к публикации, трех волн русской эмиграции, литература «письменного стола» и андеграунда). Определенная специфика русскоязычной литературы эмиграции и метрополии до конца не утрачена, но в результате соединения и глобализации сгладились прежние эстетические противоречия и концептуальных различий, как раньше, больше нет; 2) изменение роли и места литературы в обществе (утрата авторитетного статуса, коммерциализация издательской практики и превращение книги в товар)21 и ее функций (от познавательноучительской к развлекательной); 3) смена писательских поколений: от писателей, формировавшихся в советскую эпоху, к писателям, формировавшимся в кризисные 1990-е годы и постсоветским писателям. 4) появление новых форм бытования литературы (сетература, аудиокниги, электронные книги и библиотеки); 5) одновременное усиление социологизма и актуализация различных форм игровой эстетики: от элитарной до манипуляционноангажированной; 6) множественность художественных парадигм, направлений, течений и диффузных явлений на всех уровнях художественных систем, бессистемность и сложность их научного описания и классификации (реализм, постреализм, модернизм, постмодернизм, авангард, поставангард, сюрреализм, неоимпрессионизм, неосен- 20 Черняк М.А. Актуальная словесность XXI века: Приглашение к диалогу : учеб. пособие. 4-е изд. М.: ФЛИНТА. 2015. С. 4. 21 В России на сегодняшний день действуют более 600 издательств, но всего 10 являются ключевыми, а 2 из них доминируют на рынке, контролируя 35% книжного рынка России, что говорит о тенденции к монополизации. 13 тиментализм, неонатурализм, метареализм), соц-арт, концептуализм, метареализм, неомифологизм и т.д.). В социальной жизни рубеж 1990-х и первая половина 2000-х годов – период возрастания социальной напряженности (теракты в Москве, Буйнакске, Волгодонске, Беслане). Последующее десятилетие характеризуется наступлением относительной экономической, политической и социальной стабильности, связанной с усилением роли государства во всех областях жизни. В социокультурном аспекте это период, в который снижается интенсивность дискуссий по самым разным вопросам и завершается формирование поликультурного (многоукладного) и многоуровневого культурного пространства постсоветской России с достаточной сложной системой различного рода субкультур. Таким образом, можно говорить о том, что современная русская проза находится в начале длительного периода, кристаллизация явлений которого не завершена и главные (генерализирующие) направления находятся в стадии становления, о чем свидетельствует и сформировавшаяся в критике и учебниках точка зрения об индивидуализированном (атомарном) характере современного литературного процесса (О.В. Богданова, И.С. Скоропанова, С.И. Тимина, М.А. Черняк, Т.М. Колядич и др.)22. 22 Голубков М. М. Парадигмы современной литературы // Русская и белорусская литературы на рубеже ХХ – ХХI веков: сборник научных статей : в 2 ч. Минск: РИВШ. 2007. Т. 1. С. 3–11. 14 Проза 1990–2000-х годов: адресат, предмет изображения По ориентации на адресата (читателя, потребителя) можно выделить три основных уровня прозы 1990–2000-х годов: 1) элитарная проза; 2) массовая литература; 3) проза «промежутка» (беллетристика) или «ультра-фикшн» (Н. Иванова)23, для которой характерно соединение элементов «высокой» и массовой литератур24. Элитарную прозу характеризует установка на художественную уникальность и эксперимент, психологизм, философское осмысление реальности, поиск нового героя и новых вариантов самоопределения человека в быстроменяющемся мире, создание новых жанровых модификаций (А. Битов, Ю. Буйда, Д.Галковский, В. Маканин, В. Пелевин, Ю. Мамлеев, А. Иличевский, Е. Радов и др.). Массовая литература как вид рециркулированной (Ж. Бодрийяр) культуры организована набором устойчивых жанровых и сюжетных «клише» и «схем», включает жанры детектива, боевика (экшн), триллера, фантастики, «розового (любовного) романа» и др. и ориентирована на «культурную переподготовку» (Ж. Бодрийяр) массового читателя как симуляцию приобщения к культуре. К наиболее известным авторам массовой литературы можно отнести А. Маринину, Д. Донцову, Б. Акунина, А. Бушкова, В. Доценко, С. Лукьяненко. Произведения современной массовой литературы часто становятся основой новых русских телесериалов. К беллетризованной прозе или литературе «ультра-фикшн» критики относят прозу В. Аксенова, А. Кабакова, О. Славниковой, В. Пьецуха, Г. Щербаковой, Л. Улицкой и др. Такая ориентация на адресата не означает «закрепленности» писателя, а лишь фиксирует точку зрения критиков на их творчество в определенный момент индивидуального развития. 23 Иванова Н. Русский крест. Литература и читатель в начале нового века. М.: Время. 2011. 24 Липовецкий М. Пейзаж перед («Простота» и «сложность» в современной литературе) // Знамя. 2013. № 5. URL: http://znamlit.ru/publication.php?id=5251 (дата обращения: 22.03.2016). 15 Предметом изображения25 в прозе всех трех уровней становятся следующие предметно-тематические ряды: 1) общественная, социальная и частная жизнь периода становления рыночных отношений в России (1990-е годы), современная жизнь России 2000-х годов: «Прощай, Россия, встретимся в раю» (1991) В. Крупина, «Смута» (1995) А. Зиновьева, «Город Глупов в последние десять лет» (1998) В. Пьецуха, «Хуррамабад» (1999) А. Волоса, рассказы В. Пелевина 1990-х годов, «Притон просветленных» (2001) А. Гостевой, «Номер Один, или В садах других возможностей» (2004) Л. Петрушевской, «Санькя» (2006) З. Прилепина и др.; 2) природа (онтология) в ее отношениях с человеком, социумом и цивилизацией: «Онлирия» (1995), «Остров Ионы» (2001) А. Кима; 3) трагический исторический опыт СССР, России и мировой истории: «Дом, который построил Дед» (1993) Б. Васильева, «Всех ожидает одна ночь» (1994) М. Шишкина, «До и во время» (1993), «Мне ли не пожалеть…» (1995) В. Шарова, «Укус ангела» (2000) П. Крусанова, «Москва ква-ква» (2005) В. Аксёнова, «Журавли и карлики» (2005) Л. Юзефович, «Шпион его величества, или 1812 год» (2006) Е. Курганова, «Анархисты» (2012) А. Иличевского, «Обитель» (2014) З. Прилепина, , «Зулейха открывает глаза» (2015) Г. Яхиной и др. 4) культура (литература) и творчество, их судьба и судьба творца (писателя, художника, режиссера, музыканта) в эпоху распада прежних социально-экономических отношений и формирования новых социальных связей: «Андеграунд, или Герой нашего времени» (1998) В. Маканина, «Читающая вода» (1999) И. Полянской, «Путешествие экстраполятора» (1999) А. Кабакова, рассказы, роман «Кысь» (2000) Т. Толстой и др.; 5) человек социальной периферии (маргинал, «пацан», бомж), его мироощущение и ценности: «Санькя» (2006) З. Прилепина 25 О значимости предмета изображения писал М. М. Бахтин: «и предмет создается в процессе творчества, создается и сам поэт, и его мировоззрение, и средства выражения». См. М. М. Бахтин Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. Опыт философского анализа. // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство. 1979. С. 299. 16 (роман переведен на китайский язык в 2007 году и получил Всекитайскую Международную Литературную премию как «Лучшая иностранная книга 2006 года»), «Жунгли» (2010) Ю. Буйды; 6) массовый человек, человек эпохи потребления: «Жизнь насекомых» (1993) В. Пелевина, «Глобальный человейник» (1997) А. Зиновьева, «Маскавская Мекка» (2004) А. Волоса; 7) иные (западные и восточные) миры, их системы ценностей, человек в других культурных мирах: «Пять рек жизни» (1998) Вик. Ерофеева, «А у них была страсть…» (1999) Н. Медведевой, «Венерин волос» (2005) М. Шишкина; «путешествующий» человек, проза путешествий: «Небесные тихоходы» (2004) М. Москвиной, «Апокалипсис вчера: дневник кругосветного путешественника» (2010) И. Стогоffа, «Перс» (2010) А. Иличевского, «Город Е» (2012) Г. Шульпякова и др. 8) межсубъектный уровень: успешная и неудачная коммуникация, гендер, любовь, насилие, агрессия в отношениях между людьми и т.п.; семья, ее формы и типы, судьба разных поколений в условиях новых экономических, социальных и культурных реалий: «Медея и ее дети» (1996) Л. Улицкой, «Не много ли для одной?» (1997) А. Чистяковой, «Время ночь» (1999) Л. Петрушевской, «Ложится мгла на старые ступени» (2000) А. Чудакова; 9) жизнь деревни 1990-х годов и постсоветского периода («Пиночет», 2000 Б. Екимова), периферийных социальных топосов (поселок, городская окраина, проза М. Тарковского); 10) современный горожанин и город: роман М. Бутова «Свобода» (1999); человек новой рыночной формации (эпохи) (менеджер, политтехнолог, рекламист, фрилансер, бунтарь) и новой городской среды:«Generation‘П’» (1999) В. Пелевина, «Читатель Чехова» В. Исхакова (2001), «Горизонтальное положение» (2010) Дм. Данилова и др.; 11) человек в обстоятельствах мировых и локальных войн (Великая Отечественная война 1941–1945 годов, афганская война, чеченская война): «Генерал и его армия» (1994) Г. Владимова, «Прокляты и убиты» (1994) В. Астафьева, повести «Обертоны» и «Веселый солдат», “Жизнь моя, иль ты приснилась мне?..” (2003, публ. 2012) В. Богомолова, «Асан» (2008) В. Маканина и др. Новые аспекты изображения этой войны находит А. Геласимов («Степные боги», 2008). 17 Независимо от типа художественного мышления, все предметнотематические ряды включают с различной степенью развернутости вопросы о природе человека, ее биологической и социальной детерминированности, возможностях человеческого разума, взаимодействии разума и интуиции, проблемы свободы, выбора, индивидуального и экзистенциального самоопределения, мировоззренческого и нравственного становления, поиска осмысленности существования. Необходимо помнить, что выделенные предметно-тематические ряды не существуют в «чистом» виде, а могут «накладываться» друг на друга в пределах одного произведения, а писателипрозаики могут обращаться в разных своих произведениях к исследованию разных предметно-тематических рядов. Место реалистической прозы в новой социокультурной ситуации К началу 1990-х годов ведущим литературным направлением в прозе оставался реализм, сформировавшийся как единая эстетическая и художественная система. В 1990-е годы способность реализма и его возможности в познании действительности и человека были поставлены под сомнение представителями нереалистических литературных направлений модернизма и постмодернизма, до того существовавших на периферии литературного процесса. Споры о разных аспектах модернизма и русского литературного постмодернизма стали центром критических дискуссий 1990-х годов, а постмодернизм как литературное направление выдвинулся в центр литературного процесса этого периода. Вместе с тем в начале второго десятилетия XXI века критики заговорили о возвращении реализмом утраченных в 1990-е годы позиций, «появились произведения, написанные в традиционном реалистическом стиле … и оказалось, что многие из них вполне можно читать»26. 26 Степанян К. Антон Понизовский. Обращение в слух. Из Швейцарии с любовью?// Знамя 2013. № 6. URL: http://magazines.russ.ru/znamia/2013/6/s18.html (дата обращения: 17.04.2016). 18 Критики и литературоведы в многочисленных определениях пытаются «схватить» особенности реализма этого периода, соревнуясь в изобретении терминов. Реализм в литературе рубежа ХХ–ХХI веков получал в критике совершенно полярные определения: «пост-постреализм», «трансметареализм», «гиперреализм», «пост-модернистский реализм», «другой реализм», «нео- и нью»- реализм, «новый реализм», «жестокий реализм», «трансметареализм», «метареализм», «магический реализм», «гламурный реализм», «ультрареализм», «постреализм», «символический реализм», «романтический реализм», «сентиментальный реализм», «мистический реализм», «метафизический реализм», «психоделический реализм», «традиционный реализм», «смешанный реализм», «грязный реализм», «сентиментальный реализм», «голографический реализм», «женский реализм», «эротический реализм», «сатирический и юмористический реализм», «фантастический и гротескный реализм», «натуралистический и физиологический реализм», «N-реализм»27. К реалистам подчас относят писателей и разных литературных направлений, например, К.Д. Гордович считает реалистами В. Маканина, Л. Петрушевскую, Г. Владимова, Ф. Искандера, Т. Толстую, А. Кима, Л. Улицкую, А. Азольского, О. Ермакова, М. Бутов, В. Аксенова, М. Кураева, А. Слаповского, Р. Сенчина, Б. Екимова. И. Полянскую28. Представления о кризисе реализма соседствуют с представлениями о его обновлении через взаимодействие с иными течениями29. Такое положение дел свидетельствует как о реально существующих сложностях в построении типологии реализма, так и о мно27 См. Калита И. Дело о «новом реализме» // Вопросы литературы. 2015. № 6. С. 123–139. 28 Гордович К.Д. Русс кая литература конца ХХ в. СПб.: Петербургский институт печати. 2003. 184 с. 29 См. Лейдерман Н.Л. Георгий Владимов и его генералы, или Реализм сегодня // Урал. 2003. № 7. URL: http://magazines.russ.ru/ural/2003/7/leid-pr.html (дата обращения 11.07.2016); Лейдерман Н.Л. “Магистральный сюжет”. ХХ век как литературный мегацикл // Урал. 2005. № 3. URL: http://magazines.russ.ru/ural/2005/ 3/lei18.html (дата обращения 11.07.2016). 19 гообразии произошедших в нем изменений. Реализм как тип художественного мышления и литературное направление в новой социальной ситуации обнаружил способность к диффузии с другими эстетическими системами – натурализмом, сентиментализмом, модернизмом. Усложнение и трансформация реалистической системы миросозидания (постреализм, гиперреализм, эстетический реализм, «новый» реализм и т.д.) в условиях социального кризиса и кризиса культуры 1990-х – начала 2000-х годов. Реализм переплетается с элементами поэтики этих и других художественных систем достаточно тесно, сохраняя при этом, однако, свою – реалистическую – доминанту: изображение человека и социально-исторических процессов и обстоятельств в их взаимообусловленности. В отличие от модернистской и постмодернистской прозы рубежа XX–XXI веков, тяготеющей к намеренно усложненной организации повествования, главным способом организации реалистической картины мира остается точка зрения и слово повествователя или рассказчика: повествователь в повестях В. Астафьева «Так хочется жить» и П. Алешковского «Жизнеописание Хорька», Б. Екимова «Пиночет» и Ю. Давыдова «Зоровавель», в романах О. Павлова «Казенная сказка» и «Дело Матюшина», Д. Быкова «Оправдание», безымянный рассказчик в романах М. Бутова «Свобода» и Н. Климонтовича «Далее – везде», в повести В. Астафьева «Веселый солдат», Анна Андриановна в повести Л. Петрушевской «Время ночь», Петрович в романе В. Маканина «Андеграунд или герой нашего времени» и Слесарев в повести В. Астафьева «Обертон». Национальное и маргинальное в реалистической прозе Критический реализм, открывающий связь человека и социальной среды в их текучести, ценностной ориентированности и взаимообусловленности, в 1990–2000-е годы постепенно укрепляет 20 свои позиции в литературном процессе30, обращаясь, преимущественно, к исследованию современной постсоветской деревни (рассказы «Старый да малый», «Папин сын», повести «Пиночет» (2000), «Предполагаем жить» (2008) Б. Екимова), провинциального города (роман «Санькя» год? З. Прилепина) и поселка (повесть «Ложка супа» (2000), «Бабушкин спирт» (2004), «Тойота-Креста» (2009), «Дядя Илья» (2011) М. Тарковского)31. В повести «Пиночет» Б. Екимов изображает противоречивое состояние народной жизни: картины распада народного бытия соединяются с персонажами, пытающимися противостоять духовному и моральному хаосу. Экономическое и хозяйственное разрушение в постсоветской России колхозов как форм коллективной организации народной жизни обнажает скрытые до этого противоречия: части крестьян уже не нужна земля, потому что обременительно обрабатывать ее; часть крестьян спилась и превратилась в маргиналов, часть крестьян пребывает в растерянности, потому что не знает, как жить в ситуации крушения прежней советской жизни, а часть крестьянства использует ситуацию в индивидуалистических и корыстных целях, растаскивая и разворовывая некогда общее добро. В этих обстоятельствах главный герой повести Корытин, следуя родовому завету отца, отказывается от городской карьеры преуспевающего чиновника и возвращается в деревню, где собирается восстановить колхоз, а с ним и утраченный в народной жизни порядок. Но герой обнаруживает, что единственно возможной формой восстановления оказывается принуждение и дисциплина, что встречает сопротивление в той части современных крестьян, которым не нужно ни экономической свободы, ни земли. В этой ситуации Корытин приходит к пониманию личного самостояния как единственной нравственно правильной и ответственной позиции. 30 Степаняна К. Реализм как заключительная стадия постмодернизма //Знамя. 1992. № 9. С. 231–239. 31 Суханов В.А. «Все смешалось в доме…»: типология героев и концепты СССР/России в художественном дискурсе конца 1990 – 2000-х годов // Revisiting Central Europe and Russia Society and Culture 20 Years After. New Delhi: Prakashan Sansthan, 2015. С. 250–263. 21 Ситуация самоопределения центральная и в романе «Санькя» З. Прилепина, где время действия – начало 2000-х годов. Главный герой Саша Тишин изображен в ситуации где на распад родовых связей (пьянство и вымирание семьи) накладывается социальный хаос второй половины 1980–1990-х годов: перестройка, изменение форм собственности, реформы, чеченская война, бандитизм, дефолт. В этих обстоятельствах рождается особый тип растерянного сознания, основное противоречие которого заключается в недоверии к социуму при интуитивном желании обрести с ним связи, что рождает переживание жизни как оставленности, безопорности, отсутствия родины. «У меня ее отняли», «этой страны скоро не станет…»32. Поколение Тишина, изображенное в романе, – это молодые люди из райцентров, провинции, которые добровольно отказываются от любых форм социального участия (работа, учеба) как мнимых, поскольку они предполагают подчинение существующему типу социальных отношений. Социальное одиночество, «безотцовщина» – одна из причин, по которой молодежь стремится попасть в протестные группировки. Обретение новой коллективности для такого типа сознания становится возможным в приобщении к «стае», группе, что создает иллюзию безопасности, собственной исключительности, индивидуальности, компенсирует отсутствие родовой и социальной поддержки. З. Прилепин исследует, как травматические социальный опыт приводит дезориентированное, растерянное поколение к экстремизму, выявляет социальные и психологические истоки хаотичного сознания современной молодежи, становящейся объектом манипулятивных действий эгоистических «вождей» нового типа. Главный герой малой прозы З. Прилепина – нонконформист сознательный (рассказ «Жилка») и стихийный. «Жилка» – программный рассказ о «новых» революционерах, открывающий сборник. Тип стихийного нонкоформизма воплощен в героях социального промежутка, представителях маргинального социального слоя, носителях собственной этики и эстетики (кодекс чести и понятие о справедливости, особое «пацанское изящество»), он ру32 Санькя / Захар Прилепин. М.: АСТ. 2015. С. 71. 22 ководствуются эмоциями, чувствами («Герой рок-н-ролла») и инстинктами, мифами и интуицией («Смертная деревня»). Такой герой и зависит от компании, и свободен от неё. У тех, кто входит в этот особый мир, свой «кодекс чести» и понятие о справедливости. В этом маргинальном пространстве каждый сам себе устанавливает грани нормы, это пространство свободы от социальных институций, где каждый поступает так, как считает нужным. «Пацаны» З. Прилепина не испытывают страха перед миром и жизнью и за персонажами легко угадываются пацаны 1990-х годов, поэтому критики справедливо обозначили этот слой как «пацанство». В сборнике «Ботинки, полные горячей водкой» Прилепин рассматривает «пацанство» как феномен. Это пограничная область в социальной иерархии: между миром нормальной жизни и низами общества. В этом «промежутке» соединяются несоединимое: показное геройство с непоказной человечностью, подозрительность к интеллектуальному и тяга к прекрасному, грубость и нежность, агрессия и беззащитность, этноцентризм и космополитизм, культ героизма и сентиментальность33. Они раскованы, инфантильны (рассказы первой половины сборника) и не испытывают страха перед миром и жизнью. Раскованность рождена их внутренней свободой, поэтому мир «пацанов» переживается ими как родственный. Персонажи не утратили детскость, наивность (вместо того, чтобы воспользоваться услугами вызванной проститутки, напиваются и засыпают; забираются с риском для жизни в окно к студенткам и едят с ними конфеты; мужественно сносят побои и унижения и в то же время не находят себе места из-за едва знакомой девушки). Из мира пацанства в равной степени возможно и движение вверх, и движение вниз, в бандитский мир с его «беспределом». «Вечно молодые, вечно пьяные…» герои обладают общим языком коммуникации, который сообщает о чём-то, что известно лишь участникам данной малой социальной группы. Среди героев и Рубчик, падкий на любых женщин, и Славчук, толком ничего не добившийся, но многократно преумножающий свое значение в этой жизни, и щедрый кавказец Хамас, и уставшая от 33 См. Липовецкий М. Политическая моторика Захара Прилепина. URL: http:// magazines.russ.ru/znamia/2012/10/li12.html (дата обращения 18.02.2016). 23 «такой жизни» супруга, готовая бесчисленное количество раз «выгораживать» своего мужчину. З. Прилепин в сборнике рассказов «Ботинки, полные горячей водкой» выбирает повествование от первого лица (Icherzählung). Рассказы в сборнике расположены не в хронологическом порядке: мы видим то несерьезного мальчика-подростка, то зрелого мужчину. Социальные приметы времени изображаются косвенно. Образ рассказчика организует повествование и призван постулировать «правдоподобность» изображаемого. И речь говорящего, и средства выразительности речи, и логика изложения – все подчинено требованиям субъекта речи. Рассказчик – один из компании, участник событий и наблюдатель, чувствительный и порой бесчувственный, любитель выпивки и табака под стать своей компании и трезвенник, говорит на жаргоне своей среды («убитое авто», «мамка», «наркота») и употребляет нехарактерные для своего окружения «братик», «папа», «доченька», на первый взгляд примитивный (и непривлекательный для девушек) и ведущий глубокие внутренние монологи. Если остальные персонажи даны как готовые, то он – становящийся и дан в эволюции. При этом из несерьезного пацана-подростка («Славчук», далее «Пацанский рассказ» и «Блядский рассказ», затем «Собачатина», «Смертная деревня»), рассказчик перерастает в рассказчика-писателя («Бабушка, осы, арбуз», «Убийца и его маленький друг», «Герой рок-нролла», «Ботинки, полные горячей водкой», «Дочка»), и даже в рассказчика-революционера («Жилка»). Он отличается от остальных наблюдательностью, способностью к анализу, в нем есть задатки идеального: умение сопереживать, интерес к литературной среде, способность испытывать чувство вины, а также у него развито чувство долга, подобно собаке. Из рассказа в рассказ становится ясно, что герой взрослеет, постепенно уходя из «пацанской» среды. Темы становятся глубже и серьезнее (война, убийство, предательство), но он никогда не перестает наблюдать и рефлексировать по поводу того, что происходит вокруг. В финале перед читателями предстает уже другой, «взрослый» герой: ведущий семейную жизнь, ностальгирующий по прошедшим событиям. 24 Диалог с классикой в романе 1990-х годов: В. Маканин «Андеграунд, или Герой нашего времени» Активное взаимодействие современной литературы с классическим наследием мировой и отечественной литературы – характерная черта постсоветского времени. В ситуации кризиса литературоцентризма и поиска нового языка интерпретации реальности писатели обратились к переосмыслению художественных открытий предшественников34. Текст и художественный мир «Палаты № 6» А.П. Чехова присутствуют на разных уровнях поэтики романа В. Маканина: на уровне системы персонажей (прямые упоминания Чехова в размышлениях Петровича, многочисленные аналогии между Громовым и Венедиктом Петровичем), сюжета и коллизий (больной / врач, больной / санитар и т.д.), пространственно-временной организации (палата для душевнобольных / психиатрическая больница) и проблематики (вина, ответственность, выбор и самоопределение и т.д.). В. Маканин использует три стратегии включения чеховского претекста и его смыслов: узнавание, реконфигурацию и проверку. Стратегия узнавания направлена на установление максимального количества семантических соответствий между Громовым и Венедиктом Петровичем: фонетическая и семантическая близость имен (Ваня / Веня)35, возрастное сходство (Громову – 33 года, Веня попадает в клинику в 30 лет), общность психического расстройства и его последствий (мания преследования), пожизненная изоляция в замкнутом пространстве психушки и, наконец, их позиция по отношению к Другим (высокомерие Громова / гордыня Вени). 34 См. об этом материалы Круглого стола «Современная литература в диалоге с классикой: притяжения и отталкивания». URL: http:// naukarus.com/sovremennayaliteratura-v-dialoge-s-klassikoy-prityazheniya-i-ottorzheniya (дата обращения: 12.10.2017). 35 Иван через Иоанн от Иоханан (др.-евр.) – благодать Божия (библ.). Венедикт (лат.) – благословенный; тот, о ком хорошо говорят. 25 Эта стратегия максимального сближения «формулы узнавания» (Л.Я. Гинзбург) героев необходима В. Маканину для того, чтобы на уровне авторского сознания максимально обозначить ту содержательную реконфигурацию, которую он осуществляет в романе, т.е. максимально обнаружить самого себя как автора, что проявляется в переосмыслении причин безумия человека в реальности ХХ века. Отсылки к Чехову предполагают актуализацию проблемы существования (полемика Рагина, Громова и рассказчика), поднимающей вопрос о первичных основаниях существования и его смысле. Стратегия реконфигурации обнаруживает себя в усложнении представлений о природе человека и возможностях его сознания (Петрович), в смешении дискурсов чеховских героев, в переосмыслении сюжетной схемы (Рагин и Петрович в психушке). Петрович – тип не цельного сознания. Он существует, как минимум, в трех позициях, каждая из которых определяет свою форму переживания реальности. Самому себе (позиция «я-для-себя») герой является как писатель, человек чести, способный на сострадание, любовь, спасение (отношение к брату, Вероничке и т.д.), обретение собственной самости: «На одной из общих пьянок я из моего повышенного чувства сострадания…»36. Позиция «я-как-Другой» определяет постоянное стремление героя к вчувствованию в Других (учет их возможных переживаний и мыслей), к переводу событий реальности в представления и образы. Эта позиция во многом укоренена в писательстве как одной из форм не столько профессии, сколько существования: писатель существует и как я-для-себя (частный человек), и как я-как-Другой (творец, создатель образа). В позиции «я-для-Других» Петрович, как и герой Ф. Достоевского, учитывает, в первую очередь, все множество потенциальных (вероятностных) психологических и социальных пейоративных характеристик и оценок («шиз, сторож, неудачник, тунеядец, кто угодно, старый графоман», «я никто», «говно», «мудак», 36 Маканина В. «Андеграунд, или Герой нашего времени». М.: Вагриус. 2003. С. 139. Далее текст цитируется по этому изданию с указанием страниц в круглых скобках. 26 «агэшный писатель», «ловец пьяненьких» и т.д.), которые доступны пониманию героя, учитываются им и присутствуют в его персональном слове. Ему заранее известны все эти внешне завершающие его определения и то, что он не равен ни одному из них и всем им вместе взятым. Перемещение по этим позициям дополнительно осложнено в романе, с одной стороны, пребыванием Петровича в двух мирах: мире философских и художественных описаний (мир идей) и в эмпирической реальности, где есть тело, желание, воление, боль, вина (мир эмоций и чувств), а с другой стороны, – осознаваемой и рефлексируемой структурой своего Я, предстающей как я и «я». Для понимания внутренней структуры Я героя важна не только авторская тема, реализующая ее в тексте всего романа, не только две сюжетные ситуации, организованные по принципу кольцевой композиции (Петрович у зеркала до клиники и после), но и вопрос о «все дозволено», встроенный в структуру чеховской парадигмы. У Чехова Рагин и Громов полемизируют о бессмертии. Для Рагина его не существует, для Громова потребность переживать бессмертие столь же необходимая часть существования, как и потребность в переживании бога. Знание о смерти становится для Рагина оправданием отказа от присутствия в бытии, т.к. обессмысливает существование, а вера в бессмертие для Громова становится опорой его существования, т.е. вносит в бытие смысл. Маканин совмещает эти два понимания, закрепленные у Чехова за разными героями, в пределах одного Я Петровича. За первым я закрепляется существование с Другими-в-бытии, со-знание, существующее «под знаком» (М. Мамардашвили), т.е. знающее о смерти, то «я» – нечто не расчленяемое, далее неразложимое субстанциальное личностное смыслоощущение, спонтанный первичный ответ, состояние присутствия, то уникально неповторимое («человеко-самость» в терминологии М. Хайдеггера), с разрушением которого исчезает весь человек. «Я» – это «акт первосовместимости» (М. Мамардашвили) с бытием. В данном случае «я» маканинского героя, взятое в кавычки, есть формальное указание на это нечто в «Я-речи». Для этого «я», погруженного в существование, нет смерти и нет морали, оно пребывает «по ту сторону добра и зла», 27 поэтому для него, пребывающего в бессмертии, «все позволено». Эта внутренняя не цельность Я определяет разрыв между чувством и сознанием, когда даже собственные чувства не органично проживаются, а одновременно (параллельно) с переживанием рефлексируются со стороны. С другой стороны, она «снимается» героем: «я» существует в ситуации «здесь и сейчас», а я в ситуации «тогда и теперь». На уровне авторского сознания не-цельность героя акцентируется семантикой его имени, редукция личного имени до отчества свидетельствует об утрате личностной самоидентификации героя, что позволяет интерпретировать сюжет романа как поиск самоидентификации и ответа на вопрос: «Кто есть Я»?37. Петрович – тип экзистирующего и вопрошающего сознания, взятый, как и герои М. Лермонтова, Ф. Достоевского и А. Чехова, вне родовых, семейных, и национальных связей, поставленный вне бытового существования и экзистенциально вопрошающий целостности из не-цельности38. Возможности такого прочтения задаются в самом начале романа отсылкой к Хайдеггеру в переводе Бибихина, т.е. отсылкой к «Бытию и времени», и неоднократным упоминанием немецкого философа в тексте романа. С другой стороны, это задается автором в пространственной межкомнатной позиции героя – человека не места (комнаты), но времени (коридора), в котором только и возможна встреча чего-то: «Они живут в квартирах, а я в коридорах. Они если не лучше, то, 37 «Присутствие есть сущее, которое есть всегда я сам, бытие всегда мое. <...> Ответ на к т о идет от самого Я, «субъекта», «самости». К т о – это то, что сквозь смену расположений и переживаний держится тождественным и соотносит себя притом с этой множественностью». См. Хайдеггер М. Бытие и Время. СПб.: Наука, 2006. С. 114. 38 Отдельные аспекты вопрошания рассмотрены исследователями, но в этих работах не была поставлена проблема метауровня романа. См.: Рыбальченко Т.Л. Маканин и Чехов: приближаясь к интерпретации // Филологический класс. 2010. № 24. С. 34–41; Рытова Т.А. «Удар» как концепт романа В. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» // Русская литература в ХХ веке: имена, проблемы, культурный диалог. Вып. 8: Деонтологические аспекты художественной словесности. Томск: Изд-во Том. ун-та. 2006. С. 133–160; Рыбальченко Т.Л. Ситуация отказа от писательства в романах М. Булгакова, Б. Пастернака, В. Маканина // Вестник ТГУ. Серия «Философия. Культурология. Филология». Томск: Изд-во Том. ун-та. 2003. № 277. С. 133–143. 28 во всяком случае, куда надежнее встроены и вписаны в окружающий, как они выражаются, мир. Да и сам мир для них прост. Он именно их окружает. Как таз. (С крепкими краями по бокам) (18). Петрович организуется В. Маканиным как герой Ф. Достоевского, но помещается им в чеховскую семантическую парадигму непроясненного бытия. Чтобы испытать «лишнего и подпольного» человека в границах так понятого бытия необходимым оказалось его сюжетное присутствие в психиатрической клинике, что определяет и три фазы его существования в сюжете роман: до клиники / в клинике / после клиники. До попадания в клинику Петрович, как и чеховский Рагин, переживает превосходства над роевым, враждебность социального, бытие как безопорное и пустое. Как для чеховских героев, для Петровича в так понятом бытии в первой фазе сюжета (до психушки) чтение выступает как способ самоидентификации с Другими. Текст и речь как опоры индивидуального существования в «Палате №6» обнаруживают свою кажимость, фиктивность и не становятся формой самоидентификации. В ситуации экзистенциальной пустоты бытия (отсутствие возможности персонального общения и, следовательно, утрата экзистенциальной функции речи как связующей живых людей) бессистемное чтение Громова предстает как попытка заполнения его любым печатным словом. Экзистенциальный ужас перед реальностью и переживание своей тотальной беззащитности приводят к утрате прежде спасительной для героя функции слова. Финал судьбы Громова определяет и судьбу его книг как оформленного слова – невостребованность, ненужность героя и текстов в реальности: «Через год в городе уже совершенно забыли про Ивана Дмитрича, и книги его, сваленные хозяйкой в сани под навесом, были растасканы мальчишками» (8. 77). Для Петровича чтение как форма коммуникации с авторитетным Другим (отношение героя к чтению) и возможный способ самоидентификации через Слово (тексты) невозможно, поскольку Слово, обнаружив свою самостоятельность, оторвалось от реальности и либо служит власти (судьбы социализованных писателей андеграунда), либо «умножает» (искажает) реальность, создавая бесконечное множество субъективных авторских версий (русская 29 классика), либо профанирует ее (образы графоманов от андеграунда), либо создает симулякры, обозначающие пустоту (размышления о Чехове): «Читать – да, читать было лестно, сладко. Забирало душу. (Напоминало то высокое умиление, что испытывает, возможно, суровая блядь, слушая девственницу). Но, умиляясь и восторгаясь, я верил этим словам только как словам. Мало ли я читал (и когда-то писал сам) убедительных слов, отлично зная, что стоит начать размышлять вне текста – мир иной» (157). Говорение у Чехова (Рагин и Громов) – авторская идентификация человеческого даже в безумии: «скоро желание говорить берет верх над всякими соображениями, и он дает себе волю и говорит горячо и страстно». Если для Рагина умная беседа – высшая форма наслаждения (герою снятся умные люди и беседы с ними), позволяющая идентифицировать себя как разумное существо, то у Маканина речь не может быть источником самоидентификации: «Слова, терявшие раз от разу часть своего смысла, остались с тех давних лет как повтор. <…> …чтобы другие не услышали наших чудовищных (для чужого уха) повторов, нашей непреодолимой раз от раза пустоты и исчерпанности родственных отношений» (96). Самоидентификация героя через различные формы роевого и коллективного противоречива: они и укрывают, спасают (Петрович и общажники после убийства), дают ощущение растворения и безопасности («Моя нирвана»), с другой стороны, переживаются как чужие («их» «зажеванное бытие»), враждебные («их усредненный социум»). Герой, подобно Вене до болезни, Рагину и Громову, переживает превосходство над роем: «Такое светлое пятнышко на этаже эта молодая пара среди шатающихся алкашей. Среди рож, среди изнуренных зануд-работяг да еще привезенных откуда-то старух, их тещ, снующих по этажам и хриповато ворчащих, чтобы скрыть попердывание на неровной лестничной ступеньке» (39). Самоидентификация через любые социальные формы и институты (семья, дети, неприемлема в силу принципиальной маргинальности (человек андеграунда), осознаваемой как способ самосохранения, самоидентификация через прошлое и память недоступны Петровичу как существующему «я», т.е. «здесь и сейчас»: «мы свободны от прошлого. Мы чистый лист. Мы ловцы» (49). 30 Самоидентификация через близкого Другого (женщины, андеграундные друзья, жизненные прототипы прозы) и творчество (письмо) невозможна для Петровича, поскольку на деле предстает всего лишь сублимацией и изживанием униженности своего «я», подменяющей бытийный интерес к подлинной Другости: «может, ради той давней боли человек и начинает сочинять повести. Из той боли» (126). Стратегия реконфигурации дополняется проверкой (испытанием) чеховской парадигмы, что определяет необходимость помещения Петровича в психушку. В «психиатрическом дискурсе» (М. Фуко) романа В. Маканина модифицируются как сюжет, так и коллизии чеховской повести: место врача, перешагнувшего границу нормального / анормального, занимает брат больного Вени – Петрович. Маканин зеркально переконфигурирует и рагинский план сюжета: если для Рагина потрясением становится попадание из жизни в палату № 6, то для Вени – попадание из больницы в жизнь (один день с Петровичем). Если Веня, как и Громов, постоянно находится в «психушке», то Петрович, как и Рагин, дан в двух основных реакциях на нее: реакция гостя (извне) и реакция принудительно помещенного человека (изнутри). Маканин фиксирует неизменность функций и взаимосвязи психушки и государства как единого тоталитарного дискурса подавления. У Чехова врач должен «поймать на слове», т.е. заставить проговориться и выдать полиции (Т. 8. C. 99), у Маканин Петрович помнит, «что психушка – кусочек государства. Они, врачи (сестры, палаты, кровати, капельницы, шприцы, ампулы, все вместе), тоже дежурят и, значит, стерегут» (294). Первоначально нахождение в больнице (палата номер 3) не переживается Петровичем как испытание и предстает в его описании как один из вариантов существования. Перевод в палату «номер раз» становится знаком преодоления (испытания) обнаруженных в «Палате № 6» смыслов. Важно название главы «Палата номер раз», в отличие от Чехова, Маканин в письменном тексте фиксирует речевую норму (слово «номер», как и числительное, пишется словом, а не обозначается знаком), чем актуализируется семантика не письменного слова, а слова как части дискурса, речи. Это отсы31 лает к характеристике внутренних состояний Громова («желание говорить») и Рагина («беседа – пение») и указывает на актуализацию в художественном мире А. Чехова проблем коммуникации и роли слова, что необходимо в связи с интерпретацией в маканинском романе философии слова как части экзистенции. С другой стороны, речевая норма числительного (раз) свидетельствует как об одиночестве существующего (герои «Палаты № 6»), так и указывает место обнаружения первичного основания существования, поэтому перевод в палату номер раз (палата дознания) в контексте всего романа предстает как проверка животного (телесного), чувственного и сознательного в человеке (его мысли). Сигналом к подключению чеховского текста становится фраза одного из врачей: «Философа из себя корчит …<…> Гераклит из третьей палаты, койка слева» (322). (Курсив автора – В.С.). Упоминание Гераклита в данном контексте означает отсылку к его характеристике как «темного», не проясненного. Подвергаясь воздействию химических препаратов, Петрович постепенно утрачивает ощущение собственной тела, что является знаком недостаточности телесности как способа самоидентификации: «По ощущению мое тело стало аморфно, вялотекуче… Тело сделалось никаким, ничьим» (349). Но после утраты телесности остаются ощущения и потребность в слове. У Маканина уход в себя, во внутреннюю речь (Рагин) – путь к сумасшествию, к саморазрушению личности: «Старые слова косвенно предостерегали от погружения в себя – от ухода в безумие» (341). Сохранить себя – значит, сохранить способность чувствовать себя (Громов): «В пику им, врачам (в пику и взамен отнятой у меня мысли), я стал пытаться отвоевать не столь охраняемую ими пядь земли: примитивную чувственность – я хотел чувствовать… Я хотел – хотеть. (Раз не дано теперь думать). Хотеть – и сделалось для меня теперь как каждодневная забота, как труд» (341). Этот путь оказывается тупиковым, поскольку на хайдегеровский вопрос о «к т о» невозможно ответить изнутри себя. В ситуации, когда ни ум (способность мыслить), ни сознание (способность осознавать), ни собственное тело (оно перестает ощущаться) не в состоянии ответить на вопрос о «к т о», единственным источником 32 самоидентификации и спасения оказывается ощущение боли Другого, страдание за Другого, воление к чувствованию боли Другого: «Я пытался: я вызывал в себе чувство чужой боли» (348). Новая фаза сюжета романа (Петрович после психушки) дает иного героя, героя, бесформенность которого преодолевается в относительной оформленности (именно поэтому ему дано право рассказать о них). Из мира зазеркалья, «где человеческое сознание аннигилирует» (М. Мамардашвили), герой возвращается к доверию к жизни как она есть, к жизни как самодостаточному процессу. Именно после спасения Петрович впервые за 25 лет нахождения брата в психушке дает возможность и Вене почувствовать жизнь. Таким образом, чеховский код – фундирование оснований бытия и испытание сущностных возможностей человека в бытии – находит свое продолжение в романе. Если Чехов обнаружил начало «антропологической катастрофы» (М. Мамардашвили), то В. Маканин говорит о ее вступлении в финальную фазу, когда даже носитель культуры перестает быть таковым. Автор романа не использует чеховские образы как знаки, он актуализирует основную семантическую парадигму «Палаты № 6»: поиск оснований самоидентификации человека в бытии, удостоверяющих его присутствие. На метауровне романа чувствование другого, речь и мысль предстают как триединство, составляющее фундаментальное основание существования. Чувствование превращает реальное бытие в живой Текст иного порядка, чем литературный: в этом Тексте человек и есть сущностное высказывание, немыслимое без самости, т.е. без обретения себя как существующего. Мысль – способ осознания чувствования, но и то, и другое немыслимо вне Слова как речи: «сами люди в их преемственности, люди живьем (курсив автора. – В.С.), помимо их текстов, помимо книг – наследие» [183]. Новые ресурсы реалистического повествования В романе А. Гостевой «Притон просветленных» (2001) используется многоуровневая система организации повествования, характерная скорее для модернистской прозы Ю. Буйды, А. Кима, М. Шишкина. Организует повествование оппозиция близости / 33 удаленности от авторского сознания, определяющая характер и степень его проявленности в тексте. Первый уровень повествования в романе А. Гостевой образуют 220 фрагментов различных (художественных и нехудожественных) текстов параллельных (это оформлено и графически) основному повествованию и пять вставных текстов: Открытое письмо, Обращение инициатора, Доклад, Инструкция общения с ангелами, Подлинная история Альберта Хофмана, коллекционера страхов. Второй уровень оформлен в слове безымянного повествователя. Третий представлен объективным (зафиксированным) индивидуальным словом двух главных героев Игоря Горского и Киры, входящим в текст как переписка по электронной почте: 26 писем принадлежит Горскому (Inbox), 24 письма – Кире (Sent mail). Четвертый уровень – субъективное слово героини, включающее как ее воспоминания о своей жизни (детство), так и рефлексию над событиями последних шести лет (знакомство с Игорем Горским и их роман). В точках пересечения этих различных повествовательных инстанций оформляется картина мира, созданная в романе. Различные повествовательные инстанции оформляют три уровня сюжета: «авторский» (вставные и параллельные тексты), «внешний» (слово повествователя), «внутренний» (переписка героев, воспоминания и слово героини), обладающие относительной самостоятельностью внутри единого сюжета романа. Эти уровни увеличивают комбинаторные возможности текста и определяют вариативность в выборе читательской стратегии. Так организованная структура повествования и рождаемые ею комбинаторные читательские стратегии – несомненно входили в художественное задание автора и семантически нагружены. С одной стороны, текст романа стремится стать гипертекстом, т.е. текстом, позволяющим начать чтение с любого уровня без утраты смысловой целостности. С другой стороны, он (в силу сюжетной завершенности) «указывает» на необходимость его последовательного и целостного освоения как художественно реализованной единой авторской установки. В силу этих двух моментов текст романа располагается на оси линейности / нелинейности как доминантах мировоззрения и эстетики автора. 34 Авторское задание в романе А. Гостевой «Притон просветленных» – постижение изменившегося состояния мира, сознания и места человека: «Очень многие люди от 16 до 30 выросли на Кастанеде, книгах о буддизме, Станиславе Грофе, на Мирче Илиаде, но это не художественная литература. Это не хорошо и не плохо, это просто факт, и эти люди заслуживают того, чтобы у них была своя литература. Поймите, хотите вы этого или нет, но и Сеть, и MTV, и наркотики, и бандиты на джипах, и брокеры на бирже, и поездки в Индию или Мексику формируют совершенно новые типы реальности и сознания, и людям, с которыми это происходит, если уж они родились в “самой читающей стране в мире”, хочется встретить эти состояния в литературе, а большинство писателей продолжает жить вообще в другом времени и пространстве, у них у самих этого опыта нет»39. Главная героиня – студентка Строгановского училища, художница и переводчица восемнадцатилетняя Кира дана в момент вхождения в социальную жизнь, который пришелся на социальную ситуацию 1990-х годов с ее политическим, социальным и мировоззренческим хаосом, породившим кризис сознания, остро ощутившего пустоту бытия и неустойчивость существования: «Огромная страна, словно приняв вопреки собственной воле ломовую дозу психоделиков, ошалев от нового неописуемого опыта, панически заполняла любым содержанием бреши, образовавшиеся в картине мира. Тем самым давался наглядный ответ на вопрос американских пионеров внутреннего космоса, мучивший их в начале шестидесятых: что будет, если вьетконговцы спустят в канализацию большую порцию кристаллов?»40. А. Гостева исходит из положения о кризисе современного сознания, поскольку «мир, каким он (современный человек – В.С.) 39 О прозе реальной и виртуальной // Дружба народов. 1999. № 11. В «круглом столе» участвуют: Н. Александров, А. Архангельский, В. Березин, М. Бутов, А. Гаврилов, А. Гостева, А. Дмитриев, А. Немзер, А. Слаповский. Подготовка к публикации Н. Игруновой. URL: http: // magazines.russ.ru/druzhba/ 1999/11/krugly.html (дата обращения 15.12.2015). 40 Гостева А. Притон просветленных. М.: Вагриус. 2001. С. 50. Далее текст цитируется по данному изданию с указанием страниц в тексте. 35 его знал, подошел к концу». Невозможность существования в духовном вакууме актуализирует поиск единичным сознанием авторитетных ценностей в разрушенном мире, этот поиск и построение персональной системы ценностей и составляют сюжет романа. В романе изображается как многообразие существующих в реальности ценностных систем, так и путь героини по разным слоям общества и разным национальным, социальным и культурным мирам (Россия, Европа, Америка, Азия) в поисках абсолюта. В кругозор героини входит активная рефлексия над разными типами существования, разными поведенческими стратегиями как отдельного человека, так и целых национальных общностей и человечества в целом. При этом актуальная современность не интересует героиню: «кто-то забивал косяки, непрерывно звучала музыка, шел дождь, где-то штурмом брали телецентр, и родители ходили с утра смотреть на место боевых действий…» (102). Путь к абсолюту начинается с желания приобщиться к избранным (андеграундные художники в романе), в среде которых, по мнению героини, можно обнаружить утраченный смысл существования. Однако эта среда, как и попсовая тусовка, не предлагает ничего, кроме «симулякров» духовности: интеллектуальные разговоры о «высоком» завершаются возвращением к «низовым» ценностям (алкоголь, наркотики, секс), которые представляют собой бегство от реальности. Эту среду дублирует субкультура иностранцев, маргиналов и тусовщиков: «Некоторые работали журналистами, некоторые учились, некоторые занимались неизвестно чем, но у всех водились деньги и, главное, все были готовы обсуждать те несколько тем, которые считались актуальными на протяжении последнего месяца, и демонстрировать ту степень порока, которая необходима, чтобы стать «своим» (320). Эта субкультура мегаполиса, как и первая, не создает духовного, поскольку представляет массового человека Запада, сбежавшего в Россию в поисках адреналина и острых ощущений. Третий вариант Кира обнаруживает в семинарах Горского. В системе персонажей герои противопоставлены друг другу: Горский – идеолог «нового» времени / Кира – человек, живущий сердцем. Кризис современной жизни Горский видит в закрепо36 щенности сознания традиционными ценностями как авторитарными (подчинение человека системе предписаний государственных институтов и идеологии), так и авторитетными (национальнородовыми представлениями о долге, общем благе, счастье и смысле жизни). Подавленное общим единичное сознание не в состоянии обрести подлинное знание о мире и подлинный опыт его переживания, который Горский и дает на занятиях своей группы. Раскрепощение сознания происходит несколькими путями: наркотики и грибы, меняющие состояние сознания, или длительные медитации, но и этот путь в процессе его прохождения опознается героиней как суррогат подлинной духовности: открывается его ложность, творцы смыслов на деле не свободны и не счастливы, зависят от реальности, а не преодолевают ее: «Я понимаю, что полтора года думала, как Игорь, говорила, как Игорь, была маленьким интеллектуальным клоном Игоря и теперь, избавившись от этого наваждения, по-прежнему не имею ответа на единственно важные вопрос! кто я? что я делаю? и зачем, черт возьми, я вообще живу?» (183–184). Невозможность самоидентификации осознается Кирой как смерть личности, ставшая итогом цивилизации: «вся социальная структура человеческой жизни в этом городе и во всех остальных городах планеты преследует всего две цели: не дать человеку возможности об этом задуматься и, если уж он все-таки это сделал, не дать ему возможности вырваться, измениться, потому что социум предусматривает для человека лишь три возможных состояния сознания: тяжелый и безрадостный труд для зарабатывания денег, алкогольное опъянение и шопинг в качестве отдыха и сон. Словно гигантский пчелиный улей, где каждая пчела с рождения имеет четко предопределенный набор функций и тело, приспособленное к их выполнению, государственные и социальные мегамашины, начиная с конвейера роддома и заканчивая организованной религией, заняты непрерывным воспроизводством людей с заданными параметрами интеллекта, психики и тела — кесарю кесарево, а слесарю слесарево» (184). Это и определяет попытку героини обрести смысл через чувство (любовь к Горскому). Но любовь как индивидуальное чув37 ство, подобно психоделическому и мистическому опыту, не дает гармонии и представляет собой еще один вариант существования в состоянии измененного, т.е. неистинного сознания (коллизия Кира – Вадим). Путь к истинному пониманию долга в романе А. Гостевой – это путь личностного приятия всей полноты бытия, обретаемый вне рамок национального пространства, в Индии, в ашраме современного мистика Саи Баба. Этот путь предстает как общий путь ищущих, вне зависимости от социального места человека (Кира встречает Коляна, молодого калининградского бандита). Для Киры и Горских – Саи Баба – воплощение бога, который понимается как «абсолютная любовь и абсолютная полнота» (458). В минуту мистического откровения Кира понимает, что единственное, о чем стоит говорить «Свет и Страх. Свет Его любви, творящей и сохраняющей мир, и Страх, мешающий нам увидеть этот Свет» (475). В романе А. Гостевой поиски новой идентичности и преодоление кризиса сознания современного человека в мире отсутствующей структуры, разрушенной иерархии и любых авторитетов возможно только в личностном переживании и открытии любви всеобщего. Прежние представления о должном дискредитировали и исчерпали себя, истинный «Бог ни к чему не принуждает» (475), поэтому путь новой любви не лишает человека свободы выбора и переводит должное из сферы всеобщих трансцендентных предписаний в сферу индивидуально понимаемого блага, направленного на преодоление не цельности сознания. Знаком обретения такого сознания и нового чувства к миру становится финал романа (Кира дает начало новой жизни). Поиск новых кодов изображения В посткризисной ситуации рубежа веков в литературе вновь активизировался поиск нового языка художественного миромоделирования, что проявилось в активном введении в структуру современной прозы кодов других искусств: романы И. Полянской «Прохождение тени», «Читающая вода» (1999), Ю. Буйда «Ермо» (1996), «Город палачей» (2001), повесть A. Геласимова «Жажда» 38 (2002), романы A. Королева «Быть Босхом» (2004), А. Кима «Сбор грибов под музыку Баха», В. Маканина «Испуг» (2006), «Две сестры и Кандинский» (2011). Визуальный код, как показывают исследования последних лет, наряду с музыкальным и литературным, – один из центральных в иерархии текстовых кодов интермедиальной поэтики современной прозы41. Он подразумевает как использование поэтики кинематографа, так наличие второго изобразительного ряда – фотографий, кинокадров, живописных полотен, икон, скульптур, объектов архитектуры и т.д. 42 В современном литературоведении изображение в художественных текстах визуальных артефактов закрепилось в термине экфрасис43, который рассматривается как элемент поэтики интермедиальности44. Так, А. Г. Сидорова определяет интермедиальность как «особый способ организации текста» и «как специфическую методологию анализа и отдельного художественного произведения, и языка художественной культуры в целом» 45. В вербальном дискурсе чужеродные ему семиотические объекты подвергаются переработке и транспонируются в нарратив перекодированными в соответствии с авторским заданием. Интерсемиотический перевод (перевод семиотического объекта из одной системы в другую) У. Эко называет «трансмутациями» или «адаптациями»46. 41 «Невыразимо выразимое»: экфрасис и проблемы репрезентации визуального в художественном тексте. Сборник статей / Составление и научная редакция Д.В. Токарева. М.: Новое литературное обозрение. 2013. 572 с. 42 О кинометафорах в современной прозе см.: И.А. Мартьянова Киновек русского текста: парадокс литературной кинематографичности. СПб.: САГА. 2002. 240 с. 43 «Экфрасис» (др.-греч. ἔκφρασις от ἐκφράζω – высказываю, выражаю) в современной научной литературе интерпретируется как расширительно (любые словесные описания визуальных артефакты), так и узко как словесное описание произведений живописи или графики в художественном тексте. 44 Из последних филологических работ, посвященных экфрасису, можно выделить статьи и монографии М. Кригера, Х. Лунда, Л.М. Геллера, И.А. Есаулова, Н.Г. Морозовой, А.Ю. Криворучко, Л. Шпитцера, С. Франк, М. Рубине. 45 Сидорова А. Г. Интермедиальная поэтика современной отечественной прозы (литература, живопись, музыка): автореф. дис. … канд. филол. наук. Барнаул. 2006. С. 3. 46 Эко У. «Сказать почти тоже самое». Опыты о переводе. СПб.: Symposium, 2006. С. 25. 39 В художественном нарративе чужеродные коды должны транспонироваться в повествование по определенным законам перекодировки визуального – в вербальное: из одномоментной «схваченности» разнопорядковых элементов и целостности в последовательное линейно-повествовательное развертывание, смотрение должно быть перекодировано в всматривание, проявляющееся в характере дескрипции, который можно определить как «вербальная визуальность», т.е. описание визуального артефакта, включающее элементы рецепции, интерпретации, рефлексии и оценки. Многозначность визуального не может быть атрибутирована без вербального. Визуальное в художественном тексте может быть представлено двояким образом: 1) описанием артефактов, которые возможно верифицировать читателю либо на основе реального личного опыта, либо на основе вторичного культурного опыта (реальные скульптуры, картины и пр. или их репродукции, фотографии, изображения на марках, открытках и т.д.). Другой способ представления визуального можно определить как вторичная визуальность, это артефакты, которые верификации не подлежат (личные картины, фотографии и пр. вымышленных персонажей, памятники, существование которых невозможно подтвердить и т.д.). Артефакты вторичной визуальности обладают дополнительным семантическим потенциалом – скрытой субъективностью в отличие от объективности визуального в реальности: фотографию в тексте нельзя увидеть, то, что она именно такова, какой ее описывают, читателю необходимо принять как данность, что переводит визуальное этого типа в инструмент воплощения интенций авторского сознания. Возможность такого типа представления визуального в вербальном базируется на специфике художественной реальности, не требующей онтологических оправданий. И в том, и в другом случаях экфрасис предстает как частный случай конструкции «текст в тексте», что позволяет отдельным исследователям говорить об особом «экфрастическом тексте»47. 47 Третьяков Е. Н. Экфрасис как матричная репрезентация образных знаков. URL: http://www.dslib.net/jazyko-znanie/jekfrasis-kak-matrichnaja-reprezentacija-obraznyhznakov.html (дата обращения: 21.02.2017). 40 «Читающая вода» (1999) И. Полянской48 – роман о кинематографе, искусстве кино и его творцах (режиссерах), их судьбах в ХХ веке. Главная героиня романа и рассказчица аспиранткаискусствовед Татьяна пытается постичь некогда известного кинорежиссера Викентия Петровича. У героини две сверхзадачи – «вывернуть …наизнанку» 49, т.е. вскрыть психологическую мотивацию жизни и творчества Викентия Петровича и «превратить этого своенравного человека … в дичь, в пищу для ума, в материал для статьи, диссертации, книги etc….», т.е. с помощью рефлексии овнешнить живую личность, дать некую завершенную, вещную интерпретацию его существования. Первая сверхзадача (разгадать человека) определяет фабулу романа (встречи с Викентием Петровичем, посещение библиотек в поисках архивных материалов, музеев), вторая (разгадать творца) – его сюжет. Оба уровня романа объединяет попытка исследования взаимообусловленности человеческого (временного) и творческого (вневременного) в условиях меняющихся социальноисторических обстоятельств. В кругозор рассказчицы входят различные материалы, прямо или косвенно связанные с жизнью Викентия Перовича, поэтому в фабулу романа включены различные элементы кинодеятельности (кино как производство, как коллективный технический и творческий процесс: героиня участвует в съемках фильма), а в сюжет – визуальный ряд фотографий, киноэпизодов и отдельных кинокадров, одна из фотографий и является элементом вторичной визуальности: «Над моим письменным столом висит приколотая к стене фотография молодого Викентия Петровича, впервые по48 Ирина Николаевна Полянская (1952–2004) – прозаик. В конце 1980-х годов входила в группу молодых писательниц «Новые амазонки», которую критика относила к «новой женской прозе» в современной русской литературе. Издавалась и печаталась в переводе на иностранные языки в США, Франции, Германии, Индии, Испании, Японии. Лауреат немецкой литературной премии «Лига Артис» (Лейпциг, 1995) и журнала «Новый мир» (1997) Финалист премии Букер (1998, роман «Прохождение тени»). Лауреат премии им. Ю. Казакова за лучший русский рассказ года (2003). 49 Полянская И. Читающая вода // Новый мир. 1999. № 10. С. 31. Далее текст цитируется по этому изданию с указанием страниц в круглых скобках. 41 явившаяся в 1926 году в английской газете «Дейли Геральд». Это период, когда режиссер стал известен всему миру своей дебютной работой – кинокартиной «Кровавое воскресение». Таким образом, в повествовании соединяются 2 типа визуального дискурса: фотография, функция которой персональна («напомнит»), и кинематограф, функция которого трансперсональна (передать «драматические события недавнего прошлого»). Рассказчик пространственно помещен между этими двумя дискурсивными позициями, он необходим, чтобы развести их, помещаясь между съемками фильма (маркер: «руководил», глагол в форме прошедшего времени) и фотоснимком (маркер: «напомнит», глагол в форме будущего времени), для которого Викентий Петрович позировал. Вглядывание в снимок сопровождается его свободной интерпретацией, предстает как «свободное плавание по фотографическому полю снимка». В описание фотографии входят несколько дискурсов: дескриптивный (передача изображенного), модальный (предположение героини о том, почему именно в этом месте и так организован снимок), герменевтический: «На этом фотоснимке, кажется, уместилось если не все, то многое – воздух, камень (стена), дерево (кресло), человеческая плоть, вода, если иметь в виду сопутствующий процесс проявки, есть, конечно, поза, редуцирующая вышеупомянутые элементы… небо присутствует в виде голубей, которых кормят за кадром прохожие мусорной крупой или толченым жмыхом, – недостает только перспективы. Вместо нее – матрица, красный кирпич с отпечатавшимися в углу снимка зубцами, который пытается проломить поза молодого, стремительно набирающего силу хозяина наступившей эпохи, покорителя пространства и времени» (31). Как элемент авторского кода визуальное (фотография героя) содержит в «снятом» виде все развертывающиеся впоследствии в сюжете смысловые уровни романа. Героиня-рассказчица истолковывает позицию изображенного субъекта как «триумфальную мизансцену», что вводит в нарратив семантику театральной игры, искусственности, «постановочности», а, следовательно, и фиктивности изображенного, его несов42 падения с подлинной социальной и исторической реальностью времени. Викентий Петрович восседает на Красной площади, на фоне Красной кирпичной стены «в огромном имперском, обитым полосатым шелком, кресле…» и с вызовом глядит «в глаза читателям реакционной капиталистической “Дейли геральд” …». Его поза – поза триумфатора, человека-творца, человека-победителя. Истолковывая позу режиссера, нарратор выходит из конкретноизображенного в универсальный план, где «новый» свободный человек «нового» мира предстает возвышающимся над историческим ходом вещей, бросив вызов земному шару. Визуальное в своей предметной конкретности «достраивается» вербальным, требующим для истолкования многозначности визуального интертекстуальности, выхода в другие тексты и дискурсы (географический, политический, историко-литературный): цитируются А. «Стансы» А. Ахматовой («В Кремле не надо жить…»), отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» А. Пушкина («Там чудеса, там леший бродит…»). Позиция молодого режиссера революционной эпохи воплощает и национальное, то коллективное бессознательное, что проявилось в стихии революции. Таинственность «русского духа» в его революционном варианте, которым «пропитаются» в ХХ веке многие политические лидеры различных стран, не поддается разгадке ни западным политикам, ни западным писателям. Именно поэтому «вся заграница сидит и разинув рот смотрит сон Марфы Лапиной из «Генеральной линии» Эйзенштейна, в котором десять тощих единоличных коров, поджавши хвосты, прогнув костлявые спины, жалобно просятся в колхоз, где жируют государственные бурены, – все это видит молодой Викентий Петрович с высоты своего кресла, поджавшего ножки, в сознании собственного превосходства человека над вещью. Он смотрится эдаким молодцом, а перед его глазами течет Москва двадцать шестого года с элегантными нэпманами в узких брючках, замшевых гетрах и красных ботинках «джимми», с девушками в пошитых из косо скроенных шарфов летних платьях – на глухом фоне Кремлевской стены». Важно, что фотография снята крупным растром («Но крупный растр, зернистость – это как раз то, что является сутью бытия…»), 43 который уподоблен фрагментарности существования и его мгновенности протекания во времени, что превращает на уровне автора-творца снимок 50-летний давности в кинокадр, во фрагмент кинофильма, автор которого – Время, что и воплощено в семантике заглавия. Так становится оправданной рецепция нарратора, приобретшая специфическую форму киноприема – прокручивания киноленты в обратную сторону. Таким образом, время «временится» (М. Хайдеггера) из будущего в прошлое, являя вечное настоящее, где и расположился Викентий Петрович, снимок становится «бесконечным в своей мгновенности». Онтологически, по мысли автора, фотография основывается на «кратности застигнутого мгновения, устраивающего перед нами демонстрацию в поддержку своей реальности», что идентично феномену спатиализации, то есть процессу перевода линейного исторического времени в пространство и характеризует мифологический тип мышления. Открывается новая грань понимания кино и фотографии как технических средств спатиализации (И. Франк), «остановки» во времени, превращения текучего времени в безвременное время мифа. Фотография и кинематограф становятся носителями информации, обеспечивающими некое бессмертие, становясь предпосылками для творения любых типов неомифологии XX века. Фотография говорит больше, чем думает в изображенный момент Викентий Петрович. Из другого времени героине видно, что «кирпичи сгущаются над вольной позой искусства…», «напирает кривая, юродивая брусчатка…». Запечатленный камень (брусчатка, кирпич) создает эффект сдавливания, обнаруживая социальную опасность, невидимую романтическим искусством. Камень сзади, камень под ногами, – он сгущается, напирает, и, в конце концов, погребет художника. Важен и домысленный нарратором цвет (брусчатка, и кирпич – красные), которого не может быть на черно-белой фотографии. Семантика красного цвета – семантика крови, террора и революции. Как исследователь, Таня расширяет контекст размышлений, включая в него эстетические позиции других активных творцов культуры революционной эпохи: Эйзенштейна, Пырьева, Довженко, Маяковского и других. 44 В процессе их изучения Таня обнаруживает зависимость творца искусства от атмосферы и идей социального времени: Викентий Петрович принимает участие в многочисленных дискуссиях о революционном искусстве, отдает «дань мемуарам, статьям и заметкам», в которых Таня отчетливо ощущает революционный энтузиазм эпохи, но вот истинные психологические мотивы его поведения ей не удается верифицировать: «я не могу решить, на счет чего его (энтузиазм – В.С.) отнести: весьма понятного лицемерия или, напротив, искренности, с которой многие деятели искусства отождествляли революцию и кино» (31). Новое искусство соцреализма предстает как мифотворчество, а иллюзия свободного человека-творца рассеивается очень быстро (фотография в журнале ЛЕФ 1929 года). Эта фотография обнаруживает другого Викентия Петровича, творца, раздавленного властью: «во всей позе проявится умильная робость единоличных бурен, просящихся в колхоз, позвоночник изогнется, стремясь принять безопасную утробную позу, глаза, высокомерно глядящие в будущее – и ни черта в нем не видящие, конечно! – утратят свой боевой блеск, и от простого вопроса Сталина, заданного в тиши кремлевского просмотрового зала после окончания его новой киноленты: «Кто автор этой картины?» – он вдруг неожиданно для всех лишится чувств, сползет с кресла наземь и придет в себя только после слов, ухваченных сознанием сквозь острый запах нашатыря: «Очень нужная картина…» (32). Так в сопоставлении двух фотографий проявляется время и позиция человека в нем, открывается драма художника, вынужденного принять власть, и экзистенциальная драма человека, лишенного свободы существования. Художник, чьей судьбой на протяжении романа занят рассказчик из субъекта истории и героя-творца (план рассказчика) превращается в объект (план автора, где творцами выступают время и судьба). Викентий Петрович в авторском плане романа претерпевает метаморфозу, превращаясь из субъекта в «объект» искусства, в «муравья в янтаре» в «драматургии времени», где подлинным художником обернулось иррациональное. Визуальное (фотоснимок) становится аналогом бытия: определенное «застывшее» мгновение перешло в материальное простран45 ство, в котором отразилось как онтологическое (небо), так и антропологическое бытие (поза и претензия человека). Статичность снимка сохраняется (наблюдение подтверждается глагольной семантикой), но его рецепция преодолевает статику, одновременно разгадывая невидимое герою снимка индивидуальное, социальное и историческое будущее, в котором визуальное уподоблено особой оптике, капле воды, в которой отображается весь мир. Вода как метафора времени мистически вездесуща и представляет материальное самоосуществление иррационального в рационально постижимом мире. Таким образом, визуальное (фотография героя) как элемент авторского кода в современном художественном нарративе («Читающая вода») становится органическим элементом художественной реальности и не создает оппозиции истинное/неистинное в диегезисе. Оно имеет сложную нарративную и композиционную структуру и обладает следующими функциями: медиальной, представляя «область слияния материального и смыслового»50; моделирующей (создание образа); конституирующей («создание из себя» как недоступная нарратору авторская характеристика его сознания); характерологической (определяет возможность свободного перемещения сознания во времени и пространстве истории и вечности как способ связывания психологических и ценностных характеристик в единое целое; символической (выделенность экфрасиса в иерархической структуре произведения, его большей смысловой «плотности» и условности в сравнении с другими типами «текст в тексте»; сюжетно-композиционной (связывает план героини и план авторатворца (тематическое присутствие автора); экспрессивной: иллюзия естественности возникает за счет фотографической специфики изображения, выраженной в его документальности, что усиливает непосредственное воздействие на читателя. Таким образом, использование визуального в нарративе современного романа связано с универсализацией картины мира и попыткой определения возможностей и человека и искусства в бы50 Инишев И.Н. Феноменологическая герменевтика в медиа-теоретической перспективе. URL: http://vphil.ru/index.php?id=927&Itemid=52&option=com_ content&task=view (дата обращения 11.10.2016). 46 тии. Вместе с расширением художественного мира произведения и увеличением его культурной плотности происходит не просто обновление языка литературного текста, за счет привлечения профессионализмов и терминов фотографии и кино в метафорическом употреблении – эти языковые элементы начинают определять саму структуру нарратива. Реалистическая проза о войне Реалистическая проза о войне в литературном процессе 1990– 2000-х годов занимает особое место, что объясняется травматическим национальным опытом, недостоверностью официальной советской историографии, участием в новых локальных войнах. С одной стороны, писателями старшего поколения в этот период созданы романы и повести о Великой Отечественной войне (романы «Генерал и его армия» (1994) Г. Владимова, «Прокляты и убиты» (1994) В. Астафьева, «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?..» (2003, публ. 2012) В. Богомолова, повести «Обертоны» и «Веселый солдат» В. Астафьева). Новые аспекты изображения этой войны находит А. Геласимов («Степные боги», 2008). С другой стороны, опыт локальных войн осмысляется в прозе с разной степенью глубины: от философского («Знак зверя» (1992) О. Ермакова, рассказ «Кавказский пленный» (1994), роман «Асан» (2008) В. Маканина) до эстетически первичного («Уроки армии и войны, или Хроника чеченских будней. Из дневника солдатасрочника» (2002) И. Анпилогова, «Алхан-Юрт» (2002), «Взлетка» (2005) А. Бабченко, «Русскоговорящий» (2005) Д. Гуцко, «Дикополь» (2002) Е. Даниленко, рассказы «Сантуций», «Готический замок» (2004) А. Карасева, «Я был на этой войне. Чечня-95» (2004) В. Миронова, «Патологии» (2002) З. Прилепина, «Одна ласточка еще не делает весны» (2005), «Шалинский рейд» (2010) Г. Садулаева, цикл рассказов «Щенки и псы войны» (2004) С. Щербакова). В романе Г. Владимова трагические события Отечественной войны представлены в связи с историей России начала ХХ века: подавление крестьянских волнений в 1920-е годы, жуть Большого Террора конца 1930-х, аресты военачальников перед самой войной 47 и т.д. Эти события становятся концентрированным воплощением и выражением сути того, что происходило в России с установлением диктатуры большевиков, начиная с 1917 года: не прекращающаяся гражданская война своих против своих стала перманентным состоянием страны и общества. Война в романе соединяет разных по социальному положению, военной иерархии и нравственным качествам людей: водитель генерала Сиротин, ординарец Шестериков, адъютант Донской, генералы советской и немецкой армий: Власов, Ватутин, Гудериан. В Шестерикове много положительных качеств: смелость и жертвенность, умение достойно жить в самых трудных обстоятельствах, трудолюбие и преданность делу, житейская мудрость. Он спасает Кобрисова от смерти, выхаживает его в госпитале. Шестериков предан генералу и мечтает после войны остаться жить в его семье. Герой как один из вариантов национального самосознания воплощает тип крестьянского народного сознания, для которого счастье связано с идеалом служения, плодородной землей, домашним хозяйством, семьей. Донской, напротив, крайне честолюбив и рассматривает войну как ситуацию для карьерного роста, майор Светлооков представляет тайную силу «органов», внешне он заботится о безопасности государства, а внутренне – властолюбив и мстителен, наслаждается властью и использует ее для удовлетворения чувства превосходства над людьми. Генерал вермахта Гудериан, как и русский генерал Кобрисов, воплощает тип настоящего военного, для которого жизнь солдата имеет значение: оба предпочли пожертвовать карьерой и быть ошельмованными официальным мнением, но сохранить жизнь своих солдат. Понимая, что «летняя кампания проиграна», и не желая обрекать на смерть в подмосковных снегах своих солдат, генерал-полковник Гудериан, «гений и душа блицкрига», подписывает первый за всю войну приказ об отступлении, что грозит ему отставкой, немилостью фюрера, злорадным торжеством многих его коллег из генералитета. А командарм Кобрисов, зная, что за захват Мырятина придется заплатить десятью тысячами солдатских жизней, не выполняет приказ о подготовке наступления на 48 город и этим ставит крест на своей полководческой карьере, а по существу — на всей последующей биографии. Кобрисов прекрасно знает военное дело, умеет правильно использовать солдат и технику, но его решения не находят одобрения у большинства генералитета, потому что не сулят быстрых побед, а с ними – славы, новых званий и наград. Большинство генералов ни на минуту не задумываются о человеческой цене принимаемых ими решений. Но Кобрисов в этой войне защищает не сталинский режим, а своё отечество, свой народ, поэтому в его сознании бережное отношение к жизни солдат и есть «сбережение народа». Ряд образов в романе крайне полемичны по отношению к официальным историографическим версиям (образы маршала Жукова, генерала Власова, Хрущева). Маршал Жуков оказывается полководцем, чьи победы были оплачены колоссальным количеством жертв «русской четырехслойной тактики»: «Три слоя ложатся и заполняют неровности земной коры, четвертый — ползет по ним к победе»51. Генерал Власов, чье имя стало символом предательства, рисуется фигурой трагической, а те русские люди, которые согласились с оружием в руках воевать на стороне гитлеровцев и которых всегда называли изменниками родины, представлены несчастными жертвами, попавшими в плен по вине бездарного командования. Г. Владимов изображает Власова как спасителя Москвы, умного и талантливого полководца, как человека глубоко верующего: он понимает суть сталинского режима и не видит другого выхода свергнуть тирана, кроме как объединиться с силами немецких захватчиков, не замечая происходящей при этом подмены национального социальным. Но Г. Владимов утверждает, что именно национальное чувство объединило русских и отвратило их от оккупантов. Роман Г. Владимова – размышления о судьбе России, о «белых пятнах» нашей истории, о загадочности русской души, о парадоксальной нашей многотерпимости в большом и нетерпимости в малом. 51 Г. Владимов. Генерал и его армия // Владимов Г. Не обращайте вниманья, маэстро. М.: Книжная палата, 1999. С. 304. Далее текст цитируется по этому изданию с указанием страниц в круглых скобках. 49 Последнее десятилетие творческой деятельности В. Астафьева посвящено осмыслению Великой отечественной войны. В повести «Веселый солдат» повествование организовано как рассказ биографического автора писателя В. Астафьева о себе как Другом (двадцатилетнем) в ситуациях конца войны и первых послевоенных лет с позиции жизни и опыта другого времени, другой социальной и исторической ситуации. Такой тип повествования создает иллюзию совпадения автора с биографическим рассказчиком и героем, представляя вариант «авторской прозы» (Н. Иванова), в которой художественной рефлексии открыто подвергается лично пережитый опыт автора-частного человека, а в основе построения художественного мира лежат автобиографические ценности. Так организованное художественное со-бытие предполагает несколько эстетически значимых последствий: 1) исчерпанность героя, т.е. того Другого, о котором ведется рассказ, событием рассказа; 2) свободой рассказчика, и вытекающей отсюда нелинейностью рассказывания во времени и пространстве, дополнительной свободой рассказывания, жестко не привязанного к фабуле, что определяет особенности позиции рассказчика, типы слова в событии рассказывания; Ср.: «Да это у нас и по сей день так…»52; «О-о война, 0-о бесконечные тяготы и бедствия российские!» (305); «Когда много лет спустя после войны я открыл роскошно изданную книгу…» (308); «Будучи молодым и востроухим…» (321); «…я не заглядывал в тревожное будущее…» (333); «Пройдет всего лишь несколько десятков лет….» (343); 3) тематическими формами развертывания смыслов авторомдемиургом, «снимающими» эту разницу в единстве художественного целого. Фабульно события укладываются в 5 лет жизни героя, разворачиваясь в пространствах боя, пересылки, поезда, двух госпиталей (Хасюринский и Усть-Лабинский), Сталинграда, Ровно Москвы и Загорска (сегодня Сергиев-Посад), станции Чусовая, Красноярска. Каждый из топосов художественно развернут в разной степени, 52 В. Астафьев Веселый солдат. Иркутск: Вектор. 1999. С. 296. Далее текст цитируется по настоящему изданию с указанием страниц в круглых скобках. 50 что связано с их различной ценностью в биографической жизни героя. Если организация фабульного уровня принадлежит герою, то сюжетного – рассказчику, поскольку он вводит иной временной и пространственный интервал – это уже 50 лет, и топосы героя «достраиваются» в единую картину миру онтологическими топосами (различные образы природного ряда). Эти особенности организации повествования, фабулы и сюжета позволяют считать, что аксиология автора-демиурга в «авторской» прозе не равен ценностным мирам ни героя, ни рассказчика, несмотря на их особую автобиографическую близость авторутворцу, раскрывающую в повести В. Астафьева свою определенность постепенно, по мере развертывания и события рассказа, и события рассказывания. Сюжетная ситуация дается ретроспективно (воспоминания) и организована внутренним психологическим и этическим мотивом – переживание рассказчиком совершенного на войне убийства (рассказ об обстоятельствах этого убийства). Память и письмо (писательство) как ценностные позиции проявлены уже в самих принципах организации повествования, но автору-демиургу очевидна их относительность, поскольку память избирательна, а письмо (писательство) не меняют мир (мотив дурного повторения в истории и социальной жизни), но они важны личностно как ценностное и ответственное переживание бытия и своей экзистенциальной вины. Кругозор героя включает ценности разного порядка: от утилитарных и витальных (сапоги, пилотка, жилище, еда, желание женщины), что связано с его возрастном и возрастной физиологией, положением в армейской иерархии и социальным статусом (солдат, вернувшийся с фронта), состоянием мира (война и первое послевоенное время), жизненным и военным опытом. В кругозоре рассказчика эти ценности достраиваются иным жизненным контекстом и рожденным этим контекстом иным пониманием социального, родового, онтологического, экзистенциального. В контексте рассказчика герой предстает не столько в своей индивидуальной определенности, сколько как часть национального целого, поэтому его индивидуальная судьба предстает как часть народной судьбы, что определяет наличие множественных ситуа51 ций военного и послевоенного времени: голода и недоедания, отсутствия достойных человека предметов и вещей (история шинели), тяжелый изнуряющий физический труд, безденежье и бедность, отсутствие нормального жилища. Своеволие и безжалостность военных командиров, начальников и чиновников предстают на уровне рассказчика не как проявление онтологических законов мироустройства, а как элементы репрессивной социальной системы, которая надстроилась над народным целым. Она породила обслуживающий эту систему слой индивидуалистов, для которых личные социально декларируемы нормы и требования служат прикрытием своекорыстных эгоистических интересов (сцена с приказом Жукова) По мысли рассказчика, при внешне декларируемой заботе о человек «всепожирающая печь социализма» (499) была направлена на унижение, лишение чувства собственного достоинства, а в итоге – на расчеловечивание нации (сделать виноватым русского человека). Утрата родовой идентичности героем (детдомовское детство, ранняя смерть матери и беспутность отца) компенсируется в единстве художественного целого обретением национальной идентичности рассказчиком (принадлежность к народу всем способом существования) и авторским обретением универсальной общечеловеческой идентичности. Социальная и историческая судьба народа в духе некрасовской этики предстает как страдальческая, а жизнь героя как страдание, дополнительно усиливающееся страданиями близких (аборты и болезнь жены), потерей дочери. Рассказчик вскрывает абсурд социальных правил и установлений (т.е. социальных ценностей), социальный хаос, отсутствие порядка как неотъемлемый атрибут социальной системы: «Безобразно доставляли раненых с передовой в тыл. Выбыл из строя – никому не нужен, езжай лечись, спасайся как можешь» (292). Рождаемый социальный хаос вызывает к жизни тех, кто паразитирует на беспомощности солдат: мародеры, спекулянты. Источником физического спасения оказывается не социальный мир, в котором человек гибнет (сцены в госпитале, послевоенная жизнь солдат), а онтология (сцены рыбалки, первого зеленого лу52 ка, картошки). И в условиях войны, и в условиях послевоенной жизни рассказчик обнаруживает спасительную силу моральных национальных ценностей: терпения, чувства человеческого родства, взаимопомощи и поддержки (семья жены). Архетипический уровень автора-демиурга соединяет ценностные миры героя и рассказчика и фиксирует бытие как многообразие. Но это многообразие должно быть структурировано разумом и человеческими ценностями, поэтому этот уровень организован оппозицией порядок/хаос. Любые формы установления порядка выступают как ценностные, поскольку вносят организацию и справедливость в социальный хаос. Порядок предполагает внесение в социальный мир иерархичности как формы его упорядочивания и структурирования. Отсюда основные архетипы отца (Бог как создатель, творец) и матери. Архетип матери (природы) как животворящий и архетип отца как структурно-организующий животворящую материю природы определяют принципы оценивания, иерархию (порядок / беспорядок) и систему оценок автора. Событие исторического военного конфликта и личного участия (убийственный выстрел) помещены автором-демиургом в три пространства: в онтологические реалии природного мира как далекого и равнодушного к человеку (в Дуклинский перевал, горы и горная растительность), так и близкого (река); в антропологическое пространство освоенной природы (картофельное поле, клевер, подсолнухи, домашние животные); в социальный мир человека (польская деревушка, костел), хрупкость которого в фиксируется мотивом «игрушечности»: «Крестик на костеле игрушечно мерцал, возникая из осеннего марева…» (285). Картофельное поле и мотив картошки (ее едят, в ней скрываются, умирают), как и позиция рассказчика, отсылают к другим текстам В. Астафьева, прежде всего к «Оде русскому огороду», и превращают конкретную предметность изображаемой картошки в символ жизнетворящего начала («опора нашей жизни»). В совокупность мотивов жизнетворения и хрупкости жизни «вплетается» мотив разрушительной деятельности человека, подрывающей фундаментальные основы бытия: «Изъезженная вдоль и поперек 53 войнами, истерзанная нашествиями и разрухами, здешняя земля давно уже перестала рожать людей определенного пола…» (286). Рассказчик, выполняя социальный и родовой долг (защита государства и отечества), становится частью и одним из участников этой деятельности, нарушая закон и убивая человека. Состояние героя, в котором он убивает немца («усталое, равнодушное, привычное к мертвецам и смертям» С. 291), разрушается бессознательным переживанием вины, что дополнительно подчеркивается введением мотивов неузнанного родства и спасительного самообмана («убедил себя в том, что он был обыкновенный»): «Но ночью, после дежурства на телефоне, я вдруг заблажил, чего-то страшное увидев во сне, вскочил, ударился башкой о низкий настил…» (291) и корректируется в лирико-философских размышлениях рассказчика: «Тянет, обнимает земля человека, в муках и для мук рожденного, мимоходом с земли смахнутого человеком же убитого, истребленного» (291), завершаясь выводом о пожирающей силе биологического устройства, которая «необратима, неотмолима и неизменна: кто-то кого-то все время убивает, ест, топчет…». Биологический закон пищевых цепей человек возвел в мировоззренческий принцип: «вырастил и утвердил человек убеждение: только так, убивая, поедая, топча друг друга, могут сосуществовать индивидуумы земли на земле» (291). Фундаментальное основание авторской иерархии ценностей (жизнь каждого (всякого) человека) вводится в начале повествования мотивом ее пре-ступления (нарушения) героем: «Четырнадцатого сентября одна тысяча девятьсот сорок четвертого года я убил человека. Немца. Фашиста. На войне» (283), который на уровне авторской темы ценности человеческой жизни завершает как первую часть повести («Солдат лечится»), так и ее финал. «Четырнадцатого сентября одна тысяча девятьсот сорок четвертого года я убил человека. В Польше. На картофельном поле. Когда я нажимал на спуск карабина, палец был еще целый, неизуродованный, молодое мое сердце жаждало наполнения горячим кровотоком и преисполнено надежд». (518). Смысловая редукция национальной, идеологической и ситуативной компонент высказывания (немец, фашист, на войне) позволяет говорить об универсальном характере 54 этой ценности (человек) и сопровождающем всю жизнь автора остром чувстве вины за совершенное. Для рассказчика актуальны ситуации защиты собственного достоинства как героем, так и другими персонажами, что формирует единую авторскую тему защиты личного достоинства в мире как ценность, меняющую (достраивающую и смысл) и семантику названия: веселый солдат – не только номинация героя другими персонажами, но и авторское понимание ценностной позиции человека в бытии, где он выступает солдатом, защитником жизни от всех форм (национально, исторически и социально своих или чужих) ее уничтожения, смысл которого, как писал А. Платонов «подобен смыслу матери». Таким образом, сюжет повести «Веселый солдат» демонстрирует эволюцию сознания человека от группового сознания и его ценностей на уровне героя (детдом, армия) к общенациональному – на уровне рассказчика, общечеловеческому и экзистенциальному – на уровне сознания автора демиурга как обретения личной вины и ответственности за человечество и человека. В прозе о войне 2000-х годов доминирует взгляд нового поколения писателей генетически восходящий к фронтовой лирической повести 1950 – 1960-х годов с ее поиском личностной правды о войне, правды эмоционально-психологического восприятия и переживания, учитывающий эстетический опыт военной прозы 1970-х годов (проза В. Астафьева, В. Быкова). Для прозы о войне 2000-х годов характерны следующие черты: установка на личный опыт и повествование от первого лица (А. Бабченко «Алхан – Юрт», А. Карасев «Чеченские рассказы», 2008, Г. Садуллаев «Шалинскийм рейд», 2010), отказ от постмодернистских приемов текстообразования, документальность и натурализм. Эта проза этически бескомпромиссна в оценках, ведущие жанры – повесть и рассказ. Можно говорить о двух основных художественных версиях локальных войн. Первая открывается в повести А. Бабченко «Алхан – Юрт»53, где война осознается как победа онтологического 53 А. Бабченко начал публиковаться с 2002 года («Новый мир»). Ведет проект «Журналистика без посредников». URL: http://starshinazapasa.livejournal.com/ Автобиография А. Бабченко. URL: http://snob.ru/profile/27517/about. Ведет свой блог 55 над антропологическим. Кругозор человека сужается до того, что видно «здесь и сейчас», а жизненный опыт – до опыта биологического выживания в этой ситуации. Превращение в зверя, смерть человеческого – итог этой победы: «Человек в нем умер, скончался вместе с надеждой в Назрани. И родился солдат. Хороший солдат – пустой и бездумный, с холодом внутри и ненавистью на весь мир. Без прошлого и будущего» (А. Бабченко «Алхан – Юрт»)54. Вторая – в сборнике А. Карасева «Чеченские рассказы» (2008)55, где война предстает как «трудная работа», как сложный механизм, в который включены не только те, кто умирает в бою: «Война была работой. Нашей работой, и больше ничем – если не вдаваться в рассуждения о её бессмысленности и преступности». (А. Карасев «Чеченские рассказы», 2008). С одной стороны, в поэтике прозы этих авторов есть отдельные общие элементы. Так, событие рассказа (фабула) не совпадает с событием рассказывания, которое организовано двумя позициями рассказчиков: совпадающим с событием рассказа («сейчас»/«тогда») и выходящим в иную временную перспективу («потом»). У А. Бабченко это дает возможность рассказчику в лирикопублицистических отступлениях дать обобщенное отношение к войне. У А. Карасева наличие 2 временных позиций по отношению к событию рассказа открывает как момент становления самосознания героя, так и позволяет корректировать его прежнее представление о мире: С другой стороны, есть и существенные отличия. Во-первых, это проза разная в жанровом отношении. Военная проза А. Бабченко в жанровом отношении самодостаточна, а проза А. Карасева тяготеет к циклизации. на этом же ресурсе http://snob.ru/profile/27517/blog/98204 Выступает с критикой внешней и внутренней политики государства (см. пост «Национальная идея»). 54 Бабченко А. Алхан – Юрт //Новый мир. 2002. № 2. URL: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2002/2/bab.html (дата обращения 29.05.2014). Далее текст цитируется по этому источнику. 55 А. Карасев начал публиковаться с 2003 года (рассказ «Наташа» в журнале «Октябрь». Автор книг «Чеченские рассказы (2008), «Предатель» (2011), «Эльвира» (2014), «Сева» (2015). 56 Во-вторых, у этой прозы и разный адресат: потенциальному читателю А. Бабченко нет нужды осваивать профессиональную лексику воинского устава и воинский жаргон, в то время как А. Карасев в сборник «Чеченские рассказы» включает кроме 14 рассказов Словарь, в котором даны значения слов из армейского сленга и военных терминов, Примечания автора и Примечания издателя. В-третьих, различна и поэтика произведений этих писателей. Так, различны принципы организации повествования. Если у А. Бабченко один субъект повествования и сюжет повести организован двумя основными событиями, что определяет и пространственно- временную организацию повести (двое суток, болото как хронотопический центр), то у А. Карасева два субъекта повествования, они подвижны, определяя смену ракурсов в изображении: в одних рассказах повествование организовано словом персонифицированного рассказчика, молодого офицера старшего лейтенанта Кудинова, который определяется семантикой названия первого рассказа как «нормальный» («В Ведено», «Капитан Корнеев», «Как я получил медаль «За отвагу», «Мечта», «Шакалы»). В других рассказах – словом безымянного рассказчика («Нормальный», «Безбашенный, «На выезде», «Новостной сюжет», «Воин»). Это дает возможность ввести в повествование рассказ о персонажах, знание о которых недоступно главному герою («Безбашенный»), в итоге такой организации создается панорамное представление о людях и событиях чеченской войны. Художественное время развернуто и включает все годовые циклы. Так, время действия первого рассказа – зима, второго и третьего – весна, четвертого – лето. По-разному организованы и фабулы. События «Алхан-Юрта» укладываются в два дня и распадаются на две ситуации: 1) бойцов подразделения отправляют на боевое задание – закрыть возможную линию прорыва противника (чехи), 2) Артем отправляется с психологом на поиски живых. Фабула сборника «Чеченские рассказы» – приезд в расположение части молодого офицера Кудинова56, которого направляют сменить командира взводного опорного 56 Восходит к имени Кудин, которое, в свою очередь, являлось краткой формой церковного имени Акиндин от греческого (безопасный). Другая версия – имеет 57 пункта (в повести аббревиатура ВОП) капитана Корнеева, а затем отправляют на первый ВОП, который он принимает под свое командование. У этих авторов и разные герои, а, следовательно, разные кругозоры и разное видение войны: рядовой-связист у А. Бабченко, подчиняющийся приказам, и старший лейтенант с университетским образованием у А. Карасева, отдающий приказы. Разные фабулы: концентрическая у А. Бабченко и линейная у А. Карасева. Разные ряды изображаемого: повседневный быт войны у А. Карасева и отсутствие быта как такового у А. Бабченко (мотивы холода, болезни и т.д.). Разные художественные функции пейзажа как элемента поэтики: максимально развернутый символический у А. Бабченко (это сквозные мотивы дождя, грязи, топи, глины, болота) и минимизированные у А. Карасева, описания которого функциональны, это мельком отмеченный героями фон происходящего: «Шали – предгорье. Далеко на горизонте видны горы. Вечером они наливаются мягким фиолетовым светом, а сейчас только серые и хмурые. Четыре часа. Машины по-прежнему стоят на солнцепеке. На поле с желтоватой травой ложится горячий воздух. Убожко идёт к колонне. С другого края, клокоча винтами, поднимаются сразу два вертолёта Ми-8. Тин-угун – отдаёт в груди. Это батарея гаубиц посылает снаряды в хмурые горы, которые уже и не горы вовсе, а квадраты на листе бумаги» («На выезде»). Все это объясняется тем, что у этих писателей разные концепции и образы войны, а, следовательно, и разные традиции ее изображения57. Обыденность войны у А. Карасева (война как работа), исключительность войны у А. Бабченко (война как смерть человеческого). Отсюда и разная поэтика финалов – порабощенность состоянием, созданным войной, у А. Бабченко и способность жить после нее у А. Карасева. Хроникально-протокольный язык у А. Карасева и излишне пафосно-патетический – у А. Бабченко. тюркское происхождение. Скорее всего, в ее основе лежит искаженное казанскотатарское слово «кудай» – «бог, аллах». 57 Карасев А. Чеченские рассказы. URL: https://alexandrkarasev.wordpress.com/chr/ (дата обращения: 11.10.2015). Далее текст цитируется по этому источнику. 58 Традиции А. Карасева – это традиции прозы фронтового поколения (В. Некрасов, Г. Бакланов), традиции А. Бабченко – это традиции прозы первых лет войны, но направленные не на конкретного врага, а на войну как таковую. Функции «чужого» в реалистической прозе: роман М. Шишкина «Венерин волос» Роман М. Шишкина «Венерин волос» связан с распространенным в современной прозе приемом перемещения героя в чужие топосы, где герой обретает возможность как дистанцироваться от повседневности, так и обрести позицию саморефлексии (проза Вик Ерофеева, г. Садулаева, И. Стогова и др.), примыкая и к литературе, изображающей скитающегося или номадического персонажа (А. Иличевский, М. Москвина, Д. Данилов и др.). В сюжете воспоминаний герой М. Шишкина изначально переживает пространство Рима и Италии как свое: «… с какой радостью я бросил Швейцарию и полетел в мою душеньку, в мою красавицу Италию. Она моя! Никто в мире ее не отнимет у меня! Я родился здесь. Россия, Петербург, снега, подлецы, департамент, кафедра, театр – все это мне снилось»58. Это заданное автором отношение детерминировано особенностями сюжетостроения: в романе три образа Рима рубежа XX– XXI веков, каждый из которых связан с определенным этапом в жизни героя. Первый Рим, с одной стороны, – пространство освобождения от тотальности повседневности, в которой господствуют забота и долг: «как найти работу, квартиру, устроить жизнь с маленьким ребенком» (175). Это неидеальное пространство, и герой замечает «облупленные палаццо с щербинами отвалившейся штукатурки», «те же кошки», «такая же уличная грязь», «те же ржавые решетки». С другой стороны, погруженность в чувство, переживание чувственной полноты существования как момента счастья не маскирует, а делает несущественным неидеальность реального 58 Шишкин М. Венерин волос. М.: Вагриус. 2005. С. 172. Далее текст романа цитируется по данному изданию с указанием страниц в скобках. 59 жизненного пространства первого Рима в силу особой ценности жизненного мгновенья на фоне вечного города: «как много нужно, чтобы почувствовать себя счастливым: быть немножко пьяным от граппы, от Рима, от любви, от яркого месяца за окном, … засыпать с этой женщиной и знать, что завтра будет утро, и не просто утро, а утро в Риме, когда так остро чувствуешь, что очень мало времени и нельзя терять ни мгновения, а нужно быстрей идти окунуться в этот город» (178). Знаком подлинности становятся онтологические атрибуты: «От того первого Рима осталось ощущение дождя и солнца» (173). Второй Рим, как и второй Масса-Лубренце, – пространство разрушения семьи и потери любимой. Это Рим торжества суетности и неподлинности, сошедший с ума город, хаотичный и иррациональный: «Кругом гомон… Бешеная собака укусила мотороллер, и теперь в городе эпидемия, болезнь перекинулась и на машины, и на автобусы, носятся как ошалелые. Спятили даже канализационные люки, возомнили себя Бог знает кем…Номера домов тоже спятили. Выстроились в какой-то только в Риме возможной последовательности» (171–172). Позиция героя-рассказчика – позиция вспоминающего и рефлексирующего субъекта за границей прежнего чувства. Третий Рим – Рим перехода из границ настоящего в контекст культуры как вечности, Рим прозрения универсальных истин. В романе М. Шишкина в открытках главного героя рассказывается о двух посещениях Масса-Лубренце, курортного городка, который находится в очень красивом уголке Неаполитанского залива. Первое, как и первый Рим, связано с переживанием полноты бытия и погруженности в собственное счастье: в кругозор героя входят море, небо, звезды, Везувий, рыбаки, ночь, ясный день: Второй визит – передает иные природные состояния (дождь, уход, мутное море), что соответствует реализуемому в пограничном пространстве курортного городка сюжету о попытке спасения семьи. Распадающийся частный мир героя рождает страдание, которое, в отличие от первого посещения Масса-Лубренце и Рима заставляет увидеть, как живут другие, открыть то, что не виделось герою в состоянии индивидуального счастья, ограничивающего человека в понимании истины (образ провинциальной Италии как 60 настоящей жизни, жизни без прикрас): «Нужно было проехать через деревню. Иногда двери домов выходили прямо на улицу, и толмач тормозил и смотрел, как итальянцы живут – вовсе без прихожих, сразу за открытой дверью начинается семья» (326). Герой М. Шишкина обнаруживает соответствие собственным страданиям в «чужом» мире и открывает всечеловечность страдания: «И за каждым окном кто-то рано или поздно сказал или скажет другому: так дальше жить невозможно, мы должны расстаться. Потому что я больше не могу быть с тобой в одном помещении. И другой ответил или ответит: хорошо, действительно, так жить невозможно. И рядом в кресле свернется их ребенок, захочет стать совсем маленьким, слепым и глухим, чтобы ничего не видеть и не слышать, как подушка» (326–327). Развитие сюжета о попытке спасения семьи прерывается вставной новеллой о святом Антонии Римлянине, необходимость «текста в тексте» в общей структуре романа связана, с одной стороны, с проблемой онтологической референции знака и реальности, а с другой, – с темой поиска формы существования в неидеальном мире. Родившись в Риме в 1067 году от богатых родителей, Антоний «стал скитаться (по Италии – В.С.) в поисках праведной жизни, но везде находил лишь ложь, блуд и несправедливость. Он искал любовь и не мог ее найти» (323). Антоний уходит от людей в море, он не сходит с камня месяц, камень отрывается от берега и плывет в открытое море, течение гонит камень вокруг Европы и прибивает к берегу Волхова в России, где Антоний становится чудотворцем. Семантика жития говорит о невозможности выйти за пределы неидеального мира и необходимости творить добро в данности бытия. С другой стороны, толмач обнаруживает соответствие между событиями в тексте об Антонии Римлянине и реальностью: в финале сюжета о спасении семьи камень с женщиной «отделился от берега и поплыл» (329). Текст, таким образом, как рассказ о событии, не совпадая с реальностью, не являясь ее копией, может фиксировать моменты подлинности. М. Шишкина исследует проблему онтологической референции между реальностью и знаком, что определяет характер освоения Рима. Герой Шишкина намеренно погружен в культурный мир 61 Рима, в его веществование и вечный город предстает в своей живой и вещной (знаковой) телесности: «Испанская лестница соткана из тел, рук, ног – живой гобелен, сбежавший из ватиканских музеев» (172). «Рим тел. Тела повсюду – каменные, но телесные – мужские, женские, полуживотные. Мускулы, груди, соски, пупки, ягодицы – у диоскуров, императоров, мадонн, тритонов, богов, фавнов, святых. Бедра, колени, икры, пятки, растопыренные пальцы ног» (174). «Безжизненные тела. Руки, ноги, головы, груди, животы – все это было найдено в земле, а теперь выставлено для опознания. Вазы, саркофаги, барельефы. И снова тела – безглавые, безрукие, безногие, оскопленные» (181–182). В романе М. Шишкина телесность человека разворачивается в двойной перспективе: пластический античный образ тела (античные статуи) помещен в пространство иной культуры и деформирован ею (у статуй отбито то, что закрывает фиговый лист). Это становится свидетельством деформирующего характера постантичной культуры и ставит проблему соотношения природного (тела) и культурного (знака). В романе М. Шишкина Рим становится местом прозрения: герой испытывается на возможность выхода к универсальным истинам в ситуации утраты собственной подлинности, когда «даже сам толмач оказывался копией какого-то утерянного оригинала» (184). Жизнь (реальность) в романе М. Шишкина постоянно утрачивается, перетекая в воспоминания и знаки. И воспоминания, и знаки не в состоянии передать всю полноту бытия в силу избирательности и многозначности, что ставит под сомнение, с одной стороны, само наличие реальности, с другой, – истинности существования, с третьей – способности искусства передавать реальность. Посещение римских музеев: знак перестает выполнять свою функцию соответствия реальности (все римские статуи не подлинны, оказываются копиями с греческих), а следовательно, план выражения (страдания Лаоокона) нельзя признать истинными, знак перестает быть репрезентацией внешней реальности, а мир (Рим) становится пространством циркуляции знаков, «империей знаков» (Барт), превращается в мир симулякров, которые поглощают реальность, создавая гиперреальность, в которой нет грани между 62 реальным и имагинативным (воображаемым): «И вот теперь толмач был в Риме, а все опять оказывалось копией – и скульптуры в ватиканских музеях, и статуи ангелов Бернини на [Ponte San Angelo], и Марк Аврелий на Капитолийском холме, и египетский обелиск перед [Santa Trinita dei Monti], а настоящее снова нужно было где-то ходить и искать. Даже Тибр казался плохой копией какогото другого, исчезнувшего, настоящего» (184). Утрата ощущения подлинности разрешается в романе М. Шишкина введением детских воспоминаний, свидетельствующих о чувственной неотчуждаемости ощущения подлинности существования. М. Шишкин стремится с максимальной точностью передать топологию Рима, что выражается в номинации улиц, площадей, фонтанов на итальянском языке, а переход в их номинации на русский свидетельствует о смене субъектов сознания (Гальпетра) и выходу к общечеловеческой истине. Эти воспоминания (появление Гальпетры) трансформируют образ Рима в символ (третий Рим в романе) метафизической неуничтожимости бытия и одновременности существования: «… если и есть где-то настоящее, то ищут его не там, где потеряли, а в Риме, в котором что-то не так со временем – оно не уходит, а набирается, наполняет этот город до краев, будто кто-то воткнул в слив Колизей, как затычку» (476). «И Рим спит, город мертвых, где все живые» (477). Эту неуничтожимость обеспечивает искусство, а автор-творец выступает в роли проводника на пути к поиску истины: «Где вы? Идите за мной! Я покажу вам травку-муравку!» (478). Экзистенциальные концепции в реалистической прозе могут быть представлены романом «Свобода» М. Бутова, в котором возможность подлинного существования понимается как индивидуальная проблема личности в условиях подавляющих личность социальных обстоятельств 1990-х годов. В романе абсурд социальной жизни возможно преодолеть через самопознание, выход в культуру и историю. Такой духовный выход из травмирующих жизненных обстоятельств осознается как начало возвращения в жизнь для обретения идеала, которым в финале романа становится семья. 63 Реалистическая проза с религиозным компонентом Обращение русской литературы к религиозной проблематике и религиозному сознанию во второй половине ХХ века берет начало в прозе конца 1960-х – 1970-х годов. В 1970-е годы она развивается в прозе В. Максимова («Семь дней творения», 1975) и Ф. Горенштейна («Псалом», 1975). В 1990 – 2000-е годы религиозная проза и проза с религиозным компонентом стала особым явлением в литературе: «Джвари» В. Алфеевой, «Инвалид детства» О. Николаевой, «Рождение» А. Варламова, «Бесогон из Ольховки» (2005) В. Лялина, «Дыханье ровного огня» (2005) Т. Шипошиной, «Покров», «Паломники» А. Варламова, «Бог дождя» (2007) М. Кучерской и др. В современной светской религиозной прозе при сохранении реалистических принципов изображения тип героя, как правило, неофит, и все, что связано с новой для него средой и системой религиозных ценностей, он только учится воспринимать, преодолевая штампы светского мира, поэтому в этой прозе важны мотивы «порога», «перехода» в этот новый мир, чтения Библии, духовного пения, разговоров со священнослужителями, духовных разговоров о Боге, прозрения, совершения бескорыстных и богоугодных деяний (лечение, помощь и т.д.). Так, в повести «Дыханье ровного огня» (2005) Т. Шипошиной рассказ о студенческой жизни будущих врачей соединяется с открытием православного пространства жизни. Главная героиня Настя, интуитивно чувствующая присутствие Христа, пытается организовать свою жизнь и отношения с другими по христианским принципам, а в финале приходит к вере окончательно и навсегда. От культуры к религии: роман М. Кучерской «Бог дождя» (2007) Повествование организовано как рассказ близкого героине сознания. Частная позиция безымянного рассказчика обнаруживается в ограниченности его кругозора, погруженного в эмоциональ64 ную историю персонажа. Фабула охватывает 6 лет жизни героини: от 18 до 24 лет, основные сюжетные события разворачиваются в России во второй половине 1980-х годов с выходом в эпилоге в пространство Торонто, куда героиня уезжает для обучения в аспирантуре. Социальные обстоятельства времени воссоздаются косвенно (в вузе плохо топят, по телевизору выступает Горбачев, эпоха кооперативов, первых публикаций русских писателей-эмигрантов), поскольку главный сюжет связан с внутренними исканиями героини. Повседневная реальность предстает в развитии ольфакторых (обонятельных) мотивов как отталкивающая (запахи пота, перегара). Толчком для воспоминаний 18-летней студентки-второкурсницы Ани становится смерть профессора Журавского, читавшего курс античной литературы. В воспоминания входят случайное посещение лекции, момент выбора филологической специализации, посещение библиотеки, чтение Гёльдерлина и «Энеиды» Вергилия, опека школьного учителя, подготовка к поступлению, занятия с репетитором, отношения с подругой Олькой, одноклассником и однокурсником Глебом. Аня вспоминает свои впечатления от лекций Журавского, размышляет над его личностью: «профессора в универе не просто любили, уважали – его обожали – с затаенным ужасом и восторгом, именно как вестника иного мира. Даже начальство терпело его странности и прощало ему все – так прощают юродивых. С каких заоблачных высей он спустился, из каких приплыл к ним земель? Толком ничего не было известно. <…> Облик его дышал немыслимой, незнакомой ни по кому другому, свободой. <…>…был ли он христианином? Был ли православным?»59. Смерть профессора переживается как апогей собственного жизненного кризиса, поскольку именно с личностью профессора героиня связывала смысл своего существования. Начало кризиса и его причины не доступны пониманию героини: «Отчаяние и какаято непонятная, безадресная злоба поднимались и комкали душу, самое ужасное, что причин этому отчаянию и злобе не было ника59 Кучерская М. Бог дождя. URL: http://loveread.me/read_book.php?id=36539&p=1 (дата обращения 09.09.2017). Далее текст цитируется по этому источнику. 65 ких. Почему ей так грустно? Почему так гадко, тошно так? Она не знала, она не могла понять, снова и снова приходя все к тому же. Жизнь ее не имела ни малейшего смысла. Жизнь ее на фиг никому не была нужна. Пора было кончать этот затянувшийся праздник». На уровне авторского сознания кризис связан с утратой ценностного центра, что подчеркивается лейтмотивом жары, духоты. Духовная маета завершает внезапным прозрением и осознаем: «все, что с ней происходит, никакая не депрессия, а мука безбожия». Это открытие и заставляет Анну отправиться на дачу: «Она ехала на дачу. Ехала умирать, и в этом у нее не было ни малейших сомнений». В минуту кризиса и смертельного страха героиня обращается к богу с мольбой о помощи и переживает внезапное откровение «внезапно раскрывшимся зрением Аня разглядела: далекий краешек неба, пусть недосягаемо, но неизменно, но всегда…». С этого момента начинается ее путь к вере. В фабуле автор воспроизводит алгоритм приобщения к вере: озарение – встреча с верующим – чтение специальной религиозной литературы с пересказом идей (чтение книга Архимандрита Киприана) – чтение Евангелия – посещение церкви и участие в службах – встреча со священнослужителем (отец Антоний) – крещение – первый религиозный кризис (ощущение богооставленности) – беседы с отцом Антонием – исповедь – искушение мирскими радостями (посещение концертов хиппи) – чтение укрепляющих веру религиозных книг с цитированием текстов). В фабулу вводятся встречи с верующей одноклассницей Петрой, с новыми «православными знакомыми», посещение монастыря, функция которых как подтверждение правильности выбранного пути («там, в монастыре, таился другой мир, иначе текло время, там было счастье и свет»), так и его типичности. Светская реальность и связанная с ней проблематика учебы, отношений с родителями отходит на второй план, как и реальность мировой и отечественной культуры: «Слышать не могла этот шипящий немецкий язык, читать, извините за выражение, «Декамерон», просто физически не в состоянии была дальше купаться в этой мерзости… <…> чем полнее она жила этой тайной церковной жизнью, тем 66 более одинокой чувствовала себя в мире университетском, дружеском, мире, в котором проводила гораздо больше времени, однако времени, как ей казалось тогда, удручающе пустого. Училась она все равнодушней. Фонетика, интонация, мелодика немецкого языка – нет, совсем другие мелодии и ритмы волновали ее сердце». В сюжете романа открываются особенности характера и сознания героини. С одной стороны, Аня – еще не сформировавшаяся и не самодостаточная личность, чья внутренняя эмоциональная жизнь и сознание хаотичны и могут быть структурированы только извне. Героиня нуждается в завершении авторитетным Другим. С другой стороны, это эгоцентрическое уединенное сознание (на периферии ее сознания существуют родители, время, социальная и частная жизнь Других), поглощенное собственными проблемами и не способное к реализации с Другими (только бабушка). Аня – интровертивный тип сознания, замкнутый на себе и болезненно переживающий все, что касается ее ценностей (отношения с подругой). Кругозор героини ограничен собственным эго. Обостренное чувство собственной уникальности и поиски завершения рождают желание принадлежать к особенным, посвященным, к интеллектуальной и духовной элите, отсюда решение поступить на филологический факультет, где «ее охватывало ощущение приобщенности – к самому важному, почти святому…». Это желание поддерживается и культивируется на факультете «на это счастливое преображение плебеев в патриции намекали и все их преподаватели, осторожно, но недвусмысленно давая понять: подлинными аристократами духа, аристократами от культуры становятся лишь знатоки языков, читатели Тацита и Гете. Сыворотка элитарности незаметно впрыскивалась в кровь, еще немного – и вы тоже будете иными, лучшими, чем сейчас, чем все…». Иррациональность и спонтанность эмоциональных реакций определяют эмоциональную неустойчивость, экзальтированность и необходимость изображения в сюжете маятника внутренних колебаний на разных уровнях существования: то бежит от веры («в Глебовой церкви царит духота и смерть»), то истово погружается в нее, то восхищается работами отца Киприана, то ругает, то погло67 щена учебой («бросилась в учебу, обожание Журавского, жила от лекции к лекции, писала на бесконечных карточках новые слова…»), то «слышать не могла этот шипящий немецкий язык, читать, извините за выражение, «Декамерон», просто физически не в состоянии была дальше купаться в этой мерзости…», то любит и не может дня прожить без отца Антония («ее привязанность к батюшке незаметно дошла до болезненности»), то «Об отце Антонии Аня забыла», то каждый день ходит в церковь, то «Она перестала ходить в церковь вовсе», то истово верит, то совершает поступки, недопустимые для верующего (пьет, увлекается роком). Сметенное сознание героини в период исканий («тогда она не отдавала себе отчет ни в чем») предстает «бессознательным откликом на бессмысленность, безлюбие, но еще сильней – на его исчезновение, на эту не-объ-ясни-мость. Вино затыкало этот вой по ушедшему». В центр сюжета выдвигается история взаимоотношений главной героини Анны и 38-летнего священника отца Антония как история духовного сближения и личностного узнавания, в процессе которой Анна постепенно учится осознавать разные лики любви: от телесной до бескорыстной. На первом этапе отношений Анна попадает под обаяние отца Антония, их разговоры становятся для нее способом подтверждения собственного бытия в мире как истинного: «Это было подобно упоительнейшему наркотику, пока наконец срок его действия не истекал, пока все батюшкины слова и ее чувства не выдыхались – тогда Аня шла в храм за новой дозой, новым болезненным и сладким уколом подлинности». Возникает необходимость использования семантической конструкции «текст в тексте» (письмо отца Антония, дневник героини) как документальных подтверждений истинности переживаемых чувств и состояний. героиня проделывает путь от идеализации отца Антония к пониманию его человеческих слабостей, к открытию его человеческой сути, а влюбленность перерастает в большое чувство: «Эта новая, крепнущая связь была ничуть не слабей той, духовной, установившейся на исповедях – а вместе с тем оказалась полна какой-то неведомой, захватывающей с головой, чарующей сладости, мягкого, ласкающего душу света». 68 В рамках сюжета эта коллизия и метания Анны не могли быть разрешены как в силу греховности поведения отца Антония, так и в силу неспособности ни одного из героев к самопожертвованию во имя любви. В этой ситуации алкоголь становится для них способом бегства от реальности. Метания Анны завершаются пониманием сужения горизонта видения и чувствования жизни: «Жизнь ее только потому и имела хоть какой-то смысл, что могла быть рассказана ему. Она и сама не заметила, когда обретенная той смертной дачной ночью бесконечная перспектива замкнулась и схлопнулась на общении с ним, единственным на земле родным ей человеком». Автор разрешает эти противоречия фабульно, отправляя Анну в Канаду для учебы в аспирантуре. Отъезд в Канаду приводит к разрыву тех немногочисленных связей с другими людьми, которые остались в России, они для Анны «умерли, просто умерли эти люди». Исчезновение религиозной проблематики в финале романа свидетельствует о том, что героине так и не удалось «пробиться к Божественному замыслу… услышать и открыть в себе свою настоящую песню. Потому что то, что ты пел до сих пор, было совсем не твоей – чужой песней, случайным пошлым мотивчиком, подхваченным на улице. Но в том, оказывается, и состояло «спасение» – запеть собственным голосом, встретиться с подлинным собой, встретиться с Господом и с другим человеком». В финале романа в символическом сне Анна ищет отца Антония, но не может его найти, что становится знаком так и не обретенного героиней собственного ценностного центра в бытии, но оставляет возможность для его дальнейших поисков. К прозе с религиозно-философским сюжетом можно отнести и целый ряд рассказов А. Варламова60: «Ангел», «Покров», «Паломники», «Таинство», «Связь», «Заступница», «Кальвария. Карпатская быль», «Случай из жизни Николая Петровича», «Сочельник», 60 «Рассказы «Покров», «Сочельник», «Мытарь», «Таинство», «Лавина», «Лох» позволяют говорить о присутствии религиозных интенций в реалистическом методе А. Варламова» См.: Федорова Т.А. Поэтика прозы Алексея Варламова. Автореф. дисс. канд. филол. наук. Астрахань. 2012. URL: http://cheloveknauka.com/ poetika-prozy-alekseya-varlamova (дата обращения 19.04.2017). 69 «Лавина», «Лох», «Мытарь»61. Другой ряд рассказов А. Варламова генетически восходит к сюжетной ситуации «вхождения в жизнь», которую во второй половине ХХ века исследовала «молодежная проза» конца 1950 – начала 1960-х годов. Это определяет социальную и мировоззренческую типологию героев его прозы: школьники («Тараканы»), студенты и выпускники вузов («Гора», «Паломники»). А. Варламов сохраняет реалистическую доминанту в изображении действительности, религиозная проблематика связана с одним из вариантов духовного самоопределения человека в быстроменяющемся социальном мире. Герои рассказов писателя находятся в ситуации поиска смысла персонального существования («Шанхай», «Попугай на Оке», «Паломники», «Покров» и др.) и обретения новой идентичности. Действие рассказа «Паломники» – начало 1980-х годов, о чем свидетельствует исполняемая одним из персонажей песня «Рок-н-ролл мертв, а мы еще нет» из альбома Б. Гребенщикова 1983 года. Геройрассказчик занимает позицию вспоминающего сознания и характеризует духовную атмосферу времени, отсылая к Екклезиасту, как «томление» духа, от которого «все вокруг ударялись кто во что горазд: в буддизм, экзистенциализм, хатха-йогу, рок-музыку, астрологию, оккультизм, спиритизм, анекдоты, адюльтеры, вольнодумство и квазидиссидентство, в писание стихов и прозы, валяли дурака, хиппействовали, рано женились и быстро разводились, бражничали, блудили и, сами того не ведая, приближали катастрофу…». Рассказчик характеризует себя как «экскурсанта и шалопая, христианствующего пижона», а студенческую среду, к которой принадлежит, как глухих «к таинствам православной веры, покаянию, посту и молитве» «молодых охломонов», «беззастенчиво предавшихся нехитрым радостям в студенческой жизни», выделяя Павла Благодатова как личность, способную «сохранить себя и противостоять искушениям и соблазнам эпохи». Благодатов и предлагает совершить пешее паломничество из Москвы в Загорск (ныне Сергиев-Посад) в Троице-Сергиеву Лавру 61 Рассказы «Покров», «Сочельник», «Мытарь», «Таинство», «Лавина», «Лох». URL: http://bookscafe.net/read/varlamov_aleksey-kak_lovit_rybu_udochkoy_sbornik248322.html#p9 (дата обращения: 19.04.2017). 70 на праздник Успения святой Богородицы. В фабульной ситуации автор соединяет героев, связанных узами дружбы, но разной духовной ориентации: Верующий Павел и атеисты: герой-рассказчик и Хо (Малой). Герой-рассказчик отправляется в путь, погруженный в проблематику частной жизни и своих отношений (его отвергла любимая женщина), «чтобы заглушить свою боль» и оценивает предстоящее «даже не анахронизмом, а обыкновенным пижонством». В сюжете рассказа путь в Лавру организован ка испытания героев мирскими соблазнами (еда, женщины, соблазн быстро доехать до Загорска), которое они не выдерживают, употребляя спиртное: «Бутылка кончилась неожиданно быстро, я достал из рюкзака вторую. Над нами все ярче горели звезды, душа неслась в рай и просила добавки, и тогда наш предводитель со вздохом вытащил из своей котомки третью, после которой не было уже ни тепло, ни холодно, и Малой стал рваться и призывал нас найти где-нибудь краски, зачеркнуть на всех дорожных указателях похабное слово «Загорск» и написать наш знаменитый лозунг – «Долой ссученных безбожников!»». Герои опаздывают в Лавру, но успевают к шествию верующих. Ситуация участия в духовном единении множества людей рождает в героях экстатическое состояние и заставляет пережить религиозный катарсис, полностью совпадая со смыслом праздника Успения как преодоления нашей смертности: «Шествие остановилось у двери, пение сделалось еще стройнее и сильнее, и я тоже пел со всеми, уже ничего не помня и не ощущая обыденного, но точно растворяясь в этой толпе и извне чувствуя, что душа и в самом деле христианка, а Дух дышит, где хочет, — и все глядел, глядел на колыхание огней в застекленных свечах в руках у монахов». В финале герою-рассказчику становится доступным понимание, что «никогда мы не были так близки к Богу и никогда не были так открыты наши сердца, и мне бесконечно жаль, что время этой душевной неопытности и открытости безвозвратно ушло». Ситуация духовного кризиса организует сюжет рассказа «Покров» 62. Фабула моделирует события одного дачного дня, прихо62 А Варламов «Покров». URL: https://www.litmir.me/br/?b=213568&p=5 (дата обращения 19.04.2017). Далее текст цитируется по этому источнику. 71 дящегося на праздник Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября): герой рассказа 30-летний Максимов неожиданно для себя переживает «странное, растущее беспокойство в душе, и обычное его состояние довольства собой из-за каких-то мелочей уступало место необъяснимой безрассудной тоске», переходящей в «глухую сосущую боль». Герой вырос без родителей (они отсутствует в кругозоре героя), воспитывался бабушкой. В сюжете рассказа причины тоски связаны с утратой поколенческой связи (воспоминания о бабушке), что рождает состояние потерянности и одиночества в мире, которые дополнительно усиливаются мотивами бесцельности, холода, темноты, неустойчивости существования (дрожащие огоньки). В воспоминаниях герой переживает две ситуации: первая – посещение умирающей бабушки в больнице, вторая – отказ от нее в детском саду. Обе ситуации ставят проблему духовных и нравственных возможностей человека в реальности, путей преодоления страха перед ней и права человека на ошибку. Максимов пытается понять, откуда человек черпает силы для того, чтобы жить в этом мире: «Откуда были силы у моей бабушки каждую весну ездить на дачу и копать огород, мирить драчливое семейство, откуда были у нее силы в войну вывезти малых детей в эвакуацию и спасти их от голода?». Первый вариант ответа – от Бога, но бабушка отказалась от бога, «отреклась от Него, выбросила все иконы, когда муж от нее ушел». И Бог не исполняет желание бабушки дожить до лета. Отрицательный ответ дополнительно аргументируется в сюжете историей попа, умершего в деревенском туалете. Второй вариант ответа – социальный коллектив (армия), но и он опровергается в сюжете историей беглого солдата, у которого до окончания службы оставался всего месяц, но он не выдержал и бежал с оружием из части. Страх быть осмеянным коллективом заставил и героя предать бабушку. Третий вариант – вера (посещение церкви)63. Однако Максимов не способен пережить единство в вере, поскольку может воспри63 «Он (праздник Покрова. – В.С.) говорит о том, что единство в вере стоит выше любых человеческих конфликтов, любых национальных стереотипов и антипа- 72 нимать только внешние стороны реальности, всюду предстающей в своей неприглядности: «Церковь была слабо освещена, внутри было сыро, на грязных с разводами стенах висело несколько икон, виднелись аляповатые фрески, и высокими голосами пели старухи». Невозможность найти защиту и в вере (посещение церкви) рождает озлобленность на мир, уничтожает человеческое, приводит к торжеству животного. Мотив одичания роднит состояние героя с состоянием беглого солдата: «И он почувствовал солдата, за которым шла охота по всей округе, почувствовал его тоску, озверение и вместе с этим ощутил в самом себе поднимавшуюся злобу к пению, к нежным старушечьим голосам и непонятным словам на чужом языке, к свечам, иконам, ко всему этому благолепию среди сырости и развала и с трудом удержался от того, чтобы не выскочить на середину храма и не закричать, что его обидели, что на его долю ничего не осталось — ни веры, ни безверия, ни сомнения, что он мертвым родился и ему страшно жить мертвым, страшно смотреть на них, спасшихся, сохранивших себя, так же страшно, как загнанному солдату внутри сжимающегося кольца облавы, как страшно было бабушке не дожить до лета». Последний вариант ответа возникает в ситуации встречи с деревенским стариком, в разговоре с которым возникает тема личной ответственности человека. Сюжет воссозданная в сюжете смена противоположных состояний переживаемых героем (вина перед бабушкой, обозленность на мир, человеческое тепло от встречи со стариком) рождает прорыв к пониманию, объективную самооценку: «От ветра, холода и одиночества Максимов почувствовал страшную боль и невыносимость быть самим собой тридцатилетним, никчемным человеком, обслуживающим холеных, брезгливых интуристов в экскурсионном бюро. Он тыкал шестом в дно, ища глубину, но шест мягко касался ила, застревал в нем, и слабо плескала о борт лодки вода». Кризис рождает иррациональное поведение героя: он бежит на солдата охранения от настигающего его поезда и молодой солдат от страха стреляет. Максимов в момент смерти обретает утрачентий». См. Иерей А. Пикалёв, URL: https://azbyka.ru/days/p-o-prazdnike-pokrovapresvjatoj-bogorodicy (дата обращения: 19.04.2017). 73 ное родство с бабушкой и переживает «страшный холод земли, холод рельсов, холод гауптвахт, обмелевшего озера, полуразрушенной церкви и могилы на Введенском кладбище, холод отхожего места на станции Обираловка — вселенский холод собственного сердца и свою беззащитность перед этим холодом, и он стал биться на носилках, судорожно мотая головой и хрипя». Но переживаемый бытийный холод не становится в рассказе тотальным, он компенсируется заботой Другого: «кто-то из солдат скинул с себя шинель и укрыл его. Беглец еще несколько раз поворочался, а потом затих». Финал рассказа ставит проблему необходимости осмысленного существования, в котором человек ответственен за свое бытие, за связи с другими людьми, становящимися покрывалом заступничества и утешения. Как отдельное явление религиозной прозы конца ХХ – начала XXI веков («иерейская проза») можно выделить произведения священников Н. Агафонова, А. Макиевского, А. Торика, А. Шантаева. Я. Шипова. Рядом критиков и литературоведов предлагается теоретическое обоснование религиозного литературоведения как отдельной отрасли знания и этой прозы как отдельного литературного направления64. «Жестким», «жестоким» реализмом критики обозначили реалистические произведения с натуралистическим компонентом, которые появились в русской прозе рубежа 1980–1990-х годов и создаются и в настоящее время. В произведения такого рода воплощаются авторские представления о том, что социальный (человеческий) мир представляет собой вариант внеморального животного существования, где люди руководствуются в своей деятельности биологическими инстинктами. Как правило, действие разворачивается в маргинальных пространствах социального «дна», произведения насыщены натуралистическими подробностями и описаниями, детальным изображением негативных сторон жизни («Смиренное кладбище» (1987) и «Стройбат» (1989) С. Каледина, 64 Тарасов А.Б. Духовная жизнь человека: опыт научного осмысления (религиозное литературоведение) // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». 2007. № 1. URL: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/1/tarasov_aв (дата обращения 14.09.2017). 74 «Одлян, или Воздух свободы» (1989) Л. Габышева, «Дурочка» (1998) С. Василенко, «Время ночь» Л. Петрушевской, «Минус» (2001) Р. Сенчина, «Жизнь, которой не было» (2001) А. Титова, «Вечная мерзлота» (2004) Н. Садур, «Жунгли» (2010) Ю. Буйды и др.). Значительная часть прозы о локальных войнах, написанная в 2000-е годы, может быть отнесена к этому течению. Сложившийся в критике спектр представлений о прозе Л. Петрушевской чрезвычайно широк: от определений «другая», «новая», фактически означающих ее понимание как постмодернистской (С. Чупринин, А. Зорин, А. Михайлов, О. Дарк, Н. Иванова, Е. Щеглова), до атрибутирования этой прозы как феминистской (И. Слюсарева, Е. Щеглова, И. Савкина, Г. Писаревская, И. С. Скоропанова) или поколенческой («проза сорокалетних»). С другой стороны, некоторые отечественные и западные исследователи относят ее рассказы к реалистической прозе (В. Камянов, Л. Милн)65. С этими точками зрения полемизирует определение творчества писательницы как «постреалистического» (Н.Л. Лейдерман, М.Н. Липовецкий). Множественность прочтений связана со своеобразием способов порождения художественной реальности в прозе Л. Петрушевской66, основанных на редукции как основном принципе поэтики. Художественная реальность прозы Л. Петрушевской характеризуется особенностями именования персонажей и своеобразием их экспонирования, «формул» введения в сюжет. Введение персонажей в художественный мир ее произведений организовано так, чтобы максимально их обезличить, придать им статус универсально-родового, а не индивидуально-неповторимого существа. Именование персонажей колеблется от усеченного (только имя) до потенциальной безымянности, свидетельствующей о деперсонализации героя. Максимальная степень персонализации, проявленная в 65 Л. Милн утверждает, что ее проза написана «в мрачной реалистической манере». См.: Lesley Milne Ghosts and Doll: Popular Urban Culture and the Supernatural In Liudmila Petrushevskaia’s Songs of the Eastern Slavs and The Little Sorceress // The Russian Review. April 2000. Р. 59. 66 Первое собрание сочинений Л. Петрушевской в пяти томах выходит В 1996 году. Пятитомник включает 2 тома прозы, 1 том – драматургии и 2 тома сказок. 75 рассказах, ограничивается указанием на возраст, социальную функцию (проститутка, сослуживец), место в системе семейных связей (теща, муж, свекровь, ребенок, мать, вдова) или половую принадлежность (мужчина и женщина). Отсюда устойчивость и универсальность оппозиций системы персонажей ее прозы: мужчина – женщина, родители – дети, бабушки – внуки. Можно выделить четыре группы рассказов по характеру именования героя как способу его персонализации: 1) рассказы, где имя имеют два персонажа; 2) рассказы, где имя имеет один персонаж; 3) рассказы, где персонажи полностью безымянны; 4) рассказы, где имена персонажей замещены по принципу постмодернистской интертекстуальности. Отказ от постижения индивидуально-неповторимого (уникального) необходим Л. Петрушевской для редукции всей полноты и многомерности внутренней жизни человека до первичных эмоциональных и психических реакций и самоощущений, фундаментальных экзистенциалов (М. Хайдеггер): одиночества, страдания, любви, отчаянья и т.д. Эти психические феномены как универсальная и неотчуждаемая составляющая всякого индивида как родового существа становятся предметом изображения в ее прозе и определяют архетипичность состояний, в которых переживают реальность ее герои67. Такая редукция отчетливо выявляет «монический» взгляд автора на человека, анимизм как архаический принцип изначального единства души и всякого тела ()68. Человеческое (духовное) и животное (биологическое) соотносятся в прозе Л. Петрушевской особым образом: сохраняя реалистическое единство этого комплекса и иерархию духовного как высшего уровня личности (не исчерпанность в инстинкте и тяга к идеальному), писательница редуцирует любые проявления духовного до минимума, что приводит к эффекту уплотнения, «удвоения» телесного, при котором 67 М. Липовецкий Трагедия и мало ли что еще // Новый мир. 1994. № 10. URL: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1994/10/knoboz01.html (дата обращения: 08.01.2014). 68 Об анимизме индивида см.: Тейлор Э.Б. Первобытная культура. М.: ИПЛ, 1989. С. 213. 76 биологические формы существования приобретают иллюзию единственных, хотя духовное в снятом виде присутствует в персонажах ее рассказов, просвечивая через соматическое. Человек в прозе Л. Петрушевской «соматизируется» (Ю. Кристева) и предстает как состояние, которое не зависит от социального и исторического времени, поскольку детерминировано не ими, а телом, что неизбежно определяет натуралистичность ее героев и реальности69. Такое истолкование современности и человека сближает Л. Петрушевскую с интерпретацией внетекстовой реальности постмодернистами (М. Фуко, Ю. Кристева)70, но не превращает художественный мир ее прозы в постмодернистский: дойдя в редукции характера до грани телесного, Л. Петрушевская останавливается на этой границе телесного самоощущения как последнем способе самоидентификации существования человека в реальности, поэтому натуралистические детали в художественном мире ее рассказов являются знаками границы, за которой начинается не человеческое существование. Несмотря на редукцию человека до индивида, он сохраняет у Л. Петрушевской свою тайну, присутствуя в художественной реальности одновременно «на поверхности» (первичные реакции, доступные внешнему наблюдению рассказчика) и в глубине своей психической жизни, о которой можно только догадываться. Массовый человек оказывается, с одной стороны, «достаточно примитивным сознанием» («История Клариссы»), а с другой – демонстрирует невозможность познания полноты своей внутренней жизни, что вполне укладывается в границы интуитивизма71. С этим связан модус вероятностности в финалах рассказов: «как будто», 69 Ж. Липовецки относит к чертам современного общества массовое опустошение, апатию, оперативное безразличие, эффект «обновленного тела». «Повсюду мы видим неприкаянность, пустоту, неумение чувствовать…» См.: Липовецки Ж. Эра пустоты. Очерки современного индивидуализма. СПб.: Владимир Даль. 2001. С. 119. 70 См.: Кристева Ю. Душа и образ // Интенциональность и текстуальность. Томск: Водолей. 1998. С. 252–277. 71 «Самое существенное в инстинкте не может быть выражено в терминах интеллекта, а следовательно, и проанализировано» См.: Бергсон А. Творческая эволюция. М.: КАНОН-пресс. Кучково поле, 1998. С. 179. 77 «никто не знает», «может быть», «очевидно», «не подозревая», «вероятно». Весь спектр колебаний между этими началами единого присутствия (от полного совпадения с животным до совпадения с человеческим и множество промежуточных гибридных форм), изображаемый в прозе Л. Петрушевской, определяет и различную авторскую оценку персонажей в пределах конкретного произведения. Художественным манифестом, декларирующим смерть субъекта, становится рассказ «Такая девочка, совесть мира», открывающий пятитомник, поскольку в его сюжете открывается метафорическая смерть субъекта как Другого (Раиса) и смерть субъекта как Я (рассказчица). Такой редуцированный герой не может существовать во всей полноте реальности и с неизбежностью требует редукции внетекстовой «социофизической» (С.П. Смирнов) реальности при ее переводе в художественную. В рассказах Л. Петрушевской образы природного ряда не вводят онтологическую реальность в художественную, поскольку присутствуют в ней не в онтологической самоценности, а как метафоры существования человека («Через поля»), т.е. антропологически. Социальный и исторический ряды внетекстовой реальности в рассказах потенциально устремлены к абсолютной редукции и их присутствие минимально художественно оформлено. По характеру интродукции этих аспектов внетекстовой реальности можно выделить четыре группы рассказов. Первую составляют рассказы, в которых соотнесенность изображаемого с социальным или историческим временем осуществляется через введение в нарратив знаков культуры (материальных, нематериальных) и устойчивых именований, ассоциирующихся с определенным временем: «Еврейка Верочка», «Али-Баба», «Я люблю тебя», «О, счастье», «Смысл жизни», «Такая девочка, совесть мира». Вторую составляют рассказы, в которых такими знаками становятся речевые штампы определенных социально-исторических эпох: «Дама с собаками», «Мистика». Третью группу образуют рассказы, в которых интродукция социальных и исторических пластов внетекстовой реальности осуществляется путем указания устойчивого места персонажа в социальной системе или характера его ин78 тересов, определяемого эпохой: «Элегия», «Сережа». В четвертую группу входят рассказы, где редукция социального и исторического рядов внетекстовой реальности осуществлена до нуля: «Кто ответит», «Нюра прекрасная», «Грипп», «Через поля», «Темная судьба». Из всего многообразия различных пластов внетекстовой реальности в прозе Л. Петрушевской максимально представлена бытовая (повседневная) реальность, которая изображается подробно, с нагромождением мелочей как единственная, в которой разворачивается существование современного человек. Таким образом, в прозе Петрушевской пространство и время текста тяготеет к максимальному освобождению от примет онтологического, социального и исторического для создания соматического пространства существования. Трагичность присутствия в таком пространстве задается его включением в контекст смерти как экзистенциальной границы всякого телесного существования. Это включение осуществляется у Л. Петрушевской несколькими способами: 1) в экспозиции рассказов, когда границы существования заданы сразу и именно в их контексте ведется рассказ: «Дама с собаками», «Кто ответит»; 2) в финалах рассказов, где посюсторонняя реальность «здесь» соотносится с потусторонней реальностью «там»: «Я люблю тебя», «Еврейка Верочка»; 3) в композиционном приеме обрамления: «Мистика», «Сирота», «Грипп», «Нюра прекрасная»; 4) смерть может войти и в состав сюжетного события: «Медея», «Две души». Функции смерти как экзистенциальной границы существования в рассказах заключаются в указании на ценность всякого человека и трагичность его отдельного существования и в выявлении истинного (идеального), не проявленного в обыденной реальности: «Я люблю тебя», «Еврейка Верочка», «Мистика»72. Редуцирование реальности до сущностных экзистенциальных состояний и ситуаций связано со стремлением автора к осмыслению предельных универсалий существования. Однако наличие экзистенциальной составляющей в художественной реальности 72 «Порог между жизнью и смертью – вот самая устойчивая площадка ее прозы». См.: Лейдерман Н., Липовецкий М. «Современная русская литература. 1950– 1990-е годы»: в 2 т. М.: ACADEMA, 2003. Т. 2. С. 584. 79 рассказов Л. Петрушевской существенно отличается от истолкования экзистенциального, например, у Ю. Трифонова, где она понимается как прорыв к совершению этического поступка или осознания этической вины Взаимодействие человека и реальности (сюжетная ситуация) организовано в прозе Л. Петрушевской через случай и разворачивается в пространстве и времени «случайных встреч» (М.М. Бахтин), в топосах чужого дома («Светлана», «Свобода», «Как идет дождь»), вагона электрички («Слова»), больничной палаты («Дитя», «Бедное сердце Пани», «Скрипка»), ресторана («Странный человек», «Платье»). В силу господства смерти и случайности повседневная реальность идентифицируется с феноменами отчуждения, стихийности, иррационализма, хаоса, бифуркации, абсурда, открывающих алогизм и неразумность существования, она выступает как реальность, в которой господствует непознанная и непредсказуемая случайность «темной судьбы»: «Темная судьба», «Еврейка Верочка». Такое существование предстает как немотивированная смена состояний: «от черного отчаяния в душе» до любви: «… одно состояние не может длиться вечно, оно неизбежно порождает следующее состояние, которое опровергает предыдущее» («Свобода»). Становясь способом выявления судьбы человека как неизменяемой характеристики его положения в мире, реальность бытового случая обретает статус универсальной и подчинена выявлению причин распадения связей между людьми. Осуществляемая в прозе Л. Петрушевской редукция человека и реальности объясняется характером современного мира. Цивилизация антигуманна, поскольку главной задачей человека в ней стала борьба за простое биологическое выживание и продолжение рода («Новые Робинзоны», «Новый Гулливер»). «В наш неестественный век» («Маня») духовное либо разрушается вообще, либо становится соматическим, что и превращает современного человека из личности в индивида, человека массы. Массовое сознание как рожденное в жестокой борьбе за выживание в недрах современного мегаполиса становится предметом исследования в прозе писательницы. От классического «маленького человека», обладающего самосознанием («Бедные люди» Ф.М, Достоевского), 80 Л. Петрушевская осуществляет переход к исследованию обыденного сознания, затерянного в современном мире. Оно разрушено хаосом жизни, принципиально не целостно и не способно к самосознанию, к системному охвату реальности. Растворение индивидуального в родовом и половом позволяет вскрыть основные типы существования современного массового сознания отчужденного от смысла жизни борьбой за существование: механический, биологический и мистический. Первую группу образуют рассказы, в которых разворачиваются биологические формы существования («Отец и мать»). Вторую группу – рассказы, демонстрирующие рассудочность, холодность, автоматизм существования как полную утрату духовного: «Рассказчица», «Платье», «Странный человек», «Н.», «Стена», «Как идет дождь», «Свобода. Третью группу образуют рассказы, в которых духовное присутствует в редуцированном виде. Проявление духовного в неодухотворенной реальности переживается как миг подлинного существования («Через поля», «Слова», «Темная судьба»). И четвертую – рассказы, в которых сопоставляются эти формы или выявляются гибридные варианты существования: автоматизм существования сопоставляется с животным страхом перед цивилизацией («Такая девочка, совесть мира»), половой детерминизм с жертвенностью («Я люблю тебя», «Бессмертная любовь»). Реальность выживания обязательно обнаруживает в прозе Л. Петрушевской свою этическую ненаполненность, поэтому этическое выводится за пределы этой реальности в потустороннюю («Песни восточных славян»). Рассказы этого цикла («Материнский привет», «Рука», «Тень жизни», «Жена», «Фонарик») так же, как рассказы «Мистика», «Сирота», «Такая любовь», восполняют неэтичность существования благодаря помощи с «той стороны». Принцип этического восполнения во всей прозе достраивает видимую неполноту присутствия в редуцированной художественной реальности других рассказов. При этом мерилом этического становится отношение к тварности человека, проявляющееся в способности жалеть другого: «Я кормила своего, любила своего, но дикая жалость к чужому 81 существу вдруг пронзила меня» («Бедное сердце Пани»). «Никакая любовь не мешает этому жалению, это чистая жалость, от которой перехватывает дух» («Такая девочка»)73. Жалость как основа авторского отношения к герою делает сентиментальность основным «модусом эстетического оцельнения» (В.И. Тюпа) человека в рассказах. «Сентиментальная рефлексия» (Г.Н. Поспелов) предполагает последнюю форму еще человеческого отношения, поскольку предполагает открытие человеческой значительности в незначительном. Отсюда и особая роль ребенка в сюжете рассказов Д. Петрушевской. В рассказе «Я люблю тебя» система персонажей воплощает разные варианты существования: он и блондинка – суррогатный тип существования, для которого традиционные ценности жизни (семья, работа, любовь) лишены онтологического статуса и обессмыслены. Сюжет фиксирует распадение современного сознания, в котором идеальным становится телесное (фотография ног, блондинка для него, он для блондинки), а не духовное (отношение жены). Суррогатные отношения (любовник и любовница) противопоставлены реальному миру (их семьи) как рай (поездки с блондинкой за границу) и ад (жизнь в семьях). Он готовит себя к соединению с идеалом (блондинкой), ожидая смерти женыпреподавательницы и не замечая ее жертвенной любви. Ее версия существования – экзистенциальное (несмотря ни на что) служение ему и семье как выполнение своей миссии. Абсурдность как бессмысленность раздвоенного и не цельного существования, в котором пребывают он и блондинка, акцентируется фабульно: присутствием смерти в жизни человека (смерть тещи и самоубийство мужа блондинки). Но смерть одновременно открывает и истинное отношение, прозрение (мертвая жена успела сказать мужу о любви). Но этот прорыв идеального (фотография 73 «Важна жалость к биологическому минимуму жизни. <…> Жалость относится именно к животному началу в человеке, ко всяческой «твари» и к человеку как твари; к духовному, надтварному, свободному началу (там, где человек не совпадает с самим собою, со своим «есть») относится любовь. См.: Бахтин М.М. Эпос и роман. О Флобере. СПб.: Азбука. 2000. С. 287, 289. 82 ног исчезает) не отменяет абсурда бытия, в котором идеальное достигается только ценой смерти и после жизни. Таким образом, проза Л. Петрушевской представляет собой особое образование, возникшее, с одной стороны, в результате редукции реалистической картины мира, а с другой стороны, благодаря диффузии в границах реализма модусов натуралистичности и сентиментальности. Как разновидность реализма предстает и так называемый «грязный» реализм, активно использовавший ненормативную лексику, и натурализм которого связан с половыми сферами человеческой жизни: «Лучшая грудь победителя» (1998) Я. Могутина, «Ум. Секс. Литература» (1998) И. Яркевич, «Больница», «Царица поездов» (2002), «Видоискательница» (2012) С. Купряшина, «Низший пилотаж» (2000), «Срединный пилотаж» (2002), «Верховный пилотаж» (2002), «Занимательная сексопатология» (2002) Б. Ширянова. Определение «неореализм» или «новый реализм» получила проза разных писателей, из которых самыми известными являются О. Павлов, П. Алешковский, В. Отрошенко, Е. Лапутин, С. Шаргунов. Неореалисты декларируют намеренное неприятие постмодернизма, с одной стороны, и критику традиционного реализма, с другой (проза В. Крупина, В. Личутина, Л. Бородина, Б. Екимова). Можно выделить два вектора в развитии этой прозы, первый представлен творчеством О. Павлова, П. Алешковского, второй – прозой В. Отрошенко, Е. Лапутина. В эстетике «тяжелого слова» О. Павлова литература «лишь тогда имеет смысл, когда является поводом к разговору о жизни. Если литература дает повод к разговорам только о самой себе, то она мало чего стоит, она заражена высокомерием, заражена сама собой как “дурной болезнью” – она заразно, она постыдно больна»74. Миссия русской литературы в том, чтобы из всех сил противиться быть литературой, – и она говорила за «тварь бессловесную»75. 74 О. Павлов Рассмеялись смехачи // Павлов О. Антикритика. URL: http://lib.ru/PROZA/PAVLOV_O/pavlov8.txt_with-big-pictures.html (дата обращения 29.09.2017). 75 О. Павлов Дым Отечества// Павлов О. Антикритика. URL: http://lib.ru/PROZA/ PAVLOV_O/pavlov8.txt_with-big-pictures.html (дата обращения: 30.09.2017). 83 В эстетике второго направления «Попытка передать своими словами все многообразие “реальной реальности” – всего лишь вычурный алогизм, очевидная попытка превысить свои природные полномочия. Очень важно, чтобы “человек-описатель” как бы изначально знал свое место, с которого он принципиально не может приблизиться к окружающим реалиям настолько, чтобы хоть с какой-то степенью достоверности отразить их»76. Неореалисты первого направления не отождествляют понятия реальность (предметный, вещный мир) и действительность (одухотворенная реальность), противостоя прагматической ориентации современной цивилизации, в которой утрачено отношение к действительности как к сложной и тонко организованной материи. Так, в рассказе «Конец века» (1995) О. Павлова соединены два плана. Первый – реалистический – воссоздает события в московской больнице ночью 7 января, куда «по скорой» привозят избитого и обмороженного бомжа. В системе персонажей безымянный рассказчик воссоздает разное отношение к доставленному в больницу человеку: пьянство охранников, не желающих в Рождество заниматься пациентом, равнодушие медицинской сестры и врача, готовых выбросить человека на мороз лишь бы не заниматься им: «…доктор всерьез распорядился, чтоб охрана прекратила пьянствовать и подняла его и вытолкала прочь»77. Попытки избавиться от больного разными способами не удаются и единственной, кто начинает заниматься больным, оказывается санитарка Антонина, получающая от рассказчика определение «живая душа». Это единственный персонаж, обладающий в рассказе собственным именем, что связано с ее ролью в сюжете: она получает возможность увидеть истинное лицо доставленного бомжа78. Отсутствие имен у других персонажей необходимо для 76 Нчипоренко Ю., Отрошенко В., Лапутин Е. Честное вранье или замки изо льда. URL: http://www.hrono.ru/text/ru/troe_vran.html (дата обращения: 01.10.2017). 77 О. Павлов Конец века // Павлов О. Казенная сказка. М.: Вагриус. 1999. С. 11. Далее текст цитируется по этому изданию с указанием страниц в круглых скобках. 78 Семантика имени акцентирует не только исходные варианты значения имени («вступающая в бой», «противостоящая», «противница», «просторная», «широкая»), но и отсылает к Св. мученице Антонине, пострадавшей за веру в Христа. 84 создания обобщенного образа человеческого равнодушия как смертельной болезни, поразившей всех, даже тех, кто по роду своей деятельности призван спасать человеческую жизнь. Второй план сюжета о неузнанном Христе открывается после санитарной обработки бомжа, знаками этого плана выступают время (Рождество), мотивы обретения плоти, распятия, воскрешения и исчезновения: «Он лежал в корыте грязной больничной ванны так глубоко и убито, будто висел, приколоченный к ней гвоздями. Что баба силилась отмыть как грязь, но так и не отмыла – свинцовые полосы, черные пятна – были раны. Но такой, израненный, и делался он вдруг человеком, так что у Антонины сщемило несвоей болью сердце» (14). Даже в Рождественскую ночь пришествие Христа остается незамеченным только потому, что он вернулся в облике больного бомжа, и не узнавшее его человечество утрачивает шанс его спасти. Картина мира в новом реализме строится, как правило, на пересечении реалистической и мифологической (архитипической) систем координат, просвечивающих через реалистических персонажей, предметный мир, социальный слой, язык. Отдельное место в литературном процессе 1990–2000-х годов занимает проза «non-fiction» (дневники, письма, биографии, мемуары и др.) с ее установкой на достоверность документа. Появление и активное развитие этой прозы – ответ на кризис литературы вымысла («fiction») и отражение тяготения к достоверности. Собственно литературный статус такой прозы остается дискуссионным79. В художественных произведениях эта установка реализуется в имитации нехудожественного текста присутствует в двух основных вариантах: как авторская («семейно-биографический» роман А. Чудакова «Ложится мгла на старые ступени», 2000, «подлинный автобиографизм» С. Гандлевского в повести «Трепанация черепа»,1999 и А. Сергеева «Альбом для марок»,1997); проза Рубена Гальего («Белое на черном», 2002) и как проза «наивного письма»: роман79 Каспэ И. М. Когда говорят вещи: документ и документность в русской литературе 2000-х: Пре-принт WP6/2010/02. – М.: Издательский дом Государственного университета – Высшей школы экономики. 2010. 48 с.; Иванова Н. Русский крест Литература и читатель в начале нового века. М.: Время. 2011. 380 с. 85 исповедь А. Чистяковой «Не много ли для одной?» (1997) , Бибиш (Х. Сиддикова) «Танцовщица из Хивы, или История простодушной» (2004) и др. «Литература без писателя» (Палиевский), к которой можно отнести и роман А. Чистяковой, с одной стороны, основана на реальных фактах, претендует на отсутствие вымысла (жаровое определение «быль»), с другой стороны, это роман-исповедь, т.е. литературная форма. Механизмы взаимодействия фактуального и фикционального в такого рода текстах направлены на формирование эмоционального горизонта читателя: сила воздействия «наивного письма» определяется имеющимся в нем затекстовым содержанием – всей той жизнью, которая обступает текст, контекстным знанием жизни самого читателя80. Основные отличия такой прозы от «литературной» проявляются уже на уровне графического оформления текстов в нарушении синтаксиса, орфографии, пунктуации, лексики, призванных подтвердить спонтанность, «не литературность» плана рассказывания. Именно так организовано «я»-повествование в романе А. Чистяковой о частной судьбе и жизни женщины в социальных и исторических обстоятельствах 1930-х – конца 1970-х годов81. В процессе рассказывания открывается кругозор этого сознания, его система ценностей, представлений и оценок. Необходимость реализации установки на предельную достоверность проявляется в ограничении кругозора рассказчика малым миром бытовой повседневности, в которой он существует, главные герои рассказа – это персонажи из ближнего круга рассказчика: родители, муж, дети и т.д. Переживание реальности предстает в переживании разноплановой событийности, отсюда и перечислительная интонация рассказывания, вскрывающая хаотичность сознания рассказчицы: «В это 80 «Наивная литература»: Исследования и тексты / Сост. С.Ю. Неклюдов. М., 2001. С. 4–21. URL: http://www.ruthenia.ru/folklore/publications.htm (дата обращения: 17.05.2017). 81 Чистякова А. «Не много ли для одной?» // ДЕНЬ и НОЧЬ. 1997. № 5 – 6. URL: http://www.litmir.me/br/?b=183890&p=33 (дата обращения: 18.05.2017). Далее текст цитируется по этому источнику. 86 время, хоть и страшная я была, но все равно ухаживал за мной маменькин сынок Володя Горлов. Ох, и горе, а не парень! Пригласил он нас с подругой к себе в выходной день, (он жил в центре Новосибирска). День стоял жаркий. Пришли в дом, он не знает, куда и посадить. Пока мать готовила на стол, он нас фотографировал, потом показал альбом. И вдруг слышим, по радио объявляют о войне. Как это подействовало на нас!». Перечисление событий совершенно разного плана в пределах одного фрагмента должно создать ощущение заполненности существования. Оценочный план рассказа открывает коллективистский тип сознания рассказчицы и ее понимание жизни как долга: «Где бы я не работала, никогда мне не делали замечания, потому что работа выполнялась со всем желанием, за что не один раз получала я чек на мануфактуру или отрез на платье, а в войну купить отрез требовались тысячи. <…> И еще сидя в вагоне, я твердо решила, что буду верной женой Степана. Что бы ни случилось с ним, я его подруга до гроба. Я была уверена, что сумею поддержать его в жизни. <…> А я все старалась работать. Меня восьмого марта пятидесятого года премировали Почетной грамотой министерства угольной промышленности. Радость за то, что ценят мой труд, еще больше вливала в меня силу. Я делала все, что могла, не ожидая указаний начальника. И могла всех организовать, чтобы выполнить план, вплоть до породоотборщицы». В процессе рассказывания формируется образ существования героини: борьба за физическое выживание, отношения с противоположным полом, влюбленность, бытовая неустроенность, пьянство мужа и семейное насилие, смерть детей, тяжелый труд. Жизнь и различные стороны существования предстают как единая психоэмоциональная и физическая травма, как боль: «Я обижена на всю жизнь своей судьбой. Но от себя не уйдешь, не уедешь. Сердечная боль всегда и везде с тобой». Сознание рассказчицы не способно в рассказывании обрести дистанцию по отношению к событиям рассказа и извлечь персональный смысл, что определяет и финал, в котором героиня не может ответить на вопрос, сформулированный в заглавии романа: «Судьба ли это? Или неумение жить по-другому? Не разобралась до сих пор». 87 Гипотеза о постреализме В творчестве очень многих крупных писателей-реалистов уже в 1990-е годы обозначились тенденции использования постмодернистской поэтики (А. Битов, В. Маканин, Л. Петрушевская и др.) при сохранении реалистических концепций, что дало основание критикам утверждать, что на рубеже ХХ–XXI веков постмодернистский эстетический потенциал в русской литературе оказывается исчерпан. Так возникает гипотеза о постреализме (авторы Н. Лейдерман и М. Липовецкий) как диффузном взаимодействии, взаимопроникновении реализма, модернизма и постмодернизма, представляющий процесс, «выходящий за пределы одной национальной культуры и характеризующий становление новой масштабной парадигмы художественности и шире: нового типа культурного сознания»82. В основе постреализма «лежит универсально понимаемый принцип относительности, диалогического постижения непрерывно меняющегося мира и открытости авторской позиции по отношению к нему»83. Формирование постреализма исследователи обнаруживают в поздней прозе Ю. Трифонова, в прозе «сорокалетних» В. Маканина, А. Кима, Р. Киреева, А. Курчаткина. В 1990-е годы это проза М. Харитонов, Ю. Буйды, Е. Шкловского. Другое течение выделяемое ими в постреализме – переосмысление религиозно-мифологических систем – Ф. Горенштейн, А. Иванченко, А. Слаповский, В. Шаров. Третье течение названо ими «новый автобиографизм», к нему относятся прозаические произведения С. Довлатова, С. Гандлевского, А. Сергеева, Дм. Галковского, Е. Федорова. 82 Лейдерман, Липовецкий «Современная русская литература. 1950–1990-е годы». В 2 т. Т. 2: 1968–1990. М.: Академия. 2003. С. 584. 83 Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. «Современная русская литература. 1950– 1990-е годы». В 2 т. Т. 2: 1968–1990. М.: Академия. 2003. С. 585. 88 Заключение Таким образом, постсоветская проза в России развивалась в двух социокультурных ситуациях: ситуации слома социальных институтов (1990-е годы) и ситуации стабилизации новой социально-политической и экономической системы (2000-е годы). «Взрыв» художественной системы в 1990-е годы привел к расширению горизонтов прозы: появляются новые герои, исследуются новые реалии и процессы, осознаются новые вызовы времени и новые проблемы, рождаются новые темы и принципы изображения человека в быстроменяющемся мире. В поисках новой постсоветской идентичности переориентируется вся жанровая система русской прозы. Проза обретает реальную историческую полноту, объединяя в единое целое прежде разрозненную прозу эмиграции и метрополии, воскрешая забытые и открывая новые имена. Ведущим литературным направлением становится постмодернизм и его течения (необарокко, концептуализм и его разновидность – соц-арт), а реализм перемещается на периферию литературного процесса и обнаруживает способность к диффузии с другими эстетическими системами – натурализмом, сентиментализмом, модернизмом. На рубеже 1990–2000-х годов эстетический потенциал постмодернизма в русской прозе оказывается исчерпан. В 2000-е годы – этап формальной и неформальной институциализации прозы по адресату (элитарная и массовая), каналам распространения (журнальная, книжная, интернет-литература, другие электронные носители), степени признания (многообразные литературные премии). Снижается интенсивность дискуссий, начинает восстанавливаться системность и собственно эстетический характер литературного процесса, в ходе которого реалистическая проза и ее многочисленные разновидности выдвигаются в центр новой литературной ситуации. Завершается формирование многоуровневого пространства прозы с достаточной сложной системой взаимодействий различных течений и направлений. 89 Можно говорить о том, что современная русская проза находится в начале длительного периода, кристаллизация явлений которого не завершена и главные (генерализирующие) направления находятся в стадии активного становления и развития. 90 ЛИТЕРАТУРА Художественные произведения 1. Астафьев В. Веселый солдат: повесть. Сайт писателя http://astafiev.ru 2. Бабченко А. Алхан-Юрт: повесть 3. Бутов М. Свобода: роман. 4. Варламов А. Покров: рассказ 5. Владимов Г. Генерал и его армия: роман. 6. Гостева А. Притон просветленных: роман. 7. Д. Данилов Горизонтальное положение. URL: http://lithub.ru/book/ 355060. Сайт http://ddanilov.ru/ 8. Екимов Б. Пиночет: повесть. 9. Карасев А. Чеченские рассказы 10. Кучерская М. «Бог дождя»: роман. 11. Маканин Андеграунд, или Герой нашего времени: роман. «Асан»: Персональный сайт писателя. URL: http://makanin.com/ 12. Павлов О. Казённая сказка: повесть. «Асистолия» Сайт писателя http://www.opavlov.orc.ru/ 13. Петрушевская Л. Рассказы. Время ночь: повесть. Официальный сайт писателя: http://petrushevskaya.ru/ 14. Полянская И. Читающая вода: роман 15. Прилепин З. Санькя: роман. Сайт писателя http://www.zaharprilepin.ru/ru/ 16. Тарковский М. Ложка супа: повесть. Бабушкин спирт: рассказ. 17. Улицкая Л. Медея и её дети: роман. Персональный сайт писателя http://www.ulickaya.ru/ 18. Шишкин М. Венерин волос: роман. 19.Юзефович Л. Песчаные всадники: повесть 20. Актуальная (текущая) литература (проза, поэзия, драма) и критика на сайте «Журнальный зал» http://magazines.russ.ru:81/index.html 21. Лауреаты Русского Буккера. URL: http://www.apatitylibr.ru/index.php/ 2010-03-16-17-12-15/2010-09-24-10-26-37 Научная и критическая литература 1. Абашева М. Литература в поисках лица (Русская проза в конце ХХ века: Становление авторской идентичности): монография. Пермь, 1999. 91 2. Иванова Н.Б. Невеста Букера: Критический уровень 2003/2004. М.: Время, 2005. 3. Лейдерман Н., Липовецкий М. Современная русская литература. 1950–1990-е годы: в 2 т. М.: ACADEMA, 2003. Т. 2. С. 584. 4. Немзер А. Замечательное десятилетие русской литературы. М.: Захаров, 2003. 5. Нефагина Г.Л. Русская проза конца ХХ века: учеб. пособие. М.: Флинта. 2005. 6. Капица Ф.С., Колядич Т.М. Русская проза XXI века в критике: рефлексия, оценки, методика описания : учеб. пособие. 2-е изд., стер. М.: ФЛИНТА, 2014. 351 с. URL: https://www.litmir.me/br/?b=210905&p=2 7. Лейдерман Н. Постреализм: теоретический очерк. Екатеринбург, 2005. 9. Русская проза рубежа ХХ–XXI веков: учеб. пособие / под ред. Т.М. Колядич. М.: Флинта: Наука, 2011. 520 с. URL: https://www.litmir.me/br/?b=210908&p=1 10. Скоропанова И.С. Концептуальная модель русской литературы конца ХХ – начала ХХI вв.// Русская и белорусская литературы на рубеже XX–XXI вв.: сборник научных статей: в 2 ч. / редкол.: С.Я. ГончароваГрабовская (отв. ред.) [и др.]. Минск: РИВШ, 2007. Ч. 1 C. 12–26. 11. Шафранская Э.Ф. Современная русская проза: Мифопоэтический ракурс. М., 2015. 216 с. Справочные издания Русская литература ХХ века. Прозаики. Поэты. Драматурги. Биобиблиографический словарь: в 3 т. М.: ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2005. URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10547 Суханов В.А. Филологический путеводитель по сети Интернет. Томск, 2017. Чупринин С. Русская литература сегодня. Новый путеводитель. URL: https://www.litmir.me/br/?b=203671 Чупринин С. Русская литература сегодня. Малая литературная энциклопедия. М.: Время, 2012. 92 Учебное издание Вячеслав Алексеевич Суханов РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА 1990–2000-х ГОДОВ Часть 1. Реалистическая проза Учебное пособие Издание подготовлено в авторской редакции. Подписано к печати 30.11.2017 г. Формат 60×841/16. Бумага для офисной техники. Гарнитура Times. Печ. л. 5,8. Усл. печ. л. 5,4. Тираж 100 экз. Заказ № 2883. Отпечатано на оборудовании Издательского Дома Томского государственного университета 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, Тел. 8+(382-2)–52-98-49 Сайт: http://publish.tsu.ru. E-mail: [email protected]