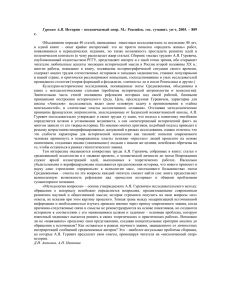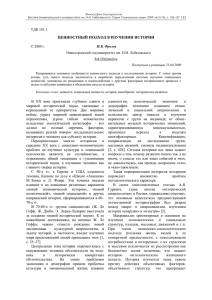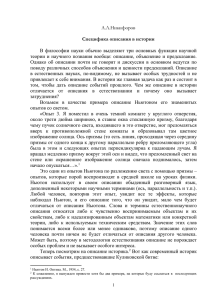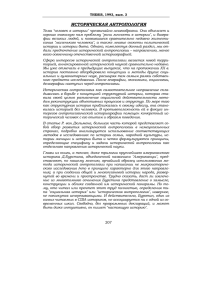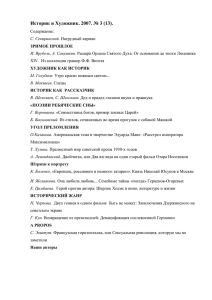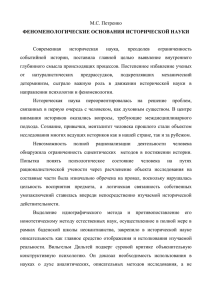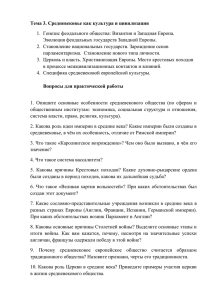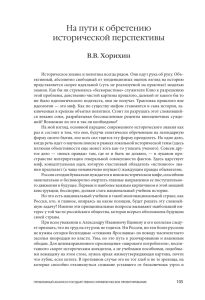К лекции № 1
реклама

Источниковедение истории культуры Ведущий преподаватель: доцент кафедры культурологии, кандидат исторических наук Денис Александрович Литошенко Источниковедение истории культуры Лекция № 1 Источниковедение в системе исторического знания о культуре Вопросы лекции 1. 2. Тотальная история. Источниковедение истории культуры в свете теоретических положений исторической антропологии. Литература 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Гуревич А.Я. Историческая наука и историческая антропология // Вопросы философии. 1988. №1; Историческая антропология: проблемы социальной и культурной истории // Вестник АН СССР. 1989. №7; Репина Л.П. Вызов постмодернизма и перспективы новой культурной и интеллектуальной истории // Одиссей: Человек в истории. 1996. М., 1996. Репина Л.П. «Новая историческая наука» и социальная история. М., 1998. Гуревич А.Я. Исторический синтез и Школа «Анналов». М., 1993. Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М., 1973. Про А. Двенадцать уроков по истории. М., 2000. Литература (продолжение) 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Ревель Ж. Биография как историографическая проблема. М., 2002. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. Каравашкин А.В., Юрганов А.Л. Опыт исторической феноменологии. Трудный путь к очевидности. М., 2003. Лурье Я.С. О некоторых принципах критики источников // Источниковедение отечественной истории. Вып.1. М., 1973. Лурье Я.С. О гипотезах и догадках в источниковедении // Источниковедение отечественной истории: Сборник статей. 1976. М., 1977. Приселков М.Д. История русского летописания XI–XV вв. СПб., 1996. Лурье Я.С. Россия древняя и Россия новая. СПб., 1997. Сегодня, как никогда, обнажены принципиальные вопросы гуманитарного познания. Наука в поисках ответов пристально всматривается в собственный опыт и ищет новые алгоритмы изучения истории. Двадцатый век сыграл большую роль в формировании современных установок сознания ученыхгуманитариев. Решительный поворот осуществила Школа «Анналов», в результате исследователи отдали «предпочтение проблемам перед эмпирическим описанием фактов». От поверхности явлений к неизведанным глубинам коллективного бессознательного (или неосознанного) – таков магистральный путь французских ученых. Важнейший постулат исторической антропологии – изучение человека во всем многообразии его проявлений. Отсюда и потребность в «тотальной истории» в «качестве противовеса и компенсации расчленения исторического объекта и возникновения множества специализированных отраслей исследования». Казалось бы, историческая антропология идеально соответствует изучению культуры, понимаемой в самом широком контексте как смыслополагание человека. Однако, декларируя «тотальность» истории, «новые историки» остались совершенно индифферентными к тому, что не вписано в бессознательный пласт народной жизни, но относится к опыту прямых высказываний индивида. Можно ли через бессознательное изучать культуру, если она сама есть осмысленная деятельность человека, наделенного, в отличие от естественной природы, свободой воли? В гуманитарной науке нет пока теоретических обоснований источниковедения культуры как сферы изучения целеполагания человека. Настоящая лекция призвана восполнить теоретический пробел и понять необходимость нового познавательного синтеза. Но прежде, чем излагать положительные основания источниковедения культуры, следует дать критический анализ иных теоретических позиций. 1. Тотальная история А.Я.Гуревич указывал на то, что историческая антропология не конкретный метод, а глобальный поворот исторической науки в изучении человека. Однако любой историк, не рискуя прослыть дилетантом, не может изучать источники без какой-либо теории познания и источниковедческих установок. Существуют они и в рамках исторической антропологии. Концепты источниковедческого сознания должны быть репрезентативными, поскольку историческая антропология «в высшей степени методологически неоднородное направление». По мнению Гуревича, обнаруживается блок единых общетеоретических принципов, без которых невозможно рассматривать «Новую историческую науку»: «…творческая активность историка – и в определении проблемы, и в «конструкции» исторического источника, и в создании им самого предмета ("объекта") истории – решительно подчеркивается многими "анналистами", начиная с Февра. 2. Источниковедение истории культуры в свете теоретических положений исторической антропологии Обсудим содержание этих общетеоретических положений исторической антропологии. Активную позицию исследователя следует рассматривать в трех ее отношениях: – к задачам науки; – к предмету исследования; – к историческим источникам. Наука Люсьена Февра и Марка Блока сломала «заборы», которыми традиционно отделяли разные области деятельности человека: экономику, политику, культуру, религию. Историк Школы «Анналов» стал активно изучать междисциплинарные проблемы, стремясь постичь жизнь «прошлого» как целое. Ле Гофф выделил три типа разграничений: – отделение истории «прошлого» от изучения «современных обществ и экономики»; – отделение изучения обществ, развитых или «цивилизованных», от так называемых «экзотических»; – отделение истории от близких или родственных наук. Само соединение разных областей знания в едином историческом полотне порождало «подлинную историю» – проблемную. Кроме того, как заметил П.Бёрк, традиционная историография была по преимуществу «политической», т. е. связана с историей государства: другие области человеческой деятельности хотя и включались в традиционную модель, но были в ней маргинальными. Основатели журнала «Анналы» изменили концепцию исторической науки, но им неподвластно было изменить степень изученности источников. Было очевидно, что для эмпирической обработки источников – выявления, описания, публикации – потребуются огромные усилия. Позитивистская методология была отброшена. Отношения объекта и субъекта стали переосмысливаться в неокантианском духе. «Приоритет объекта, характерный для позитивистской ориентации, заменялся приоритетом субъекта». Если для традиционной науки объектом выступал источник, и потому выдвигались тезисы «Тексты, тексты, ничего кроме текстов» (Н.Д. Фюстель де Куланж), «История создается по источникам. Их нет – нет и истории» (Ш.В.Ланглуа и Ш.Сеньобос), то теперь утверждался приоритет субъекта, т.е. историка. Люсьен Февр иронически писал об ученом-эрудите, закопавшемся в груде бумаги, «сделанной из древесных опилок и замаранной анилиновыми красками». Трудоемкие исследовательские процедуры с письменными текстами заменялись интеллектуальными прозрениями. В отличие от позитивизма, утверждавшего, что без источников нет истории, неокантианская парадигма провозглашает: истории нет без историка. Критика позитивизма не привела «Анналы» к полному преодолению основных его источниковедческих постулатов; напротив – фундаментальный принцип построения истории остался тот же: историк изучает «прошлое» как данность. Основатели Школы «Анналов», особенно Марк Блок, подчеркивали, что историю следует изучать во всем многообразии ее социальноантропологических связей. Открывшаяся перспектива тогда поражала самое смелое воображение. Между тем предмет истории для Блока отнюдь не только бессознательное – даже напротив: «в точном и последнем смысле, – сознание людей. А.Я.Гуревич рассматривает эти слова как нечто, что уже не вписывается в традицию историкоантропологических исследований. Взятый в отрыве от конкретной ткани произведений Блока тезис, гласящий, что общество есть "продукт индивидуальных сознаний", может быть воспринят как возрождение субъективистских взглядов на историю. Превращать историю общества в историю его сознания, пусть даже коллективного, и видеть в последнем фактор, объясняющий социальную жизнь и ее изменения, – вредная и опасная тенденция. Ле Гофф, комментируя слова Ж.Дюби, что феодализм был прежде всего «склонностью ума», писал о том, что всякая крайность опасна и вредна: «Рассмотрение этой тенденции (на мой взгляд, опасной и вредной) превращения истории коллективного мышления в фактор, в конечном счете объясняющий всю историю…» Мысль Ле Гоффа здесь не касается сложного вопроса о сущности сознания в истории и звучит как некая, попутно высказанная, общая сентенция о недопустимости крайностей в науке. Ле Гофф пишет именно о «коллективном мышлении», не уточняя степень его осознанности. Значит, он, скорее всего, имел в виду любое гипостазирование «коллективного мышления». А.Я.Гуревич сводит всю сложность позиции Марка Блока к тезису, что «сознание» включало в себя и бессознательное, ибо предпринятый историком анализ коллективной психологии, направленный «на раскрытие глубин социальной структуры и ее движения», оказался вполне «плодотворным». По существу, историограф отказывается признавать теоретические идеи Марка Блока: «…не будем придираться к кажущимся спорными формулировкам из книги, которую самому автору не довелось подготовить к печати». Восстановим контекст умозаключений Марка Блока о сознании как предмете истории. Само разнообразие человеческих фактов сводится им не к бессознательному, а «к единству сознания». Наука неизбежно расчленяет «действительность прошлого», но лишь для того, чтобы «лучше рассмотреть ее благодаря перекрестным огням, лучи которых непрестанно сходятся и пересекаются. Опасность возникает только с того момента, когда каждый прожектор начинает претендовать на то, что он один видит все, когда каждый кантон знания воображает себя целым государством». Здесь заключена трудность гуманитарной науки: научившись расчленять действительность, она должна затем уметь снова ее «собрать». «Биолог, конечно, может, удобства ради изучать отдельно дыхание, пищеварение, двигательные функции, но он знает, что сверх всего этого существует индивидуум, о котором он должен рассказать. Трудности истории еще более сложны. Ибо ее предмет, в точном и подлинном смысле, – сознание людей…». И дальше: «Homo religiosus, homo oeconomicus, homo politicus – целая вереница homines с прилагательными на "us"; при желании ее можно расширить, но было бы очень опасно видеть в них не то, чем они являются в действительности: это призраки, и они удобны, пока не становятся помехой». Для последующей историографии стало аксиоматичным, что только неосознанное, неотрефлексированное, чуждое явленному сознанию индивида составляет «неотфильтрованные фрагменты подлинной исторической действительности». Современные установки исторической антропологии ориентированы не на живую личность в ее мифическом обстоянии, а на проекцию обезличенного массового сознания. Гуревич пишет: «История высказываний великих людей потеснена историей потаенных мыслительных структур, которые присущи всем членам данного общества. В силу их универсальной распространенности и, главное, неосознанности, присущего им автоматизма, эти формы общественного сознания не контролируются их носителями и действуют в них даже помимо их воли и намерений». Обратим внимание на то, что «общественное сознание» отождествляется здесь с коллективным неосознанным, для которого характерен неподконтрольный человеку автоматизм. Термин «со-знание» (калька лат. conscientia), указывающий на сопричастность к знанию, на осмысленность соединения части и целого, используется не вполне корректно. Такое отношение к со-знанию, противоречивое и неясное, характерно в целом для книги А.Я.Гуревича «Исторический синтез и Школа "Анналов"». В ней мы можем найти утверждения, что «история… предполагает включение в сферу исторического анализа содержания человеческого сознания на всех его уровнях», что наука «не сводится к изучению сознания, но неизбежно его предполагает», что опасное занятие сводить историю к сознанию, что сознание может быть ложным, что сознание – это коллективное неосознанное и т. д. и т. п. Для нас существенно, что историк-антрополог методически ищет не саму человеческую мысль, а ее неосознанные следы: иначе говоря, источник правдив только тогда, когда в нем отрицается субъективность индивида. Историки-анналисты считают, что действительность прошлого существует сама по себе и даже помимо письменных источников. Люсьен Февр в свое время писал, что история «может и должна создаваться и без письменных документов, когда их не существует». Источники – только «следы», по которым историк восстанавливает действительность. Концепция «следов», обоснованная в свое время Марком Блоком, покоится на утверждении, что все осмысленное, осознанное в источниках недостоверно по природе вещей. Однако Блок считал, что восстановить историю можно, сравнивая намеренные свидетельства и ненамеренные проговорки. Невольная проговорка раскрывается через всестороннее изучение деятельности человека, считал он, и не существует изолированно, сама по себе. Если для Марка Блока всякий письменный источник лишь тенденциозен в силу того, что у него имеется автор – пристрастный человек, то современная мысль исторической антропологии утверждает более определенно, что практически любое прямое (т. е. намеренное) сообщение источника так или иначе идеологично, а значит лживо. «Активность» понимается современной Школой «Анналов» и как реальная борьба с источниковой реальностью. Гуревич солидаризируется с Полем Вейном, который не скрывает, что история для него есть именно борьба «против того видения, той оптики, которые навязываются источниками». Ле Гофф отмечает, что любой источник не «невинен». Сам Гуревич в модальной форме утверждает: «Его необходимо переструктурировать и "демистифицировать"». Но всякая перемена в структуре означает не что иное, как изменение содержания. Речь идет о категорическом недоверии человеческой субъективности в социальной истории. Теоретические истоки этого недоверия следует искать, видимо, в трудах Ф. Симиана, которого часто и охотно цитируют «новые историки» как своего учителя в области эпистемологии. Современное обращение историковантропологов к этому жанру, по мысли Ж. Ревеля, не опровергает принципы и установки социальной истории XX века: речь идет о том, что биография «выпадает из общей нормы», становится явлением совершенно уникальным. Кроме того, нет парадокса и в том, что Люсьен Февр писал о таких личностях в истории, как Лютер, Рабле, Маргарита Наваррская. Стремившийся к постижению глобальных социокультурных реалий, Февр оставался самим собой: его внимание привлекали, прежде всего, социальноисторические условия, которые делали возможным разрыв Лютера с церковью или «неверие» Рабле. «Историку приходится не верить непосредственно выраженным заявлениям людей, оставивших те или иные тексты и другие памятники, но "докапываться" до более потаенного пласта их сознания, пласта, который может быть обнаружен в этих источниках скорее как бы против их намерений и воли». Для Школы «Анналов» «прошлое» – это мифологическая субстанция, обладающая своей метафизичностью. Историк в «диалоге» с прошлым выступает не в качестве мирного и равного собеседника, а как следователь при допросе свидетеля, которому при некоторых обстоятельствах можно и обвинение предъявить. Таким образом, для «новых историков» ценность приобретают факты безличные, лишенные всякой субъективности, находящиеся вне осмысленной жизни индивида, в области массовых представлений. «Конечная цель наук о человеке не в том, чтобы конституировать человека, а в том, чтобы растворить его»; «реинтегрировать культуру в природу и в конечном счете жизнь – в совокупность физикохимических состояний». Структурализм стремится обнаружить универсальную бессознательную праструктуру, которая переплавила бы в себе человека и природу. Структура для Леви-Строса – это творящая миф субстанция, которая существует сама по себе, вне человеческого самосознания. Фактически утверждается, что суть человека – в несвободе. Обратимся к одному знаменательному суждению Р. Шартье. Будучи участником «споров о главном» (1989), он отметил, что «советские коллеги», желая узнать правду о своем прошлом, рассматривают в качестве объекта исторического познания «свободного сознательного человека». Необходимый отказ от однобокого и упрощенного механизма марксистского объяснения (в его наиболее рудиментарных формулировках) не должен, на мой взгляд, привести к отказу от той стратегии исследования, которая имеет целью изучать объективные императивы, управляющие мыслями и поступками…». Р. Шартье приводит слова Лейбница («в своих поступках мы на три четверти автоматы») для доказательства тезиса, что одна четверть поступков человека обеспечивает существование человеческой свободы. Но, замечает он, – только «в политике». Значит, человек свободен исключительно на выборах – во всем остальном он «автомат», не осознающий себя ответственным выбирать между добром и злом. «Либеральная мифология высвобождает из-под власти цельной мифологической действительности интеллигенцию и субъекта, превращая объективную действительность в ту, которую субъект только и может себе представить как единственную реальную». Исторический процесс превращается в своеобразную природную реальность, в которой действуют законы коллективного неосознанного. На смену экономическому и классовому детерминизму приходит детерминизм психоанализа и архетипов. Стремление обрести объективную почву в бессознательном провоцирует крайние формы субъективизма. Слова Ж. Дюби – «То, что я пишу, это моя история» – приводят Гуревича к вопросам, которые фактически остаются без ответов. «Ведь историк пишет не поэму, не роман и не картину. Поддается ли проверке его интерпретация фактов и явлений, убедительна ли его система объяснения, – эти вопросы неизбежно и правомерно приходят на ум любому историку (и не только историку), который читает и изучает его статью или монографию. То, что я пишу, это не просто мое субъективное видение истории, это один из вариантов современного видения истории, опирающегося на достигнутый уровень знаний и методов». Источник – конструкция, создаваемая историком; этот тезис утверждался в ожесточенной борьбе с традиционным позитивизмом и вульгарным материализмом. Никому не дано знать, какова история «на самом деле». Еще менее реально представлять себе «грубый факт» ушедшей жизни. Ученый начинает свою работу с осознания проблемы. Он руководствуется «некими общими представлениями об истории, присущими его времени и его среде, равно как и современному состоянию исторических знаний». Идеи эти определяют «выбор памятников и самый подход к изучаемому памятнику, который становится историческим источником только в результате специфической направленности его исследовательских интересов и усилий». Иначе говоря, исследователь «создает исторический источник, а не рабски следует его букве». А.Я. Гуревич настаивает на том, что история, согласно представлениям исторической антропологии, всегда конструируется: «Мы видим ее из настоящего времени и, следовательно, привносим в ее картину свой взгляд на историю, свое понимание ее преемственности, собственную систему оценок». Привнесение настоящего в прошлое осуществляется с помощью вопросно-ответной системы. А. Про утверждает, что «исследование, опирающееся непосредственно на документы, может быть лишено всякого научного интереса, если оно отвечает на такие вопросы, которые в настоящий момент не актуальны». Историк вопрошает, памятник культуры отвечает. Как известно, вопрос зачастую содержит в себе большую часть ответа. Гуревич утверждает, что «их ответы» – другие, чем наши вопросы. Но их другость осуществима только в тех границах, которые позволяют сами вопросы. Такая система скрытно утверждает, что ответы источника всегда соответствуют ожиданиям вопрошателя. Меж тем контакт исследователя с прошлым непрямой, и, значит, допустимо, что историк может не знать тех вопросов, которые ожидает «ответчик». Любая культура содержит в себе такие смысловые коллизии, которые не только непонятны, но даже не всегда переводимы на метаязык науки. Один историк будет искать разрешения этой ситуации на путях самоконтроля. Другой – принимать данное свойство как непреложную истину познавательного метода. Но осуществленный выбор заставит любого из них идти своей дорогой, где каждый следующий шаг в значительной мере уже предопределен самой дорогой. А.Я. Гуревич пишет, что объект в истории это – прошлое, «каким оно, собственно, было». Восстановить его невозможно. «То, что мы изучаем, есть именно предмет, т. е. тот образ прошлого, который возникает перед нашим умственным взором, когда мы формулируем свои вопросы». Как видно, «образ прошлого» существует априорно. В каком виде? «С этим связан вопрос о так называемом "изобретении" или создании исторического источника. Историк, уже, возможно, давно знакомый с теми или иными памятниками прошлого, но не придававший им раньше большого значения, теперь подходит к ним с новыми вопросами и обнаруживает, что эти памятники, остававшиеся как бы немыми и инертными для его предшественников, могут заговорить и сообщить сведения, которые для нас, несомненно, представляют интерес. Происходит преобразование прошлого в исторический источник». Цепь умозаключений такова: объекта нет вообще, его образ – это предмет без объектных свойств, потому что он содержится только в голове исследователя как пассивный материал. То есть в основе науки – не исторические источники, а априорные (и современные) представления ученого о том, что было в прошлом. Гуревич пишет: «…общая картина отнюдь не сводится к сумме фактов; она строится в соответствии с моделью ("идеальным типом"), конструируемой историком, который обладает пред-знанием ("внеисточниковым знанием"), данным ему его философией, социальнопсихологической средой, ментальностью в неменьшей мере, нежели собранными в источниках фактическими наблюдениями и научным заделом в историографии». По существу, данная концепция мыслит исторический источник как виртуальный объект. Его исторический творец заменяется творцом современным. Гуревич понимает, что идея «создания» источника, пронизывающая историческую антропологию, от Фюре до Шартье, нуждается в уточнении. Историк достаточно критично смотрит на опыт своих французских коллег: «…некоторые сторонники "истории-проблемы" явно пренебрегают временем "кратким" в угоду времени "большой длительности"». Такой унифицирующий подход к источнику действительно ведет к тому, что источник, исследуемый историком-квантификатором, создается им самим, всецело приспособляясь к потребностям его исследовательской задачи. И это в высшей степени опасно. Ибо в результате всех преобразований, ведущих к извлечению из препарированного памятника одного только материала, потребного для целей историка, в его исследование прокрадывается произвол: историк уже не считается ни с целостностью, ни с внутренней логикой источника и подходит к нему как к "сырью", из которого он якобы вправе создавать все, что ему угодно. В этом случае тезис о том, что исследователь "конструирует" или "изобретает" свой источник, противоречит принципам исторического исследования. Эта "изобретаемая" историком история строится им в соответствии с установленными им правилами и может оказаться не соотнесенной должным образом с исторической действительностью. "История-проблема" – превосходно, т. е. история, рассматриваемая проблемно, но не проблема, которая "подминает" под себя историю и строит ее произвольно, не пытаясь раскрыть ее внутренней логики. «Предмет истории идентичен познающему субъекту»; в этих словах Гуревича раскрывается смысл отношения историка к человеку прошлого, характерный, как он считает, для всей исторической антропологии. Если в естественных науках предмет отличен от изучающего его ученого, то в науке исторической ее предмет (т. е. человек) идентичен историку. Человек изучает человека. Очевидно, что постулируется тождество иного порядка. С одной стороны, всячески подчеркивается, что «предмет истории» может быть разным – мыслящим, эмоциональным, каким угодно сложным, непредсказуемым, он способен даже иметь «собственную систему ценностей». С другой стороны – никак не обсуждается, что субъект прошлого может быть столь Другим, неуправляемым, непохожим на историка, что прямой диалог (типа вопрос-ответ) просто невозможен. Такая перспектива не пугает историка-антрополога, потому путь к «диалогу» уже расчищен: устранено главное препятствие – самодостаточный (а не сконструированный кем-то) источник. «Изучая людей во времени, мы не создаем отношение субъекта к объекту, – мы вступаем в диалог с ними, который невозможен вне наук о культуре. Этот диалог, как уже показал Риккерт, вовлекает в историческое исследование систему ценностей историка», – пишет Гуревич. Историк «не создает» отношение субъекта к объекту, историка к источнику, а лишь позволяет себе по собственному усмотрению, вкусу, пристрастиям конструировать нужный ему источник. «Диалог» этот очень удобный, для исследователя комфортный: можно не сомневаться, что «предмет истории» лишнего не скажет, глупостей не наговорит, а будет вполне смирно рассказывать о себе под диктовку опытного наставника. Дадим слово Гуревичу: «Историк изучает источник; этот источник, точнее памятник, возведенный историком в "ранг" источника (и соответственно препарированный, перестроенный и осмысленный им, исходя из целей исследования), есть продукт человеческой мысли, и первое, с чем имеет дело исследователь, – это именно мысли и представления автора памятника (анналиста, писателя, поэта, законодателя, художника, ремесленника…) и его человеческого окружения, это язык (в семиотическом плане) эпохи, когда был создан памятник, ныне сделавшийся историческим источником». Обратимся к работе Ле Гоффа «Цивилизация средневекового Запада». «Представление о небесной иерархии сковывало волю людей, мешало им касаться здания земного общества, не расшатывая одновременно общество небесное. Оно зажимало смертных в ячеях ангелической сети и взваливало на их плечи вдобавок к грузу земных забот тяжелое бремя ангелической иерархии серафимов, херувимов и престолов, господств, сил и властей, начал, архангелов и ангелов. Человек корчился в когтях дьявола, запутывался среди трепыхания и биения миллионов крыл на земле и на небе, и это превращало его жизнь в кошмар. Ведь реальностью для него было не только представление о том, что небесный мир столь же реален, как и земной, но и том, что оба они составляют единое целое – нечто запутанное, заманивающее людей в тенета сверхъестественной жизни». Нетрудно заметить, что если соединить все эти характеристики, то получится диагноз глубокого невроза. В тексте книги между тем нет никаких доказательств того, что они в самом деле присущи самосознанию средневекового общества. Французского историка бремя доказательств вообще не беспокоит: он выражает к средневековью свое отношение – человека европейских либеральных взглядов, чуждого всякой авторитарности, атеистически мыслящего. Возможно, в этих характеристиках проглядывают собственные страхи и комплексы современного интеллектуала. Но где же предмет истории? Судя по всему, он стал настолько идентичен, что просто потерял лицо, и если «корчится», то не под бременем иерархии небесных сил, а от насильственной немоты, кошмара подавленности и зажатости, в который поверг его историк, создающий препарированную, перестроенную, демистифицированную историю для себя и своего времени. «Не будем забывать: причинно-следственные ряды выстраивает историк, непосредственно из анализа источников они не вытекают». Но если в источниках нет собственных причин, то нет и полноценного диалога историка с прошлым. Диалог – это взаимодействие разнонаправленных векторов сознания, разнопричинное умонастроение собеседников.