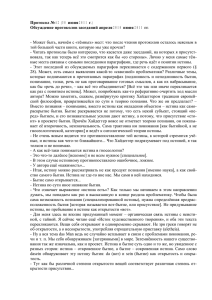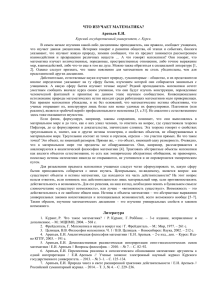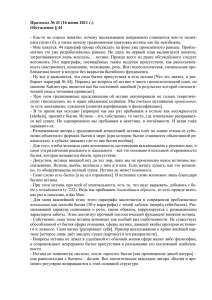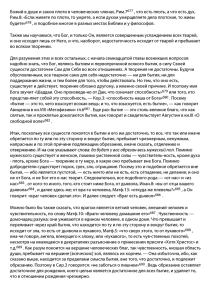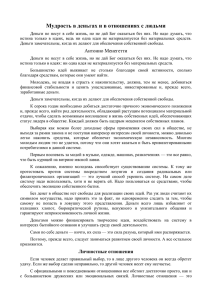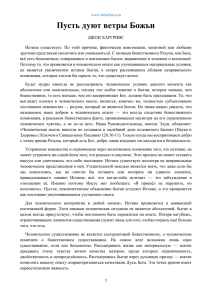В.Ю. Файбышенко СУБЪЕКТ ИСТИНЫ. СУБЪЕКТ ИСТОРИИ
реклама
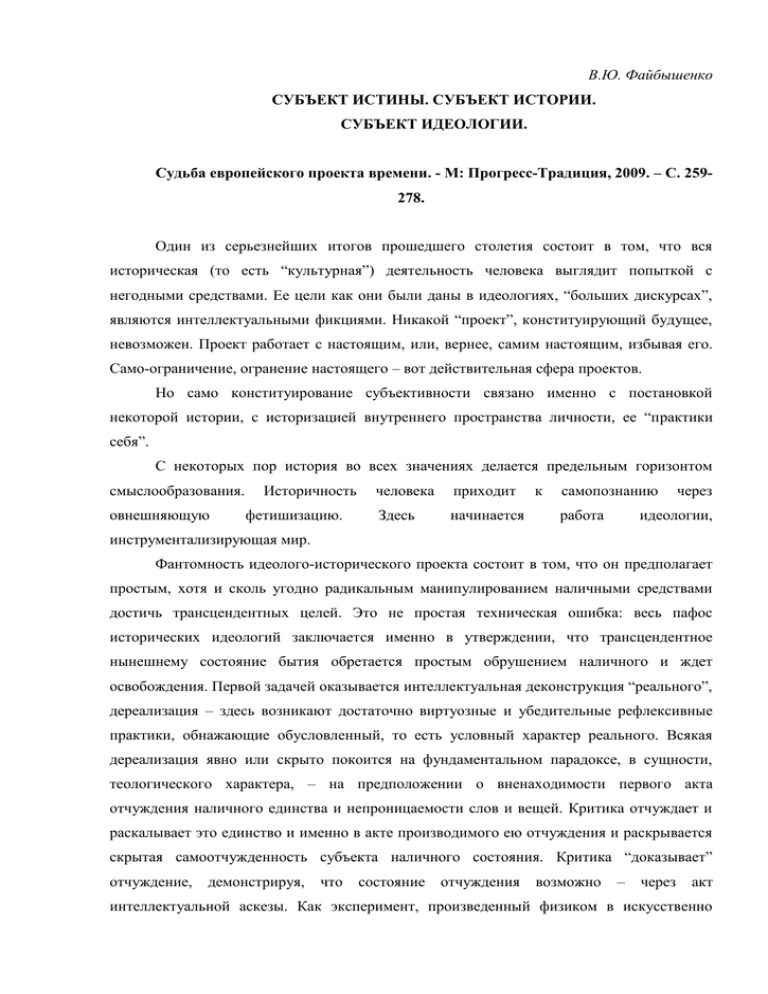
В.Ю. Файбышенко СУБЪЕКТ ИСТИНЫ. СУБЪЕКТ ИСТОРИИ. СУБЪЕКТ ИДЕОЛОГИИ. Судьба европейского проекта времени. - М: Прогресс-Традиция, 2009. – С. 259278. Один из серьезнейших итогов прошедшего столетия состоит в том, что вся историческая (то есть “культурная”) деятельность человека выглядит попыткой с негодными средствами. Ее цели как они были даны в идеологиях, “больших дискурсах”, являются интеллектуальными фикциями. Никакой “проект”, конституирующий будущее, невозможен. Проект работает с настоящим, или, вернее, самим настоящим, избывая его. Само-ограничение, огранение настоящего – вот действительная сфера проектов. Но само конституирование субъективности связано именно с постановкой некоторой истории, с историзацией внутреннего пространства личности, ее “практики себя”. С некоторых пор история во всех значениях делается предельным горизонтом смыслообразования. овнешняющую Историчность фетишизацию. человека приходит Здесь начинается к самопознанию работа через идеологии, инструментализирующая мир. Фантомность идеолого-исторического проекта состоит в том, что он предполагает простым, хотя и сколь угодно радикальным манипулированием наличными средствами достичь трансцендентных целей. Это не простая техническая ошибка: весь пафос исторических идеологий заключается именно в утверждении, что трансцендентное нынешнему состояние бытия обретается простым обрушением наличного и ждет освобождения. Первой задачей оказывается интеллектуальная деконструкция “реального”, дереализация – здесь возникают достаточно виртуозные и убедительные рефлексивные практики, обнажающие обусловленный, то есть условный характер реального. Всякая дереализация явно или скрыто покоится на фундаментальном парадоксе, в сущности, теологического характера, – на предположении о вненаходимости первого акта отчуждения наличного единства и непроницаемости слов и вещей. Критика отчуждает и раскалывает это единство и именно в акте производимого ею отчуждения и раскрывается скрытая самоотчужденность субъекта наличного состояния. Критика “доказывает” отчуждение, демонстрируя, что состояние отчуждения возможно – через акт интеллектуальной аскезы. Как эксперимент, произведенный физиком в искусственно созданных условиях, сообщает нам некую скрытую обусловленность самой природы, так же сама возможность отчуждения языка сообщает нам о его уже-отчужденности. Таким образом, критика идеологии выступает как критика исторического состояния вообще, и в полном и последовательном виде должна бы принять свои теологические предпосылки. Но этого не происходит. Напротив, всякая идеология – по своей структуре критика идеологии. Но сама критика идеологии не чиста: она уже принадлежит определенному историческому проекту. В каждой точке развитого идеологического проекта происходит переключение отчуждающего языка критики, который как бы выворачивается наизнанку: он должен извлечь из онемевших с его помощью вещей (“ситуаций”) их “собственный” язык, который равен акту прямой манипуляции ими. Подлинный язык, язык самих вещей – это язык полной и неотчуждаемой власти над ними, власти, неотчуждаемой прежде всего от самой вещи, но также и от субъекта, действующего ею. Эта власть превращает их в единое тело, куда отчуждению невозможно пробраться. В сущности, в этом утопическом мире не будет языка как культурного феномена, который всегда трансцендирует вещь, отслаивается от нее. Поэтому не будет “смысла” и “истины”, которые возникают в точке этого отслоения-разрыва, и удерживают субъекта словно в состоянии вечно-будущего по отношению к его ситуации. Это совершенно трансцендентное настоящему утопическое состояние полной нетрансцендируемости, то есть неотчужденности человека. Однако в силу трансцендентности этого чаемого состояния всякая деятельность, к нему направленная, приобретает вид магических манипуляций, в которых фрагменты реальности используются как архаические знаки-вещи. Высвобождение подлинного обретает вид произвольного конструирования из негодного и заведомо обреченного материала того, что и вдохнет в него подлинное бытие. Здесь легко обнаружить некую новую разновидность манихейства, но энергия этого заблуждения, видимо, питается, как и всякая сила, неким реальным источником. Идеологическая практика как таковая претендует на производство новизны. Это не простая новизна происшествий, очевидно, это новизна онтологического состояния. Эта новизна может выражаться и через ретроспекцию: пониматься как обновление основания и восстановление прежней (истинной) формы. Но это первое состояние никогда не есть историческое состояние как таковое, оно выражает внеисторическую интенцию. Мы сталкиваемся с парадоксом: историческое состояние человека есть непрерывная борьба с историей через создание объективно-исторических форм. Сократический человек. Истина и история. Мы привыкли думать, что с одной стороны “сократический человек”, новое антропологическое образование, сложился в ситуации “единства истины, блага и красоты”, с другой, что это распад этого единства и образует ситуацию modernity (Самое краткое и уже классическое описание этой ситуации дает М. Вебер в известной речи 1). Представляется, что действительно неотменимым и устанавливающим событием для всего исторического поля, прологом в небесах, является именно открытие истины, выделение ее из наличности Блага, полностью меняющее и само положение Блага. Каково понимание блага в обыденном сознании? С одной стороны, добро открывается от обратного: когда нечто нарушило то, что было порядком нашего бытия, но вряд ли рефлексивно сознавалось таковым, пока не было нарушено. Это ретроспективная сторона обыденного понятия блага. С другой, добро – это бесконечное прибывание того же самого порядка, его прогрессия: пусть будет больше того, что и так есть: детей, скота, урожая. Такова проспективная сторона добра. Зло в этой схеме – то, что нарушает порядок или не дает ему прибывать. Самый странный вопрос в человеческой истории, собственно и зачинающий нового человека – это вопрос о порядке самого порядка, о его производности и, значит, преодолимости. Это вопрос о том, как возможно становление (на который со времен греческой философии так и не появилось ответа), а становление своей оборотной стороной имеет грехопадение. Сначала вопрошают об источнике порядка, но подлинное обращение к истоку вводит нас в смущающее состояние, в котором порядок еще только становится, еще только про-исходит, тем самым и утверждая собственное бытие, и ставя его под вопрос. Так формируется то, что можно назвать теологической диспозицией: источник этого мира, непрерывно его порождающий, отторгнут от порождаемого. Ситуация отторгнутости, оставленности, неразрывно связана с самим становлением. Порождающее и порожденное отличны, ибо существуют. Однако именно различение, которое сообщает нам об их существовании, подрывает возможность для них быть взаимно удостоверяющими, быть референтами друг друга. Каждое из них есть “нет” для другого. Таково потрясающее открытие и Гераклита, и Парменида, радикально разводящее их. Именно здесь впервые из вопроса о справедливости рождается вопрос об истине. Это вопрос Сократа, и все виртуозное философское искусство Платона брошено на то, чтобы справиться с ним. Опишем некую постоянную диспозицию, разворачивающуюся в диалогах Платона. И в “Федре”, и в “Теэтете”, и в “Пармениде”, разыгрывается одна и та же ситуация. Мы непосредственно переживаем некое непосредственное влечение (чувство, вос-приятие: от простого видения до вожделения), предмет которого, кажется, вложен в него – он дан в 1 Вебер М. Наука как призвание и профессия. // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. самом влечении. Однако при достижении его оказывается, что исток вос-приятия / влечения не принадлежит достигнутому предмету. Постигнутый предмет оказывается мнимостью не потому, что не существует, а потому, что его существование никак не меняет положения воспринимающего: предмет не удерживает в себе/ на себе ни влечения, ни восприятия, “не дает ответа”. Следует ли нам дезавуировать предмет или влечение? Следует переоценить саму начальную ситуацию: предмет именно принадлежит восприятию, он развернут в нем. Почему же восприятие развернуло себя именно таким образом? Именно потому, что начальной ошибкой мы разворачивали этот предмет. Но так ли случайна эта ошибка, произвольно ли видение? Нет, мы схватили именно то, что могли схватить, то, на что у нас хватило реальности. Самое же удивительное во всем этом, что наше видение простирается дальше, чем оно собственно видит. То есть, обращая взор на то, что мы уже увидели, вовлекли в свое влечение или извлекли из него, мы обнаруживаем его полную принадлежность нашему видению как его недостаточность, то есть неполноту. Выходит, никакая вещь не может быть адекватно увидена как она сама, потому что она как она “сама” меньше нашего восприятия, которое пытается ею овладеть. Одновременно сама непрерывность нашего влечения сообщает, что нам принадлежит не вся вещь, то, что делает ее видимой, то есть то самое, что делает ее наличное недостаточным для нашего видения – это не видно нам и нам не принадлежит. Избыточность нашего влечениявидения одновременно оказывается недостаточностью. Частично это похоже на опыт горизонта: то, что образует поле видимого, является его неодолимой границей. Но опыт истины заключает в себе катастрофическую динамику: у Платона речь идет о возможной трансгрессии. Само место истины атопично. Она является не в соответствии вещам (что может соответствовать вещи – другая такая же вещь, то есть та же самая? – коллизия, обыгранная в “Пармениде”), а в радикальном замыкании самого поля непрерывного/ неконечного видения-влечения неким необратимым событием. Вся история европейских идеологий может быть описана как попытка аппроиприировать это место истины через “теорию идей” во всех ее вариантах, и далее, через разработку идеи как образа, который с чем-то совпадает, или с которым что-то совпадает. Попытки перевернуть метафизику от Ницше до Делеза строятся на переворачивании именно этой аппроприации. Истина как соответствие идеи/ соответствие идее – это неизбежный логический тупик, но этот тупик связан с неотменимой парадоксальностью самой ситуации истины, и абсолютной невозможностью эту ситуацию обойти или деконструировать. Сама возможность отношения к чему-либо/ с чем-либо через себя самое развертывает ситуацию истины. Название известной статьи Соловьева “Жизненная драма Платона” верно формулирует то свойство платоновой философии, которое совершенно не применимо уже к Аристотелю. Платон драматичен, и дело совсем не в учебной форме диалога. У Платонова Сократа речь идет о некоторой антропологической презумпции, о том, что делает участвующим в бытии. Ницше понял это как непоправимое событие, определяющее судьбу человека в мире (потом это назовут судьбой европейской метафизики, что все же несколько сужает тему). Случилась сама ситуация истины. Ситуация истины обнаруживает себя негативно: в ней наличное существование, ритуально обеспечившее себя благополучием, не имеет самого первого и простого – бытия. Это бытие было у нас, поскольку мы знаем, что оно вообще есть, и, следовательно, может быть возвращено. Это бытие было у нас, поскольку мы некоторым образом все же есть; есть, потому, что вспоминаем о нем. Подлинное бытие для человека есть возвращение к подлинному бытию. В отличие от линейного пробегания эмпирического существования, бытие человеком теперь строится как “противоестественное” движение навстречу бесконечно удаляющемуся, образующее остановку. Он видит себя – не ради себя, а потому, что движется против себя уходящего. Вопрос об истине впервые приобретает смысл именно теперь. Истина есть то, что ты узнаешь, поскольку она есть задающая себя форма узнавания, отличная от любой познаваемой предметности. Истина появляется в ситуации возвращения как двойного ухода. Человек преодолевает свою по-рожденность, производность, чтобы быть. Производящий себя человек ставит себя в ситуацию не-производности, а-технии. Этот парадокс создает техники истины. Появление истины создает новую карту человеческого существования, и в ней множество развилок и тупиков. Культурная традиция покоится на некоторых конечных практиках истины, которые, однако, не исчерпывают и не отменяют начальной диспозиции. Одна из таких конечных формул истинности – истина в соответствии интеллекта вещам, (которая возможна только потому, что сами вещи ответствуют породившему их Интеллекту, по Фоме Аквинскому). Эта формула, в самых разных вариантах, определяла европейские техники истины, и именно она всегда была мишенью критики, которая так же принадлежит технике истины. Интеллект (не божественный, а человеческий) мог бы привести себя в соответствие вещи, если бы само соответствие вещи уже принадлежало бы природе интеллекта, и наоборот. Именно это отсутствие самоудостоверяющей вещи оказывается точкой вопрошания об истине. Так мы попадаем в поле хайдеггеровской логики, в которой историчность человеческого бытия определяется спецификой самой ситуации истины. Нечто есть: оно есть оно, а не другое; другого нет; то другое, которого нет, и дает быть этому, оно и есть это, от чего оно радикально отлично. Можно иначе: нечто есть, но раз есть нечто, есть и другое, другое не это; этого нет, когда есть другое… Платон бродит в кругу этих местоимений, которые выполняют здесь свою службу: они придерживают место для имени, за именем. Историчность, о которой мы говорим, образована отсутствием истины, вернее, ее не-присутствием, которое не равно небытию: скорей, это место, которое должно быть образовано – в истине. Это нечто, негативно описываемое ситуацией Эдипа. Эдип обретает знание, и оно оказывается знанием о разорванной, уничтоженной и оскверненной связи рожденного с тем, что рождает; это знание о том, что предмет знания уничтожен. Пожалуй, все дело Платона, каким оно известно нам, есть обнаружение иного знания, знания как восстановления рождения, в котором порождающее не было бы осквернено и уничтожено в порожденном, но может ли порожденное стать прямым бытием порождающего – остается нерешаемым вопросом. Это видение безначального начала и не может привести к построению “положительного учения”, а если таковое и возникнет, оно будет неизбежным компромиссом. Существование истины определяется тем, что у бытия есть исток, что оно все – из истока, но непрерывная отличенность от истока требует истины как удержания и учреждения взаимного отношения. Эта отличность бытия от его истока почти равна отличению бытия от небытия, где небытием оказывается само бытие. Это альфа и омега интеллектуальной интуиции, то, что образует как бы полную форму созерцательного внимания, в которую может отлиться человеческое бытие-здесь. Эта форма есть зияние истока. И потому она драматична и динамична, она есть вытягивание, вызывание Другого. Мы назвали ее теологической диспозицией (в той же мере и антропологической): действительно, удержание и бытие при этом двойном зиянии образует нечто близкое архитектонике веры. У веры и интеллектуальной интуиции нет противоречия, но есть несходимость: драматизм ситуации разворачивается в самой практике человека как исторического существа, в практике субъективности. К тому же, а в большинстве случаев она заключена в идеологические, т.е. исторические формы, субъективно схватывающие “предмет” веры и включающие его в свое функционирование. Та динамическая совокупность отношений, которую мы пытаемся описать, есть некая “рамочная конструкция” человеческого, которая раскрывается в развертывании человеческого как исторического, но сама не принадлежит истории и не схватывается “историческим методом”. Она показывает, что антропологическое не может быть помыслено вне отношения к Абсолютному Другому как своей “целевой формы”, поскольку развертывает себя относительно него. Антропологическое конституирование именно “формально” теологично, и эта форма может быть реализована различными способами. Историчность его является как память, парадоксальная память, поскольку она относит субъекта к некоторому событию, которое трансцендентно его порожденному – “субъективному ” – бытию. Оно как бы “до” его рождения и одновременно принадлежит будущему. В понимании этой памяти как учреждающего антропологического события, замечательно сходятся носители совсем разных традиций – А. Шмеман и М. Хайдеггер. Для первого, человек – это существо, помнящее о Боге; для второго, человек – это существо, помнящее то, что оно забыло2. У Шмемана это памятование проясняется в его концепции символа как явленной и являющей реальности3; для Хайдеггера – человек есть знак указующий. Реальность знака, символа, образует самое ядро проблемы историчности. Итак, в первом приближении “человеческая ситуация” выглядит так: ее телеология задается формой установления истины, стояния в истине. Эта телеология требует перенаправления самого тока существования, вернее задает некое обратное противительное движение, которое опознается как “остановка” “нормального” – немаркированного порядка, “крах нормы”. Понятно, что рефлексия относительно этого порядка и самой его нормальности, нормативности, возможна только из уже возникшей позиции “противохода”, и всякое развернутое обоснование “нормальной жизни” (которое имеет характерные идеологические варианты “назад к жизни” и “назад к норме”) происходит из внешней точки, откуда, с определенного этапа, эта “жизнь” начинает опознаваться как искомый и вновь утраченный исток, как бы исток “второго порядка”. После рефлексии истока человек вынужден “заново” конституировать мир. Речь не идет о каком-либо “идейном” повороте: это “заново” означает сам тип конституирования, весь вес которого повисает на самом акте отнесения к истине (то чего не знает архаическое, “дочеловеческое” мировидение). В этом смысле историчность человеческого бытия как основание практики себя, практики субъективности, есть одновременно и следствие установления некоторого постоянного отношения к истине (отнесения к истине), и следствие невозможности актуального бытия в ней. Она задается трансцендентным требованием, которое, по определенным причинам, не может быть исполнено. Драма исторического бытия заключается в том, что исток не может быть целью, то есть, не достижим в проектировании. Само основание субъективности заключается, в свою очередь, в проектировании соответствующего ей системного объекта – объективности как таковой, объективность устанавливает устанавливающую ее субъективность, они коррелятивны – именно это обстоятельство и выражается в концепции истины как соответствия интеллекта и вещи (понятно, что в томистской версии они коррелируют, потому что созданы одним творцом). 2 3 см., напр., Хайдеггер М. Что значит мыслить?// Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. М., 1991. Шмеман А. Евхаристия. Таинство царства. М., 1992. Безусловно описываемая нами практика есть некоторый веберовский “идеальный тип”: реальный телос человеческого существования осуществляется в конкретных практиках, обычно не собирая полный их лексикон. Но то, что мы назвали “трансцендентным требованием” получает свое парадоксальное исполнение даже и на заведомо относительном языке исторической культуры, для историчных практик самый очевидный, но не единственный, пример этого – искусство. По самой своей природе бытие субъектом истории никогда не будет благополучным, или, вернее – блаженным, поскольку условное благополучие фиксированного отношения к истине может быть на некоторое время обретено. Можно ли выявить “полную форму” человеческой практики, то есть имманентность трансцендентного и трансцендентность имманентного в ней? Здесь мы сталкиваемся с почти неодолимыми языковыми и методологическими ограничениями. Всякая масштабная гуманитарная методология сама неизбежно является примером человеческой “практики себя”, но ее естественные ограничения приводят к парадоксу: она описывает свой предмет как некую технику, как всякая техника, нацеленную на производство определенного эффекта, но действительность бытия и смысл этого “эффекта” остаются неясны. Устройство научного дискурса таково, что ответ на вопрос “что это?”, строго говоря, невозможен. Данное положение настолько конститутивно, что сам вопрос о бытии чего-либо или сводится к вопросу о генезисе и функциях, и или представляется нелепостью, языковой ошибкой. Вопрос о природе человеческого знания о человеке это вопрос о природе человеческого бытия человеком, который всегда повисает в воздухе. В некотором смысле этот вопрос был замещен в двадцатом веке открытием радикальной историчности бытия. Эта историчность встает на место двусмысленной метафизики посюстороннего, свойственной веку девятнадцатому, поскольку ее парадоксальность, самопротиворечивость самотрансцендирования. как будто Именно бы сами радикальная формируют некоторую историчность определяет “рамку” собой и культурный горизонт смыслообразования и методологию гуманитарных наук (и делает Маркса, Ницше и Фрейда родоначальниками современности). Актуальный вариант радикальной историчности выглядит так: историчность бытия определяется не поворотнорефлексивным отношением к истоку, а самим отсутствием истока. Продумывание радикальной историчности бытия логично подводит нас к теме “смерти человека”. Конечно, в таком виде эта громкая тема 60-70х, поздно подхваченная в России, уже выглядит старомодно, но, всмотревшись в имеющиеся у нас способы мышления о человеческом, мы увидим, что “потеря человека” происходит непрерывно, и это конечно не потеря чего-то что уже “было”, это более важная потеря того, чего не было, но что открыто и открывается в бытии. Новое время и формирование замкнутых идеологических практик. Тема идеологии принципиально связана с темой субъекта. Так она рассматривается еще К. Мангеймом, его задача – создать социологию знания (фактически – социологию мышления), он дает узнаваемые портреты гносеологических стратегий социально детерминированного мышления. Для Мангейма в идеологиях реализуют себя социальные группы, и само мышление социально постольку, поскольку идеологично / утопично (и наоборот)4. Но идеологический тип представления социального отличается от мифического именно тем, что встроен в практики субъективности, принадлежит ее историческому проекту, и вне соответствующей рефлексии не существует. Нас интересует не включенность субъекта в социальную или дискурсивную связность, а то, каким образом, то, что держит саму эту связность, вырабатывается и истолковывается в самоконституировании субъективности. Важнейшими для современной генеалогии субъекта, безусловно, являются работы М. Фуко. Его подход держится на утверждении субъективности как внутреннего/ внешнего или внешнего/внутреннего: дисциплинарное принуждение к субъективности создает ее самое; внутреннее и есть интернализованное внешнее. Субъективность есть интериоризованная власть над телом, будучи “внутренней”, она не перестает служить внешнему интересу. Не будем рассуждать о верности этой генеалогии, поскольку, в любом случае, субъект наличествует лишь, когда эта власть делается его властью, одновременно поддерживая его реальность. Субъект есть властвующий и подвластный одновременно и едва ли не в одном и том же отношении, он носитель и гарант реального. И наш интерес сосредоточен на том, как он исполняет сам себя. У Фуко субъект как фигура присвоенного насилия, обращенного на самого себя, как будто сохраняет постоянную отнесенность к источнику насилия, которая делает его бытие фикциональным (то есть непрерывно совершаемым и никогда не совершенным), и эта отнесенность и есть отнесенность к “истине”: “Отсюда также эта другая манера философствовать: искать фундаментальное отношение к истинному и не просто в самом себе – в каком-нибудь забытом знании или в некоем врожденном отпечатке, – но в исследовании самого себя, которое во множестве мимолетных впечатлений высвобождает фундаментальные достоверности сознания. Обязанность признания передается нам теперь из множества различных точек; отныне она столь глубоко внедрена в нас, что мы больше уже не воспринимаем ее как действие принуждающей нас власти; <…> истина будто бы 4 См. Манхейм К. Идеология и утопия. // Манхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994. не принадлежит порядку власти, но состоит в изначальном родстве со свободой”5. Между тем, самое интересное в феномене субъективности заключается именно в переопределении собственного истока: субъект очень быстро завершает себя по отношению к эманации властного насилия именно в силу того, что присваивает дисциплинарную власть над самим собой и обращает ее в дисциплину или практику себя. Более того, только такого рода самоприсвоение, свободное владение собой как подвластным себе, и определяет культурную динамику Нового времени. Понятна иллюзорность этого самоприсвоения, но сама эта иллюзия принадлежит человеческой реальности, ее ограниченность указывает на границы определенной антропологической конфигурации, свершения человека. Ведь тема фикциональности субъекта некоторым образом указывает на тот предел самоприсвоения, когда у власти не оказывается такого подвластного, который бы был Иным по отношению к ней и таким образом разрушается сам горизонт ее действия. Такой процесс интериоризации власти, при котором переопределяется ее исток и есть процесс освобождения субъекта (в этом “освобождении” происходит само формирование субъекта), по крайней мере, процесс исторического освобождения, заключающийся в установлении дисциплинарных и интеллектуальных практик свободы, которые держатся именно строгой и последовательной дисциплиной свободы. Эти свободы – сотворенные и вне субъекта немыслимы (пожалуй, они требуют отнесения к некой несотворенной свободе, но общаться с ней, видимо, будет именно свобода сотворенная). Таковы свобода морального суждения, гражданского поведения или научного исследования. Данная культура субъективности предполагает появление дискурсов, функционирующих как холостой ход этой машины субъективности, утратившей свое Иное. Сама фундаментальная связка новейшей философии власть / дискурсивность задает тип критического письма, тавтологически проговаривающий пределы субъективного конструирования, но не могущий создать практик иного рода. У истока этой темы три автора Нового времени, особенно близко подошедших к феномену идеологического со стороны социального (“общего”, межчеловеческого) бытия: Макиавелли, Гоббс и Руссо. Макиавелли еще чистый аналитик: он заинтересован вопросом удержания государственности, то власти, есть совпадающим суверенного для него с коллективного вопросом учреждения самообоснования. Его антропология противоречива, потому что служебна: государство стоит доблестью граждан, власть же удерживается благодаря их порокам. Гоббс строит свою антропологическую генеалогию власти, каковая одновременно не может не быть Фуко М. Воля к знанию. // Фуко М. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности. М.: Магистериум; Касталь, 1996. С.159. 5 тотальной и не может достичь подлинной тотальности. Его исследовательская позиция двоится: он пытается феноменологически описать реальность власти как она есть и одновременно обосновать ее наилучшее устройство: наилучшим оказывается сам исследуемый объект в его чистоте, избавленный от связи с другими объектами и стесненности ими: лучшее устройство власти – власть как таковая в абсолютной полноте саморазвертывания. Люди учреждают власть, после чего уже она учреждает их. Но до действительного утверждения власти как источника онтологического творчества Гоббс не доходит, он слишком реалист. Гигантский левиафан, описываемый как искусственный человек, остается все же в техническом мире: он устройство бытия, а не его источник. Самый важный шаг делает тонкий антрополог Руссо. Он подходит к важнейшему вопросу о естественной телеологии человека. Что, (помимо сложностей характера), радикально отрывает Руссо от Просветителей – его открытие человеческой природы как энергии. Для Просветителей человек потребляет энергию и преобразует ее. Для Руссо человек и есть источник непостижимой и чудотворной Энергии, Силы, и это та сила, что переворачивает мир. Это энергия страсти, доблести, фанатизма, то, к чему с подозрением относились просветители, ибо эта энергия питаема глубокими и темными водами. Но Руссо не слишком заинтересован теоретическим прояснением источника: его завораживает сила действия как такового. Если просветительская мысль нацелена на “продукт”, атомарный итог действия, то Руссо решительно абсолютизирует деяние (“добродетель”) как таковое и открывает коррелят этого деяния – весь мир. Чистый динамизм совпадает с чистым “фундаментализмом”: Руссо отвергает культурные практики за то, что они останавливают чистый поток доблести, направляя его энергию на рефлексивное самоусмотрение субъекта (пресловутая растлевающая роскошь – всего лишь сопутствующее обстоятельство), но простое “возвращение” невозможно, предложение Руссо тоньше – сама культурная организация мира должна стать канализацией этого потока: производство энергии и управление ею должны быть поставлены под тотальный контроль. До сих пор миру (обществу, государству) было достаточно человеческой лояльности. Руссо же замышляет не социальную, а “онтологическую” реформу: возможен мир, который получит всего человека. Сами источники душевной и духовной жизни должны быть выведены и схвачены правильной общественной организацией, понимаемой как Всеобщее. Руссо создает миф, обратный Платонову мифу о пещере: душа должна быть закреплена в нужном положении и предана созерцанию мобилизующих изображений, которые питаются ее зачарованностью. Вклад Руссо в становление “теории” идеологии более существенен, чем самих “идеологов”, с деятельностью которых связано возникновение данного понятия. Но окончательно пространство идеологического сформировалось в 19 веке, когда историческое стало пределом референции. Собственно, идеологиями в современном русском естественном языке называются утверждения, обеспечивающие смысл истории “для нас” и указывающие на “наше место” в истории. Существующее понимание идеологического во многом определяется той “критикой идеологий”, которая образует бэкграунд современной гуманитарной и философской мысли, и сама образует новые идеологические констелляции. Наша проблематика связана с двойным представлением идеологии: с одной стороны она – некоторое образование, специфичное для европейской субъективности, с ее рефлексивной обращенностью не к вещам, а к истине о вещах; с другой она является действующим органом кризиса субъективности и даже ее уничтожения. Интересно, что в некоторой критической точке дискурс критики идеологии переходит в дискурс “защиты идеологии”: это неизбежно постольку, поскольку он стремится спасти или утвердить некий исторический проект. Но для развитого, ауторефлексивного идеологического сознания это возможно лишь при вытеснении первого элемента Платоновой триады, в некотором смысле, при желании утвердить “добро и красоту”, минуя истину. Такого рода защита, под разными именами, предпринималась и “правой”, и “левой” мыслью: всякий раз ориентация на истинное познание разоблачалась как уловка техницистского, буржуазного, “инструментального разума”. Р. Барт называет главным орудием “буржуазного мифа” натурализацию данного “положения вещей”6, можно сказать, что так работает всякий миф, но для картезианской цивилизации мифологизирующая натурализация всегда выступает как пародия “естественного света разума”, а то и как его скрытая суть (кажется, именно к такому шагу близки Адорно и Хоркхаймер 7). Современные левые философы (Жижек) по существу поддерживают это противостояние “природы вещей”, относительно которой формулируются “истины”, и трансгрессирующей стихии истории. Ключевым здесь является концепт “события”, в котором не-сущее осуществляется, подрывая сам язык истины8. Схожие приемы были характерны и для противоположно ангажированной мысли, для которой история должна была реализовать свой мифогенный потенциал. Именно включенность мысли в исторический проект создает саму проблематику противостояния истине, однако она же порождает и критику всякого исторического языка как не-истинного. Мысль исторична не только “натурально”, по своей “природе”, но и “исторически”, по своему заданию, поскольку является проектом разрешения истории как проблемы. Но, как мы пытаемся показать, сам исторический 6 Барт Р. Идеологии.// Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994. Адорно Т., Хоркхаймер М., Диалектика Просвещения. М.-СПб., Медиум, Ювента, 1997. 8 Жижек С. Георг Лукач – философ ленинизма. // В кн.: Лукач Д. История и классовое сознание. Исследования по марксистской диалектике. М., Логос-Альтерра, 2003. 7 проект, задающий структуру гуманитарной мысли, не может быть сформулирован вне языка истины, вне ситуации отнесения к истине, каковую ситуацию сам же и подрывает. И это не простая ловушка логоцентризма. Необходимо заново определить “что есть истина”, как совокупность практик, истина как ситуация; не учитывается формальная автономия этих практик, их неслиянность с практиками дисциплинарного контроля и подчинения. Из этого слипания происходит и невозможность различить внеидеологическую потенцию исторического феномена, понять сам способ и границы идеологического функционирования. Однако нам представляется, что и объявление всякого высказывания идеологическим и исчерпывающимся своей идеологией, и апология идеологического как квази-онтологического – ходы тупиковые, хотя и предъявляющие множество важных презумпций для разговора об истине и идеологии. Для того чтобы конституировать феномен неидеологически, необходимо прежде всего выявить тот исторический проект, в который включен сам понимающий, и ту идеологическую презумпцию, которую он вменяет явлению Мы представляем идеологию как некую конфигурацию топосов, (обычно она образуется слипанием разных смысловых рядов, разных топик), на которой держится весь груз историчности субъекта. Идеология способна включить в себя любое высказывание, более того, исторический идеологический проект и образуется разными тактиками аппроприирования “чужих слов”. Но именно способность войти в ситуацию атопического отношения к истине, вместе с расчищением и прояснением различия топик, может разрушить эту апроприацию. Как сказано выше, идеологичность можно представить констелляцией разных фундаментальных ориентаций субъекта истории. История понимается как пространство взаимного размежевания и слияния субъекта и его “объективного”. Идеологическое можно представить чем-то вроде эдипова комплекса рефлектирующей и самосознающей личности, “исторического человека”, но его учреждающее событие – не в прошлом, а в будущем. Очень выразительное описание идеологического универсума, опираясь на идеи Ханны Арендт, дают Ф. Лаку-Лабарт и Ж. Л. Нанси: “<…>идеология, как всецело осуществляющаяся (и зависящая от воли всецелого осуществления) логика некоей идеи, которая и «позволяет объяснить исторический процесс как процесс единый и связный». “Считается, что движение истории и логический процесс этого понятия, – говорит опять же Ханна Арендт, – соответствуют друг другу во всех моментах, так что, что бы ни произошло, происходит в соответствии с логикой идеи». Другими словами, нас интересует и нас будет занимать именно идеология в том виде, в каком она, с одной стороны, всегда представляет себя как политическое объяснение мира, то есть как объяснение истории (или, если угодно, Weltgeschichte, которая понимается не столько как «мировая история», сколько как «мир-история», мир, состоящий исключительно из процесса и его легитимизирующей себя необходимости), исходя из единственного концепта: концепта расы, к примеру, или концепта класса, или даже «все-человечества»; притом, что, с другой стороны, это объяснение или это мировоззрение (Weltanschauung: видение, постижение, понимающее схватывание мира – философский термин, которым, как мы увидим далее, широко пользовался национал-социализм) всегда мнит себя всеохватным объяснением или тотальной концепцией”9. Это определение идеологии, подобно множеству других предполагает доктринальное и потому уже экстериоризованное бытие идеологии. Однако такого рода идеологии сами питаются энергией “внесистемно” идеологического, продуцируемого практиками субъективности. Новое время отличается замечательным единством и последовательностью разворачивания проблематики, решениями которой и являются возникающие практики субъективности. Век просвещения, венчающийся революцией, предъявляет некое принципиальное вопрошание. Глубже всего его сформулировал Кант, разрешая апорию Руссо: история как миссия человека, возможность полного осуществления природы человека, которая, однако, реализуется через разрыв с этой природой, смысл которого не принадлежит самому событию: “Из этого столкновения (так как культура согласно истинным принципам воспитания одновременно человека и гражданина, может быть, еще не совсем началась, а еще менее завершилась) вытекают все действительные бедствия, угнетающие человека, и все пороки, оскверняющие его, между тем наклонности, ведущие к последним и считающиеся предосудительными, сами по себе хороши и как естественные способности целесообразны, но будучи приурочены к чисто естественному состоянию, уродуются прогрессирующей культурой и, в свою очередь, оказывают, вредное влияние на нравы, пока совершенное искусство не отождествляется с природой, что и является конечной целью нравственного назначения человеческого рода”10. Девятнадцатое столетие отвечает на вызов Просвещения, формируя разные содержательно, но типологически сходные практики, которые мы впервые можем назвать идеологическими по внутренней связности их самоподдержания. Идеологическими практиками мы будем именовать такого рода практики субъективности, в которых конституируемая объективность драматически зависима от некоторого требования или запроса, который не объективируется до конца в самих актах полагания мира, а, напротив, требует своего выполнения с тем, чтобы “синтез” объективного был произведен до конца. 9 Лаку-Лабарт Ф., Нанси Ж..-Л. Нацистский миф. СПб., 2002.С.17-18. Кант И. Предполагаемое начало человеческой истории.//Кант И. Трактаты и письма. М., 1980. С.53. 10 Тогда объективное станет “подлинным”, “исконным”, “истинным”. Здесь мы с легкостью узнаем секулярный вариант события отнесения к истоку, но в силу того, что это событие имеет, на наш взгляд конститутивный антропологический смысл, данную практику нельзя объявить просто симуляцией. Ее действительная проблематичность заключается в эпитете “секулярный”, что в данном случае означает не “светский”, а “радикально внутримировой”: принадлежащий “миру сему”. В идеологической практике игра идет не со стороны субъекта: полагающее сознание является лишь выразителем того акта, который должен совершить сам “мир”, то есть вся полнота конституируемой и конституирующей объективности. Мир должен быть полностью вдвинут в свой исток и закреплен в нем именно в качестве мира, то есть того, что не имеет ничего внешнего себе. Идеология может содержать ссылки на трансцендентные основания, но сама идеологическая практика в своем полном виде имеет в виду именно полное устранение трансцендентного, “превращение” его. Захват и эксплуатация истока целиком совпавшим с ним мироустройством – вот предельная ориентация идеологической практики. Таким образом, полная и последовательная идеологическая практика является практикой субъективности, которая должна перестать удерживать драматическую двойственность отношения к истоку, совпав с той полнотой объективности, которую она сама обеспечить не может, и для которой требуется полная включенность мира как истока в проект. Собственно, идеологическая практика претендует быть практикой завершающей и отменяющей теолого-антропологическую диспозицию. В этом смысле, довольно безразличен ее индивидуальный окрас: например, идеологические практики консервативного толка могут ставить некие “трансцендентные ценности” на почетнейшее место, но по существу это ничего не меняет: идеологическая практика может работать только при ставке на тотальность и трансцендентную “непроходимость” мира (Это замечательно описал о. А. Шмеман, говоря об опасности подмены “единства сверху” “единством снизу”). Идеологии, достигшие оформления как всемирно-исторические проекты, то есть коммунистическая или национал-социалистическая, потребовали радикального трансцендирования неких посюсторонних образований, которое как бы дематериализовывало чистую материальность насилия. При этом неизбежно возникает эффект некой вторичной архаизации сознания, тоже независимо от того, прогрессистская это идеология или консервативная. Главным вопросом идеологии, таким образом, неизбежно оказывается вопрос о метафизической власти: ведь осуществление “подлинного” возможно только тогда, когда актором является “мир”, некоторая совокупность процедур обретает онтологический статус если охватывает все сущее. Именно власть является подлинным творцом “подлинного”, производителем истины, и естественно, эта власть имеет совсем не политический характер, вообще в последовательно проведенной идеологической практике разрушается пространство политического, как и все другие пространства конечного волеизъявления. Власть, понятая онтологически и являющаяся источником приведения к истине, сталкивается с неизбежной и неустранимой угрозой: Другой, как источник независимого самообоснования. Другой самим своим существованием в качестве другого обрушивает весь онтологический проект, и поэтому его бытие истолковывается как непрерывная агрессия. Поэтому идеологическая практика строится как борьба с Другим, захватившим мир, и одновременно как повествование об этой борьбе. Собственно, поскольку наш интерес сосредоточен на практиках мышления, а не устройствах социального порядка, можно сказать, что идеологическая практика и есть постоянно возобновляемое повествование о борьбе за Власть как источник онтологического творчества. Это власть над собой, самое ядро субъективности. Носитель идеологической практики является персонажем данного повествования: Другой отнял у него власть над самим собой, тем самым лишив подлинного бытия. Победа над другим есть одновременно возвращение власти над собой, то есть приход к автономной субъективности. То, что на языке идеологии называется полным и окончательным освобождением некой порабощенной сути, функционально есть установление полной и абсолютной власти над собой, но тот, кто мог бы суверенно владеть собой, постоянно разрушается в идеологическом конституировании своей ситуации. Таким образом, действующая норма культурной повседневности (владение собой) оказывается титанической целью, переворачивающей мир. Так в идеологической практике радикально преобразуется удержание отношения к Истоку. Между носителем субъективного бытия и его истоком встает Другой, отделяющий от истока, одновременно именно он делает “меня” персонажем. Этот Другой, по существу, внутренняя фигура, с трудом и неадекватно поддающаяся овнешнению, но именно он представляет то поле, на котором битва за себя всегда проиграна: утопия полной власти над собой требует присвоить Другого, сделать так, чтобы другое не было Другим. Понятно, что в политических приложениях идеологической практики, Другой овнешнен максимально, и именно эта террористическая импликация привлекла к себе внимание аналитиков прошлого столетия. Она исследовалась под именем тоталитарного сознания. Но тоталитарное сознание это один из конечных пунктов развития идеологической практики субъекта истории, который приводит его к самоубийству в качестве такового; это некий аналог психоза, радикально “решающего” личность как проблему. Более рефлексивным состоянием является стратегия удержания в истории или удержания истории, которая видимо и является преобладающим типом идеологического сознания, во всяком случае, за пределами тоталитарной утопии. Идеологическое сознание может реализовывать свой проект только в борьбе со словом Другого и в борьбе за слово Другого. Это так, потому что сам его исторический проект зиждется на магической интуиции: слово, оставшееся одно, не оспариваемое другим словом, перестает быть “только словом” и становится онтологически производящим (при этом понимание действительной власти слова и его онтологической мощи обычно подавляется или перенаправляется на изобличение чужого слова). Чужое слово никогда не устранимо до конца, оно всегда “еще” есть, и поэтому идеологический проект в его телеологии всегда терпит крушение. Это состояние непрерывного крушения очень хорошо видно потому, что идеологическая речь преимущественно строится как оборона, как отражение некого уже осуществившегося нападения, этот подрыв имплантирован в саму ткань проекта. Принципиальная связанность “чужим словом” является и легитимирующим, и фрустрирующим элементом идеологического сознания. Чужое слово, как известно, всегда первое, и всякое идеологическое построение является его негативным коррелятом. При этом на понимание чужого слова наложен запрет. Ведь в данной ситуации понимание означало бы самоубийство: рухнула бы вся коррелятивная соотносительность как основание бытия. Это так, потому что понимание здесь выступает лишь как “принятие на себя” чужого слова, понимающий становится носителем этого слова, как враждебного слова о себе и, таким образом, “предателем”, предателем “самого себя”, то есть того проекта историчности, в который он включен. Однако удержание чужого слова и себя относительно чужого слова и лежит в основании идентификации. Поэтому оно осуществляется через фрагментацию и риторическую разработку. К. Гирц предложил понимать идеологию как разновидность символической деятельности, оперирующей тропами: “Если наука – это диагностическое, критическое измерение культуры, то идеология – измерение оправдательное, апологетическое: она относится "к той части культуры, которая устанавливает и защищает убеждения и ценности"”11, такое понимание, частично безусловно верное и полезное для культуролога, игнорирует собственно философскую работу с идеологическим, не предполагая возможности неидеологического самообоснования. Но работа идеологической риторики, связанная с ее двойственным отношением к “материалу” еще не описана вполне. Границы субъекта историчности. Гирц К. Идеология как культура. // Новое литературное обозрение, №29. 1998. http://nlo.magazine.ru/philosoph/inostr/3.html 11 Исторический субъект отделился от своей судьбы и именно поэтому несет за нее полную ответственность. В этом смысле его судьба должна быть им преодолена в актах объективизации. Собственно “судьба” отделяется от субъекта именно в этих актах отнесения к миру, и в них же субъект делается “собой”, то есть относящимся к миру и судящим (выносящем суждения) о нем. Но теперь судьба приходит к нему как мир. Субъект судит мир, будучи осужден миром. Таким образом, возникает проблема: как отделить и определить мир таким образом, чтобы отделить от себя место подсудимого, как не быть осужденным. В своих примитивных формах эта проблема хорошо известна психологам и психотерапевтам, но по существу это вопрос самополагания субъективности (одно из первых феноменологических описаний этой практики дал М. Бахтин в “Авторе и герое”12, художнически это сделано Достоевским, но, может быть, первое сообщение о ней – молитва фарисея, или даже разговоры друзей Иова). Самым простым выходом кажется целиком блокировать суд мира и перенести на него положение подсудимого. В пределе это позиция параноика или террориста. Но она крайне тесна для человека, ведь пресловутый “мир” не есть нечто внешнее, он один из порядков самой субъективности. Однако эта позиция устойчиво работает, когда ампутация происходит на уровне “коллективного субъекта”, которого находит себе индивидуальный субъект. Этот “мы-субъект” выступает как осуществленный синтез взаимного полагания, синтез оценок “я-субъекта” и “мира”, которые полностью приняли друг друга или впали в архаическое неразличение (довольно условное). Итак, угроза радикального осуждения отступила от субъекта, но она теперь надвигается со стороны бытия, находящегося по ту сторону “мы-субъекта”. Мы-субъект претендует на то, чтобы быть миром, таким образом, “потустороннее” бытие все больше выступает как не-мир, антимир. Это воля к злу, лишенная какого-либо онтологического статуса. Суждение, поступающее “оттуда”, не может быть принято как суждение, то есть как “судящее”, оно рассматривается лишь как подрыв нашего собственного суждения. Здесь мы возвращаемся к проблеме суждения, то есть к некоторому конститутивному противоречию, заключенному в как в понятии субъекта, так и в его бытии. Исторический концепт “субъекта” возник в Новое время и постепенно стал пониматься как “теоретико-познавательный субъект”, то есть “субъект теоретикопознавательного суждения” (тот, кто его совершает). Культура позднего Нового времени, во многом строит себя как опротестовывание этого типа субъективности: спор идет о том, возможен ли такой субъект, таков ли “настоящий” субъект, и чего стоит выносимое им 12 Бахтин М. Автор и герой. СПб.: Азбука, 2000. суждение. Важнейшей трансгрессией субъекта является именно переопределение его фундированности суждением (которое в свою очередь фундировано им). В самом упрощенном виде это переопределение выглядит так: субъект не одновременен своему суждению, он существует до него и вне его. Его бытие не схвачено его суждением, напротив, само его суждение является следствием его бытия и осуществляет нужды этого бытия. “Бытие” решительно побеждает “мышление”, само же бытие варьируется чрезвычайно широко: от жизненного порыва или мировой воли до “базиса”. Мышление не судит бытие, но является его симптомом, чаще всего, симптомом болезненным. Такое переопределение сторон есть “смерть субъекта”, потому что то, что существует до и вне суждения – уже не он. Этот спор неустранимо двусмысленен. Очевидно, что здесь происходит не оспаривание “старого” субъекта, а переопределение его границ новым кругом объективизации. “Порочность” старого субъекта заключается именно в том, что конституировало его как такового. “Старый” субъект ведь не был живым существом, обремененным каким бы то ни было эмпирическим бытием. “Субъект” был практикой мышления и существовал именно в акте истинностного мышления, будучи “одновременен” ему. Он являлся органом мышления и культурным органом индивида, который переводил индивидное в универсальное. Но появление такого рода “органа” безусловно перестраивает индивида и меняет его бытие. Субъект производит истинные суждения – и потребность в “новой субъективности” связана именно с тем, какого рода суждение о мире (суждение мира) становится необходимо человеку, сознающему свое обладание “новым” органом. Старая программа предполагала разрыв или параллельное существование бытия и мышления, новая сделала мышление эпифеноменом бытия. И там, и там бессознательно опускался первичный факт: сознание и “есть” бытие, тот акт бытия, который, созерцая, творит сам себя. Декарт предположил, что это созерцание, творящее себя, созерцает так же само себя, в кантовской перспективе это означает – форму, в которой возможно всякое созерцание. Но, кажется это не вполне так. Cogito созерцает то, что оно мыслит, но не конструкции мыслимости, в декартовских идеях ясных и отчетливых еще слышно эхо Платона, постепенно затухающее. Творение происходит лишь в отношении Другого, который становится Другим в самом акте творения того, что образует созерцание. В этом смысле бытие радикально инаково субъективности, которая может войти в общение лишь с инаковостью бытия. Проблема в том, что сама структура субъективности препятствует явлению Другого, выступает как длительность непрерывного опосредования в пред-ставлении и по- ставлении. Структура пред-ставленного, коррелятивная структуре пред-лежащего (т. е. субъекта) была виртуозно показана Хайдеггером. Но простая критика субъекта (как призыв покончить с ним) бессмысленна: он, в некотором роде, органическая, хотя и строящая сама себя, форма, в которую отлилось драматическое и самопротиворечивое отношение к истоку, и не могущее быть иным “внутри истории”. Субъект – структура удерживающая саму обращенность к истоку, но и фиксирующая, останавливающая эту обращенность, разворачивающая ее в длительность представления, держания перед собой. Но что можно держать перед собой, держать на месте? Сущее, сведенное в объективно данное? Это не полный ответ. Сама полнота объективности целиком удерживается актом отнесения ее к истоку и гарантируется им. Здесь и проявляется самопротиворечивое устройство субъективности. Вся объективирующая деятельность должна быть “спасена” вставлением в перспективу истока, при этом сам исток “организуется” технически, как то, что может удержать и спасти полноту субъективности полной и окончательной ее объективацией. Стать вполне вещью означает здесь стать в истине. Эта вещь является вещью именно потому, что целиком охвачена, или схвачена тем, что Хайдеггер назвал “волей к воле”13, полностью воплотившейся в идеологически фундированной Необходимости. На этом уровне самополагания субъективности идеология и выступает в своей “необходимости”. Воля, о которой говорит Хайдеггер, выражает себя не как самовластие. Она осуществляется в максимуме самообъективизации, самоовеществления субъекта, так что мучительное отношение к истоку через Другого уничтожается. И “если это так, то мы зря воображаем, будто предчувствие конца метафизики позволяет нам встать вне ее. Ибо преодоленная метафизика не улетучивается. Она возвращается видоизмененной назад и остается у власти в качестве продолжающего править отличия бытия от сущего”14. 13 14 Хайдеггер М. Преодоление метафизики. // Хайдеггер М. Время и бытие. М.: Республика, 1993. С. 177. Там же. С.177.