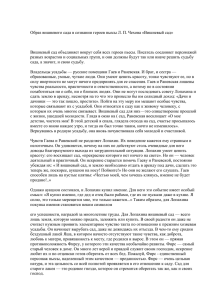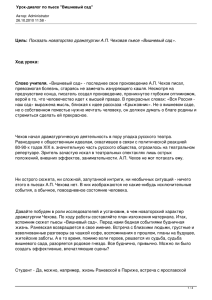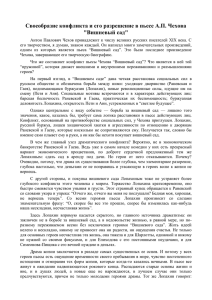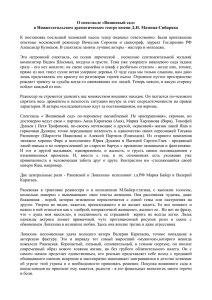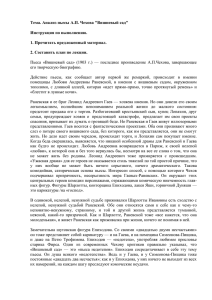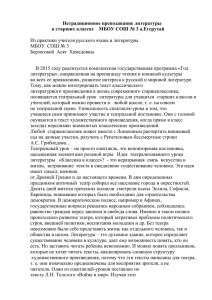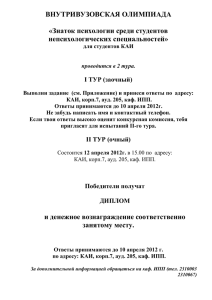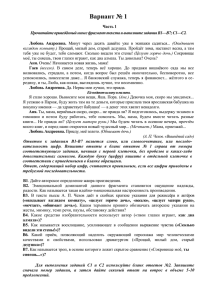Цветы запоздалые
реклама
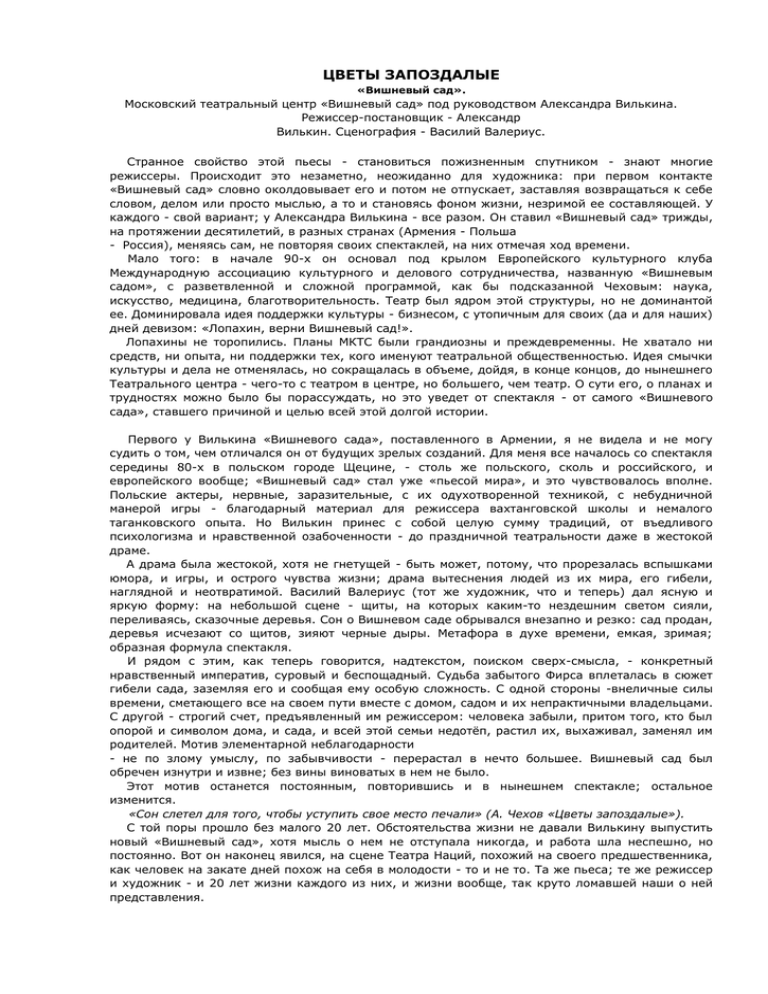
ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ «Вишневый сад». Московский театральный центр «Вишневый сад» под руководством Александра Вилькина. Режиссер-постановщик - Александр Вилькин. Сценография - Василий Валериус. Странное свойство этой пьесы - становиться пожизненным спутником - знают многие режиссеры. Происходит это незаметно, неожиданно для художника: при первом контакте «Вишневый сад» словно околдовывает его и потом не отпускает, заставляя возвращаться к себе словом, делом или просто мыслью, а то и становясь фоном жизни, незримой ее составляющей. У каждого - свой вариант; у Александра Вилькина - все разом. Он ставил «Вишневый сад» трижды, на протяжении десятилетий, в разных странах (Армения - Польша - Россия), меняясь сам, не повторяя своих спектаклей, на них отмечая ход времени. Мало того: в начале 90-х он основал под крылом Европейского культурного клуба Международную ассоциацию культурного и делового сотрудничества, названную «Вишневым садом», с разветвленной и сложной программой, как бы подсказанной Чеховым: наука, искусство, медицина, благотворительность. Театр был ядром этой структуры, но не доминантой ее. Доминировала идея поддержки культуры - бизнесом, с утопичным для своих (да и для наших) дней девизом: «Лопахин, верни Вишневый сад!». Лопахины не торопились. Планы МКТС были грандиозны и преждевременны. Не хватало ни средств, ни опыта, ни поддержки тех, кого именуют театральной общественностью. Идея смычки культуры и дела не отменялась, но сокращалась в объеме, дойдя, в конце концов, до нынешнего Театрального центра - чего-то с театром в центре, но большего, чем театр. О сути его, о планах и трудностях можно было бы порассуждать, но это уведет от спектакля - от самого «Вишневого сада», ставшего причиной и целью всей этой долгой истории. Первого у Вилькина «Вишневого сада», поставленного в Армении, я не видела и не могу судить о том, чем отличался он от будущих зрелых созданий. Для меня все началось со спектакля середины 80-х в польском городе Щецине, - столь же польского, сколь и российского, и европейского вообще; «Вишневый сад» стал уже «пьесой мира», и это чувствовалось вполне. Польские актеры, нервные, заразительные, с их одухотворенной техникой, с небудничной манерой игры - благодарный материал для режиссера вахтанговской школы и немалого таганковского опыта. Но Вилькин принес с собой целую сумму традиций, от въедливого психологизма и нравственной озабоченности - до праздничной театральности даже в жестокой драме. А драма была жестокой, хотя не гнетущей - быть может, потому, что прорезалась вспышками юмора, и игры, и острого чувства жизни; драма вытеснения людей из их мира, его гибели, наглядной и неотвратимой. Василий Валериус (тот же художник, что и теперь) дал ясную и яркую форму: на небольшой сцене - щиты, на которых каким-то нездешним светом сияли, переливаясь, сказочные деревья. Сон о Вишневом саде обрывался внезапно и резко: сад продан, деревья исчезают со щитов, зияют черные дыры. Метафора в духе времени, емкая, зримая; образная формула спектакля. И рядом с этим, как теперь говорится, надтекстом, поиском сверх-смысла, - конкретный нравственный императив, суровый и беспощадный. Судьба забытого Фирса вплеталась в сюжет гибели сада, заземляя его и сообщая ему особую сложность. С одной стороны -внеличные силы времени, сметающего все на своем пути вместе с домом, садом и их непрактичными владельцами. С другой - строгий счет, предъявленный им режиссером: человека забыли, притом того, кто был опорой и символом дома, и сада, и всей этой семьи недотёп, растил их, выхаживал, заменял им родителей. Мотив элементарной неблагодарности - не по злому умыслу, по забывчивости - перерастал в нечто большее. Вишневый сад был обречен изнутри и извне; без вины виноватых в нем не было. Этот мотив останется постоянным, повторившись и в нынешнем спектакле; остальное изменится. «Сон слетел для того, чтобы уступить свое место печали» (А. Чехов «Цветы запоздалые»). С той поры прошло без малого 20 лет. Обстоятельства жизни не давали Вилькину выпустить новый «Вишневый сад», хотя мысль о нем не отступала никогда, и работа шла неспешно, но постоянно. Вот он наконец явился, на сцене Театра Наций, похожий на своего предшественника, как человек на закате дней похож на себя в молодости - то и не то. Та же пьеса; те же режиссер и художник - и 20 лет жизни каждого из них, и жизни вообще, так круто ломавшей наши о ней представления. Нет былого сияния красок. Вверху над сценой - контуры стволов сада, геометрические, условные. На щитах-ширмах - аппликации серебристо-белых ветвей с диковинными синими цветами. Они смотрятся странно, как бы незаконны здесь, в холодном осеннем воздухе. В убранстве сцены все сумрачно и весомо - этакое театральное барокко взамен былого импрессионизма; ход спектакля не пульсирует, как прежде, вспышками, но замедлен и тяжеловат. Спектакль этот строг и без надрыва печален. Он не о том, как живое сопротивляется подступающему небытию - всё, по сути, свершилось, все всё знают, ни на что не надеются, существуют по инерции, постфактум. Оттого притушены страсти; маска вечного затейника не скрывает усталости Шарлотты (М. Остапенко); суховато деловит Лопахин (С. Ковалев) взамен польского, влюбленного, романтичного - похоже, что режиссер в романтизм этой породы людей уже не верит. (И то - как верить? Случилось мне прошлым летом быть в Любимовке, бывшем имении Станиславского, уныло запущенном, с трудом возрождающемся теперь. Там на пустыре несколько лет назад театральные люди насадили вишневых деревьев. Тонкие прутики подросли, клонятся, беззащитные, на ветру, заглушаются буйной травой, - а напротив, за оградой, почти впритык, смотрят на них самодовольные особняки нынешних Лопахиных, которым и дела нет до этой вишневой поросли, до Чехова и Станиславского.). Этот «Вишневый сад» - о достоинстве, с каким чеховские люди встречают свою судьбу. Не все, но главные здесь - сестра и брат, Раневская и Гаев (О. Широкова и В. Райкин), отмеченные родством, хотя и такие разные: он импульсивен, беззащитен, открыт; она, маленькая и хрупкая, крепка духом, с нелегко доставшейся мудростью. Печаль и мудрость ее не ведут к заунывности, не снимают артистизма и юмора, опасного огонька в глазах и той стихийной женственности, что кажется брату порочной и так победительно взыгрывает в сцене-дуэли с Петей (А. Моисеев). Но все это - легко и штрихом, без нажима, с той «грацией», которую Чехов считал правилом своего театра. Так она существует в спектакле; так они с братом уйдут навсегда из этого дома, от своего сада. Сада, впрочем, уже и нет. Как прежде, он исчезнет с ширм-щитов; вместо синих цветов темные дыры, прорехи. Оно и понятно: «...не цвести цветам поздней осенью». ( А.П. Чехов «Цветы запоздалые»). Татьяна Шах-Азизова