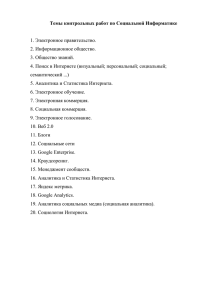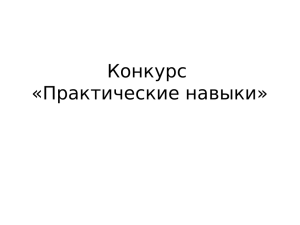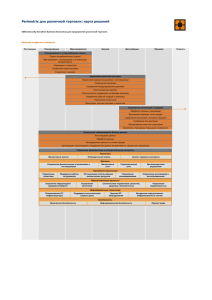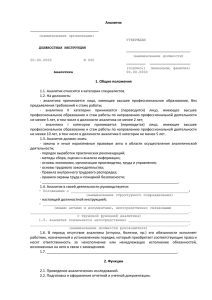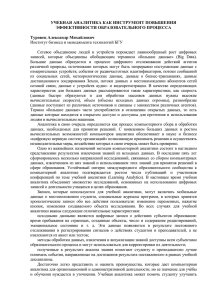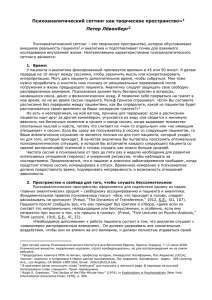Проективная идентификация: вовлечённость аналитика
реклама
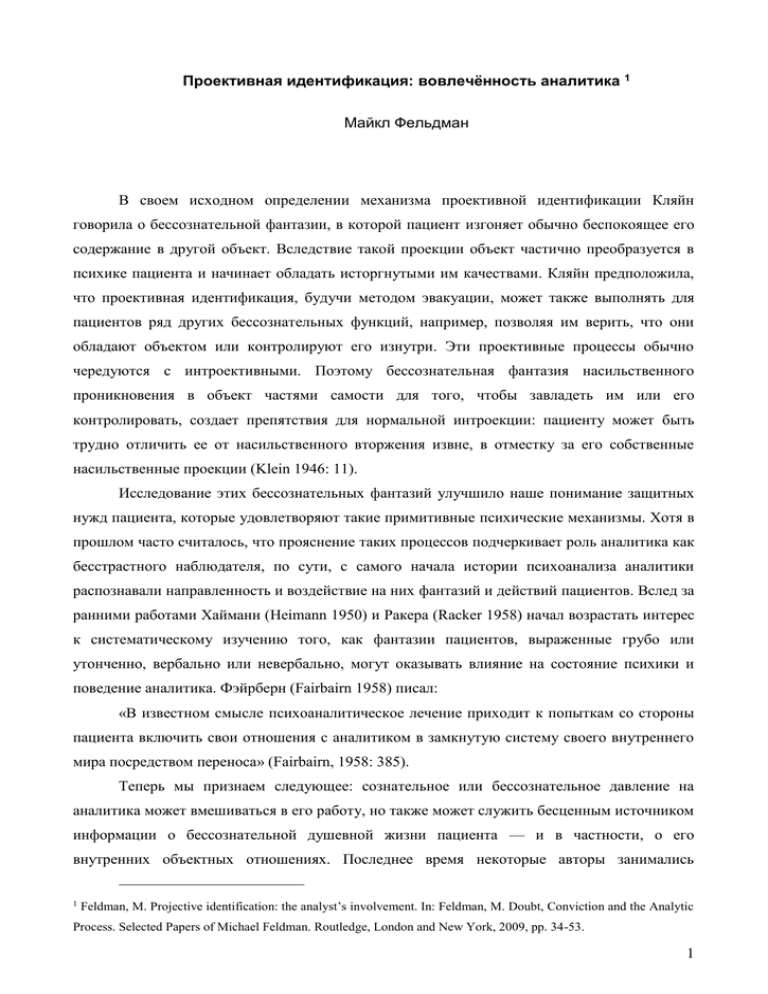
Проективная идентификация: вовлечённость аналитика 1 Майкл Фельдман В своем исходном определении механизма проективной идентификации Кляйн говорила о бессознательной фантазии, в которой пациент изгоняет обычно беспокоящее его содержание в другой объект. Вследствие такой проекции объект частично преобразуется в психике пациента и начинает обладать исторгнутыми им качествами. Кляйн предположила, что проективная идентификация, будучи методом эвакуации, может также выполнять для пациентов ряд других бессознательных функций, например, позволяя им верить, что они обладают объектом или контролируют его изнутри. Эти проективные процессы обычно чередуются с интроективными. Поэтому бессознательная фантазия насильственного проникновения в объект частями самости для того, чтобы завладеть им или его контролировать, создает препятствия для нормальной интроекции: пациенту может быть трудно отличить ее от насильственного вторжения извне, в отместку за его собственные насильственные проекции (Klein 1946: 11). Исследование этих бессознательных фантазий улучшило наше понимание защитных нужд пациента, которые удовлетворяют такие примитивные психические механизмы. Хотя в прошлом часто считалось, что прояснение таких процессов подчеркивает роль аналитика как бесстрастного наблюдателя, по сути, с самого начала истории психоанализа аналитики распознавали направленность и воздействие на них фантазий и действий пациентов. Вслед за ранними работами Хайманн (Heimann 1950) и Ракера (Racker 1958) начал возрастать интерес к систематическому изучению того, как фантазии пациентов, выраженные грубо или утонченно, вербально или невербально, могут оказывать влияние на состояние психики и поведение аналитика. Фэйрберн (Fairbairn 1958) писал: «В известном смысле психоаналитическое лечение приходит к попыткам со стороны пациента включить свои отношения с аналитиком в замкнутую систему своего внутреннего мира посредством переноса» (Fairbairn, 1958: 385). Теперь мы признаем следующее: сознательное или бессознательное давление на аналитика может вмешиваться в его работу, но также может служить бесценным источником информации о бессознательной душевной жизни пациента — и в частности, о его внутренних объектных отношениях. Последнее время некоторые авторы занимались 1 Feldman, M. Projective identification: the analyst’s involvement. In: Feldman, M. Doubt, Conviction and the Analytic Process. Selected Papers of Michael Feldman. Routledge, London and New York, 2009, pp. 34-53. 1 разработкой концепции контрпереноса, превращая ее в некую «интерактивную» модель психоанализа, где акцент делается на значимости собственного субъективного опыта аналитика в его понимании и методе реагирования на пациента. Превосходный комментарий к ряду интересных работ в этой области мы находим у Такета (Tuckett, 1997). Основываясь на представлениях Ракера (Racker 1958), Сандлера (Sandler 1976) и Джозеф (Joseph 1989a), он разрабатывает модель аналитической ситуации, в которой и пациент, и аналитик участвуют в бессознательном разыгрывании, оказывая друг на друга более или менее тонкое давление, и таким образом устанавливают отношение в рамках текущей бессознательной фантазии. Такет отмечает: «Разыгрывание позволяет получить знание — причем знание репрезентируемое и коммуницируемое, — о тех глубоких бессознательных идентификациях и примитивных уровнях функционирования, о которых в противном случае мы могли бы только строить догадки и дискутировать на интеллектуальном уровне» (Tuckett, 1997: 214). В данной главе я хочу сосредоточиться, в частности, на природе той вовлеченности аналитика, которая, по-видимому, является необходимым компонентом защитного использования пациентом проективной идентификации. С моей точки зрения, проекция элементов фантазийных объектных отношений представляет собой попытку пациента уменьшить расхождение между архаическим объектным отношением и альтернативным отношением, которое может быть для него конфронтирующим и угрожающим. Иногда аналитик используется главным образом как реципиент проекций, которые преображают его только в фантазии пациента. Но чаще, как сказано выше, пациенту, видимо, необходимо вовлечь аналитика в проживание некоторых аспектов фантазий, отражающих его (пациента) внутренние объектные отношения. Я надеюсь проиллюстрировать разные способы использования пациентом проективной идентификации, оказывающие тонкое и мощное давление на аналитика для реализации бессознательных ожиданий пациента, заключенных в его фантазиях. Таким образом, посягательство на мышление, чувства и действия аналитика — это и не случайный побочный эффект проекций пациента, и не обязательно проявление собственных конфликтов и тревог аналитика, но зачастую, похоже, — существенный компонент эффективного использования пациентом проективной идентификации. Далее в настоящей главе я рассмотрю ряд тех защитных функций, которые выполняют данные процессы. Столкнувшись с этим давлением, аналитик, безусловно, может оказаться способным спокойно и уверенно продолжать выполнять свою роль и функцию, эмпатически наблюдая и понимая, распознавая те силы, которые на него воздействуют, и размышляя над их источником и целью. С другой стороны, такое воздействие и его последствия для психического и физического состояния аналитика могут привести к нарушениям его 2 функционирования — он может обнаружить, что становится сонным, смущенным (confused), испытывает тревогу или душевный подъем. И, наконец, аналитику может стать очевидным, что он бессознательно втянут в тонкое и сложное разыгрывание, которое не обязательно нарушало его функционирование вначале, но которое впоследствии может быть распознано как проживание важных элементов внутренних объектных отношений пациента. Мы рассматриваем систему, в которой как пациент, так и аналитик справляются с тревогами и нуждами, вызванными в каждом из них фантазиями определенных объектных отношений. Беспокойство у пациента, аналитика или у них обоих возникает из-за расхождения между уже существующими (pre-existing) фантазиями, частично утешающими или удовлетворяющими, и потенциально угрожающими фантазиями, с которыми каждый из них сталкивается в аналитической ситуации. Я полагаю, что это неприятное расхождение побуждает каждого из них развертывать либо проективные механизмы, либо некую разновидность разыгрывания, пытаясь лучше согласовать уже существующие бессознательные фантазии с тем, что они переживают в ходе аналитической встречи. Я надеюсь показать, что отчасти задача аналитика заключается в признании определенной части этого давления, и в умении вынести разрыв между приносящими удовлетворение и утешение фантазиями и тем, с чем он сталкивается в аналитической ситуации, включая бессознательные тревоги, пробужденные проекциями пациента. Розенфельд (Rosenfeld 1971b) описывает пациента-психотика, который, сталкиваясь с интерпретациями, вызывавшими у него восторг, преисполнялся зависти, которая вынуждала его атаковать функции аналитика. В своей фантазии он вползал в мозг аналитика, словно паразит, препятствуя скорости его мышления. Такое использование проективной идентификации часто сопровождалось тем, что пациент терялся, не мог должным образом думать и говорить, и испытывал клаустрофобические и параноидные тревоги, что он пойман внутри аналитика в ловушку. Розенфельд пишет, что аналитику необходимо эмпатически следовать за описанием пациентом как реальных, так и фантазируемых событий, которые часто разыгрываются заново (re-enacted), будучи спроецированными в аналитика. Аналитик должен свести воедино рассеянные, спутанные или отщепленные аспекты до-мыслительных (pre-thought) процессов пациента в собственной психике, чтобы они постепенно обрели смысл и значение (Rosenfeld 1987: 160). Когда Розенфельду удавалось ясно и подробно интерпретировать пациенту динамику его состояния, его тревога, что он полностью разрушил мозг аналитика, ослабевала, и пациент становился способным с облегчением воспринимать аналитика полезным и неповрежденным. Когда пациент мог интроецировать этот объект в хорошем состоянии, у него на некоторое время получалось восстановить свои способности к более четкой мысли и речи. 3 Бион (Bion 1958) дает сложное описание начала сеанса с пациентом-пихотиком, который быстро взглянул на аналитика, помедлил, посмотрел на пол в углу комнаты, а затем слегка содрогнулся. Он лег на кушетку, продолжая смотреть на пол в том углу. В ходе беседы он сказал, что чувствует себя пустым, и не сможет получить никакой пользы от продолжения сеанса. Бион шаг за шагом расшифровывает процесс, посредством которого пациент использовал свои глаза вначале для интроекции, а затем для исторжения, создавая угрожающую галлюцинаторную фигуру, сопровождаемую ощущением внутренней пустоты. Когда он дал интерпретацию в таком духе, пациент несколько успокоился и сказал: «Я нарисовал картину». Бион (Bion 1958: 343) пишет: «Наступившее за этим молчание означало, что аналитик уже располагает материалом для следующей интерпретации». Бион предположил, что его задача заключалась в том, чтобы отследить все события на сеансе вплоть до этого момента, попытаться собрать их воедино и различить в своей психике новый рисунок, который должен был стать основанием для следующей интерпретации. Во второй главе я описал, как молодого человека, г-н А., пришедшего ко мне на первый сеанс после каникул, обескуражило, что он обнаружил кого-то ему незнакомого в моей приемной, а затем он решил, что я, вероятно, допустил ошибку. Он вообразил, что это вызовет у меня дискомфорт и смущение, с которыми я справиться не смогу, и пришлю когото другого, коллегу, чтобы тот нашел выход из этой ситуации. Придя к такому умозаключению, пациент превратился в спокойного и уверенного в себе наблюдателя, созерцающего своего запутавшегося аналитика. Впоследствии пациент сказал мне, что во время моего отсутствия на каникулах в нем царила неразбериха, он потерял часы и чувствовал, что не знает, что происходит. Я предположил, что переживание пациентом смятения и его проблемы со временем были спроецированы в меня (в фантазии). Ненадолго ощутив дискомфорт в приемной, он «исцелил» себя от этого беспокоящего переживания, и стал спокойным наблюдателеманалитиком, тогда как я, в его фантазии, вынужден был звать на помощь, чтобы меня спасли от ошибки, допущенной мною в расписании. Эти примеры иллюстрируют бессознательную веру пациента в эффективность конкретного по своему характеру процесса, посредством которого обычно нежелательные и угрожающие части личности могут отщепляться и проецироваться вовне. Мотивы для такой проекции разнообразны, но определяющей характеристикой проективной идентификации является вовлеченность в нее ее объекта, а также вера в то, что этот объект преобразуется посредством проекции. Такое преобразование может происходить с объектом в бреду или в галлюцинации, в его отсутствие или во сне, но для нашей работы центральное значение имеет исследование этого процесса по отношению к аналитику, находящемуся в одной комнате с пациентом. В приведенных выше примерах пациенты как будто бы не 4 сомневаются в эффективности преобразования самих себя, которое сопровождает преобразование объекта. Я думаю, опираясь на свой прошлый опыт в анализе, пациенты были способны предположить в аналитике симпатию, понимание и восприимчивость, но особенностью проективного процесса, проявившейся в данных примерах, является то, что они не зависели от наглядного свидетельства способности или готовности аналитика воспринять проекции. В самом деле, примечательной особенностью данных примеров служит контраст между нашим впечатлением от истинного психического состояния аналитика и тем, как оно представлено в фантазии пациента. Как отметил Бион, способность пациентов предпринимать «реалистические шаги» для воздействия на свой объект посредством проективной идентификации различна, так же как их способность распознавать и признавать истинные свойства объекта. Поэтому у некоторых пациентов всемогущественная фантазия будет слабо согласовываться с реальностью. Розенфельд и Бион существенно улучшили наше понимание того, какое воздействие на аналитика оказывают проекции пациента, однако в упомянутых выше ситуациях оба аналитика излучали вдумчивое, спокойное, доброжелательное внимание, резко не соответствуя фантазии как о преследующем объекте, так и об аналитике, чья психика подверглась вторжению и порче. Когда Розенфельд внятно, проницательно и сочувственно заговорил со своим пациентом, принимая во внимание его фантазию, но в то же время ясно демонстрируя состояние дел, прямо противоположное тому, что представлялось в бессознательной фантазии пациенту, — пациент испытал облегчение и смог восстановить некоторые из своих утраченных Эго-функций. В случае с моим пациентом, г-ном А., меня интересовали и заботили его переживания, а также те качества, которыми я был временно наделен психикой пациента. На самом деле я не чувствовал ни неуверенности, ни замешательства, и был уверен, что ко мне пришел именно тот пациент, который и должен был прийти. Сообщение моего пациента мне в данном случае не причинило никакого дискомфорта. Другая особенность данного примера заключается в том, что когда я заговорил с пациентом, выказывая отсутствие замешательства или какой-либо особенной тревоги, и дал ему почувствовать, что кое-что было понято, он смог воскресить и интегрировать больший объем своих переживаний. Позднее на сеансе он рассказал мне, что на каникулах переехал из своего кабинета в другой, более просторный и находящийся выше. Те два человека, с которыми он делил свой старый кабинет, тогда отсутствовали, а вернувшись, возмутились ужасным беспорядком, который он оставил после себя. Г-н А. с негодованием сказал, что может быть, какой-то беспорядок и остался: он собирался все убрать, но был занят другими делами. Далее он предположил, что его коллеги повели себя неразумно и невротично, и привел другие примеры их детского поведения. Он начал говорить, как тот уверенный в себе, высокомерный человек из большего кабинета, 5 которого я увидел в начале сеанса. Сначала я не задался вопросом, почему чувствовал себя так комфортно и спокойно, когда столкнулся с этим материалом в начале первого сеанса после перерыва в анализе. Подозреваю, что я отчасти разыгрывал те объектные отношения, которые пациент впоследствии для меня прояснил. Я был уверенным, здравомыслящим и благоразумным человеком на высшей должности, имеющим дело с кем-то, в кого были почти целиком спроецированы разлад и смятение. Эта проекция и вызванное ею легкое разыгрывание никак не повлияли меня, и даже в тот момент ничем не встревожили, поскольку моя роль невозмутимого аналитика-наблюдателя в кабинете наверху согласовывалась с тем моим представлением о себе, которое меня вполне устраивало — по крайней мере, на некоторое время. Размышляя над этим материалом, я понял, что также сначала не распознал бессознательной коммуникации пациента — горькой жалобы, что я оставил его в таком беспорядке на каникулы, — при том, что защищаясь, я заявлял, что собираюсь с этим что-то сделать, по большей части отрицая в то же самое время свою ответственность за этот разлад. Как я покажу ниже, мы научились не только замечать свои ощущения дискомфорта как возможные отражения проективной идентификации пациента, но также и принимать во внимание ситуации, когда мы, возможно, чувствуем себя слишком спокойно и комфортно, слишком уверенными в том, где именно находится патология и кто ответственен за беспорядок. Полагаю, данный пример иллюстрирует, что по сути существует сложная связь между проекцией в объект в фантазии (даже в отсутствие настоящего объекта) и тем, что происходит при встрече пациента и аналитика, когда начинаются довольно тонкие, не всемогущественные взаимодействия, обычно основанные на бессознательных проекциях в аналитика. Разумеется, нетрудно увидеть преимущества проекции в галлюцинаторный, бредовый или отсутствующий объект. Поскольку этот процесс всемогущественный, не возникает сомнений в восприимчивости объекта и его дальнейшей трансформации. (Также, повидимому, не возникает проблем с соответствующей интроекцией ценных качеств объекта.) Пациент не сталкивается ни с обескураживающим расхождением между бессознательной фантазией и реальностью, ни с различиями между собой и своим объектом. Какие факторы обусловливают описываемое Розенфельдом (Rosenfeld 1971b) более мягкое, интегративное течение процесса, — пусть и на короткое время? Почему пациент иногда может выносить — чувствуя при этом большое облегчение — столкновение с аналитиком в состоянии, плохо согласующемся с его психической реальностью в данный момент? Почему, с другой стороны, некоторые пациенты чувствуют себя вынужденными применять другие методы, более тонкие или более насильственные, чтобы вовлечь аналитика 6 посредством проективной идентификации? Хотя пациент Биона отщепил и спроецировал опасную преследующую версию аналитика в галлюцинаторный объект в углу, он по крайней мере имел некоторое представление о мягкой символической коммуникации, что следует из убеждения, что возможно нарисовать картину в голове должным образом восприимчивого аналитика. Другие пациенты, по-видимому, либо не разделяют такого убеждения, либо не способны вынести такую конфигурацию. Бион (Bion 1959) живо описал, как младенец, столкнувшись с тем, что выглядит как непроницаемый объект, оказывается вынужденным проецировать в него со все большей и большей силой. Ранний опыт подобных затруднений с восприимчивостью объекта может подталкивать пациента к такому способу вовлечения аналитика, при котором в психике последнего действительно происходили бы нарушения, или же чтобы принудить его стать более покладистым или преследующим. Похоже, если у пациента есть такие сомнения относительно возможности либо символической коммуникации, либо восприимчивости объекта к любым формам проекции, он не способен смягчиться до тех пор, пока не получит свидетельство своего воздействия на душу и тело аналитика. Если это никак не удается, что подтверждает ранний опыт недоступного, ненавистного объекта, пациент может в отчаянии капитулировать. Мы склонны предположить, что пациент, чувствуя, что его понимают — то есть принимают некую важную его часть — ощутит облегчение вследствие контраста между более здравым и мягким имаго аналитика и архаическим имаго, в него спроецированным (если прибегнуть к терминам Стрэйчи (Strachey 1934)). Иногда мы предполагаем, что препятствует этому только действие зависти пациента. Однако зачастую кажется, что здесь действует другое влечение, а именно — стремление к тождеству (pressure towards identity), которое кажется парадоксальным и трудно согласующимся с жаждой лучшего, более конструктивного опыта. Пациенту как будто бы требуется, чтобы переживание или поведение аналитика в какой-то мере соответствовало его бессознательной фантазии, и он не может вынести или использовать никакое расхождение в этом, сколь бы утешительным оно, на наш взгляд, ни было. Наоборот, как указали Сандлер и Сандлер (Sandler & Sandler 1978, 1990), попытки пациента «актуализировать» такие фантазии можно считать формой осуществления желаний, которая служит функции утешения и удовлетворения. Джозеф (Joseph 1987) описывает сеанс, на котором аналитик проинтерпретировала реакцию заброшенного ребенка на неотвратимое завершение пятничного сеанса. Аналитик проинтерпретировала неотложную потребность девочки сделать свечу как выражение ее желания забрать с собой теплый объект. Девочка завопила: «Мерзавка! Снимай свою одежду и прыгай отсюда!» Аналитик попыталась проинтерпретировать ощущения ребенка, что ее бросили, отправили на холод, но девочка ответила: «Кончай говорить, снимай одежду! Тебе холодно. Мне не холодно». Хотя проекция в репрезентацию аналитика приводит девочку к 7 высказыванию «Тебе холодно. Мне не холодно», этого оказывается для ребенка недостаточным. Ее не-бредовое восприятие аналитика, которой относительно тепло и удобно, приводит ее к попыткам заставить аналитика действительно снять одежду, чтобы ей на самом деле стало холодно, и не было бы невыносимо болезненного и обескураживающего расхождения между внутренней репрезентацией и фигурой, с которой девочка сталкивается во внешнем мире. Этот драматический сценарий воспроизводится более тонким образом со многими нашими пациентами. Я полагаю, что такая потребность превышает потребность чувствовать внешнее понимание, утешительное подтверждение способности объекта принять и «контейнировать» проекции (и, похоже, с этой потребностью конфликтует). Отсутствие корреляции между внутренней и внешней реальностью может не только возбуждать зависть или сомнения в восприимчивости объекта, но также и создавать тревожащее пространство (alarming space), в котором могут появляться мысль и новое знание и понимание, но которое многие пациенты находят невыносимым. Кстати сказать, я предполагаю, что читатель в некоторой мере знаком с тем, как Розенфельд и Бион расширили и углубили наше понимание использования проективной идентификации как средства коммуникации и распознали настойчивое или даже насильственное применение проективной идентификации в попытке пробраться в непроницаемый, сопротивляющийся контакту объект. Клинически, разумеется, использование пациентом более настойчивой проекции может обусловливаться его восприятием аналитика как не-понимающей, не-восприимчивой фигуры, восприятием, которое аналитик не улавливает. Мы значительно продвинулись в распознании и понимании не только тех способов, с помощью которых у пациента может возникнуть потребность спроецировать чувство замешательства, неадекватности или возбуждения в аналитика, но также и более сложных и тонких способов, с помощью которых аналитик вводится в душевные состояния (что иногда сопровождается различными видами разыгрывания), которые соответствуют ранней истории пациента и его текущим тревогам, защитам и желаниям. Я хочу рассмотреть, какие функции эти взаимодействия выполняют для пациента, и как он может добиваться вовлечения аналитика. Иногда аналитик будет распознавать нечто слегка чуждое его представлению о себе, которое он может спокойно выносить, нарушающее это представление или с ним расходящееся, и мы научились считать это состояние результатом проективной идентификации пациента. Это распознание может приводить нас к лучшему пониманию наших собственных затруднений, а также важных конфигураций в объектных отношениях пациента, которые проживаются в аналитической ситуации. Такие авторы, как О’Шонесси (O’Shaughnessy 1992) и Джозеф описали проблемы с легким и быстрым распознанием того, 8 как именно проективная идентификация вовлекла аналитика. И наоборот, может происходить комфортное для аналитика, мягкое и спокойное вовлечение, подобное тому, что я описал вначале. Иногда же такое состояние представляет собой бессознательную конвергенцию защитных потребностей пациента и аналитика, что может препятствовать реальному прогрессу. Вот как описывает происходящий в аналитике процесс Мани-Кёрл (Money-Kyrle 1956: 361): «Пациент говорит, аналитик становится интроективно с ним идентифицированным, и, поняв его изнутри, будет ре-проецировать его и давать интерпретацию». Особые затруднения в том, чтобы понять пациента и помочь ему, будут создавать два фактора. Во-первых, это проекция пациента и его или ее отказ от своих нежелательных аспектов. Во-вторых, когда эти проекции оказываются соответствующими тем аспектам аналитика, которые им не разрешены и не поняты, аналитик может должным образом не справиться с ре-проецированием пациента. Значит, если аналитик «не может выносить ощущение обремененности пациентом как невосстановимой или преследующей фигурой внутри него, он, скорее всего, прибегнет к защитной форме ре-проекции, закрываясь от пациента и создавая дальнейшие помехи пониманию его». Мани-Кёрл отмечает (Money-Kyrle 1956), что у некоторых аналитиков — например, у тех, кто более всего рвется к утешению постоянным успехом — неспособность понять пациента и помочь ему будет вызывать более остро переживаемое напряжение, чем у прочих. Мани-Кёрл предполагает, что степень, в которой периоды непонимания будут эмоционально дестабилизировать аналитика, вероятно, зависит в первую очередь от другого фактора: суровости его Супер-Эго. Если наше Супер-Эго преимущественно дружественно и настроено помогать (helpful), мы способны выносить ограниченность своих способностей без лишнего страдания, и, сохраняя душевное равновесие, с большей вероятностью сможем быстро восстановить контакт с пациентом. Но если Супер-Эго суровое, мы можем начать ощущать неудачу как выражение бессознательной персекуторной или депрессивной вины. Или, защищаясь от этих чувств, будем осуждать пациента. Хотя я нахожу описания Мани-Кёрла узнаваемыми и убедительными, я думаю, мы смогли лучше разобраться в следующем: когда аналитик сталкивается с тревогами и напряжением такого рода, он может бессознательно стремиться ослабить их, разыгрывая с пациентом сложные объектные отношения, изначально призванные утешить их обоих. Аналитик может стремиться создать более близкое соответствие между относительно удобной или удовлетворяющей внутренней репрезентацией себя и тем, как он переживает и интерпретирует внешнюю ситуацию. Полагаю, Мани-Кёрл описывает процесс, посредством которого аналитик выпутывается из проекций пациента, чтобы быть способным понимать и коммуницировать, однако описываемая им ре-проекция пациента может на самом деле 9 оказаться формой разыгрывания, посредством которой аналитик справляется с неудобной ему версией своих отношений с пациентом. Вернемся на минуту к изложению Розенфельдом (Rosenfeld 1987) своей работы с пациентом-психотиком, которое я упоминал вначале: «Одно из затруднений проработки таких ситуаций в анализе — это тенденция к бесконечному повторению, несмотря на понимание (пациента), что проделывается очень полезная аналитическая работа. Чтобы справиться с пациентами и процессами этого типа, важно смириться с тем, что в основном такое повторение неизбежно. Принятие аналитиком процессов в пациенте, вновь разыгрываемых в переносе, помогает пациенту почувствовать, что его самость, пребывая отщепленной и спроецированной в аналитика, может быть принятой и оказывается не столь разрушительной, как он опасался» (Rosenfeld 1987: 180). Почему Розенфельд обращает внимание своих коллег именно на это? Полагаю, он имеет в виду, что если аналитик не признает, что такое повторение и повторное разыгрывание нормально, а может даже и необходимо, он может погрузиться в уныние, замешательство или обиду. Иными словами, не будучи способным почувствовать себя достаточно уверенным в репрезентации себя как полезного, эффективного, терпеливого аналитика, он может оказаться отягощенным такой невыносимой версией себя, с которой может попытаться справиться весьма конкретным образом. Аналитик может разыгрывать все это, враждебно или критически порицая или обвиняя пациента, вступая в защитное заговорщицкое соглашение, или же в отчаянии прерывая анализ. Я полагаю, что здесь проецируется главным образом не часть пациента, но фантазия объектных отношений. Именно это наваливается на аналитика и может либо позволить ему оставаться в относительном спокойствии, либо нарушить его душевное равновесие и склонить к разыгрыванию. Это разыгрывание иногда конгруэнтно спроецированной фантазии, так что аналитик становится немного слишком уступчивым или слишком жестким. С другой стороны, такое разыгрывание может представлять собой попытку аналитика выдвинуть на передний план менее беспокоящую фантазию (например, когда он вынужден сознательно или бессознательно дистанцироваться от бессильной или садистической архаической фигуры). Наконец, мы должны понимать, что импульс к разыгрыванию может отражать неразрешенные аспекты собственных патологических внутренних объектных отношений аналитика. Полагаю, некоторые из этих вопросов О’Шонесси (O’Shaughnessy 1992) рассматривает с большой ясностью и проницательностью. Она описывает, как пациентка вначале добилась того, чтобы она давала схематичные, никак не затрагивающие ту интерпретации, и устанавливала якобы вполне убедительные связи с историей пациентки. Так что, похоже, аналитика вначале вполне устраивали свои роль и функции. Однако через некоторое время она стала испытывать беспокойство и неудовлетворенность этими 10 интерпретациями, которые ощущались фальшивыми и не вызывали никаких заметных перемен. Думаю, этот инсайт и работа, связанная с пониманием каких-то моментов в ограниченных и слишком тесных отношениях с нею пациентки, а также ее собственного схематичного функционирования привели аналитика к ключевому преобразованию представления о себе самой, и затем — в ее способности действовать. Возникает конвергенция ее внутренней репрезентации себя как вдумчивой, репаративной фигуры и как человека, который теперь стал способен распознать степень неизбежно возникающего отыгрывания, и это может использоваться для дальнейшего понимания. Этот сдвиг во внутренней системе представлений способствует переходу от ситуации, в которой аналитик, не подозревая об этом, вовлечена в разыгрывание проблем пациентки, к появлению у аналитика потенциала к контейнированию и преобразованию, — переходу, отраженному в перемене стиля и содержания интерпретаций. Теперь О’Шонесси смогла распознать, какую функцию эти слишком близкие, изолированные и схематичные отношения выполняли для пациентки. То, что пациентка построила убежище из симметрии и чрезмерной близости, наводило на мысль, что она боится различий и дистанции между собой и своими объектами. Умиротворенность отношений между аналитиком и пациенткой была необходима, потому что та боялась либо чрезмерно сильной эротической связи, либо насилия между ними. Полагаю, она бессознательно вызвала в психике аналитика соответствующие версии этих дестабилизирующих фантазий, что и привело к функционированию аналитика таким способом, который она описала вначале. О’Шонесси описывает, как на тех сеансах, где возникала угроза острой тревоги, пациентка принималась отстраивать заново свое убежище, тонко и властно управляя аналитиком, чтобы та оставалась сверх-близкой, не выходя за рамки этого убежища. Таким образом, в начале анализа пациентка перенесла свои чрезвычайно ограниченные объектные отношения в аналитическую ситуацию. С помощью слов и невербальных проекций она смогла передать свои острые тревоги относительно более полных и свободных объектных отношений и ужасающие фантазии эротического и насильственного содержания, которые она связывала с такими отношениями. Полагаю, тревоги аналитика, связанные с восприятием ее — как пациенткой, так и ею самой — в этих дестабилизирующих и разрушительных ролях, подтолкнули ее к такому направлению действий, которого, по-видимому, требовала пациентка. Это, возможно, послужило необходимым временным убежищем в начале анализа, однако впоследствии эта роль стала вызывать беспокойство и неудовлетворенность аналитика, и она смогла мыслить об этом иначе. Думаю, для пациента такой сдвиг всегда оказывается чрезвычайно пугающим — он 11 создает асимметрию и может вызывать зависть и ненависть, а также усиленные попытки восстановить ранее существовавшее положение. В этом пациент может и преуспеть, если аналитик не способен выносить неопределенность, тревогу и вину, связанные с возникающими фантазиями их отношений как пугающих, разочаровывающих или разрушительных, и иногда нам требуется внутренняя или внешняя помощь коллег, чтобы поддерживать свою веру в то, что мы пытаемся делать. Мельтцер (Meltzer 1966) описывает в чем-то похожую динамику в отношении группы пациентов с нарушениями, использующих широкомасштабную (extensive) проективную идентификацию, что приводит к появлению уступчивой, псевдо-зрелой личности: «давление на аналитика, побуждающее его примкнуть к идеализации псевдо-зрелости, /…/ велико, скрыто передаются фоновые угрозы психоза и самоубийства /…/ контрпереносная позиция чрезвычайно тяжела и во всех отношениях воспроизводит дилемму родителей, обнаруживших, что у них “образцовый” ребенок, покуда они воздерживаются от четкой родительской установки, в форме либо авторитетности, наставничества, либо противостояния относительно скромным требованиям привилегий помимо тех, на которые ребенку справедливо дает право его возраст и достижения» (Meltzer 1966: 339—340). Таким образом, родительская фигура сталкивается либо с фантазией беспомощности перед внешним его контролем, либо с фантазией доведения ребенка до безумия или самоубийства. В заключительной части данной статьи я хотел бы проиллюстрировать более подробно, каким образом, на мой взгляд, одна пациентка смогла использовать проекцию в свою внутреннюю репрезентацию аналитика (в его отсутствие), освобождая себя от тревоги, тогда как на последовавших аналитических сеансах ей было необходимо вовлечь аналитика иным образом. Полагаю, она добилась этого посредством проекции своих бессознательных фантазий о дестабилизирующих объектных отношениях, которые не только отображались в ее вербальных сообщениях, но и отчасти разыгрывались ею на сеансах. Я подозреваю, что если аналитик восприимчив к проекциям пациента, дестабилизирующие бессознательные фантазии пациента, касающиеся характера отношений пациента с аналитиком, неизбежно будут затрагивать собственные тревоги аналитика. Это может привести аналитика к проекции и разыгрыванию в попытке восстановить внутреннее равновесие — о чем аналитик вначале может и не подозревать. Трудная и зачастую болезненная задача аналитика заключается в том, чтобы распознать те тонкие и сложные разыгрывания с пациентом, куда он неизбежно оказывается втянутым, и работать над тем, чтобы найти область понимания и мышления вне узких, воспроизводящихся вновь и вновь рамок, отвечающих бессознательным требованиям пациента, а иногда и собственных тревог и потребностей 12 аналитика. Достижение настоящих психических изменений зависит от этого процесса, однако он представляет для пациента угрозу и может с высокой долей вероятности запускать дальнейшие защитные процедуры. Клиническая иллюстрация Пациентка, о которой я буду говорить — мисс М., не замужем, уже несколько лет проходит анализ. Придя на сеанс в понедельник утром, она помолчала, а потом сказала, что ее чрезвычайно заботит нечто, произошедшее в субботу — но она об этом пока что не думала, до того момента, как пришла ко мне. Ее подруга, работающая психотерапевтом, рассказала ей о молодом терапевте, супервизором которого она является, и который сознался ей, что соблазнил одну из своих пациенток. Подруга моей пациентки попросила ее никому об этом не говорить, и как только она об этом сказала, М. немедленно подумала обо мне. Дальше мисс М. углубилась в сложные связи между всеми этими терапевтами, супервизорами и пациенткой. Похоже было, что ее очень интересует, кто с кем что обсуждал, и она отметила, что все это очень напоминает инцест. К этому она добавила, что в людях, посвященных в эту историю, есть нечто почти зловещее. Затем, сделав паузу, сказала: «Раздумывая об этом здесь, я задалась вопросом, почему мне это здесь пришло в голову. Я отношусь к этому довольно спокойно; я не извиваюсь от ужаса. Я чувствую себя достаточно далекой от всего этого, иначе это было бы ужасно». Наступило напряженное выжидательное молчание, и я почувствовал давление с ее стороны, чтобы я быстро отреагировал на ее сообщения. Когда я этого не сделал, она отметила, что молчание показалось ей довольно жутким. Когда в субботу моя пациентка столкнулась с волнующим образом инцестуозной связи терапевта со своей пациенткой, и ее попросили никому об этом не говорить, перед ее внутренним взором возник я, и, полагаю, она спроецировала в меня эти знание, тревогу и беспокойство. Поэтому у нее в голове не было ничего такого, что бы она хотела мне рассказать — наоборот, все это оставалось ей недоступным, пока она не встретила меня лично в понедельник. Отсюда я полагаю, что мы имеем дело не с обычным мышлением или коммуникацией, но скорее со всемогущей проекцией в фантазии не только психического содержимого, но также и способности о нем мыслить. Поскольку этот процесс всемогущественный, пациентка не нуждается в использовании символических средств коммуникации. В этом случае фантазия вовлекает объект, непосредственно восприимчивый к проекциям пациента, которые, по-видимому, не вносят в него никакого разлада и не превращают его в нечто пугающее. Вовлечение объекта таким образом, по-видимому, смогло 13 полностью освободить мою пациентку от тревоги и дискомфорта. Когда она увидела меня в начале сеанса в понедельник и поняла, что на самом деле я не располагаю тем, от чего она избавилась, к ней вернулась та часть ее психики (вместе со своим содержимым), которую она в фантазии спроецировала. Тогда она была вынуждена использовать вербальную и невербальную коммуникацию не-всемогущим образом, видимо, для того, чтобы достичь того же результата. Поразительно, что моя пациентка, рассказывая мне обо всех этих инцестуозных отношениях между терапевтами, супервизорами и пациентами, задалась вопросом, почему все это пришло ей в голову рядом со мной, — очевидно, она оказалась неспособной установить связь между рассказанной ею историей и фантазиями, касающимися ее собственных отношений с аналитиком. Полагаю, комбинируя в этой процедуре осознанные и бессознательные действия, мисс М. смогла как общаться с аналитиком, так и «подтолкнуть» его к тому, чтобы думать и брать на себя ответственность за мысли, фантазии и импульсы к действию, которые ей угрожали. Здесь я хочу подчеркнуть, что данные проективные механизмы выполняли несколько функций. Во-первых, они, несомненно, позволили пациентке отречься от дестабилизирующих или потенциально дестабилизирующих реакций на то, что выявила ее подруга. Во-вторых, они обеспечили вовлечение аналитика, в том смысле, что теперь его функцией стало установление связей и размышление о значении того, что пациентка сообщила. И в-третьих, как я надеюсь показать, они вовлекли аналитика в частичное разыгрывание некоторых выявленных глубинных фантазий, несмотря на его сознательные попытки избежать такого разыгрывания и найти рабочее положение, в котором он мог бы чувствовать себя достаточно комфортно. На сеансе я осознал, исполнения какой очевидной роли от меня ожидается пациенткой, оказывающей ощутимое давление с тем, чтобы я быстро отреагировал на ее сообщения и дал какой-нибудь наполовину ожидаемый комментарий и интерпретацию. Долгий опыт работы с этой пациенткой подсказал мне, что если бы я уступил и напрямую обратился к преподнесенному ею материалу, как-нибудь вполне очевидно ответив на вопрос, почему все это пришло ей в голову в тот момент, когда она находится в одной комнате со своим аналитиком, тут же оказалось бы, что мы следуем одному из тех немногих непродуктивных сценариев, которые повторялись вновь и вновь. Первый и наиболее частый из них предполагал бы, что пациентка успокоилась бы и ретировалась, заново разыграв со мной процедуру, которая состоялась в субботу во время разговора с подругой, и ясно дала бы понять, что этот трудный и потенциально дестабилизирующий материал находится уже не в ее распоряжении, но в моем. Во втором случае произошла бы не настолько полная проекция, при которой пациентка сохранила бы некоторый контакт с тем, что спроецировала, но сопротивлялась бы опасной перспективе 14 самостоятельно думать об этом всем, настаивая, что это моя функция. Согласно третьему сценарию, мои интерпретации переживались бы конкретным образом как угрожающие и требовательные вмешательства. На описанном выше сеансе я не чувствовал себя обескураженным материалом пациентки, однако был озабочен и угнетен перспективой разыгрывания с ней одной из этих повторяющихся и непродуктивных ролей. Однако когда я затянул пазу, пытаясь сообразить, как мне понять пациентку и подступиться к ней, мое молчание вызвало у пациентки фантазию дестабилизирующих архаических объектных отношений, в которой она оказывалась связанной с угрожающей, «жуткой» фигурой, исполненной чего-то невысказанного и тревожащего, готовой вмешиваться и требовать. Полагаю, пациентка отчасти воссоздала важные архаические объектные отношения посредством взаимодействия двух мощных факторов. Первый заключался в фантазийной проекции в аналитика некоторых архаических качеств и функций. Второй — в том, что посредством соответствующей коммуникации и поведения пациентка создала ситуацию, в которой она действительно столкнулась с аналитиком, чей ум был наполнен мыслями о том, что она ему сказала, и он действительно чего-то от нее хотел и выдвигал к ней тяжелые и «вторгающиеся» требования. Когда эти ожидания и переживания оказались окрашенными тем качествами, которые пациентка в них спроецировала, она стала проживать архаические, знакомые ей объектные отношения. На этом сеансе, как и тех, что последовали за ним, я чувствовал необходимость найти такой способ работы, который бы выходил за рамки постоянных сценариев, описанных мною выше. Иногда я замолкал, пытаясь понять, что происходит, или комментировал то, что, по моему мнению, пациентка со мной проделывала или ожидала от меня. Я также стремился добиться, чтобы пациентка исследовала, от чего ей становится так неудобно, а также доступные ей, на мой взгляд, связи между ее материалом, ее семейной историей и аналитической ситуацией. Пациентка дала мне понять, какую угрозу представляют мои усилия для ее душевного равновесия, а также сколь велико ее нежелание позволить комулибо из нас выйти из знакомых взаимодействий, которые парадоксальным образом казались необходимыми и утешительными для нее. Я чувствовал, что на меня оказывается мощное давление, чтобы я либо позволил, чтобы на меня легла ответственность за спроецированный пациенткой дестабилизирующий материал, либо разыграл какие-то элементы фантазии отношений настойчивого соблазнения или вмешательства. Таким образом, мне продемонстрировали болезненные и нежелательные репрезентации моей роли по отношению к пациентке, и я продолжал упорно искать подход, который бы, по моим ощущениям, оказался более продуктивным, и который бы позволил мне чувствовать себя более комфортно. Можно предположить, что, затягивая паузы или продлевая высказывания, 15 рассматривая ситуацию под другим углом, выбирая другой курс, аналитик может высвободиться из таких повторяющихся и непродуктивных взаимодействий. Иногда эта идея проявлялась в той мысли (приходившей в голову аналитику, пациентке или им обоим), что если бы аналитик изменился, или это был бы другого типа аналитик, проблем бы не возникало. Разумеется, к этим соображениям следует относиться серьезно, они часто в некоторой степени справедливы. Однако занимаясь этой пациенткой, я пришел к следующему убеждению: все, что я скажу или сделаю, скорее всего будет воспринято в соответствии с теми ограниченными, архаичными фантазиями, которые я вкратце обозначил, и постоянное проживание этих фантазий на сеансах выполняет для пациентки важные и поддерживающие функции. Бывали короткие периоды размышлений, приносившие мне облегчение, поскольку я снова чувствовал, что действую правильно. Однако для пациентки было очевидно болезненно и тяжело выходить за рамки знакомых утешительных разыгрываний, и она быстро ретировалась опять, или же восстанавливала возбужденные провокативные отношения, в которых, казалось, парадоксальным образом чувствовала себя более безопасно. Например, после периода трудной работы пациентка задумчиво сказала: «Я вижу … обе стороны … того, что происходит. Я могу оценить Ваше желание, чтобы я … рассмотрела более внимательно те вещи, которые возникли. В конце концов просто чрезвычайно осторожное устранение их как “идей” не даст мне ничего большего». Затем ее голос зазвучал решительнее и возбужденнее: «И в то же время мне кажется примечательным, что я даже готова упоминать эти вещи. В общем, я поражена. Я должна чувствовать большую уверенность в том, что не буду больше ни во что не втянута». Ее возбуждение возрастало, и она повторила, насколько необычно, что она сказала все это, как она рисковала, что я воспользуюсь этой возможностью. Она отметила, что обычно ее главная забота — не сказать ничего такого, что, по ее ощущению, предоставило бы мне некий удобный случай (opening), так что она должна быть уверена, что этого не происходит». Так, кратко и с неловкостью признав существование аналитика, который действительно пытается помочь ей, а также защитные процессы, которым она вынуждена неотступно следовать, пациентка пришла в состояние эротизированного возбуждения, в котором в основном оставалась до конца сеанса. Казалось, что она компульсивно вынуждена вовлекать меня во взаимодействия, в которых она испытывает либо мучительную, жуткую сдержанность (withholding), либо возбуждающее, требовательное сексуальное вторжение. Все это, безусловно, аспекты мощной эдипальной конфигурации, которую воскресил в ее психике рассказанный подругой эпизод, и конфигурация эта была значимым образом связана с ее ранней историей. 16 Обсуждение Хотя это явление нам знакомо, я считаю оказываемое вновь и вновь давление на аналитика, чтобы он примкнул к пациенту в частичном разыгрывании архаических, зачастую нарушенных и нарушающих душевный порядок объектных отношений, одним из самых интересных и загадочных феноменов, с которыми мы встречаемся. Какую функцию для моей пациентки выполняло вовлечение меня не в качестве полезной доброжелательной фигуры, но как варианта фигуры дестабилизирующей и архаической? Подозреваю, на этот вопрос существует множество ответов. Такое взаимодействие освобождает пациентку от знания о своих импульсах и фантазиях и ответственности за них: она оказывается прежде всего беспомощной жертвой. На сеансах было совершенно очевидно, что этот прием обеспечивает ей некоторую степень удовлетворения и возбуждения. Возможно, он также послужил ей инструментом, направляющим меня к обнаружению и пониманию некоторых аспектов ее истории или ее внутренней жизни, к которым я ранее не обращался — хотя я не решаюсь утверждать, что это было ее мотивом. Но хотел бы добавить, что он также выполнял функцию поддержки, когда разыгрывание во внешнем мире в какой-то мере совпадало с бессознательно испытываемыми объектными отношениями. Альтернатива этому, столкновение с расхождением между ними, оказывается болезненной и угрожающей. Подозреваю, что если аналитик восприимчив к проекциям пациента, фантазии архаических объектных отношений неизбежно резонируют с его собственными бессознательными потребностями и тревогами. Если они слишком тесно связаны с теми зонами, где конфликты остаются преимущественно не разрешенными, существует опасность, что аналитик окажется вовлеченным в некие виды разыгрывания, которые либо удовлетворяют какие-либо совместные [с пациентом] потребности, либо защищают аналитика от такого удовлетворения. Хоффман (Hoffman 1983) отмечает: «Поскольку аналитик — человек, в его репертуаре, скорее всего, имеется схема приблизительно того эмоционального отклика, который диктуется переносом пациента, и скорее всего, пациент добьется этого отклика, осознанного или бессознательного /…/. В идеале такой отклик служит ключом — возможно, лучшим из ключей, которыми аналитик располагает — к природе той межличностной сцены, которую пациента вынуждает создать перенос» (Hoffman 1983: 413). Как предположили Джозеф (Joseph 1987, 1988), О’Шонесси (1992) и Карпи (1989), возможно, нам следует признать, что некоторая степень разыгрывания практически неизбежна; это часть того продолжающегося процесса, который аналитики могут научиться 17 распознавать, временно извлекая себя из него и используя это для углубления своего понимания. В самом деле, в описанной мною клинической ситуации, похоже, было важно распознать тягу к разыгрыванию у пациентки и то соответствующее давление на себя, которое ощущал аналитик. Распознание компульсивной и рецидивной природы этих взаимодействий может иметь важные последствия. Как показали Розенфельд и О’Шонесси, оно может позволить аналитику в некоторой степени вернуться к ощущению, что он действует правильно. Это уменьшает расхождение между фантазиями аналитика о своей роли и тем, что демонстрирует аналитическая ситуация. Кроме того, чем лучше аналитик переносит всяческие существующие расхождения, тем меньше пациент подталкивает его к использованию тех проективных механизмов и видов разыгрывания, о которых я говорил выше. В созданном таким образом пространстве аналитик может оказаться способным иначе размышлять о своем пациенте. Вот что я пытался подчеркнуть в настоящей главе: фантазия объектных отношений, спроецированная в аналитика, вызывает не только мысли и чувства, но также и склонность к действию. С точки зрения пациента, эти проекции представляют собой попытку ослабить расхождение между фантазией неких архаических объектных отношений и тем, что пациент переживает в аналитической ситуации. Аналитик также испытывает импульсы действовать так, чтобы это приводило к лучшему соответствию с некими нужными или желаемыми фантазиями. Взаимодействие между потребностями пациента и аналитика может приводить к рецидивирующему разыгрыванию болезненного и дестабилизирующего характера, описанному мной выше. Для аналитика может оказаться затруднительным выпутаться (или выпутать пациента) из этой непродуктивной ситуации и восстановить свою способность к рефлексивному мышлению, хотя бы ненадолго. Как я показал, проблема усугубляется, когда проекция в аналитика приводит к тонкому или явному разыгрыванию, которое сначала никак не беспокоит аналитика, а наоборот, формирует комфортабельное заговорщицкое соглашение, в котором аналитик чувствует, что его роль совпадает с его внутренней фантазией. Может оказаться затруднительным распознать ту защитную функцию, которую это взаимодействие выполняет как для пациента, так и для аналитика, а также те сильнее дестабилизирующие бессознательные фантазии, от которых оно защищает. Временное и частичное восстановление аналитиком своей способности к рефлексивному мышлению, а не к действию, имеет решающее значение для сохранения его аналитической роли. Аналитик может не только временно освободиться от тирании повторяющихся разыгрываний и направлений мысли, но и поверить в возможность освобождения своего пациента — в свое время. Однако такие движения, скорее всего, будут провоцировать боль и беспокойство у пациента, для которого незнакомое пространство, где 18 может состояться мысль, окажется пугающим и ненавистным. Перевод З. Баблояна. Научная редакция И.Ю. Романова. Библиография Bion, W. R. (1958) On hallucination. International Journal of Psychoanalysis, 39: 341–349. Bion, W. R. (1959) Attacks on linking. International Journal of Psychoanalysis, 40: 308– 315. Carpy, D. V. (1989) Tolerating the countertransference: a mutative process. International Journal of Psychoanalysis, 70: 287–294. Fairbairn, W. R. D. (1958) On the nature and aims of psychoanalytical treatment. International Journal of Psychoanalysis, 39: 374–385. Heimann, P. (1950) On counter-transference. International Journal of Psycho-analysis, 31: 81–84. Hoffman, I. Z. (1983) The patient as interpreter of analyst’s experience. Contemporary Psychoanalysis, 19: 389–422. Joseph, B. (1987) Transference: the total situation. International Journal of Psychoanalysis, 66: 447–454. Joseph, B. (1988) Object relations in clinical practice. Psychoanalytic Quarterly, 57: 626– 642. Joseph, B. (1989a) Psychic Equilibrium and Psychic Change: Selected Papers of Betty Joseph, ed. M. Feldman and E.B. Spillius. London: Routledge, 1989, pp. 192–202. Klein, M. (1946) Notes on some schizoid mechanisms. In The Writings of Melanie Klein, Volume 3. London: Hogarth Press, 1975, pp. 1–24. Meltzer, D. (1966) The relation of anal masturbation to projective identification. International Journal of Psychoanalysis, 47: 335–342. Money-Kyrle, R. E. (1956) Normal countertransference and some of its derivations. International Journal of Psychoanalysis, 37: 360–366. O’Shaughnessy, E. (1992) Enclaves and excursions. International Journal of Psychoanalysis, 73: 603–611. Racker, H. (1958) Classical and present technique in psychoanalysis. In Transference and Countertransference, ed. H. Racker. London: Hogarth Press, 1968, pp. 23–70. Rosenfeld, H. (1971b) Contribution to the psychopathology of psychotic states; the importance of projective identification in the ego structure and the object relations of the psychotic 19 patient. Reprinted in: Melanie Klein Today: Volume 1, Mainly Theory, ed. E. B. Spillius. London: Routledge, 1988, pp. 117–137. Rosenfeld, H. (1987) Projective identification in clinical practice. In Impasse and Interpretation. London: Routledge, 1987, pp. 157–190. Sandler, J. (1976) Countertransference and role-responsiveness. International Journal of Psychoanalysis, 3: 43–48. Sandler, J. (1990) On internal object relations. Journal of American Psychoanalytic Association, 38: 859–880. Sandler, J and Sandler, A.–M. (1978) On the development of object relationships and affects. International Journal of Psychoanalysis, 59: 285–296. Strachey, J. (1934) The nature of the therapeutic action of psycho-analysis. International Journal of Psychoanalysis, 15: 127–159. Tuckett, D. (1997) Mutual enactment in the psychoanalytic situation. In The Perverse Transference and Other Matters: Essays in Honor of R. Horacio Etchegoyen, ed. J.L. Ahumada, J. Olagary, A.K. Richards and A.D. Richards. Northvale, NJ: Jason Aronson. 20