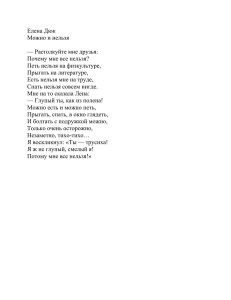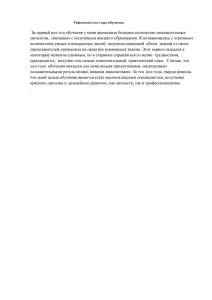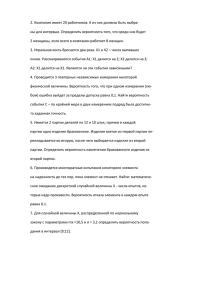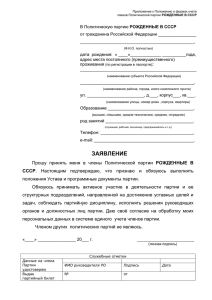Пол Партии
реклама
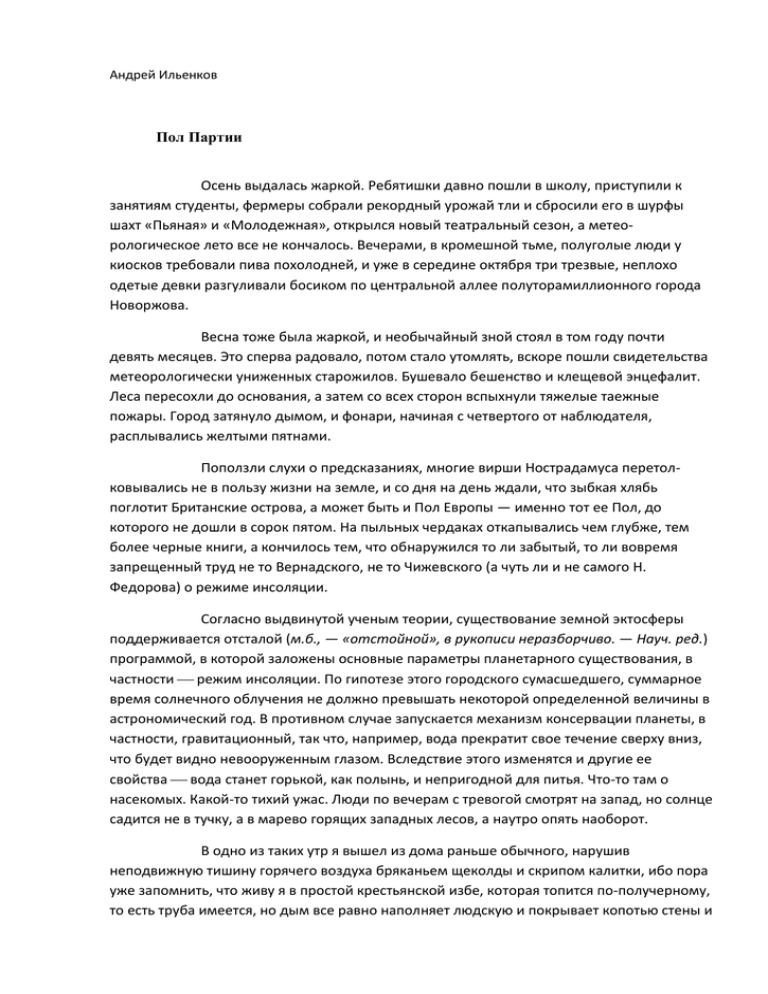
Андрей Ильенков Пол Партии Осень выдалась жаркой. Ребятишки давно пошли в школу, приступили к занятиям студенты, фермеры собрали рекордный урожай тли и сбросили его в шурфы шахт «Пьяная» и «Молодежная», открылся новый театральный сезон, а метеорологическое лето все не кончалось. Вечерами, в кромешной тьме, полуголые люди у киосков требовали пива похолодней, и уже в середине октября три трезвые, неплохо одетые девки разгуливали босиком по центральной аллее полуторамиллионного города Новоржова. Весна тоже была жаркой, и необычайный зной стоял в том году почти девять месяцев. Это сперва радовало, потом стало утомлять, вскоре пошли свидетельства метеорологически униженных старожилов. Бушевало бешенство и клещевой энцефалит. Леса пересохли до основания, а затем со всех сторон вспыхнули тяжелые таежные пожары. Город затянуло дымом, и фонари, начиная с четвертого от наблюдателя, расплывались желтыми пятнами. Поползли слухи о предсказаниях, многие вирши Нострадамуса перетолковывались не в пользу жизни на земле, и со дня на день ждали, что зыбкая хлябь поглотит Британские острова, а может быть и Пол Европы — именно тот ее Пол, до которого не дошли в сорок пятом. На пыльных чердаках откапывались чем глубже, тем более черные книги, а кончилось тем, что обнаружился то ли забытый, то ли вовремя запрещенный труд не то Вернадского, не то Чижевского (а чуть ли и не самого Н. Федорова) о режиме инсоляции. Согласно выдвинутой ученым теории, существование земной эктосферы поддерживается отсталой (м.б., — «отстойной», в рукописи неразборчиво. — Науч. ред.) программой, в которой заложены основные параметры планетарного существования, в частности режим инсоляции. По гипотезе этого городского сумасшедшего, суммарное время солнечного облучения не должно превышать некоторой определенной величины в астрономический год. В противном случае запускается механизм консервации планеты, в частности, гравитационный, так что, например, вода прекратит свое течение сверху вниз, что будет видно невооруженным глазом. Вследствие этого изменятся и другие ее свойства вода станет горькой, как полынь, и непригодной для питья. Что-то там о насекомых. Какой-то тихий ужас. Люди по вечерам с тревогой смотрят на запад, но солнце садится не в тучку, а в марево горящих западных лесов, а наутро опять наоборот. В одно из таких утр я вышел из дома раньше обычного, нарушив неподвижную тишину горячего воздуха бряканьем щеколды и скрипом калитки, ибо пора уже запомнить, что живу я в простой крестьянской избе, которая топится по-получерному, то есть труба имеется, но дым все равно наполняет людскую и покрывает копотью стены и потолок, если кто-нибудь скажет, что трубу надо чистить, на языке у того вскочит типун. Узенькая тропинка в густых зарослях двудомной крапивы вела к широкой сточной канаве. Там в былые годы водилось головастиков видимо-невидимо; комары, базирующиеся на канаву, накрывали полгорода; ребятишки купались и пускали кораблики на дно; бабы даже полоскали иногда нижнее белье, а уж мыли ковры регулярно; по весне же случались и настоящие наводнения. Сейчас канава сильно обмелела, и в самом глубоком месте едва доходит цыганскому ребенку до колена. Мой путь по привычке лежал к трухлявому березовому мостку в три жердочки, хотя теперь я легко мог перешагнуть канаву без разбега. На мосту стоял сосед Тугарин и копал воду лопатой. Это было очень дурацкое зрелище. Вырытая яма казалась совсем небольшой, но на рассохшихся жердочках мостка лежала уже изрядная груда кусков воды, дрожащих и переливающихся, напоминавших заливное, но не вязких, а восхитительно жидких. Я погружал в них руку, и те, что были выкопаны давно, успели согреться, а свежие приятно холодили ладонь, и когда я шевелил пальцами, по ним с плеском пробегали небольшие волны. Спешить было некуда. …Мокрый, я проснулся от сильной рези в животе в половине четвертого утра. Неурочное время — после двух еще ходят покупатели, а с пяти до шести стучится бодун: невзирая на жару, женщина в шапочке из липовой ангорки с большими дырами, через которые видны географические проплешины на голове, истинная причина носить шапочку: бывшая лысая девочка, она спилась от горести. Бомж, расплатившийся синими «катями», числом семьдесят семь, от которых как будто немного неприятно пахло, а при близком обнюхивании оказалось, что какашкой цвета детской неожиданности; а вот и ее следы при вспышке молнии, потому что в ту ночь отключили электричество. Бледный вор с дырявым животом, прикрытом окровавленной ладонью, богатые купюры липнут от крови, последнее желание, сдачи не надо. Рыжебородая старуха Бандьера Росса. Я зажигаю свечи. Пахнет деньгами. Ими, если не задницу, то всяко промокают масленые после уличных беляшей руки, а упитанные провинциалки (провинциалками в Новоржове называют колхозниц) по-прежнему прячут их от воров в трусы. Со стороны бедных провинциалок это лишь очевидный комплекс женской неполноценности, исключающий вероятность налета на эту часть тела, но в государственных масштабах это также воспитание корыстолюбия у начинающего фетишиста, кончающего при осязании и обонянии банкнот — чудовищный апофеоз буржуазного мировоззрения. Резь мешает уснуть, но морит духота. Боль еще пульсирует какое-то время и утихает, точнее, заменяется урчанием, бульканьем, перетеканием жизненных соков (и я знаю, каких!) по сообщающимся кишкам, вначале только по тонким. Я пытаюсь занять себя чем-нибудь, но рано считать товар за четыре часа до смены, горько в такую жару читать о промозглых Лондонских кварталах и джине с кипятком, поздно пить боржоми. Рыхлые пачки пахучих денег. Кишечное расстройство. Одна о другую, преодолевая лень, стягиваю кроссовки. Кладу бедную головушку на широкий прилавок. Дают свет, теперь головушку видно сквозь витрину сумасшедшим кержакам с двустволками, включаются холодильник и вентилятор. В три глотка выпиваю баночку лимонной «Авроры». Забавно пить водку в самый зной и знать, как вышибают клин клином: только что страдая от жары, получить удовольствие от жары удвоенной. Мать вашу, вы, вам обоим говорю, я жил и любил стоя! на коленях!, и вы мои полсына. Потому что один сын это еще не сын, два сына полсына, три сына вот это сын! Вы, мои полсына. …Уже светло, выставлена табличка «УЧЕТ ПРОЗЬБА НЕ СТУЧАТЬ», через полчаса придет сменщица, и все бы хорошо, да что-то нехорошо... Что нельзя погодить. Выделение было и остается самой проблемной функцией организма реализатора. Я работаю ночами, поэтому просто приоткрываю дверь, высовываю хуечку во тьму внешнюю и брызгаю в направлении помойки напротив, нередко доставая контейнеры кончиком струи, потому что искушен в баллистике и направляю его к горизонту под углом 45˚. Но я работаю только ночами, уж никак не сутками. Девки-суточницы мочатся в ведра и лоханки. Дождавшись покупательского отлива, открывают дверь и широким жестом плещут помои на улицу, отчего через пару недель там возникает запах, и хозяин крутит носом, но все понимает, в отличие от покупателей, которые крутят носом не просто, а со значением. Их (в особенности — пожилых учительниц) навещает справедливая мысль, что корысть сама себя наказывает: корыстные девки за недоступные учительницам сладкие рулеты танцуют канкан, мочатся в лоханки и спят на полу, до чего пожилые учительницы никогда бы не опустились. Но мы некстати отвлеклись, а резь в животе тем временем стала невыносимой и вот теперь-то нельзя погодить! Что делать? Ладно бы еще чисто отлить, хотя и здесь случаются несносные препоны. Однажды изнасиловали женщину прямо за дверью моего киоска. А я сикать хочу, а там женщину ебут! А она, бесстыдница, еще рассусоливает, постанывает, елозит от удовольствия пятками по грязи, а у меня уже глаза на лоб лезут. Пришлось, давясь, выпить большую бутылку «Спрайта», потом в нее, опустевшую, мочиться. Но «Спрайт», между прочим, стоит денег, а я простой реализатор без санитарной книжки, так если же за каждое мочеиспускание столько платить, таки-я лучше буду сидеть дома и стирать подгузники. На фиг это надо! Прямо от злости в свидетели был готов записаться — я их всех троих знаю! Но ебанная под моей дверью тетя Валя, конечно, претензий не имеет. А вот Ольга, когда ее однажды так же отпежили, обиделась. Она в ту ночь пришла пьяная в сиську (я уж ее запустил, нехай греется), и давай мне волосы ерошить — она парикмахерша. Я, отвечает, затрудняюсь сказать, хорошо ли тебе будет стрижка. Я говорю — не нужна мне мудацкая ваша стрижка, я хвостик отращиваю. Она икнула и отвечает — а можно я здесь у тебя переночую? Я вежливо объясняю, что негде, а она — да вот тут, на полу. Нельзя, говорю, ящики с пивом привезут, тут все заставят. А все потому, что она черная, горбоносая. Такая баба — по мне и не баба вовсе, а одно пустое место. Баба должна быть курноса (и репей в волосах, совершенно верно), а горбоносых нам не надо, мы сами горбоносые. Она грустно ушла, и в ту же ночь ее отпежили. На рассвете раздался стук в дверь. Ольга, эта дура, стояла и плакала! Платье на ней было разорвано, обуви не было, и одна лодыжка заметно опухла. Она хромала. Вот, говорит, изнасиловали, физически, прямо выебали. Ну, я ее за муки пожалел, дал даже безвозмездно бутылку пива подешевле и пару сигарет. И она похромала в общагу напротив звонить в милицию. Очень ее жалко было, даже хуй встал. Это второй раз за месяц (я имею в виду насилие), и притом — с особым цинизмом, потому что насильники были незнакомые, то есть это уже не назвать дружеским изнасилованием, как в первый раз. А я-то ее давеча не пустил... горько мне. Ва-ау, время пошло! С большим баллоном пива «Очаково» в руке распахиваю дверь, сворачиваю пробку, обливаюсь пеной и — о, чудо! — выливаю драгоценный напиток прямо на землю! Закрыв дверь, хватаю с подоконника лезвие и срезаю я единым духом верхний конус баллона. Сдергиваю штаны, за доли секунды осязательно корректирую полученный цилиндр по центру жопы, и... Ура! Теперь герметично упаковать, положить в сумку, устроить сквозняк в киоске и ждать сменщицу. Она пришла раньше обычного. Это молодая особа, толстая и красивая, которой я строил глазки. Хорош бы я был, замешкайся еще на несколько минут! Скажут: не пристало развитому человеку стесняться естества. Скажут: развитой, продвинутый человек умеет и эту сторону жизни сделать культурно значимой, а то и эстетически ценной. Но я не могу стать выше предрассудков. Да что я! Один известный автор, большой художник слова и дела, женился. На особе юной, прекрасной и возвышенной до последней, почти неземной, степени. Купил ее сердце отчасти ценными подарками, но, главным образом, громким именем и мировой славой. Как всякий настоящий художник, он был немного не от мира сего, но все-таки не до такой степени, какую демонстрировал экзальтированной девушке. Он охотно представлялся ей почти бесплотным возвышенным духом, ел при ней мало, и косвенно давал понять, что о дефекации не может быть и речи. Хорошо. Но вот они поженились. Наш герой всей душой ненавидел всеобщую пошлость перерождения красивой предбрачной влюбленности в грубый брачный быт. И хотя еблись они на первых порах много и охотно, он в браке попрежнему мало ел, и сильно исхудал, а о дефекации по-прежнему не могло быть и речи. Заметим, что его хрупкая молодая жена, хотя точно была существом почти неземным, все же какала. Он, сказать по правде, тоже, но только на нейтральной территории — в театрах, на презентациях, в редакциях и в гостях, да и то нервозно, торопливо и нередко стоя. У меня подобный же характер, то есть, попросту, никакого характера. У жены, например, я под каблуком, и мне хватает. Я хочу сказать, что мои мазохистские потребности ею уже удовлетворены, хотя и не полностью. Я, например, до сих пор не умею добиться, чтобы она на меня испражнялась. Она всякий раз твердит разные пустяки, т.е. вообще гнилой базар и дефектный дискурс. Конечно, я могу и сам себя обхезать, но это как-то неудобно, я, в конце концов, семейный человек, член общества чистых тарелок. Вот я и хожу теперь в дураках. И с горя, конечно, запил. «Аврору». Чаще всего я пил тогда водку «Аврора», голландскую, баночную. Ее было три вида: Аврора просто, Аврора цитрон и Аврора черная смородина, по двести грамм, очень хороши, и главное — сорок градусов, в отличие от мудацкой вашей «Стопки», которая, может и кошерная, а только тридцать, это мне уже напоминает собачье сердце. Правда, может, они меряют по Фаренгейту, у них там с-с-сотни, с-с-сотни и с-с-сотни. Я знаю, какая это водка. Я один раз поругался с женой и с горя, конечно, запил. В девять утра купил литр «Стопки», часть выпил и, как говорится, уснул в луже своей блевотины, а через пару часов проснулся, смахнул, как говорится, со лба подсыхающие остатки картофеля, похмелился «Стопкой» же и поспешил на учебу. И я шел по главному проспекту ленина с бутылкой, и прихлебывал из горла, и пришел в университет, и многих достал, и прослушал лекцию по диалектологии. Так вот какая это водка! Это может израильтянам гожо, а русскому солдату не личит. Это я алкогольно унизился. Не то голландская, все-таки ее еще Э. По уважал, не говоря уже о Петре Великом. Ее так просто без закуски не особо похлебаешь, но в тот день я и ее глотал приложившись к известной дырочке, как горнист. Тут следует уточнить, что сравнение пьющего из горла человека с горнистом использовано в русской поэзии дважды: В. Шинкаревым в поэме «Песнь о моем Максиме» и Б. Рыжим в стихотворении «Когда бутылку подношу к губам…». В обоих случаях имелось в виду пиво. Художественная новизна и актуальность нашего сравнения состоит в том, что имеется в виду водка; читатель должен это понять таким образом, что душевное переживание автора сильнее, нежели у лирических героев Шинкарева и Рыжего. Все-таки не испражняется на него жена. Кроме того, не надо на меня, пожалуйста, кричать. Это обидно, досадно, и ведь все равно почти не унизительно. Другое дело — вытирать об меня ноги, но ведь ноги современной горожанки никогда не бывают достаточно грязны, так что и здесь унижение скорее символическое, нежели физическое. Моральное же унижение на меня действует слабо, потому что на самом деле его почти и нет. Ведь не мог же Пушкина унизить плевок сзади на фрак, потому что тут с одной стороны — маленькая слюнка, а с другой — целый Пушкин. Нет, я не Пушкин, я другой, но слюнка-то не другая, а такая же маленькая. Поэтому брань не может меня унизить, но всегда огорчает, указывая на нелюбовь ко мне. Насосавшись из известной дырочки, я иду на работу. Пересчитываем со сменщицей все эти жвачки, сигареты, водки, деньги, консервы, чупа-чупсы, и я, с трудной от хмеля головой, притом Дева, сегодня особенно дотошен. Все сходится. Сменщица упархивает, а я сажусь за кассу и, морщась от дыма цигарки в углу рта, открываю первую за вечер бутылку пива. Жить становится лучше и грустнее, и сразу же за окном медленно проходит между пьяными каталами моя любимая женщина околотка — несовершеннолетняя Дарья Охлопкова по прозвищу Дайаррея. И очень кстати здесь строка поэта Блока «Дыша духами и туманами», потому что однажды она точно дышала мне в окошко духами (или одеколоном — в парфюмерии я не силен). Дарья попивает, но больше на чужие, потому что зарплата у нее маленькая — она уборщица, но зато — в милиции, и ее, между прочим, круглую сироту, поэтому никто не обижает. На чужие, говорю, — конечно, если они есть, чужие-то. Август, ночь, проливной дождь, стучат и предлагают дамские туфли в обмен на бутылку, зачем мне дамские туфли, тем более — сильно попиленные, набоек нет, на левой шов сзади расходится, чисто из фетишизма, так на то у меня целый арсенал в чулане, я говорю: «Не волнуйте меня». А этот нахал еще спорит: «Да они же типа крутые, нигде не заваленные!» Да уж какие там, в жопу, не заваленные — на правой подошва лопнутая — перегибаю туфлю, показываю ему и умоляю уйти. Он конфузится и уходит, уводя с собою босоногую Дарью, которая прежде скромно стояла за соседним ларьком, но туфли были сухие, так что эти авантюристы все спланировали еще дома (вот какие нынче кавалеры!), и девушка принесла их в подоле. Знай я давеча сразу, что это Дарьины туфельки, я бы согласился. Дарья крутая. Посмотрите налево. Вот две пропахшие солидолом работницы, а эта золотоволосая, хотя и золотушная, отроковица — дочь одной из них, той, что покрасивей, но, к сожалению, плоскостопой. Одна-то (Инна) так, ни о чем, ноги на ширине плеч, кобел коблом; а другая — Матреша — значительно приятнее, богатоволосая брюнетка наподобие известной в свое время эксплозивной писательницы Татьяны Н. Толстой или моей первой жены; они, положив ногу на ногу, попивали пивчик напротив и у обеих сваливались туфельки, и ножки (если к Инниным вообще приложим суффикс «-к-») я рассмотрел. Все четыре были одинаково грязны, но у Матреши черная полоска грязи в месте соприкосновения с туфлей шла по внутреннему краю стопы — увы, она была плоскостопа, изъян в моем положении непростительный! За ними в хвосте очереди пристроились два интеллигентных алкоголика — один бывший физик, другой до сих пор журналист. Они спорят о физике и лирике, причем побеждает журналист, который защищает как раз физику. Остальные все неинтеллигентные. И море блатных. И море бомжей. Трое беспризорных, эти вообще какие-то безумные. Главное, они так довольно сносно одеты, все-таки не двадцать второй год на дворе, девяносто пятый, народ поднакопил жирку за семьдесят лет, на помойках пинжаки валяются, сапоги, шарфы разные, колготки даже, правда, рваные. Они приоделись. Денег тоже как грязи. Подходят типа. Один пацан, лет двенадцати, сует кучу бабок и берет банку тушенки. И девка его паскудная тут же в окошко суется, лет тринадцати, кокетничает еще, пропадла: «Дядя, дайте нам тушенки, а то мы вас съедим!». Может это типа юмор у них, хотя она так довольно серьезно. Девчоночка-то так себе, довольно страшненькая, я бы не позарился, разве что она согласилась бы испражняться. А сзади третий, помоложе, канючит купить ему жувачку. Постарше берет тушенку, передает ее своей бабе и неожиданно бросает через плечо, назад, две сотенки — на, дескать, подавись. И отходит от окошечка. Ну как же, у них форс! Мелкий доволен, подобрал — дайте, дядя, жывачку. Тут же у ларька открыли испанским ножом тушенку, мелкий-то больше жэвачкой перебивался, а эти голубки давай есть. Он как рыцарь сначала предлагает ей. Она пальцами выковыряла полбанки, тут же и порезалась о края, скушала, жир с пальцев облизала, вместе с кровью, передает ему. Он остальное проглотил и, спасибо не сказав, банку в небеса, и ушли все трое. В публичный дом, должно быть. И вот я, усталый, шагаю с работы, несу сумку с известной читателю какашкой в кустарном горшке, солнышко светит, слипаются глаза. На паребрике сидит посетительница ночного бара — она спит, уронив копну рыжих волос в колени, которые слегка раздвинуты, джинсовый мини-сарафан, без трусов, и пизду даже видно. В соседнем ларьке с подвешенными колонками врубают музыку, девка вздрагивает, поднимает голову, видит меня и, оглядев себя, быстро сдвигает колени. Это Катя, бывшая подруга Кости-моряка, который берет водку в долг и деньги аккуратно возвращает, нередко с лихвой, оттого кредит для него всегда открыт. Мы с Катей растерянно киваем друг другу и я смущенно спешу за угол подрочить. (В киоске дрочить очень удобно, потому что за окном происходит черт знает что, а снаружи не видно, но неудобно на улице.) А Костя-моряк крутой, но он фигово стрижет. Он однажды пьяный постриг Катю, и она долго ходила в платочке, ей еще повезло, что было дождливое и холодное лето. Потом трамвайная линия. Мне показалось знаковым его лицо, но я не был уверен, ибо давно страдаю дежавю. Но он окликнул меня я обернулся, и на меня наехал трамвай. После бессонной ночи слабеет тело и слегка кружится голова, как будто немного выпил, и хочется выпить еще немного, а потом еще немного, пока, наконец, совсем ничего не останется. После бессонной ночи мои дежавю усиливаются и начинаются транспортные унижения: я попадаю под трамвай или, чаще, под машину. Играли в нарды у шмаровоза Капочки, пили в баре. Как же он называется? «Давид Сасунский»? Нет, Давид Сасунский — это хозяин, а называется «Суоми» или, по-моему, «Калевала». Но нет, «Суоми» — это, точно, автомат с дисковым магазином удивительной емкости, личное оружие карело-финских белолыжников, а «Калевала» — коктейль, но слишком дорогой. Пили же какой-то приторный крепкий «Лимон». Я и Дюк. Девять утра и весь день свободен. Дюк. Вот это тема! У него на лице сорок тысяч шрамов, и это не «асфальтовая болезнь», как у Ольги, но, вообще-то, у него три ходки. Дюк среднего роста, плечистый и крепкий, по образованию он преподаватель физкультуры среднего звена. В учебке он иногда покуривал, был немногословен и доброжелателен. Один раз он посмотрел на меня и сказал, что я облысею. И я облысел. Лицо у него было как редька кончиком книзу, стриженый затылок, оттопыренные уши. Тяжелый взгляд ясных синих глаз. На мой вкус он довольно красивый, но вот жена моя, а она знает лучше, объявила, что это форменный бандит, просто Гога и Магога, клейма ставить некуда. И не такой бандит, что днем рассекает на джипе, а по ночам баллотируется в Думу, — а такой, знаете, только что изпод нар. Тогда-то он и сказал, что на днях освободился, но удивительно мне показалось, что уже в третий раз. Как?! Казалось, только что мы сидели в курилке, воняя гуталином и шлифуя бляхи пастой гоев или, кажется, геев, я только что успел бросить институт, развестись и опять жениться, закончить университет и обзавестись дитятей! Я еще только успел написать один или два рассказа об этой дивизионной курилке с урнами в виде глотающих бычки пингвинов (намек армейского умельца, тайного гринписовца, на экологию Антарктики), один или два из тех жалких полутора-двух десятков, коими надеялся осмыслить телеологию моей армейской службы, психоанализировать тревожный повторением один свой сон, от которого каждый раз вижу в бороде новую седину, а он сделал три ходки! И как раз тогда, в те дни, навещая с полной коляской молочную кухню, я был поражен мыслью о Поле партии, именно этим рассказом! То есть я писал рассказ, который писать не мог, потому что рассказ «Пол партии» неразрывен с образом Дюка, а я тогда едва ли вспоминал о нем. О чем же я, прости господи, мог думать! Неспроста на меня во время этих дум постоянно накатывало дежа вю и я со всех ног бежал за водкой, а, проснувшись, шел на смену в ларек, вот и все. А ведь Пол партии не шутка, не все сразу понимают Пол партии, иных приходится пинать до семи раз включительно. Неверно также сопоставлять ее с Полом КПСС, хотя они имеют черты сходства и или различия, что и естественно. Также ошибкой будет вослед гуманисту майору Сорскому сводить великий Пол партии к армейской неуставщине. ...Нас «купили» купили такую длинную колонну, что когда первые уже выходили за ворота учебки, последние еще топали на месте на плацу. Это мы умели хорошо — шагать и бегать на месте, этому нас учили. Покупатель, веселый капитан, похожий на папу Карло, радовался нашей выправке, молодцы, кажется, даже подмигивал и щурился от удовольствия. Наконец, тронулись и последние, под ногами был разлинованный на квадратики плац, и длина шага автоматически получалась уставной. Если разлиновать планету, большинство людей будут делать одинаковые шаги независимо от их роста. Это не метафора, а научная гипотеза. Остальных затопчут. Это метафора. — К медведям! — заорал пузатый Кравченко и замахал нам руками с трибуны. Это его любимая тема: в учебке хорошо, Европа, — так сказать, Явропия, батюшка, — а боевые части в тайге. Там волки и медведя. Кто знает? С одной стороны здесь зарядка. В боевых частях, говорят, фигня зарядка: вышли на улицу, упали-отжались, ну пробежка. Маленькая, детская! Здесь не то. В конце только сентября разрешили бегать на зарядку не голыми по пояс, а в майках. В четверть седьмого темно как у Вани, плац освещен фонарями и под счет репродуктора курсанты отжимаются, а когда встают, седой иней на асфальте испещрен черными проталинами от ладоней. Репродуктор шлет первый дивизион на полосу препятствий, второй — на спортгородок, третий (наш) — за ворота части, остальные куда-то еще, это мы уже не слушаем. За ворота части! Вещь в больших количествах невыносимая, ибо кросс. Немного дороги, потом деревня. Все окна темные. Тусклая желтизна нескольких лампочек накаливания на деревянных, изъеденых червями и термитами, столбах. Скоро деревня кончается и бежать по песку в колонну по четыре, а затем перестроиться по два, ибо лес, и узка лесная тропинка, а уж сколь грязна! Затем ручей, гниющие жерди, и только по ним разрешается не в ногу и шагом. Это беговая зарядка, а бывает гимнастическая, а бывает полевая. А в боевых частях, говорят, и слова такого не понимают — какая зарядка. Известно, утренняя. Вот, мол, дураки-то! С другой стороны — волки и медведя… …Эшелон уже на станции. Ни его начала, ни конца не разглядеть вдали, а отважный капитан с улыбкой подбадривает — в тесноте, дескать, рассядетесь, да не в обиде! Все в новой парадке, она и жмет местами, а другими мешковата, и пахнет длинным залом магазина «Ткани». За спиной у каждого тоже новый, но жлобский по самой модели вещмешок, где среди положенного по Уставу малоинтересного барахла есть нечто более волнующее — у каждого по три кирпича свежего хлеба, и по три жестянки «Каши перловой с мясом» — на каждых двоих. Это сухой паек, но есть нечто еще круче — командировочные в твердой валюте (казначейских билетах и серебре) — по рупь тридцать, итого три рубля девяносто копеек с правом тратить на военных вокзалах по собственному произволу. В сущности, для выпускника учебки несколько суток сладкого безделья в вагоне (можно даже лежа) плюс хлеб, консервы и наличка денег — достаточный аванс за любых предстоящих волков и медведей. Так поначалу думается. Множеству глупцов. Но и они почему-то не чувствуют настоящей радости Ночь. На станции луч прожектора скользнет по лицам спящих красноармейцев и снова темно. В темноте одинокая фигура крадется по вагону. Это жирный рядовой Соколов. Он проел свои командировочные на Казанском вокзале. В буфете была еда: бутеброды: пышная горячая булка с куском поджаренной колбасы толщиной в три мужских трудовых пальца. Стоит рубль. Измученный перловкой Соколов съел три, и еще пряничков, и не запасся куревом в достаточном количестве. Он идет воровать папиросы. Он наклоняется над спящим солдатом, протягивает руку и осторожно тянет из кармана пачку. Но спящий не спал, а подкарауливал. — Смирно! Соколов потеет и вытягивается. — Крысятничаешь? Соколова молча бьют ногами в кромешной темноте под стук колес. А еще в учебке тактические занятия. Слухи о предстоящем мероприятии исходили из самых авторитетных источников, оставаясь при этом слухами. В воскресенье вечером культмероприятие в клубе. Лектормеждународник, он же начальник политотдела части, с тревогой констатировал усиление международной напряженности. Положение дел в мире, указал он, сравнимо только с предвоенными 1937—1938 годами. Особенную тревогу не может не вызывать обострение отношений непосредственно между СССР и США. После лекции был показан художественный фильм «Письма мертвого человека». О суровых послевоенных буднях одичавших останков человечества. Дошло до того, что оставшиеся в живых актрисы брились наголо и ходили по экрану с голыми сиськами, и это они показывают в учебке! Потом был перекур, сумерки мерцали огоньками сигарет — и отбой. Задолго до осеннего рассвета, в четыре часа утра, дивизион был поднят по тревоге. Ничего не понимающих спросонок курсантов глушили сиреной и слепили мигающим в коридоре красным фонарем. По казарме раскатился приказ комбата: «Батарея, получать оружие, средства защиты и строиться у казармы!». Едва построившись у казармы, не успев еще нацепить на себя полученные автоматы, шинели, фляги, штык-ножи, противогазы, защитные костюмы, вещмешки и большею частью держа все это в руках, под мышками и между ног, батарея получает приказ строиться на плацу, уже освещенном прожекторами, где командир части в полевой форме и с мегафоном в руке матом подгоняет запаздывающие батареи и дивизионы. Затем войскам был зачитан приказ. Международная обстановка обострилась неимоверно, даже по сравнению с тем, что было вчера. На границе ФРГ с Германской Демократической республикой произошел инцидент. 6-й флот США, 2-е и 4-е ОТАК и сухопутные силы ОВС НАТО на Центрально-Европейском ТВД были приведены в состояние полной боевой готовности. Меры ответного характера и прочая мура. Самым трудным оказалось превратить шинель в скатку. Дальше было круто. Десятикилометровый марш-бросок в средствах защиты в тридцатиградусную жару. Сначала задыхаешься. Потом приходит второе дыхание, но начинаешь беспокоиться за сердце, которое может не выдержать. Потом убеждаешься, что сердце выдерживает, но радости от этого мало, потому что к этому моменту начинают отказывать ноги. Ноги отказываются сгибаться и разгибаться. Именно в это время я заметил, что ковыляющий поблизости однополчанин выбился из сил. Я думал, что выбился из сил я, но его дела были еще хуже. Тогда я взвалил на себя его автомат и вещмешок, и только поэтому он смог продолжить движение. Оговоримся: я не атлет, мои физкультурные достижения всегда были чуть ниже средних, я сам погибал, но, не задумываясь, помог товарищу. А мы задумаемся на мгновение: для чего бы автору настоящих строк хвастаться своей самоотверженностью? Для чего в тексте, на протяжении которого рассказчик беспрестанно и всячески самоуничижается, рассказ об этом, в общем-то благородном, поступке? Поступок, не спорим, товарищеский, братский, но вовсе не благородный, и даже едва ли добрый. Ну и упади этот несчастный солдатик, так что? Полежал бы, да снова поковылял — не война ведь, а в часть возвращаться все равно надо. Но я же помню его изумленный и счастливый взгляд, когда я протянул руку и с невыразимым презрением выдохнул: «Автомат! Вещмешок!»; я видел, как багровое мокрое лицо стало еще краснее от страшного конфуза, пересиливаемого только невыносимой усталостью. Я и сам выбивался из сил, но лишние килограммы веса с лихвой окупились тем мощным подсосом энергии, потерянной от унижения, которую я взял от него вместе с вещами. Я и сам выбивался из сил, и, возможно, не добежал бы, не подкрепись как следует этой энергией деятельного добра. А тот солдатик все-таки скоро упал, несмотря на видимое облегчение. И еще автор настоящих строк упоминает об этом поступке потому, что сейчас вспомнил: Дюк в учебке всегда помогал слабым. А в боевых частях — никакой тактики. Тайга. Или пустыня. Как за окном, где на неоглядной шершавой плоскости появились первые отдельные верблюды и изредка похожие на сказочные городки с мечетями и минаретами мусульманские кладбища с древними каменными стенами. Хотелось вечно лежать на полке и под стук колес вечно видеть этот фантастический безлюдный пейзаж. Никуда не приезжать. Судьба разметала нас по разным площадкам и преподала свой урок. Как в лингафонном кабинете каждый что-то слышал, но не был уверен, что товарищ за стеной стеклянного дома слышал то же самое, а потом что-то помешало сойтись и сговориться, что рассказывать на гражданке. Дюк попал в дикую, совсем дикую дивизию. Неимоверная тоска охватывает новобранца при первом шаге в казарму такой части. Низкие потолки, грязно-салатные стены, не грязные запятая салатные, а очень чистые, резко пахнущие хозяйственным мылом грязно дефис салатные от природы. Вообще везде чистота, в особенности отвратительная чистота сортирных очек, раковин, полов, стен все сияет чистотой. Странно ли, что наигрязнейшие места казармы очень чисты, а относительно чистые не особенно: проверяющие, слишком уповая на формальную логику, рассуждают, что если очень чисты даже не очень чистые места, то чистые-то и подавно; мы же, переросшие формальную логику при получении первых известий об органической, понимаем, почему; но это не из стремления обмануть проверяющих, а чтобы служба медом не казалась заставляют мыть, где понеприятнее, забывая о неспецифическом физиолокусе типа пыльных штор. Все, повторимся, сияет чистотой, кроме солдатских рук, напротив, поражающих неопрятностью. Поражает обилие болячек, ячменей и фурункулов. Где бы ни служил солдат, он всегда убежден, что его место службы самое нездоровое в смысле климата ничего не заживает, любая ранка гноится неделями. Тупое однообразие, бессмысленная муштра, идиотизм командиров мы думали, что это теневая сторона армии. Как же мы были наивны! Нет, все это ее парадная сторона, как воинские парады, как ансамбль песни и пляски, как передача «Служу Советскому Союзу». Теневая состоит в том, что рядовой имярек из Н-ского взвода всесилен и вездесущ. Имярек ни в чем материальном, собственно, не нуждается, его потребности чисто идеальны, и сводятся к тому, чтобы вам служба медом не казалась. Чтобы она не состояла для вас из одной только вышеописанной парадной стороны. Ибо сказано: «тяготы и лишения воинской службы», а какие же тяготы и, тем более, лишения возможны при строгом уставном порядке? Строгий уставной порядок это коммунизм, а коммунизм это молодость мира, то есть «молодость» в армейском понимании. Коммунизм всеобщее счастье, а такого в жизни не бывает, ибо сказано же «нет в жизни счастья», и сам Устав косвенно признает это, говоря о тяготах и лишениях. В военное время они естественны, но как же быть с мирным? Тут вступает в силу основной принцип Пола Партии чтоб жизнь медом не казалась. Осознание этого принципа вызывает у неподготовленных людей глубочайший ужас тоски и непреходящую тоску ужаса. Дюк очень хорошо это почувствовал, он только не испытывал ужаса тоски, как равно и тоски ужаса. Как младший сержант он стал дежурным по роте примерно на месяц. Вокруг ходили железозубые субъекты с самодельными печатками на толстых пальцах, поплевывали на пол, а Дюк, невзирая на зеленые круги в глазах, бросал дневальных подтирать. Он быстро понял, что здесь и сейчас безжалостно плющить однопризывников — реальный шанс выжить, и подчиненные его умывались исключительно кровью, и через неделю дрожали от звука его шагов, нетвердых от бессонницы. Бил он за дело и без дела — чтоб боялись — одинаково сильно в силу спортивности и зло в меру раздраженности. С точки зрения общечеловеческой он был жесток, с точки зрения принципов дедовщины — виновен в посягательстве на честь и достоинство своего призыва, но не в дедовщине сокровенное, а в принципах Пола Партии, по которым он скорее герой, нежели что иное. И это оценили знающие, и уже через полгода Дюк был причислен к казарменной элите, а через полгода это удается только настоящему нормальному пацану, коих немного. А потом у него умерла мать. Наши родители дохнут как мухи, пока мы их защищаем. Не знаю, винить ли их гнилую шестидесятническую сущность или наше желание вырваться из казармы, за ценой не постоя: на пять минут покурить, на полдня почистить снег или на десять суток, не считая проезда к телу. Но Дюк вырос без отца, а мать его к шестидесятникам относилась разве что по возрасту. Ему это не понравилось. Он уже научился выносить тяготы армейской службы, но никак не лишения. Тяготы это было для него, но лишения не для него. И когда он вернулся в часть с похорон, он уже совершенно созрел, или, может быть, испортился, что в ряде случаев одно и то же, как подточенная червем ягодка или вино. За то время, пока я понял что кому «положено», он успел понять и что на это «положено» положено, и совершенно осатанел. Все же наша рота была еще так-сяк, а его — совершенно цветная. Известно, сколь специфичен образ жизни солдата в условиях азиатчины. Пол Партии предписывает ему линию поведения, но умалчивает о главном принципе, потому что Пол Партии — вещь очень древняя, рожденная так давно, когда еще не было ничего другого. Была она безвидна и в одиночестве носилась над косной материей. Потом появились другие социологические модели, но Пол Партии об этом ничего не знает. Это нужно угадать самому. Дюк угадал. А как я жил эти годы? Не так, как предыдущие. (Другой вопрос — зачем я эти годы жил? Я ведь не Соколов, который мечтал выжить и поведать миру, а проблема, как оказалось, состояла совсем в обратном — не выжить и поведать, а, поведав, — выжить. Тут он не преуспел.) Я раньше был очень глубокомыслен, и даже в армии, а потом это как рукой сняло. Я стал весел, с азартом клеил девок, пил и гулял, женился, разводился, все это продолжалось два или три года. А потом что-то случилось. Стали падать обороты машины, которая железной рукой уже почти загнала меня к счастью. Главным образом женщины. Мне все реже хотелось вскочить на подружку и с шутками и прибаутками трахать, да нет, как бы сказать поточнее, м-м, — чпокать, что-нибудь такое, легковесное, понимаете, какой-нибудь глагол со значением однократности — нет, теперь требовалась семантика сурьезности и длительности, сосредоточенной однократной длительности, растягиваемой на полночи, с перекурами и идейными исканиями. С охотой к перемене мест и туалетов в обоих смыслах каждого из слов. Постепенно известный глагол, получающий совершенный вид путем добавления приставок «от-» и «вы-», утерял эти приставки в моем словоупотреблении, зато все чаще обрастал возвратным суффиксом, знаменующим особую перманентность обозначаемого действия и, что особенно важно, известную направленность его на себя. Я бесконечно благодарен стереотипу, в соответствии с которым длительность и напряженность соития есть свидетельство мужеской силы. Женщины были уверены, что имеют дело с настоящей гориллой (в чем их еще убеждала моя внешность и некоторые привычки), пока в хорошем смысле гориллой. Но, будучи уверены, они не радовались. Они сильно уставали, и хотя самую усталость также считали доказательством того же, но отчего-то (от усталости?) все реже и реже хотели этого снова. Женщины предпочитали, чтобы не так долго. Я стал плохо спать. Мне много раз снилось, что я призван в армию, и нет предела моему тоскливому возмущению — да я уже служил! Но это бесполезно, государство не переспоришь. Срок службы всякий раз предстоял различный, со временем он в некоторой искаженной пропорции уменьшался — в среднем на месяц-два за год реальной жизни — и именно это не радовало, потому что предстояло видеть эти сны в лучшем случае двенадцать лет. И служба была отвратительной: посреди пустыни воздвигнуто рукотворное плато с совершенно отвесными бетонными стенами километровой вышины. Наверх ведет узенькая железная лесенка, вделанная в стену. Почему так? Отвечают: там, наверху, страшная радиация, так чтобы не произошло заражения планеты. Мудацкая ваша планета! И я попадал в эту призрачную армию не просто так, а за некий проступок, сущность которого мне не раскрывали. Я понял, что чего-то недопонял. В армии. Вот это поражало меня! Я родился, рос, осознавал мир, мыслил, любил и страдал, создавал и разрушал семьи, порождал и убивал детей, мертвецки пил и плакал над кучкой жемчужной, писал стихи, осознавал в природе присутствие духа и ужасался ее чуждости человеку. Я приходил к Богу и медленно терял его без видимых причин, — и после всего этого мне намекают из подсознания, что я что-то недопонял в армии. В этой мудацкой вашей армии?! Да, и что-то самое важное в жизни, самое страшное в своей грандиозности. Что-то, что вертелось на языке как самый главный, но невыразимый антоним к слову «свобода». Но какой? У слова «свобода» слишком много антонимов. Счастье? Тоталитаризм? Рабство? Забота? Долг? Дружба? Любовь? Богатство? Справедливость? Порядок? Цивилизация? Культура? Добро? Сон лишал меня свободы, чтобы, проснувшись, я потерял что? Но проснувшись, я только очумело мотал головой и стремглав бежал за водкой в «припрыжку». Он провел в моем киоске целую ночь. Мы разговаривали. Дюк рассказал, как при помощи простого растворителя можно сырые маковые головки превратить в ужасающей силы зелье. (Рассказ этот, очень обстоятельный, я, к сожалению, совершенно забыл.) Но такой беседе не хватало диалогизма, и тогда мы перешли на женщин. Дюк рассказал, как придя однажды домой, обнаружил свою бабу сидящей бок о бок с одним приятелем. Тогда он взял нож и победил ее одним ударом в ляжку, так что теперь она как шелковая. «Здорово!» — загрустил я, и предложил выпить водки. (В том достопамятном году новинкой были «школьницы» — стограммовые пластиковые стаканчики, заклеенные сверху фольгой: сорвать фольгу и оппаньки! По-моему, удобно; однако, не прижилось.) Дюк после армии долго не мог привыкнуть к тому, что если тебе нужна булка хлеба, нужно платить за нее деньги. Такая же история происходила на гражданке с маслом, сахаром, мясом, картофаном, даже с бациллой, не говоря уже о водке. Он, конечно, помнил это по доармейскому опыту, но чисто теоретически. А ведь тут, брат, практика: слетай-ка ты, бурый дед, ножками в магазин, да не смей без очереди! А стоит перед тобой гнойный пидор в ленноновских очках (астрал-ментал, сука, вот бы на кого патрон стратить!) и не то чтобы он сам, завидев тебя, спрятался под прилавок, но слова ему не скажи! То есть, когда, сдерживая себя, только скажешь ему негромко «съебался!», он начинает удивляться, высказывать недовольство, а когда вскрывается его нюхальник, то посторонний старый гомик, которого вообще не трогали, зовет милицию. А сказать наряду — вы че, братки, вы за кого заступаетесь, за это чмо вы заступаетесь?! — бесполезно; а сделать вывод — значит, и сами вы такие! — даже рискованно; а вскрыть самому наглому нюхальник — и вовсе ошибочный поступок. И даже то, что был пьян, тебе в оправдание не засчитывается. Вот как, значит, теперь живем! Ладно, платить так платить. А чем? А знаете ли вы, милостивый государь, за что на гражданке деньги платят? Можно землю копать; можно говно возить; можно полы сосать, а можно болты точить; можно также подметать улицы и собирать мусор. А где нормальное дело, там имеются свои нормальные пацаны; а в чиновники не зовут; а сидеть халдеем в ларьке и любому козлу улыбаться не всякий хочет, ясно? Дюк это пробовал, но с улыбкой не получалось, а когда оскорбили его черножопые хозяева, он просто выручку — в карман, товара, сколько вошло, — в сумку, и пошел домой. А дома баба, хоть и помалкивает, уважает, но сам-то он не без ума, кой-какие понятия имеются. Вот и скажи, как быть? Прикольно быть киллером, но служба в дюковской части не прививает навыков стрельбы, маскировки и ориентации на местности. Она прививает навыки обороны и нападения подручными средствами в тесном пространстве, а также понятие о чести, которая несовместима с работой. Что? Другие работают?! А что такое другой? Другой есть такой человек, который сам себе сапоги чистит, кровать заправляет сам, сам бегает за чем нужно, обед сам готовит, надо будет — и полы отсосет. Что ему сделается? Ничего. Трескает-то он чернягу да бациллу... Я не стерпел и заметил, что есть же разница притом между армейкой и гражданкой. Дюк глубоко вздохнул и признал, что есть, но затем его потухший было взгляд снова загорелся, и он сказал, что не для того проливал кровь свою и однополчан, чтобы сейчас, дембель со стажем, он стал работать. Он свое отработал в учебке. Работать ему не положено по званию, по сроку службы и просто по жизни. Таков Пол его Партии. Я рассказал Дюку про Пол другой Партии — про своего приятеля, который не умеет заставить женщину на себя испражняться. Дюк сказал, что приятель мой извращенец, и лучше бы ему не жить. С этим я согласился, хотя и неохотно. Дюк сказал, что приятель мой неправ в принципе: женщину невозможно заставить испражняться на мужчину. Чтобы заставить, нужна железная воля, а волевому мужчине быть обгаженным совершенно незачем. Так что пусть мой чмошный приятель намотает себе на ус, что он неправ, и совет ему — не делиться своей проблемой с нормальными пацанами, и совет мне — прервать порочащую меня связь, либо уже общаться только с этим уродом, потому что я, наверное, пожимаю ему руку, а потом здороваюсь за руку с нормальными ребятами. Я дал честное слово, что никогда не подавал руки этому человеку. Кроме того, продолжил Дюк, если мой приятель такой мазохист, то почему бы ему просто не податься в пидоры? Когда на тебя срут — это, понятно, унизительно, но все равно же унизительней, когда ебут. — Для мужика, — уточнил я. — Для всех! — отрезал Дюк. Я слегка недопонял, так ведь женщины, некоторым образом, для того и созданы, и поэтому странно говорить... — Пидоры тоже для этого созданы, так что, в жопу их целовать за это? В жопу их ебать, а по ебалу пиздить! Как и баб. Дюк все объяснил мне. Неважно, кто в доме хозяин, важно — кто баба. Кто баба, тот и унижен, кто унижен, тот и баба. Оказывается, я никогда не задумывался, для чего опускают разных козлов. Ведь не ради их сексапильности, правда? Он унижен и оскорблен, но не окончательно, пока его не выебали, потому что до этого момента остается каким-никаким, а мужчинкой. А вот когда его выебали, он уже становится как бы женщиной, то есть существом, униженным от природы. Неважно, кто в доме хозяин, и баба может мужиком помыкать как хочет, но пока мужик ее ебет — она чмо. Дюк просто открыл мне глаза на мир. Мы выпили много водки, и я не воспроизведу сейчас всей глубины открывшейся истины. Замечу лишь, что был интеллектуально и личностно унижен этим разговором. Ведь я-то этих истин не понимал, а ведь он-то не прочел их в учебнике! Он прочел их в учебке, а я не сумел. Он приехал в боевую часть уже во всеоружии передового учения, а я едва что-то заподозрил к концу службы, но, уволившись, позабыл и то. А ведь я — человек с высшим образованием... Ох, горько мне, горько! Короче. Обыкновенно смысл половой любви полагается в размножении рода, которому она служит средством. Дюк, по ходу, считает этот взгляд неверным — не на основании только каких-нибудь идеальных соображений, а прежде всего на основании естественноисторических фактов. Что размножение живых существ может обходиться без половой любви, это, на минуточку, ясно уже из того, что оно обходится без самого разделения на полы. Значительная часть организмов как растительного, так и животного царства типа размножается бесполым образом: делением, почкованием, спорами, прививкой. Чем выше стоит существо на эволюционной лестнице, тем больше оно хочет ебаться. Одновременно с этим возрастает и социальность животных. Социальнее всех люди, они же и злоебучее всех. В том типа смысле, что гон у них круглый год, и даже, когда хуй еще не стоит, они прикалываются по фекально-оральной сексуальности, а когда уже не стоит, они тоже что-нибудь придумывают. Типа пьянство, обжорство, ордена, песок из задницы — то есть разные анально-орально-фетишистские прибамбасы, не говоря уже об извечном вуайеризме, ему же все возрасты покорны. В гетеросексуальной семье Пол партии существует по единственной причине — один вводит в другого член, а не наоборот, вот и все. Нужно быть примитивным человеком, чтобы понять всю степень этого генитального унижения, и быть им нужно, потому что одно слово правды весь мир перевесит. Тот, в кого вводят член, унижен и оскорблен, типа он женщина. Многие это понимают — церковь, таджик из третьей роты, в недоумении говоривший о своей возможной будущей жене: «Как с ним могу разговаривать как с человеком, если его ебал?». («С ним» — значит «с ней», он человек нерусский и путал формы местоимений, а вы нехорошо о нем, персонаже, и обо мне, рассказчике, подумали. Вы его унизили сексологически, а меня — дискурсивно.) Этого не понимает, но инстинктивно очень точно чувствует феминизм — о, там не о равенстве полов, а о мести мужчинам, но достойная месть не состоится, потому что женщины могут уничтожить мужчин, но выебать-то их не могут. А без хуя месть неполная. Люди, незнакомые с Полом партии, долго не могут установить, кто в доме хозяин, матримониально унижают себя и близких. Знакомые же сразу понимают — кто тут дед, а кто баба. Кто в доме хозяин, того и горка. Нет, Дюк не отрицает того факта, что в результате совокупления появляются дети. Однако не после каждого, следовательно и связь секса с деторождением случайна, а не обязательна, а случайность — материя зыбкая, раз в году и палка стреляет, и ничего этим не доказывает. Да и само появление детей в результате долбежки есть факт во многом символический, указующий участникам оргии на то, что насилие и унижение есть благо, есть жизнь. Тут сама природа благославляет человека чтить Пол Партии, то есть нераздельность и неслиянность насилия и унижения — эту великую силу, движущую солнце и светила! Я робко возразил, что Данте был другого мненья, но Дюк легко доказал, что Пол Партии в первую очередь воплощается в любви, а уж потом — во всех остальных человеческих взаимоотношениях. — А ты как думал? А откуда, думаешь, дедовщина? — Ну.. — задумался я. — Я вот читал, что раньше в армии служили три года, а когда стали два, тем, кто уже три оттянул, вроде как обидно, они новый призыв стали гонять, а дальше уже как по эстафете... — Это хуйню ты читал, — уверенно перебил Дюк. — Если ты такой, бля, книголюб, надо классику читать. Книжку «Тихий Дон» называется, понял? А еще у Куприна есть книжка «Юнкера», знаешь? — Знаю. — Не перебивай. Так вот, дедовщина в армии была всегда. — Ну, еще говорят, что стали в армию брать уголовников, — осторожно поглядывая на Дюка, сказал я, — и они принесли в армию тюремные нравы... — Хуйня, хуйня! А Куприн? А «Тихий Дон»? А в самой-то тюрьме откуда такие нравы? Может, из армии? Мне нечем было крыть. — Слушай меня очень внимательно. Армия — это большая семья. Командир отец, замполит мать, и солдаты — братство по оружию. Деды — старшие братья: они и учат, и командуют, и подзатыльник отвесить могут; духи — младшие братья, так что приходится терпеть. А в чем разница с настоящей семьей? — Большая очень? — Дурак, я ж тебе не про всю армию! Берем взвод или отделение, человек десять —пятнадцать. Нормальная большая семья, как были раньше. Разница в том, что в армии нет баб. Вместо бабы в армии чмо. — Ну не всегда же их ебут... — А баб в семье — всегда? Ты пойми, я ж говорю про большую крестьянскую семью. Отец и мать, да? Вы с братьями. Может, один брат, самый старший, — женатый. Он, может, жену свою и ебет. Что, на взвод не найдется одного чма? — Найдется. — Вот! Может, он его и ебет! А что, тебе старший брат будет докладывать, ебет он жену или нет? По шее получишь за такой вопрос, и все. А может, и не ебет: может, у него хуй не стоит, или она там беременная? Важно не то, что бабу ебут, а то что ее можно ебать! Чмо тоже можно. Бабу, чтобы не распускалась, надо пиздить, чисто так, для профилактики. Такая же хуйня с чмом. — Ну ты крутой! — восклицаю я. Это восклицание — последнее, что я помню из нашего разговора достоверно. Да и насколько достоверно? — сомневался я впоследствии. Достоверны ли ссылки Дюка на купринских «Юнкеров»? Говори, память, да не заговаривайся! — Дюк едва ли читал «Юнкеров». Дюк ушел, дальше я пил один. Я словно прозрел. Я не знаю, что такое причинно-следственный изолятор. Есть два последовательных события, и говорить, что первое из них есть причина второго, — это пижонство, логическая ошибка или умышленная недобросовестность исследователя. Но и отрицать это только из-за того, что неясна сущность их временной связи — тоже пижонство, другая логическая ошибка. В рамках ограниченного контекста. А контекст всегда ограничен. Я ушел в армию, и вдруг в ней началась травля товарища Сталина, которая все разрасталась, а когда я вернулся домой, эта травля словно бы приехала со мной и на гражданку. Поскольку культ личности был развенчан задолго до моего рождения, то ничего нового в злодеяниях товарища Сталина не было. Значит, все дело во мне самом. Прошу прощения! Я мог и не попасть в армию. Я неспроста лежал в дурке Сибирский тракт восьмой километр. Санитаром там служил пятнадцатилетний Костя Богомолов, и у него был собственный огромный кабинет (главврач же, по уверению Богомолова, ютился под лестницей), и он, вертя ключом на цепочке (чем добивался благосклонности местных ветрениц из числа персонала и пациенток), водил дураков и дур на прогулку. И мне там что-то шили, но дальше отягощенной наследственности и психопатии дело не пошло, и окончательным вердиктом стала первая фраза из выписки: «Психически здоров». Я не уверен, что, окажись эта фраза второй, а фраза о наследственности и психопатии — первой, мы имели бы сейчас то, что имеем. Я не попал бы в армию, и ничего не случилось бы с товарищем Сталиным, и, следовательно, не выплеснулось бы оттуда и на гражданку. Ведь перестройка начинается с тебя, а не будь ты в армии, ей не с кого было бы начаться. Мы бы еще отметили восьмидесятилетие Великого Октября. Вот бы славно нажрались! Ведь настоящим бывает только воистину всенародный — то есть принудительный — праздник. Это настолько прямо следует из Бахтина, что даже западло доказывать. (Бывший фельдъегерь, а ныне ученый Гудов выдвинул схожую теорию — «Рождение революции и коллективизации из духа праздника».) Современные праздники добровольны, отсюда и кислые результаты, и катастрофическое одиночество человека в обществе. Так и семья, ячейка общества, строится сейчас на основе полной разумной добровольности, отсюда и ее разрушение. Точнее, строилась до последнего времени, пока не остановилась вода в канаве. Тем более дедовщина. Неуставные отношения. Глумления. Издевательства. Разнообразнейшие виды унижения. Дюк неправ. Пол Партии начинается с тебя и заражает весь мир, прежде здоровый. Сначала семью, затем остальные, более крупные, ячейки общества. Например — армию. Или хоть литературу, где не только дедовщина и землячества, но и беспредел, когда один говорит другому, что тот пидорас, а другой разбивает одному башочку кружкой, кто из них круче? Оба! (А потом писать об этом третьим лицам — вот это как раз и не круто. Это как раз историко-литературное унижение.) И уже затем Пол Партии движет солнца и светила. Я, подобно несчастному доктору Керженцеву, убедился, что все это подобно лажовому лактометру, который еще и склонен взрываться. Но ах! Если начинается с тебя, а с тебя-то как раз ничего и не начинается, и ты не способен заставить жену испражняться на тебя? Что станет с любовью, жизнью, солнцем и светилами? Попытаются меня гносеологически унизить, скажут — это солипсизм... А меня ебет?! Вы, мои полсына!.. И Сережа тоже был крутой. Он не был похож на охранника-быка, который, сутками развалясь на детском стульчике, рассматривает свою обувь — глинка-де или говно? — а потом, бывает, немного покачает в воздухе увесистой дубинкой. Не был он похож и на другой тип охранников-интернационалистов — пареньки небольшого роста, а вы думали это подросток, а он отжимается двести раз в минуту, а с хулиганами и бандитами только шепчется, и они уходят навсегда. Сережа любил «Мамбу», всегда смеялся и шутил, даже если ночью бредил, особенно любя шутки с деньгами: незаметно прятал за кассовый аппарат пачки собираемой от реализаторов выручки, а реализаторы от этого моментально и обильно потели. С юмором делился своим собственными, большей частью венерическими, проблемами, вообще охотно составлял компанию. Так что не только фирма «Уралтруба» понесла определенную утрату, но и люди искренне охнули. Я хочу сказать, что торгую водкой в ларьке «Уралтрубы» «Уралтрубе» в убыток, но она не в обиде, потому что прибыль идет от распродажи атомных бомб второй свежести разным народностям, а водка моя типа прикрытие, народ-де спаиваем. Точнее, торговал до сегодняшнего разговора с бригадиром. Пока Сережу пытались реанимировать, убийцу по горячим следам поймали и отвезли в подвалы «Уралтрубы». То, что останется, сдадут в милицию. Это у него будет четвертая ходка. Он пришел в чужую смену пьяный и потребовал меня, Сережа его закономерно послал, тот недоволен, Сережа вышел и набил ему лицо, а в ответ получил нож в поясницу. Его звали Дюк. Он очень хорошо понимал Пол Партии. (В финал: последний раз на смене наутро новая сменщица трехчасовая болтовня чрезвычайно юна можно Катрин молния наискосок значки замазанные угри фенечки играет на басу и на домре волнующий запах от подмышек слегка косоглазая воскресенье крематорий чайф гражданская оборона чиж система в любви все дозволено кастанеда какая дура петтинг расширять сознание садомазо копролагния адрес и телефон родители ну очень отсталые люди самостоятельность пепси а также пиво и т.п.) ( Дальше последний абзац: «— лестно, лестно, это даже очень лестно»; а вода не течет, и: «— Почему же ты не плачешь? — Спасибо, я уже плакал».)