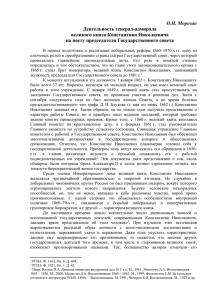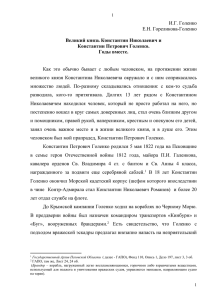Прозорова Наталья Аркадьевна
реклама
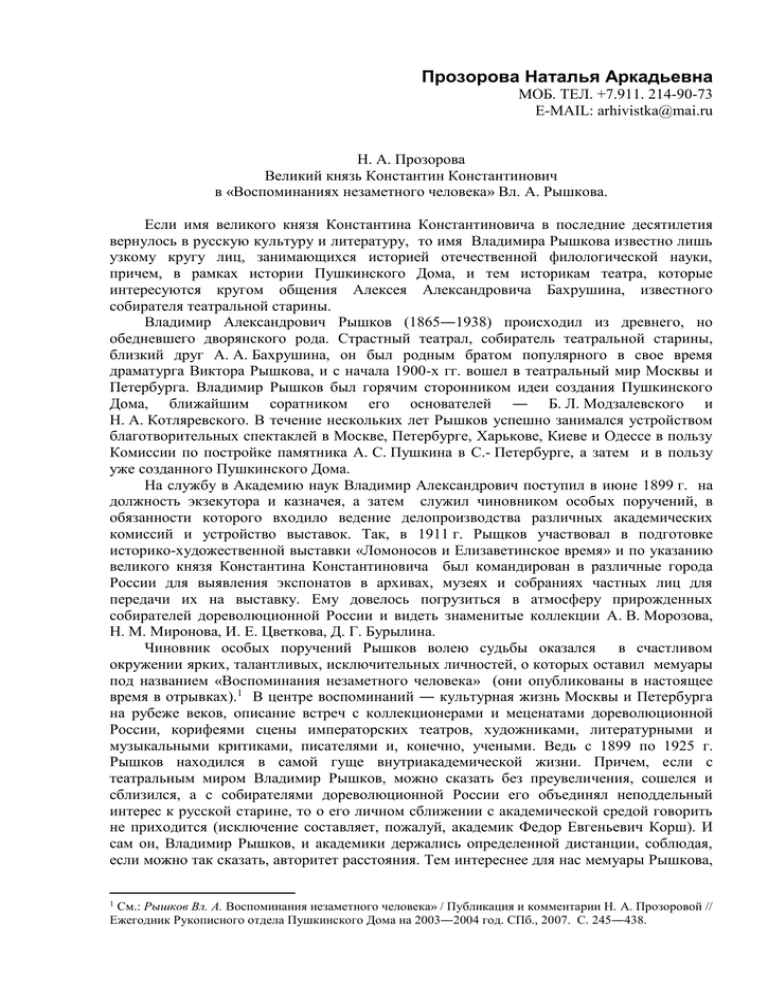
Прозорова Наталья Аркадьевна МОБ. ТЕЛ. +7.911. 214-90-73 E-MAIL: [email protected] Н. А. Прозорова Великий князь Константин Константинович в «Воспоминаниях незаметного человека» Вл. А. Рышкова. Если имя великого князя Константина Константиновича в последние десятилетия вернулось в русскую культуру и литературу, то имя Владимира Рышкова известно лишь узкому кругу лиц, занимающихся историей отечественной филологической науки, причем, в рамках истории Пушкинского Дома, и тем историкам театра, которые интересуются кругом общения Алексея Александровича Бахрушина, известного собирателя театральной старины. Владимир Александрович Рышков (1865―1938) происходил из древнего, но обедневшего дворянского рода. Страстный театрал, собиратель театральной старины, близкий друг А. А. Бахрушина, он был родным братом популярного в свое время драматурга Виктора Рышкова, и с начала 1900-х гг. вошел в театральный мир Москвы и Петербурга. Владимир Рышков был горячим сторонником идеи создания Пушкинского Дома, ближайшим соратником его основателей ― Б. Л. Модзалевского и Н. А. Котляревского. В течение нескольких лет Рышков успешно занимался устройством благотворительных спектаклей в Москве, Петербурге, Харькове, Киеве и Одессе в пользу Комиссии по постройке памятника А. С. Пушкина в С.- Петербурге, а затем и в пользу уже созданного Пушкинского Дома. На службу в Академию наук Владимир Александрович поступил в июне 1899 г. на должность экзекутора и казначея, а затем служил чиновником особых поручений, в обязанности которого входило ведение делопроизводства различных академических комиссий и устройство выставок. Так, в 1911 г. Рыщков участвовал в подготовке историко-художественной выставки «Ломоносов и Елизаветинское время» и по указанию великого князя Константина Константиновича был командирован в различные города России для выявления экспонатов в архивах, музеях и собраниях частных лиц для передачи их на выставку. Ему довелось погрузиться в атмосферу прирожденных собирателей дореволюционной России и видеть знаменитые коллекции А. В. Морозова, Н. М. Миронова, И. Е. Цветкова, Д. Г. Бурылина. Чиновник особых поручений Рышков волею судьбы оказался в счастливом окружении ярких, талантливых, исключительных личностей, о которых оставил мемуары под названием «Воспоминания незаметного человека» (они опубликованы в настоящее время в отрывках).1 В центре воспоминаний ― культурная жизнь Москвы и Петербурга на рубеже веков, описание встреч с коллекционерами и меценатами дореволюционной России, корифеями сцены императорских театров, художниками, литературными и музыкальными критиками, писателями и, конечно, учеными. Ведь с 1899 по 1925 г. Рышков находился в самой гуще внутриакадемической жизни. Причем, если с театральным миром Владимир Рышков, можно сказать без преувеличения, сошелся и сблизился, а с собирателями дореволюционной России его объединял неподдельный интерес к русской старине, то о его личном сближении с академической средой говорить не приходится (исключение составляет, пожалуй, академик Федор Евгеньевич Корш). И сам он, Владимир Рышков, и академики держались определенной дистанции, соблюдая, если можно так сказать, авторитет расстояния. Тем интереснее для нас мемуары Рышкова, См.: Рышков Вл. А. Воспоминания незаметного человека» / Публикация и комментарии Н. А. Прозоровой // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2003―2004 год. СПб., 2007. С. 245―438. 1 всегда присутствующего, часто участвующего, а главное, наблюдающего за академическими событиями и их действующими лицами. Воспоминания, относящиеся к академической службе, по понятным причинам Рышков начинает с портрета президента. Два человека, несопоставимые по социальному статусу, член царской фамилии, президент, великий князь Константин Константинович и чиновник особых поручений Рышков, в течение пятнадцати лет были связаны службой в Российской Академии наук. В отношении к великому князю у Рышкова нет и тени подобострастия, и портрет его мемуарист пишет свободно, так сказать, без «мундира». Он сразу замечает, что сословное превосходство и права великого князя, его полное материальное благополучие оборачиваются для него сословной же несвободой. Его мир, с вынужденной разобщенностью с людьми, был слишком далек от того мира, в котором, как замечает Рышков, «ему пришлось играть известную, и притом весьма видную роль». Поневоле великий князь был отдален от понимания нужд не только обыкновенных, незаметных людей, но и лиц небогатого академического круга. В связи с этим Рышков вспоминает: «Великий князь Константин Константинович представлялся мне всегда каким-то, если можно так выразиться, «затравленным», неуверенным в себе. Такое его состояние было вполне понятно: слишком его мир расходился с тем миром, в котором ему пришлось играть известную, и притом весьма видную, роль. Все то, что этот мир восприял в детстве, отрочестве, юношестве и зрелых годах, что, так или иначе, влияло на образование его характеров и мировоззрений, было так далеко от мира президента, было совершенно ему чуждо. Ведь надо иметь в виду, что среди академиков были и люди, получившие первоначальное образование в уездных двух- и трехклассных училищах и вышедших из очень бедных семей разночинцев и духовенства. Достаточно вспомнить хотя бы П. В. Никитина, отец которого был простой бедный священник, добившийся этого сана из дьячков. А насколько он был беден, можно видеть из следующего. Когда вспыхнула европейская война, Никитин был заграницей, и вот что он писал мне оттуда: „Еще одна просьба: зайдите в Лионский кредит и узнайте об участи моего билета 1-го внутреннего займа. Он был мною заложен в 300 р. до 2 июня, а потом ссуда была отсрочена до 2 сентября. Если он банком не продан, попытайтесь новой отсрочкой, на счет моей сентябрьской пенсии, спасти его. Это единственное наследство, доставшееся мне от отца”. Разве такое положение могло быть доступно пониманию великого князя?! Однако обаятельность и симпатичность Константина, его готовность всегда и всем быть полезным сделали то, что все, сталкивавшиеся с ним, признавали в нем очень хорошего человека. И я должен по совести сказать, что людей, расположенных к нему дружелюбно, было почти большинство, а враждебно почти никого. Сейчас, перебирая в памяти последних, я, пожалуй, назову только одного, академика Маркова, но когда читатель познакомится ниже с моим описанием этого академика, ему станет понятной причина этого. Если в душе президент и не разделял придворного мракобесия, то, как „августейшая особа”, наружно он должен был соблюдать известный декорум, а этот декорум, конечно, не давал возможности сердечного с ним сближения, ибо какое же может быть сердечное сближение при обязательном употреблении того Эзопова языка, к которому обязывал этикет! Я упомянул о „затравленности”. И действительно, несмотря на то, что Константин в совершенстве, конечно, владел собою, я зачастую наблюдал в его глазах такое выражение, какое бывает у зверя, ищущего выхода из создавшегося для него опасного положения. Это выражение, например, мелькало на его лице всегда, когда к нему обращался с какимнибудь делом кто-нибудь из академиков. Но при нем безотлучно находились два таких телохранителя, как Никитин и Ольденбург, и на них он уже смотрел доверчиво, он знал, что в них он всегда найдет опору».2 Так уже первый штрих к портрету великого князя, сделанный Рышковым, подводит читателя к проблеме пределов частной жизни члена царской фамилии, пользующегося исключительными привилегиями с одной стороны и с другой стороны, находящегося в плену этикета, ограничивающего возможность контактов с творческой и ученой средой. В этой вынужденной разобщенности великого князя с людьми была по замечанию критика А. А. Измайлова настоящая драма, драма настолько явная, что многие из людей «просто предпочли бы скромную человеческую позицию, отказавшись от преимуществ происхождения». Симпатию к личности президента вызывали у Рышкова не только благожелательность великого князя, но и его эстетические представления, в том числе, отношение князя к декадентскому искусству, которое полностью разделял Рышков. Не без удовлетворения Рышков замечает, что после посещения одной ультрадекадентской выставки «новых течений» президент просил «не давать академический зал под такие выставки». Рышков вспоминает: «У Константина была чрезвычайная способность очаровывать людей, и достигал он этого удивительной простотой в обхождении. Помню его посещения художественных выставок, которые устраивались в Академии наук. Художники очень любили эти посещения, и всегда просили меня предупреждать их, когда он придет смотреть их произведения. Они признавались мне, что с Константином они гораздо больше считаются, чем со своим президентом великим князем Владимиром Александровичем. <…> Константин был хранителем традиций чистого искусства, он признавал только здоровое искусство, и перед тем, чтобы отвергнуть декадентство и прочие «новые течения», он долго и обстоятельно изучал их. Около таких картин он на выставках задерживался особенно долго и всякий раз отходил от них с каким-то скорбным выражением на всегда приветливом лице».3 Любопытно, кстати, сравнить воспоминания Рышкова с хорошо известными мемуарами Александра Бенуа, в которых он описывает осмотр великим князем в 1893 г. выставки с врубелевским «Демоном». Но наиболее контрастным выглядит сравнение с эпизодом посещения Константином Константиновичем пятой художественной выставки журнала «Мир искусства». Этот эпизод описан Рерихом. Николай Рерих, как секретарь общества, сопровождал князя по выставке и давал ему объяснения. В «Листах дневника» он воспроизвел этот эпизод так: «Занятно было выслушивать различные мнения о наших выставках. Помню, как Президент АН вел. кн. Константин Константинович поносил выставку за „декадентство”. Почему-то он обрушился на безобидный этюд Браза: „Зачем фонарь кривой?”. Пришлось пояснить: „Вероятно, сломался”. Ответ очень не понравился».4 Обращает на себя внимание различная тональность двух мемуарных источников похожих по отображению жизненных впечатлений: спокойно-уважительная интонация Рышкова и насмешливая у Рериха, переполненного творческими амбициями. По разному, соответственно, воспринимается и образ великого князя. Но именно воспоминания разных лиц, дополняющие друг друга, способствуют созданию истинного и полного, так сказать, во весь рост портрета исторического лица. За время долголетней службы в Академии Рышков был свидетелем лишь одного конфликта, произошедшего у великого князя с академиками. Он возник после опубликования статьи «Нужды просвещения (Записка 342 ученых)» в газете «Русь» 27 января 1905 г. В «Записке» отмечалось, что «академическая свобода не совместима с современным государственным строем России», а «правительственная политика в области Рышков Вл. А. Воспоминания незаметного человека. С. 415―416. Там же. С. 419―420. 4 Рерих Н. Листы дневника. М., 1996. Т. III. С. 626―627. 2 3 просвещения народа, внушаемая преимущественно соображениями полицейского характера, является тормозом в его развитии, она задерживает его духовный рост и ведет государство к упадку».5 Ответом на выступление ученых стало циркулярное письмо президента, посланное каждому из подписавших «Записку» академиков (их было 17), в которой великий князь, соглашаясь с тяжелым положением просвещения в России, призвал ученых заниматься своими прямыми обязанностями и не делать из науки «орудие политики». Конфликт президента с академиками с достаточной степенью подробности на основе архивных материалов описан в монографии В. С. Соболева «Августейший президент» (СПб., 1993) и в книге Л. И. Кузьминой «Августейший поэт К.Р.» (СПб, 1995). Обратимся теперь к воспоминаниям Рышкова, в которых он комментирует эту коллизию и по-своему раскрывает психологию конфликта. Рышков вспоминает: «Его „августейшество” поставило его (великого князя. ― Н. П.) в очень неудобное и щекотливое положение во время освободительного движения, когда самые разнообразные организации стали выносить резолюции по поводу современного положения в России. Между прочим, вынес такую резолюцию и ученый мир, под которой подписалось большинство академиков. Положение для президента создалось весьма тяжелое. Как президент он, естественно, должен был бы примкнуть к ней и, так или иначе, реагировать на нее. А как августейшая особа должен был протестовать против нее. И тут пришлось вспомнить латинскую поговорку: boves ad montem stant!6 Константин уже не мог даже надеяться на выручку своих телохранителей, ибо, не помню, как Никитин, но Ольденбург эту резолюцию подписал. В то время в недрах его двора существовала своего рода Пифия, прославленная мудрейшей в его дворцовом кругу, этой Пифией был заведовавший его двором генерал П. Е. Кёппен. И вот Константин совершает крупнейшую ошибку: он поручает Кёппену составить от его имени обращение к академикам, с указанием неуместности их выступления. Рассказывал мне об этом брат Кёппена Владимир Егорович. И результаты оказались весьма плачевные, от всех академиков Константин получил настоящую нахлобучку! Я знаю два ответа. Академик И. И. Янжул ответил ему коротко, что, перевалив за шестой десяток лет, он считает себя самого в достаточной степени способным взвешивать свои поступки, а академик Марков ответил, что если бы президент нашел в его ученых трудах какую-либо ошибку и указал бы ему на нее, он бы отнесся к этому указанию с должным вниманием, признавать же за президентом право быть гувернером его убеждений он не имеет никакого основания, точно так же, как и президент не имеет никаких оснований признавать за собою этого права. В моем положении, писал Марков, смешно подвергать себя опеке лица, совершенно чуждого моим воззрениям…. Вот единственный конфликт, который имел Константин с Академией на протяжении всей моей службы там. Во всех же других случаях он ревностно отстаивал свободу, независимость и интересы Академии».7 Попытаемся выяснить, есть ли в рассказе Рышкова какие-либо ценные дополнения, скрытые материалами, сохранившимися в архиве Академии наук. Итак, циркулярное письмо было подготовлено 4 февраля 1905 г. и затем разослано академикам. Через месяц после единодушного ответа ученых на циркулярное письмо, 5 марта великий князь обратился к ним с краткой речью перед началом Общего собрания. На основании официальных документов, которые были в распоряжении В. С. Соболева, известно, что автором этой речи был П. Е. Кёппен (он был душой семьи великого князя). Вопрос же об авторстве циркулярного письма президента в вышеупомянутых монографиях Соболева и Л. И. Кузьминой не рассматривается. Но из мемуаров Рышкова, близко стоящего к великому князю современника, мы узнаем, что и циркулярное письмо, написанное от лица Русь. 1905. 27 янв. № 20. Нужды просвещения (Записка 342 ученых). С. 3―4. быки пред горою стоят (лат). 7 Рышков Вл. А. Воспоминания незаметного человека». С. 416―417. 5 6 президента, было также составлено Павлом Егоровичем Кёппеном. Эта очень важная деталь вносит в историю конфликта ту самую черту, какой, по выражению Гоголя, «нигде не дороешься», и которая может придать мемуарам высокий статус исторического документа. В «счастливой памяти» Рышкова сохранился еще один день ― торжественный день посещения великим князем дома Бахрушина вскоре после передачи театрального музея Бахрушина в ведение Академии наук, чему, кстати сказать, немало способствовал сам Рышков. Незабываемый для семьи день был описан сыном Бахрушина Юрием Алексеевичем в его «Воспоминаниях» (М., 1994) и описан как бы изнутри, со всеми волнениями домочадцев, нашествием корреспондентов и стенографисток, и последними приготовлениями к приему августейшего гостя, когда «что-то еще раз протирали, чистили и подправляли». В мемуарах Рышкова, глазами друга бахрушинской семьи, читателям предлагается еще один ракурс этого памятного дня. Рассказ Рышкова расписан как в кинематографическом сценарии, где сначала дается общий план (здесь Рышков является лишь сторонним наблюдателем), затем общий план сменяется средним, переходит в крупный, делается акцент на «говорящих» деталях, и таким образом рисуется картина дня иная, отличная от той, что описана сыном коллекционера. Причем то, что ускользало от внимания первого мемуариста, было замечено вторым и наоборот. Приводим мемуарную новеллу Рышкова полностью: «Выше я сказал, что Константин очаровывал людей своей простотой в обращении, причем делал он это без всякой рисовки. Никогда мне не забыть тех трех часов, которые он провел в Москве среди деятелей театра, среди театральной старины. Это было 25 ноября 1913 г. Предстояло первое заседание первого состава Совета Бахрушинского музея, перешедшего уже в собственность Академии наук, а по закону если президент Академии присутствовал бы в заседании Совета, то ему предоставлялось председательствование в нем. Президент высказал желание присутствовать на этом заседании. К назначенному часу в доме Бахрушина собрались члены Совета, тут были Ермолова, Салина, Яблочкина, Станиславский, Южин, Немирович-Данченко, академик Корш, поэт Бунин, Ф. А. Корш и др. Мы ждали приезда великого князя несколько торжественно, выражение наших лиц было официальное, чувствовалось, что среди нас появится человек иного склада, чем мы. Наконец он приехал, по своему обыкновению за пять минут до назначенного срока. Из гостиной, где мы собрались, мы видели встречу его в вестибюле с Бахрушиным и его семьей. Поздоровавшись с ним и с его женой, он подошел к детям, обнял их и поцеловал. И сразу же создал среди мало его знавших людей, интимное настроение. Войдя с Бахрушиным в гостиную, он обошел всех собравшихся и с каждым нашел что поговорить. Для заседания была приготовлена большая столовая, и Бахрушин предложил перейти туда. Константин пошел с ним вперед, но у дверей ее он, подойдя к Ермоловой и указывая рукой по направлению столовой, проговорил: Пожалуйте, Марья Николаевна. Это была мелочь, но эта мелочь сразу же расположила всех к нему: именно Ермолову он должен был пропустить раньше себя. Он открыл заседание и, видимо, с большим интересом выслушал приветствия новому музею, а когда Бахрушин, сильно волнуясь и нервничая, говорил свою ответную речь, Константин спокойно положил свою руку на его и ласково поглаживал ее. После заседания начался осмотр музея, и по пути туда был момент, когда как будто вновь создалось нечто официальное. Было похоже на то, что присутствующие «сопровождали высокого гостя». Однако Константин, уже при входе в музей, сразу уничтожил это впечатление, он взял под руку академика Корша и, обратившись к Бахрушину, что-то пошутил. Присутствовавшие засмеялись, кто-то ответил, завязался общий разговор, и принужденность пропала. Во время осмотра он удивлял всех своим знанием истории театра и его современных нужд и переживаний, и окружавших его работников сцены он своим увлечением заставил забыть о своем сане. А когда мы распрощались с ним и он скрылся за дверью, в нас осталось впечатление, что сейчас вышел человек, который был с нами и вчера и который будет с нами и завтра. Судьба судила иначе. Красивая жизнь красиво оборвалась… Весной, среди природы, в уютном Павловске, отошел в вечность человек и поэт, так тонко чувствовавший красоту. Судьба, как всегда, поступила правильно и устроила все к лучшему».8 В последних словах Рышкова, приведенных нами, видится намек на события последующих лет, когда в июле 1918 г. трагически погибли сыновья Константина Константиновича ― князья императорской крови Иоанн, Константин и Игорь. Их бросили живыми в шахту недалеко от Алапаевска Верхотурского уезда Пермской губернии и забросали гранатами. Воспоминания написаны Рышковым в начале 1920 годов, и этот трагический факт был ему (во всяком случае, в общих чертах) известен. От страниц воспоминаний Рышкова о великом князе веет теплотой и любовью. Малоизвестные комментарии мемуариста к академической жизни начала XX века и его любопытные зарисовки к психологическому портрету августейшего поэта и президента расширяют возможности для более полного жизнеописания великого князя, которое еще предстоит выполнить. 8 Рышков Вл. А. Воспоминания незаметного человека. С. 420―421.