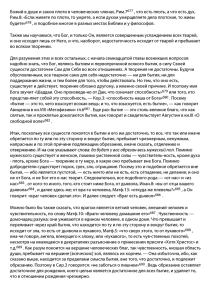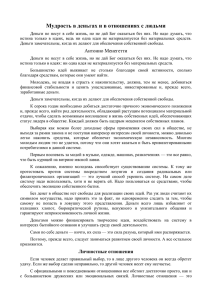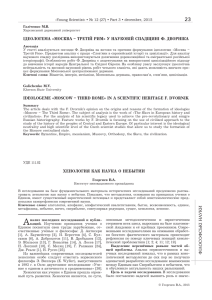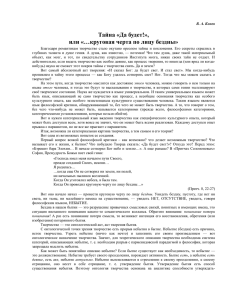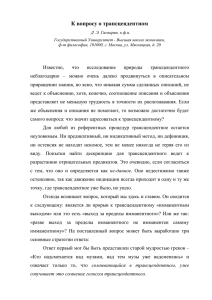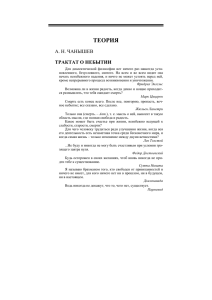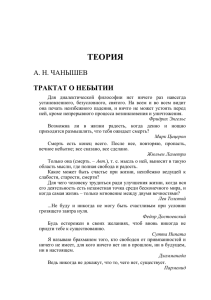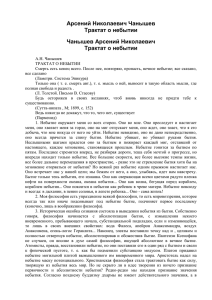ОБОСНОВАНИЕ ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТИ В АНТИЧНОЙ И
реклама

стр. 119 из 185 УДК 7.01 ОБОСНОВАНИЕ ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТИ В АНТИЧНОЙ И ХРИСТИАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ Кортунов Вадим Вадимович, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии и социально-гуманитарных знаний РГУТиС, [email protected] ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса», Москва, Российская Федерация The article deals with the meaning of the term “transcendency” as one of the basic categories of early Christianity. The author tries to discover ancient bases of medieval transcendency. В статье исследуется смысл понятия трансцендентности как одной из базовых категорий раннего христианства. Осуществляется попытка выявления античных основ средневекового трансцендентализма. Keywords: transcendent, antiquity, Christianity, irrational, perception Ключевые слова: трансцендентное, античность, христианство, иррациональное, чувственное познание К числу важнейших проблем, которые всегда оставались в центре внимания религиозных и философских систем, следует отнести вопрос о смысле и обосновании трансцендентного как находящегося за пределами обыденного опыта и недоступного сенсорно-чувственному восприятию. Для философии так или иначе трансцендентной является всякая субстанциальная основа бытия, будь то материя или дух, вещественная «стихия» или Идея. Для религиозных систем наиболее трансцендентной следует признать идею Бога. Сопоставляя мировоззренческие конструкции эпохи Древней Греции и Средневековья, античной философии и христианства, мы можем сделать вывод, что трансцендентная проблематика и там, и здесь становится актуальной. А если учесть, что в своих метафизических спекуляциях западноевропейское христианство нередко апеллирует к античному опыту, то генетическая связь между этими двумя эпохами начинает приобретать более ясные содержательные контуры. стр. 120 из 185 Во все времена человеку было свойственно стремление усматривать за преходящим характером вещей нечто постоянное, наполнять конечное, условное, несовершенное бытие светом вечного, абсолютного, совершенного идеала. Мир явлений, с которым сталкивался и сталкивается человек, в силу своего несовершенства оказывался не самодостаточным для обеспечения собственной эволюции, и потому постоянно нуждался в некой идеальной модели, служащей эталоном движения от конечного к бесконечному, от условного к безусловному, от единичного к всеобщему, от земного к божественному. Так сущее, окружающее человека, начинает приобретать дуалистический и даже антиномичный характер, вскрывая наряду со своими имманентными качествами трансцендентализм метафизической качества становится проблемы – трансцендентные. предпосылкой еще В одной, проблемы онтологизации не свою очередь менее важной сущности объекта и определенного противопоставления этой сущности явлению. Нередко сущность противопоставляется явлению как безусловная идея своему условному, предметночувственному воплощению. Наиболее четкое и категоричное разделение сущности и явления как безусловного и условного бытия, бытия онтологического и феноменологического, мы наблюдаем в философии Платона. Однако Платон не был первым в античной культурной традиции, кто поднял этот вопрос. Идея онтологизации трансцендентной сущности мира была присуща и раннему пифагореизму. Для пифагорейцев сущностью мироздания, его первоосновой является Число, которое имеет два фундаментальных атрибута – «беспредельность» и «предел». Для Пифагора (VI–V века до н.э.) число – сущность человека, человек полностью выразим через число, которое индивидуально и неповторимо для каждого конкретного индивида. При этом само бытие есть лишь выражение, носитель числовой основы вселенной. В своем чистом виде число трансцендентно, поскольку находится за пределами обыденного опыта. В самом деле, человек может оперировать числами только в абстракции; в чувственном виде он сталкивается с некоторыми объектами, которые могут быть исчислены, либо с их символами, но никак не с числами самими по себе. «Беспредельное» как первоначальная характеристика бытия, организующее это бытие в «единое», недоступно человеку. И лишь тогда, когда Число начинает устанавливать себе границы, когда оно полагает предел бесконечности, происходит рождение явленного мира, доступного человеку, умеющего оперировать конечными величинами. стр. 121 из 185 Таким образом, бытие оформляется через положение предела самому себе и тому, что «само по себе не ограничено, но предстает как ограниченное пределами» [1]. Аристотель приводит очень интересную таблицу, составленную пифагорейцами, в которой констатируются фундаментальные противоположности сущего [2]. Эти противоположности принципиально несводимы друг к другу и могут быть интерпретированы как противоположности между сущностью и явлением, трансцендентными и имманентными характеристиками бытия. В данном случае представляет особый интерес не столько сама содержательная часть представленной классификации, приведенной пифагорейцами, сколько сам подход. Важно, что в этой таблице «беспредельное» противостоит «предельному», как небытие (инобытие) – бытию, как бесконечное – конечному, как неопределяемое – определяемому, бессистемное – системному. Интерпретируя субстанциальную основу мира в качестве бесконечного, беспредельного Числа, полагающего себе предел, пифагорейцы встали не только на путь трансцендентализма, но и в известном смысле вплотную подошли к мистическому истолкованию сущности мироздания. Если явленное бытие есть ограниченное, и потому может быть познано в категориях числа и меры, то субстанциальная основа бытия, будучи беспредельной, выходит за рамки возможностей человеческого разума. Вероятно, именно по этой причине пифагорейцы считали необходимым практику эмоционального слияния с космосом, весьма близкую к духу восточной медитации. Лишь на иррациональном, сверхчувственном уровне им удавалось услышать «гармонию сфер», привести свою ритмически-числовую сущность в соответствие с ритмически-числовой сущностью вселенной. Но если для пифагорейцев мир предметных данностей представляет собой пусть условный, но всё-таки производный от Абсолюта мир как модус Числа, то для школы элеатов связь между чувственным и умственно созерцательным мирами становится еще более проблематичной. Для элейцев мыслимая и физическая реальности уже соотносятся как трансцендентная подлинность и конкретно-чувственная иллюзия. При этом, как парадоксально не покажется на первый взгляд, элейцы резко выступили против дуализма пифагорейцев. Их не устраивал параллелизм, возникший у сторонников Пифагора, в обосновании реальности. Дело в том, что сторонники Пифагора, интерпретируя беспредельное бытие как сущностное, не лишали конечное, телесно-предметное бытие права на подлинное существование. Отсюда и возникал стр. 122 из 185 заметный параллелизм системы, признающий как бы одновременное существование двух реальностей: сущностной и явленной, интуитивно чувствуемой и математически вычисляемой. Однако реальное взаимоотношение и взаимообусловленность между этими двумя ипостасями сущего пифагорейцами не были сформулированы четко. Для познания этих двух сфер реальности пифагорейцы предлагали и различные гносеологические средства, удивительным образом сочетая чисто математические, рационально-логические механизмы познания с иррационально-интуитивными, мистическими. Элеатов такая постановка вопроса явно не удовлетворяла. Они стремились выработать универсальную модель мира и, исходя из нее, сформулировать единые, общезначимые законы его постижения. Ксенофан (570–478), пытаясь соединить идеальное и реальное, божественное и земное, сущностное и явленное, выдвинул гипотезу существования единого бога, сросшегося с предметно-чувственным миром. По сути дела, это была одна из первых пантеистических концепций в истории философии. Описывая учение Ксенофана, Секст Эмпирик замечает, что для него «всё едино», в его учении «бог сросся со всем» [3]. Однако, устанавливая подобный пантеизм, Ксенофан пришел к проблеме иного рода, к проблеме, которая станет камнем преткновения в учении Аристотеля, а именно: каким образом некая идеальная субстанция транслирует себя в область физической, предметно-чувственной реальности? В дальнейшем именно Аристотель обратит своё внимание на это слабый пункт в концепции Ксенофана и позволит себе в его адрес ядовитое замечание относительно того, что Ксенофан «ничего не различил ясно и не коснулся ни той, ни другой природы [имеется в виду вещественная и идеальная природа – прим. авт.]» [4]. Последователь Ксенофана Парменид (515–?) пошел другим путем. Пантеизм своего предшественника он был вынужден объявить бесплодным. Однако Парменида не устраивала и концепция непознаваемости трансцендентного бытия, выдвинутая пифагорейцами. Отстаивая рационалистические позиции и пытаясь избежать дуализма сущности и явления, Парменид оттолкнулся от предположения, согласно которому подлинным бытием может обладать лишь бытие мыслимое. Соответственно немыслимое бытие не признавалось Парменидом за реальное и оценивалось им как некоторая иллюзия, или небытие. По свидетельствам Аристотеля, «признавая, что небытие отдельно от сущего есть ничто, он считает, что по необходимости существует только одно, а именно сущее и больше ничего» [4]. Формальная логика у Парменида оказалась онтологизированной. Небытия нет потому, что мы не можем его помыслить в непротиворечивости; его нет, потому что мы ничего не можем о нем сказать. Ведь стр. 123 из 185 предикат существования превращает небытие в бытие [5]. Говоря о том, что наша мысль относится только к сущему, что помыслить нечто означает признания за этим нечто факта бытийствования, Парменид фактически утвердил и обратный тезис – существование бытия по необходимости обуславливает возможность мышления о нем [5]. Исходя из подобных основоположений, доказывая, что «мысль о предмете и предмет мысли суть одно и то же», Пармениду уже ничего не стоило объявить доктрину пифагорейцев заблуждением. Категория «беспредельного», составляющая основу сущности бытия, оказалась отвергнутой на том простом основании, что она не может быть помыслима. А невозможность мыслить беспредельное с неизбежностью превращает его в небытие. Здесь Парменид обращает внимание на тот факт, что небытие как «абсолютное ничто» должно означать некоторую пустоту, а это уже противоречит здравому смыслу, поскольку бытие всегда заполнено чем-то и, следовательно, не может являться некоторым «абсолютным ничем». А поскольку не существует пустоты, которая могла бы обеспечивать ограничение, разделение объектов физической реальности, то мир может быть представлен лишь в виде единой целостности [5]. Именно по этой причине Парменид отказывает в существовании множественности предметов, а также движения и развития, для которых просто не оказывается места в единой целостности бытия. Движение и развитие, по его мнению, подразумевают наличие незаполненного ничем пространства, то есть подразумевают наличие небытия. Но, как мы выяснили, небытия не существует. А если так, то множественность мира, его развитие и движение есть иллюзия феноменологического восприятия действительности. Таким образом, Парменид создает теорию единого трансцендентного мира, при этом, провозглашенный им трансцендентный мир оказывается полностью познаваемым с помощь рационально-логических методов. В дальнейшем в истории философии концепцию Парменида неоднократно подвергали критике за ее отвлеченность и абстрактность. Однако созданная Парменидом концепция единого, неизменного, абсолютного бытия, находящегося за пределами опыта, но при этом вполне познаваемого, оказалась весьма заманчивой как для последующей метафизической мысли, так и для мысли религиозной. Преодоление разрыва между единым и множественным в дальнейшем превратится в одну из центральных задач как философии, так и религии. Как отмечает И.З. Цехмистро, «это разрыв многого и единого и последовавшая за ним гипертрофия единого в ущерб и за счет многого чреват был далеко идущими последствиями, позже действительно стр. 124 из 185 появившимися, в частности, в учении неоплатоников и в христианском монотеизме» [6]. В какой-то степени преодоление пропасти между единым и множественным мы встречаем в рассуждениях Платона, которое основывается, в частности, на его этической концепции. Напомним, что Платон, в отличие от Парменида, провозгласил двойственность бытия, утвердил существование двух миров – мира идей, подлинного и совершенного, и мира вещей, соответственно, неподлинного и несовершенного. Однако идеи, по Платону, представляя собой автономную реальность, служат при этом эталоном, идеалом для мира феноменального. Идеи открыты для созерцания, и потому они являются источником света в процессе преображения, просветления «пещерного» мира теней. Благодаря этому свету, эмпирический мир становится причастным Абсолюту. Идея же «добра» как иерархически наиболее высокая идея служит действительной причиной осуществления благости в эмпирическом бытии. Она обнаруживает себя в чувственном бытии посредством смыслообразования множественных единичностей [6]. Созерцание идеи добра позволяет каждому конкретному человеку преодолевать круговорот фетишей и выходить в подлинную реальность и, таким образом, становиться сопричастным идеи Абсолютного [7]. Кроме того, Платон был совершенно не согласен с Парменидом в его трактовке небытия. Отсутствие бытия, по его мнению, еще не означает небытие; оно может предполагать некоторое инобытие, то есть наличие иного [8]. Но своё окончательное философское оформление идея абсолютной трансцендентной реальности получает в концепции неоплатоников. По сути дела, концепция неоплатонизма представляет собой концепцию иерархического строения бытия, вершиной которого становится некая «абсолютная полнота», вбирающая в себя всё бытие без остатка. По убеждению Плотина (204–270), эта полнота есть начало и конец всего бытия, путем эманации она частично становится доступной для человека через ум, душу и чувственный космос. Поскольку эта полнота есть всё, её бесполезно определять какими-либо предикатами. Она всегда остается избыточной по отношению к своим эманациям, она недосягаема на основе понятийного мышления. Поэтому познание абсолютной полноты бытия невозможно только на основе человеческого разума. Причастие к нему есть восхождение к непостижимому. Как подчеркивает Плотин, единое «не есть ничто из того, началом чего оно является; однако оно таково, что ни что на нем не может сказываться – ни сущее, ни сущность, ни жизнь; оно выше всего этого» [9]. стр. 125 из 185 Значение, которое оказал неоплатонизм в процессе формирования исторических форм мировоззрения, огромно, хотя и не вполне однозначно. Это была последняя, наиболее кардинальная попытка интегрировать античную философию, прежде всего в форме платоновской системы, в зарождающуюся христианскую доктрину. По замечанию Б. Рассела, «философия Плотина – одновременно конец и начало: конец того, что касается греков, и начало того, что касается христианства» [10, с. 313]. Именно то, что неоплатонизм имел много общего с собственно христианскими идеями, обрек его на двусмысленное положение. С одной стороны, христианство неоднократно обращалось к этой философской традиции за метафизической поддержкой. С другой стороны, христианство видело в этой системе своего конкурента и с этих позиций критиковало его. Однако без понимания неоплатонизма невозможно осмысление многих концептуальных моментов христианского вероучения, которые в ряде случаев непосредственно вырастают из проблемного поля неоплатовской метафизики. Так, утверждение сверхрационального статуса трансцендентной реальности, свойственное для Платона и неоплатоников, можно рассматривать в качестве мировоззренческой базы в процессе возникновения апофатической теологии. Иррациональные механизмы познания Абсолюта, предложенные Платоном и развитые в неоплатонизме, явились, в значительной степени, философским обоснованием идеи откровения. Под влиянием неоплатонизма возникали целые направления в христианстве гностического и мистического свойства. Как нам представляется, эта концепция оказала также огромное влияние на всю восточноевропейскую христианскую традицию, на формирование религиозно- философской культуры Византии, а через нее и на специфику русского православия. Одной из центральных проблем в неоплатонизме остается проблема интерпретации трансцендентного. Неоплатоники подчеркивали, что в Едином, как в абсолютной полноте, находятся начала всего. По своему статусу Единое выше сущего, выше реальности, поскольку стоит над ними. Этим и обусловлена его непознаваемость. По словам Плотина, «Единое есть всё и ничто, ибо начало всего не есть всё, но всё – его, ибо всё как бы возвращается к Нему, вернее, как бы еще не есть, но будет. <...> Единое есть не сущее, а родитель его» [11]. Эта идея была с энтузиазмом подхвачена уже собственно в рамках христианства, в частности, Псевдо-Дионисием Ареопагитом (V–VI века). Для него высшей реальностью обладает трансцендентное «ни-что». «Ни-что», прежде всего, в том смысле, что ни что из сущего, конечного, чувственного не может быть сопоставлено с стр. 126 из 185 трансцендентностью Единого. Оно не имеет деления, не имеет границ, и единственное, что мы можем о нем утверждать, в силу ограниченности своего разума, так это только то, что оно существует. Любое частное позитивное утверждение о Едином ложно, поскольку фрагментарно. Единое не есть «ни сыновство, ни отцовство и вообще ни что из того, что нам или всякому другому существу ведомо», оно «превыше всякого полагания как совершенная и единственная причина всего» [12]. Поэтому сближение человека с Единым с неизбежностью предполагает некоторую активность иррационально-мистического характера. У Ареопагита так же, как у Плотина, уже не отслеживается проблема соединения веры и разума. Рационалистический подход оценивается здесь как наивная иллюзия, с помощью которой человек сам себя вводит в заблуждение. И хотя столь последовательный мистицизм в западноевропейском христианстве в дальнейшем оказался преодолен, тем не менее, он сохранил актуальность и безусловную значимость в формировании религиозно-философских доктрин восточного христианства. Концепция Псевдо-Дионисия Ареопагита была официально признана византийским православием. Одним из его выдающихся интерпретаторов был Максим Исповедник. Неоплатонические идеи Ареопагита также были с энтузиазмом приняты Григорием Паламой, Иоанном Дамаскиным, Максимом Греком, Варлаамом Калабрийским. Весь этот комплекс идей, основанный на иррационально-мистическом восприятии трансцендентного Бога, явился стержнем и для русской православной традиции. Как отмечает В.Н. Лосский, «несомненно есть много общего между мистическим богословием Дионисия и апофазой Плотина. <...> На пути к мистическому соединению мы видим одно и то же прогрессирующее очищение» [13, с. 101]. Однако мистическая интерпретация трансцендентного начала всего сущего не снимала вопроса о том, каким образом осуществляется связь между сверхчувственным миром и миром чувственным, между единым и множественным, между идеальным и реальным. Для христианства, как собственно религиозного учения, этот вопрос оказался необычайно принципиальным. Необходимо было обосновывать концепцию посредничества. Эту концепцию последовательно начинает разрабатывать Филон Александрийский (I век до н. э. – I век н. э.) на основе синтеза идей древнегреческой и древнеиудейской культур [14, с. 130]. Так же, как и неоплатоники, Филон определяет Бога как некоторую трансцендентную полноту, постоянную и неизменную величину. «Бог подобен самому себе, для него невозможно ни ослабление к худшему, ни напряжение к лучшему» [15]. Опять-таки Бог мистичен, поскольку он стоит за пределами всех возможных предикатов, которыми способно оперировать рассудочное стр. 127 из 185 мышление. Таким образом, Филон утверждает сущностное несходство Бога и творимого им предметно-чувственного мира. Обозначив онтологическую и гносеологическую пропасть между Богом и тварным миром, Филон начинает искать над этой пропастью мост. Таким мостом, согласно его концепции, является Логос (Слово). Условно говоря, Логос – это божественный Дух, свойственный Абсолюту, который в момент творения предметно-чувственного мира становится имманентно присущ и ему. Конечно, Логос не адекватен человеческому разуму; он даже неадекватен всем вместе взятым духовным потенциям человека. Но сопоставим с ними. Таким образом, предметно-чувственное бытие становится сопричастным божественной сущности. Здесь Филон приходит к весьма плодотворной идее о трансцендентной имманентности тварного мира. Логос трансцендентен в том смысле, что он присущ Абсолютному, Богу. Но Логос и имманентен в том смысле, что он пронизывает весь физический, тварный мир. Здесь Филон Александрийский, как пишет В.В. Бычков, «пытается поставить важную теологическую антиномию – имманентность трансцендентного божества, ставшую у христиан основой их философско-религиозной системы, наметил пути ее снятия в онтологической сфере (идея посредника, логоса) и в гносеологической сфере (мистический экстаз, то есть достижение определенных психических состояний)» [16, с. 108]. Литература 1. Диоген Лаэртский. О жизни, учении и изречениях знаменитых философов. М., 1979. VIII, 85. 2. Аристотель. Метафизика. Сочинения в 4-х томах. Т. 1. М., 1975. I, 5. 3. Секст Эмпирик. Три книги пирроновых положений. Сочинения в 2-х томах. Т. 2. М., 1976. С. 224–225. 4. Аристотель. Метафизика. Сочинения в 4-х томах. М.,1975. Т. 1. I, 5; VI, I; IV, 7. 5. Парменид. О природе. Гераклит Эфесский. Фрагменты; Парменид. О природе. Поэма. М. 1937. V, I; VI, I; VIII, 34; VIII, 3; VIII, 21, VIII, 26. 6. Цехмистро И.З. Диалектика множественного и единого. Т. 3. Ч. 1 М., 1972. VII, 518 d; VIII, 517 b; VI, 509 b. 7. Платон. Государство. Сочинения в 3-х томах. Т. 2. М.,1971. 255 d. 8. Платон. Софист. Сочинения в 3-х томах. М., 1970. III, 8, 10. 9. Плотин. Эннеады. Лосев А.Ф. Античный космос и современная наука. М.,1927. III, 8, 1. 10. Рассел Б. История западной философии. М., 1959. стр. 128 из 185 11. Плотин. Эннеады. Лосев А.Ф. Античный космос и современная наука. М., 1927. V, 2,1. 12. Псевдо-Дионисий Ареопагит. Таинственное богословие. Ареопагитики. К Тимофею о таинственном богословии. Христианское чтение. М., 1825. 5, 1046-1048 b. 13. Лосский В.Н. Апофаза и троическое богословие. Богословские труды. М., 1975. Сб. 8. 14. Трубецкой С.Н. Учение о логосе в его истории: Философско-исторические исследования. М., 1900. 15. Филон Александрийский. О неразрушимости и вечности мира. Тексты Кумрана. М., 1971. Вып. 1. 16. Бычков В.В. Византийская эстетика. М., 1977.