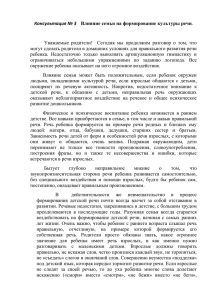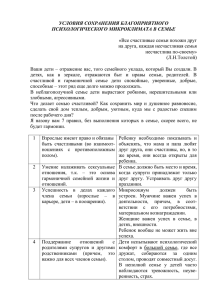Завьялов Алексей Вячеславович
реклама

Завьялов Алексей Вячеславович Начальная школа В бархатном августе 1967 года мы с Милкой Малыгиной как обычно сидели в глубокой тёплой луже посреди деревни. У другого её берега радовалась жизни свинья с выводком, рядом на лужайке прыгали ягнята с телятами, коровы пили из лужи, затем задумчиво выливали в неё то, что выпили раньше, мимо шла моя мама с незнакомой молодой женщиной. Мама что-то говорила, показывая на нас. Женщина эта была нашей первой учительницей, и мы были у неё тоже первые. Впоследствии Галина Васильевна призналась, что она была в тот день несколько растеряна, не представляя, как будет учить и чему вообще можно научить поросят из той лужи. Опасения её оказались напрасны: нас с Милкой отмыли, малость приодели, и мы оказались одними из самых способных учеников. Школа (у нас была только начальная школа, тогда ещё четырёхлетняя) размещалась на втором этаже очень ещё добротного купеческого дома, на первом этаже был клуб. Наш дом стоял в трёх шагах от школы. Первого сентября четвероклассник Лёня Фомин помог мне найти место на вешалке и провёл в класс. В классе было светло и празднично, к тому же окна его выходили на восточную и южную стороны, помню свет этот, ещё красный, утренний, класс залит этим светом. И Галина Васильевна, нарядная, красивая, с модной тогда причёской – шар такой из волос, почти на макушке. Молоденькая она совсем была, после училища, но нам-то казалась очень взрослой. От двух когда-то тысяч жителей нашей волости Сондоги к шестидесятым годам осталось едва ли четыреста человек (теперь всего один), в четырёх классах нас училось тогда около полусотни. На всех было две учительницы, и каждая одновременно вела два класса – первый класс вместе с третьим сидел в одной половине дома, а второй с четвёртым в другой. Галина Васильевна была... – справедливая, добрая и красивая (я иногда сейчас думаю, почему мне так часто везло в жизни на хороших людей?), её в Сондоге все любили. Я её не видел сорок лет. Нынче случайно встретились. Я её не узнал, не то, чтобы она сильно постарела, просто много лет прошло, а когда узнал, то не мог сдержать слёзы (вот и сейчас). Она приехала в Сондогу с детьми и внуками, муж у неё умер. Дети у неё хорошие, как и она, два сына и дочь, тоже учительница первых классов... После начальной школы нас отправили учиться в Тотьму, в интернат. Вот там мы хватили лиха. .. Они с моей мамой дружили очень, мама у меня тоже не местная, фельдшером-акушером по распределению к нам попала, тоже очень красивая и добрая, в любую погоду и в любое время суток бежала на вызов, хоть в самую дальнюю деревню. Её бабы местные ангелочком звали. Учиться нам было легко, да и радостно, и вообще нам жилось тогда неплохо. Мы хотя и работали порой наравне со взрослыми, на сенокосах ломили, но это не было в тягость как-то, мы росли в этом, очень рано всё познавали и тренированные очень были, и потом, крестьянский труд больше монотонный, а не надрывный, и если выбрать правильный ритм, то можешь махать косой или колуном целый день, в удовольствие даже, без надрыва. Я пробовал как-то заниматься на тренажёрах, но уставал быстро, да и надоедало, а те же самые движения, но осмысленные, могу делать целый день. Не люблю бессмысленного труда, не люблю спорт, это оттуда, из деревни, из детства, из детских прививок. С возрастом мы узнали, что далеко не идиллия была и в деревне в те годы, но взрослые нас не посвящали в свои взрослые заботы и тревоги, мы ничего не знали об истинной жизни страны, детство наше было безоблачным, мы, к тому же, жили за тремя волоками от любой власти, у нас даже участкового не было, он заезжал иногда с Вожбала (30 км), его поили досыта, и он уезжал, в дорогу его снабжали рыбой (у нас очень рыбное озеро). Но раскулачивание и прочие беды не обошли и нас стороной, всё мы получили на равных и в полной мере. Но в моем детстве еды в деревне было уже навалом, мяса, молока, масла, рыбы и прочего. Мы не голодали... … Мы радовались, когда нас принимали в октябрята, затем в пионеры. Тогда и взрослые-то многие не задумывались о подоплёке этих игр, воспринимая своё рабское житьё случайным недоразумением, и тянули смиренно колхозную ношу. Идеология в нас была чисто внешней, не затрагивала нашей крестьянской сути. И взрослые, и дети оставались крестьянами, даже колхозники отдавали колхозу свои силы как вынужденную дань (Кесарю Кесарево), любя только своё хозяйство, которое вели и в самые идиотские и мрачные времена, когда запрещали держать личный скот. Мир был настолько живее, ярче, больше, интересней идеологии, что она, мёртвая, могла только пугать нас, являясь иногда в образе какого-нибудь уполномоченного из района. Тогда даже у нас, детей, начинало ныть в душе, а взрослые просто становились другими, странными, как неживыми. Когда «полномоченный» уезжал, «напоетый и накормлетый», жизнь воскресала. В шестидесятые уже кончилось время сталинских лагерей, но слово Колыма всё ещё имело понятный даже детям свой особый смысл. Чувствовалось, с каким животным, мистическим страхом взрослые произносили его даже в шутку. Он и теперь в нас сидит, этот страх. Молодая Галина Васильевна, в отличие от уже уставшей Клавдии Леонидовны, устраивала с нами для жителей Сондоги праздничные детские концерты в клубе, разыгрывали какие-то сценки, пели песни. Она водила иногда нас на экскурсии в поля, в лес, осенью пешие, а зимой лыжные. Странное дело, мы и так знали всю округу как свой дом, но эти экскурсии всем классом запомнились как что-то особое. При недавней встрече она даже спросила, помним ли мы их, эти экскурсии, ей они тоже почему-то запомнились, недаром же она спросила о них. Точно, что счастливые часов не наблюдают – четыре класса начальной школы вспоминаются как один неразомкнутый период какой-то счастливой жизни, не считая мелочей. Это в интернате потом мы считали дни до каникул, а здесь школа и дом были одним целым. Нинка Гущина летом после третьего класса сказала, что она готова даже оставаться сколь угодно на второй год, чтобы только не уезжать из дома. Мне трудно было с ней согласиться в душе, я в отличие от неё учился неплохо, но понимал, о чём она. После интерната мало кто вернулся домой, всех куда-то разметало. Оставаться в деревне тогда тоже было не сахар, ослабли прямые репрессии, но стали утрачиваться и коренные крестьянские традиции, началось пьянство, многие, жалея детей, уезжали в города. Теперь Сондога, можно сказать, вымерла, остался один мужик моих лет, да на лето ещё приезжают несколько бывших её жителей. В школе нас учили писать, считать, и нам там было неплохо, но главными учителями для жизни были сама жизнь крестьянская и люди. Любые сезонные работы были важней наших развлечений и игр. И ещё нас учили меру знать. Помню, как дед, рыбак и охотник, говорил: вот смотри, Лёшка, пошёл я, скажем, осенью на охоту, рябков пострелять. Иду, а в лесу Бог сидит и сто рябков в горсти держит. Я манить начал, Он выпустил одного, я его добыл и иду дальше. Потом снова маню, Он ещё одного выпустил, я и его застрелил, и опять маню, мне всё мало. А Он всё выпускает, и так всех отдаст, если я не остановлюсь. Он испытывает так нас. Он так и рыбу отдаёт, и лес, и всё отдаст, если мы сами не остановимся. Еще дед говорил, что лес рубить - не хлеб растить. А любое дело нас учили начинать благословясь.