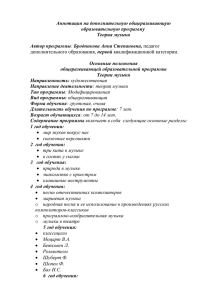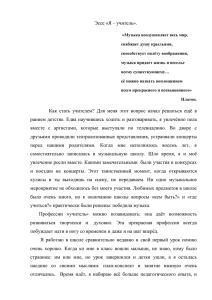Музыкальные образы религиозного сознания эпохи
реклама
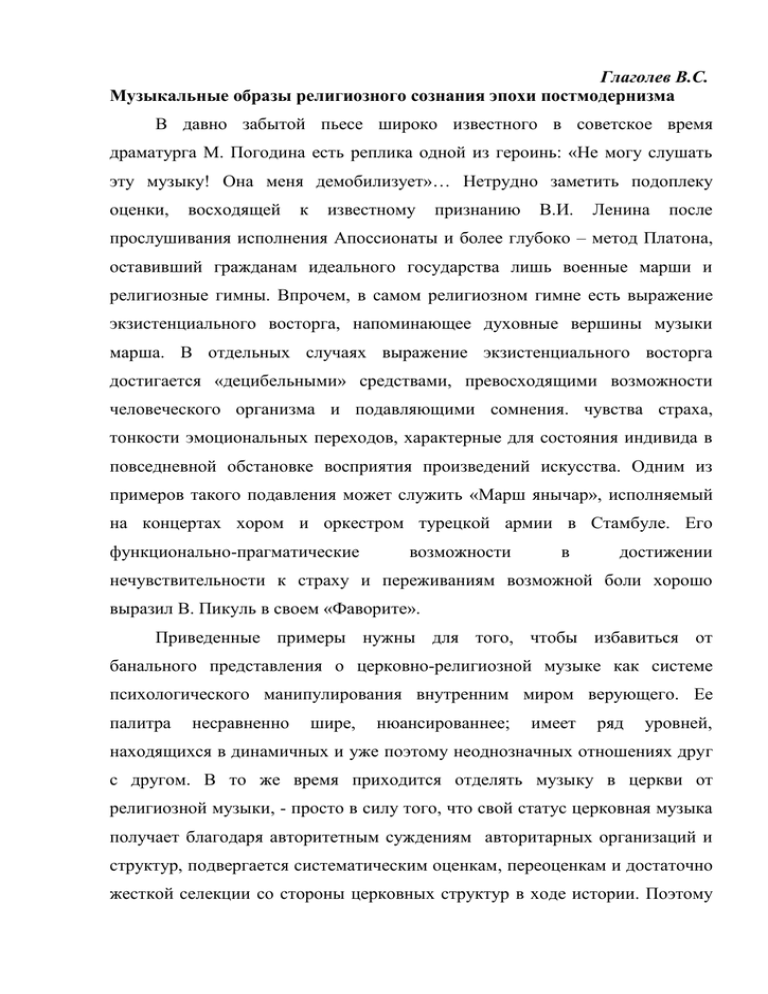
Глаголев В.С. Музыкальные образы религиозного сознания эпохи постмодернизма В давно забытой пьесе широко известного в советское время драматурга М. Погодина есть реплика одной из героинь: «Не могу слушать эту музыку! Она меня демобилизует»… Нетрудно заметить подоплеку оценки, восходящей к известному признанию В.И. Ленина после прослушивания исполнения Апоссионаты и более глубоко – метод Платона, оставивший гражданам идеального государства лишь военные марши и религиозные гимны. Впрочем, в самом религиозном гимне есть выражение экзистенциального восторга, напоминающее духовные вершины музыки марша. В отдельных случаях выражение экзистенциального восторга достигается «децибельными» средствами, превосходящими возможности человеческого организма и подавляющими сомнения. чувства страха, тонкости эмоциональных переходов, характерные для состояния индивида в повседневной обстановке восприятия произведений искусства. Одним из примеров такого подавления может служить «Марш янычар», исполняемый на концертах хором и оркестром турецкой армии в Стамбуле. Его функционально-прагматические возможности в достижении нечувствительности к страху и переживаниям возможной боли хорошо выразил В. Пикуль в своем «Фаворите». Приведенные примеры нужны для того, чтобы избавиться от банального представления о церковно-религиозной музыке как системе психологического манипулирования внутренним миром верующего. Ее палитра несравненно шире, нюансированнее; имеет ряд уровней, находящихся в динамичных и уже поэтому неоднозначных отношениях друг с другом. В то же время приходится отделять музыку в церкви от религиозной музыки, - просто в силу того, что свой статус церковная музыка получает благодаря авторитетным суждениям авторитарных организаций и структур, подвергается систематическим оценкам, переоценкам и достаточно жесткой селекции со стороны церковных структур в ходе истории. Поэтому намерение Платона - запретить одно и оставить другое – лишь лаконичное отражение особенностей длительной государственно-церковной практики по отношению к определившимся результатам музыкального творчества. В истории христианской культуры сакральное всегда наделялось способностью обеспечивать устойчивость общественного целого, его единство, перспективные направления динамики как человеческой личности. так и социума в направлении к определенному стабильному идеалу Вечности, Добра и Красоты. Библия и особенно Новый Завет имеют в христианстве уникальное аксиологическое содержание. Это боговдохновенные тексты, в которых человеческим языком воплощены образы, смыслы и значения непреходящего характера, исходящие из невидимого мира. Поэтому видимый мир, т.е. писаное слово, равно как и все изобразительное искусство, представляется несущими «излишний груз», способный потенциально исказить смысл Божьего Слова. Отсюда – характерная для христианской живописи, скульптуры и архитектуры проблема выражения спиритуального содержания особыми образными средствами и приемами: рвущиеся в небо шпили, плывущие в нем купола, символика иконы и готической скульптуры, непрерывно меняющий оттенки блеска серебра и золота в православных и католических храмах, мерцание свечей и многое другое, составляющее особую эстетику христианского богослужения. В динамичном мире второй половины 20 – начала 21 вв. проблема соответствия христианских художественных средств динамике культуры и потребности отражения насущных проблем мироощущения и чувствования встала с особой остротой. Второй Ватиканский собор, состоявшийся между 1958 и 1963 гг., разработал особое положение, посвященное католическому церковному искусству, имея в виду систематический отбор и поддержку тех образных средств, которые в состоянии выразить переживание идеала сакрального в неспокойное и динамичное время. На светском языке эти усилия католической церкви называются ее модернизацией. По ряду исторических причин православные церкви и прежде всего самая большая из них – Русская Православная Церковь - сохранили традиционные художественные формы в условиях стремительной смены художественных вкусов, стилей и предпочтений. Тем самым они определили их как непотопляемые островки и свидетельства сакрального в бурном море глобализационных процессов. В такой стратегии откровенной оппозиции профанизации ценностей, еще вчера объявлявшихся неизменными, вечными и приоритетными, есть, конечно, своя логика. В художественном творчестве она определяется обязательным обращением к Евангельской тематике и шире – к тематике Нового Завета, в том числе, и в музыкальном творчестве. И митрополит Иларион (Алфеев), и композитор О. Янченко, написавший в начале 1990-ых гг. ораторию «Откровение Иоанна Богослова» для чтеца, солистов, хоров и оркестра, конечно же не могли не следовать требованиям веления времени. Его узнаваемые мелодии, ритмы, диссонансы и ситуации, в которых намеренно разрушается мелодичность, сохраняют, тем не менее, связь с отечественной музыкальной традицией и с особенностями православного церковного пения, включающими как глубокие византийские корни, так и их модификации в соответствии с достижениями творчества композиторов и исполнителей последних столетий. В то же время эти произведения не могут не включать в себя духовные тенденции, означающие существенные поправки на специфику сегодняшнего состояния духовной жизни общества, с его тревогами, беспокойствами, переменчивостью. Происходит уплощение, «схлопавание» детально проработанных в музыкальной классике способов структурирования и акцентирования значений христианского «Credo». И по-видимому эта тенденция – не просто производная иных творческих масштабов современных композиторов по сравнению с классиками религиозной музыки, а симптом той качественно новой ситуации, в которой оказывается церковное искусство на фоне процессов десакрализации, неразрывно связанных с нарастающим влиянием глобализации на культуру. Инородность как православия, так и католицизма этому влиянию очевидна и не требует особых доказательств. Отсюда – ретроориентация католической и православной современной музыки, в известной мере компенсируемая обращением к элементам музыкального фольклора и инструментовки в новых стилях признанных решений национальной музыки. Протестантизм оказался более конгруэнтен веяниям Нового времени. Прежде всего, потому, что он – его дитя, отличающееся такими качествами, как инициативность, ответственность, перенесенная в душу индивида, готовность к динамичной деятельности, признание основополагающих форм трудовых усилий в любых сферах, где создаются материальные блага и обеспечивается достижение жизненного успеха. Будучи, согласно М. Веберу, нравственным оправданием капитализма и одним из факторов консолидации общественных сил на пути его утверждения, протестантизм сохранил более непосредственные связи (в сравнении с православием и католицизмом) с повседневными заботами и чаяниями людей, оказавшихся в мэйнстриме капитализма и переходящих из одной его стадии в другую. Он сопровождал их не в силу своей особой прозорливости или следования какому-то генеральному плану, а благодаря отказу от единого центра и духовной иерархии, определяющей сверху и издали то, что может, и чего не может делать христианин в тех или иных условиях. Конечно, это не могло не повлечь за собой фрагментаризацию – как нарастающее и вместе с тем хроническое состояние протестантских церквей, непрерывные коллизии их разъединений, слияний и договорных отношений между отделившимися ветвями некогда единых стволов. Произошло и радикальное изменение образно-художественных средств, прежде всего, за счет отказа от скульптурно-живописного ряда как объекта почитания сакрального. Он сохранил свое ассоциативно значимое положение. Но пафос протестантской реформы состоял в праве восприятия содержания Библии на языке каждой национальной культуры (включая и этнонациональные, а также этногрупповые). И, что не менее важно, в установлении между членами протестантских общин отношений обмена содержанием, освоенным в ходе постижения сакральных ценностей. Право на индивидуальное постижение такого содержания установлено протестантизмом по аналогии со все более дифференцировавшимся в ходе истории правом на собственность духовных продуктов. Произошло не просто признание автономности религиозной деятельности, по крайней мере в рамках общины и деноминаций, - но и права на изменение ее результатов, объявленных сакральными, но достигнутых на предыдущем этапе. Поскольку источником сакрального для членов общины в протестантизме является его вербальное воплощение в Библии и передача невидимого мира средствами проповеди и музыки как основными помощниками в раскрытии божественных смыслов. Протестантизм поэтому оказался идеальной религиозной моделью, отразившей главное условие жизни в глобализирующемся обществе. Музыка выполняет в протестантских церквах не только роль средства, консолидирующего духовное единство членов общины, но и посредника в общении с единоверцами и близкими по вере течениями, отличными от данной общины по языку и культуре. Разнообразие и недоступность иерархической цензуре каких бы то ни было музыкально-декламационных предпочтений общины позволяет искать и обретать взаимопонимание с членами других общин, молящихся на других языках, но следующих одним и тем же библейским текстам. Тем самым при сохранении исторически традиционных форм богослужение в протестантизме расширяет черты универсальности для тех групп, которые придерживаются сходных принципов толкования содержания христианского вероучения. Характерно включение в протестантское богослужение джаза и одной из его преемниц – рок-музыки. Они, как известно, воздействуют не только на слуховой аппарат, но и на тело членов аудитории. Растормаживают их поведение, доводя их в определенных случаях до экстатического состояния. Хилиастические течения в христианстве и ряд синкретических групп использовали эти стили для максимальной активизации эмоционального состояния своих последователей в ходе богослужения и усиления эффекта проповеди, носящей.как правило, характер страстных пророчеств о надвигающемся конце света. Более традиционные протестантские течения, – скажем, пресвиториане в Америке, - сумели сохранить в музыкальном строе своего богослужения романтическую решимость первопроходцев, тех «железнобоких» О. Кромвеля, которые взламывали своими мечами препятствия на пути к «дивному новому миру». Протестантизм еще в 16 веке дерзко посягнул на обязательную роль авторитетного посредника – Церкви – в отношениях между Богом и людьми. Он свел к минимуму все внешние формы и способы подобного посредничества. С одной стороны, это обеднило богослужебную практику. С другой стороны, в протестантизме, следуя логике М. Лютера, оставлены два главных средства глобальной коммуникации между людьми: Слово и Музыка. Слово сохраняет положение основного способа выражения и трансляции логически ключевых основополагающих концептов культуры. Через него они воспроизводятся в бесконечном разнообразии оттенков значений своего фундаментального полновесного смысла. Понятно, он будет иметь не всегда совпадающие лексические и грамматические способы содержания и выражения. В то же время, сохранение национального языка общения с миром, а следовательно, и с Богом, позволяет наиболее глубоко, эмоционально исчерпывающе полно выразить состояние Души человеческой. Лютер сохранил в качестве обязательного и другое средство коммуникации человека с человеком, человека с миром людей и, как следствие, с Богом. Это – музыка на темы крайней озабоченности, если воспользоваться образом П. Тиллиха. Музыка, выражающая структурность и целостность бытия и конечного смысла удела человеческого, по определению трагична. Но в этой трагичности – катарсис происходит, когда языком мелодии и ритма утверждается неодолимость и непреложность высокого человеческого назначения, воплощенного в Слове. Назначения, где исходным является божественная природа самой человеческой души и ответственность человека за состояние этой божественной частицы на протяжении всей дарованной ему жизни. Огромное, подавляющее число слушателей музыки не имеет даже начального музыкального образования. Однако, свидетельства людей с обостренным чувством реальности и гармоничности донесли до нас предельно болезненное, трагически безысходное восприятие действительности в условиях перемен, в которых определился вектор деградации. Достаточно вспомнить хотя бы дневники А. Блока весны 1921 года, где поэт говорит о «визжащих», «похабных», «бесстыдных» звуках, несущихся в Петрограде из каждого окна и каждой подворотни. Это было время первых недель утверждения НЭПа, воспринятого поэтом в его непосредственных проявлениях как «шабаш» вседозволенности, аморальности и бесстыдства, выставляемых напоказ. Поэт умер в конце лета того же года. Ему, как в свое время и Пушкину, не хвалило воздуха, чтобы дышать. Это суровое время испытаний нашло в нашей стране своих музыкальных свидетелей в лице Д. Шостаковича и С. Прокофьева. Отчасти они почувствовали его безжалостность и неумолимость примитивизма, обратившись к последствиям тех планов «прекрасного нового мира», которые прозвучали в первое десятилетие 20 века в манифестах футуристов и в полной мере нашли реализацию в торжествах механических и химических средств убийства Первой мировой войны. В бесчисленных актах поругания всего святого и просто человеческого в человеке, в апологетике наживы и потребительства. Для России утратившей реальные возможности оказаться в стане победителей после событий октября 1917 года, апологетика «обогащайтесь!» отодвинулась на несколько десятилетий событиями Гражданской войны, мучительным преодолением их последствий на рельсах трагедии индустриализации и коллективизации и трагедии Великой Отечественной войны, ставшей неотъемлемой составной частью Второй мировой бойни 1939-1945 гг. Музыкальная летопись трагических лейтмотивов эпохи была продолжена, как известно, творцами музыки, чуткими к ее ведущим темам и основополагающим смыслам. Драма борьбы с безжалостными силами «нового порядка», утверждающими механическое единообразие, - один из самых леденящих кровь Шостаковича. мотивов в «Ленинградской симфонии» Д. Пережившие войну с полутакта узнавали его и преисполнялись решимости сделать все возможное, даже ценою собственной жизни, чтобы торжество бессердечия никогда не повторилось. Надеждам этим в полной мере не удалось, однако, осуществиться, - даже с победоносным окончанием самой кровопролитной войны в истории нашего Отечества. С учетом этого контекста, сознательная демелодизация, отличающая творческие программы Д. Шостаковича и С. Прокофьева, является не просто фактом истории музыкального искусства. Как известно, художественные искания в том же направлении отметили творчество Г. Малера, А. Шенберга, А. Скрябина, И. Стравинского и ряда других выдающихся композиторов. Их музыкальные системы находятся в определенной внутренней логической связи с поисками современной им живописи. Достаточно вспомнить живописные композиции А. Лентулова «Москва златоглавая» и «Реквием». Первая из них колористическими и линеарными ритмами достигает почти слышимой ассоциации с колокольным звоном. На второй, изображающей женщину с умершим ребенком, почти физически воплощены подавленность и безнадежность обвалившегося, рассыпающегося мира на фоне трагической потери драгоценнейшего для матери существа. Практика абстракционизма в живописи оказалась в 1910-ые – 1920-ые гг. конгруэнтной музыкальным исканиям: происходит разложение музыкальных и живописных форм на элементы и варианты возможных конструкций их соотношений. Звуковые ритмы приобретают навязчивую телесность в живописных композициях абстракционистов. Возникают зрительные ассоциации, определяемые образами вибрирующих, а то и извивающихся при этом струн. Отношения взаимодополнительности живописного и музыкального рядов абстракционистских исканий – одно из проявлений параллельного развертывания кризисов устоявшихся и обретших статус традиций выразительных форм каждого из двух искусств. Для Прокофьева и Шостаковича возможности демелодизации стали способом трезвой, суровой, целостной и в окончательных выводах беспощадной оценки той эпохи и тех обстоятельств, в которых им выпало жить. В известной мере их музыка, оцененная в идеологической «экспертизе» А. Жданова как «сумбур», оказалась приговором той системе прагматики, сплавленной неразрывно с утопией, на основе которой разного рода «инженерами человеческих душ» предпринимались попытки воспитать нового человека и создать новое, невиданное доселе общество. На вербальном уровне эти попытки еще до Второй мировой войны получили развернутую и по существу исчерпывающую характеристику в романе Е. Замятина «Мы» и в блистательной научно-фантастической притче О. Хаксли «О дивный новый мир». Роман Дж. Оруэлла «1984» не оставил никаких иллюзий относительно реальных последствий программ принудительного направления человечества в искусно сконструированный рай тоталитарного регулирования всех уровней общественной и личной жизни. Роман Оруэлла на несколько десятилетий опередил, как известно, «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солженицына. Оба произведения детализируют множество обстоятельств и подробностей, неумолимо вытекающих из исходного бесчеловечного отмеченного своеобразной смысла схематизирующего изобретательностью и утопизма, ловкостью манипулирования душевными возможностями, устремлениями и надеждами живых людей. Философская, социологическая, политическая, культурологическая и художественная мысль 20 в. мучительно работала над осмыслением этих всемирно-исторических процессов в поисках выхода из них на условиях, приемлемых для сохранения человечеством как его овеществленной материализованной культуры, так и для обеспечения условий, при которых эта культура во все более расширяющемся объеме становится доступной все более широкому кругу людей. Одна из попыток духовного выхода - в расширении сферы, где смыслы религии приобретают все более значимый характер, как для личности, так и для широчайших масс обездоленных, обманутых и утративших всякую содержательную гуманистическую перспективу. Религия обретает характер массовой востребованности в самых разнообразных, подчас взаимно исключающих проявлениях и устремлениях. Это – один из знаков как массового общества с его тягой к усеченным, шаблонизируемым, сведенным к примитиву смыслам и арте-фактам. С другой же стороны, многочисленные религиозные бумы по всему свету – свидетельство кризиса всех разновидностей рационализированных идеологий и культурологических рекомендаций, способных лишь создавать видимость изменения существующего положения вещей, не затрагивая их существа. Эпоха симулякров, описанная в социологии, расширяет сферы своего утверждения и демонстрирует востребованность бесчисленных эрзацев семьи и любви, наслаждения и радостей свершения, потребительской удовлетворенности достигнутым уровнем владения вещным миром и неутоленной жажды обретения все новых символов приобщения к вещной состоятельности. В диссонансах и антимелодичных структурах музыкального творчества нашего времени все большее место находит выражение ситуации утраты своей подлинности, гармонии внутри себя и гармонии с внешним миром. Это, разумеется, не принципиально новое состояние для чуткого художника. Но композитор 21 в. не может быть никогда уверен, что его нарастающая и неизбывная тоска по подлинности мира и оптимальным способам ее утверждения не обернется очередной «пустышкой» эстетико-худоджественной программы, в которой имитация возобладает над поисками выражения сущности мира и собственного состояния в попытках их звукового воплощения. Происходит, таким образом, нарастание неуверенности в себе как перманентного состояния души. Назойливые симулякры разлагают душу изнутри, на борьбу с ними уходит огромный личностный потенциал. Выбор всегда стоял и стоит перед художником. Но, наверное, никогда в истории музыкальной культуры не была столь велика и многообразна, столь утонченно дифференцирована возможность ложного выбора, следования ложной эстетико-художественной программе. Шабаш на рынке ценностей, все более раздуваемый манипуляторами духовного мира современности, умело делающими деньги из каждого порыва, каждого состояния, мельчайшего подчас душевного движения, - реальность уклада российской общественной жизни. Парады номинантов подавляющего большинства телевизионных и иных художественных конкурсов, пустота шлягеров и потворствование в них самым примитивным растительным состояниям психики реализует рыночный спрос и настоятельную потребность манипуляторов подсадить аудиторию на «иглы» разнообразных имитаций. Отсюда – потребность в устойчивых ориентирах ответственного художника. В качестве одного из таких ориентиров в наш век научной революции и электронных технологий выдвигаются модели, освобожденные от собственно человеческого содержания. Всевластие развертывающейся программы, опирающейся на математически смоделированные алгоритмы звуковых комбинаций и мелодического развертывания представляется подобием музыки сфер, питающей воображение художников со времен Пифагора. Представляется, что электронная музыка, освобожденная от эмоциональных перегрузок сознаний, задыхающихся в тектонических сдвигах непрерывных переоценок под влиянием рыночного спроса, в состоянии высказать ту сущностную правду о мире, без которого не бывает подлинного творчества. Электронная музыка в результате становится звучащим воплощением техницистской утопии. И, как всякий техницизм, она несет в себе жесткий отбор исходных компонентов, ограниченное число их сочетаний, замаскированное вариативным разнообразием и импровизации на тему, задаваемую исходной машинной программой. Отметим вспомогательное значение этой практики для становления в музыканте навыков интуитивных математических расчетов, мгновенных точных оценок перспективности либо тупикового характера начинаемой вариации. Вместе с тем, «математизированное» мышление музыканта, воспитанного в традициях классических школ образования, реализуется через сопряжение руки, уха и воображения. Носителем и выразителем математически формулируемых отношений остается человеческое тело. Не менее непосредственно данная особенность проявляется, когда голос музыканта, его внутренняя речь открывается публике в исполнительских усилиях. «Внутренне пение» - одна из констант душевного состояния человека, включенного в мир музыки. Другая константа, стимулируемая условиями глобализации, - возрастающая ностальгия по способам национального самовыражения. Поскольку эти условия с неумолимостью размывают границы этносов и наций, открывают дорогу бесчисленным гибридным вариантам национальнокультурной самоидентификации, поиск идеальной национальной мелодии и других кажущихся «почвенными» образов, искусственных духовных образований. оказывается созиданием Происходит либо повторное воспроизводство уже сложившейся традиции, где основной задачей становится необходимость замаскировать плагиат средствами его переинструментировки или эклектическое сочетание компонентов, взятых из нескольких, подчас даже мало совместимых, источников. Неужели все столь бесперспективно для музыки, пытающейся выразить неиссякаемость человеческой надежды на обновление мира? Надежду на справедливость вмешательства высшей силы в безрадостное человеческое бытие и способность содействовать его преображению на высоких началах милосердия, уважения, сочувствия и добра? Бессмысленно задавать вопрос, будут ли еще создаваться музыкальные произведения, следующие высокой оптике сочетания духовных координат. Мечтать невредно. Но здесь – всегда риск оказаться в пространстве утопии.