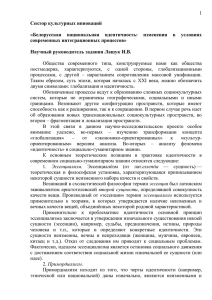За пределами «идентичности» - Образовательный центр '
advertisement
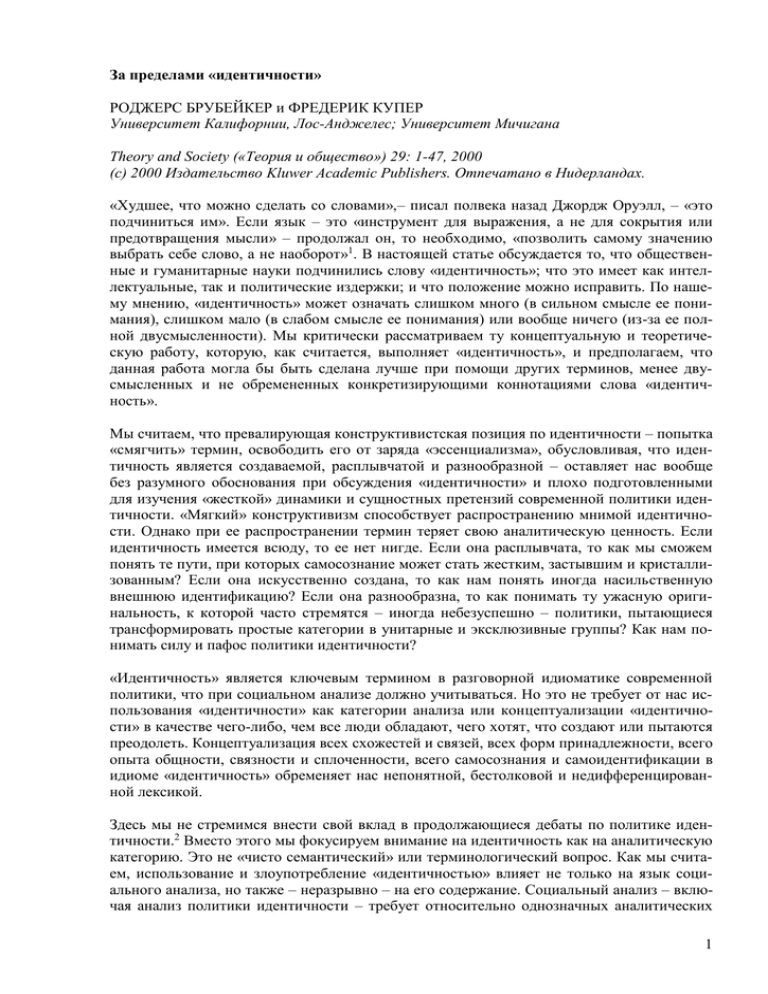
За пределами «идентичности» РОДЖЕРС БРУБЕЙКЕР и ФРЕДЕРИК КУПЕР Университет Калифорнии, Лос-Анджелес; Университет Мичигана Theory and Society («Теория и общество») 29: 1-47, 2000 (с) 2000 Издательство Kluwer Academic Publishers. Отпечатано в Нидерландах. «Худшее, что можно сделать со словами»,– писал полвека назад Джордж Оруэлл, – «это подчиниться им». Если язык – это «инструмент для выражения, а не для сокрытия или предотвращения мысли» – продолжал он, то необходимо, «позволить самому значению выбрать себе слово, а не наоборот»1. В настоящей статье обсуждается то, что общественные и гуманитарные науки подчинились слову «идентичность»; что это имеет как интеллектуальные, так и политические издержки; и что положение можно исправить. По нашему мнению, «идентичность» может означать слишком много (в сильном смысле ее понимания), слишком мало (в слабом смысле ее понимания) или вообще ничего (из-за ее полной двусмысленности). Мы критически рассматриваем ту концептуальную и теоретическую работу, которую, как считается, выполняет «идентичность», и предполагаем, что данная работа могла бы быть сделана лучше при помощи других терминов, менее двусмысленных и не обремененных конкретизирующими коннотациями слова «идентичность». Мы считаем, что превалирующая конструктивистская позиция по идентичности – попытка «смягчить» термин, освободить его от заряда «эссенциализма», обусловливая, что идентичность является создаваемой, расплывчатой и разнообразной – оставляет нас вообще без разумного обоснования при обсуждения «идентичности» и плохо подготовленными для изучения «жесткой» динамики и сущностных претензий современной политики идентичности. «Мягкий» конструктивизм способствует распространению мнимой идентичности. Однако при ее распространении термин теряет свою аналитическую ценность. Если идентичность имеется всюду, то ее нет нигде. Если она расплывчата, то как мы сможем понять те пути, при которых самосознание может стать жестким, застывшим и кристаллизованным? Если она искусственно создана, то как нам понять иногда насильственную внешнюю идентификацию? Если она разнообразна, то как понимать ту ужасную оригинальность, к которой часто стремятся – иногда небезуспешно – политики, пытающиеся трансформировать простые категории в унитарные и эксклюзивные группы? Как нам понимать силу и пафос политики идентичности? «Идентичность» является ключевым термином в разговорной идиоматике современной политики, что при социальном анализе должно учитываться. Но это не требует от нас использования «идентичности» как категории анализа или концептуализации «идентичности» в качестве чего-либо, чем все люди обладают, чего хотят, что создают или пытаются преодолеть. Концептуализация всех схожестей и связей, всех форм принадлежности, всего опыта общности, связности и сплоченности, всего самосознания и самоидентификации в идиоме «идентичность» обременяет нас непонятной, бестолковой и недифференцированной лексикой. Здесь мы не стремимся внести свой вклад в продолжающиеся дебаты по политике идентичности.2 Вместо этого мы фокусируем внимание на идентичность как на аналитическую категорию. Это не «чисто семантический» или терминологический вопрос. Как мы считаем, использование и злоупотребление «идентичностью» влияет не только на язык социального анализа, но также – неразрывно – на его содержание. Социальный анализ – включая анализ политики идентичности – требует относительно однозначных аналитических 1 категорий. Какая бы ни была ее суггестивность, ее важность в определенном практическом контексте, «идентичность» слишком двусмысленна, слишком разорвана между «жестким и «мягким» значениями, сущностными коннотациями и конструктивистскими квалификаторами, чтобы в достаточной мере отвечать требованиям социального анализа. Кризис «идентичности» в общественных науках «Идентичность» и родственные слова в других языках имеют долгую историю в качестве технических терминов Западной философии – от древних греков до современной аналитической философии. Они используются для обращения к вечным философским проблемам постоянства среди очевидных изменений, а также единства среди очевидного разнообразия.3 Однако широко распространенное разговорное и социально-аналитическое применение «идентичности» и однокоренных слов имеет недавнее и более локализованное происхождение. Введение термина «идентичность» в социальный анализ и его начальное распространение в общественных науках и общественной речи произошло в Соединенных Штатах в 1960-х годах (с некоторыми предпосылками для этого во второй половине 1950-х гг.).4 Наиболее важная и известная траектория его развития основана на использовании и популяризации работ Эрика Эриксона (который, кроме всего прочего, придумал термин «кризис идентичности»).5 Но, как показал Филип Глисон,6 были и другие пути распространения. Понятие идентификации было взято из оригинального, специфически психоаналитического контекста (куда этот термин первоначально ввел Фрейд) и увязано, с одной стороны, с «этнической принадлежностью» (под влиянием вышедшей в 1954 г. книги Гордона Оллпорта «Природа предубеждения») и с другой – с теориями социологической роли и группового эталона (через такие фигуры как Нельсон Фут и Роберт Мертон). Еще больше говорить об «идентичности» заставила социология символической интерактивности, связанная с самого начала с «собственной личностью» – частично под влиянием Ансельма Штраусса.7 Однако, гораздо большее влияние при популяризации понятии идентичности оказали Эрвинг Гоффман, работавший на периферии традиции символической интерактивности, и Питер Бергер, работавший в традициях социального конструктивизма и феноменологии.8 По ряду причин термин «идентичность» оказался крайне востребованным в 1960-х гг.9, быстро распространившись через все дисциплинарные и национальные границы, утвердившись в журналистском, а также академическом лексиконе и проникнув в язык общественно-политической практики и общественно-политического анализа. В американском контексте превалирующие индивидуалистические характер и идиоматика придали понятию «идентичности» особые выпуклость и резонанс, в частности в контексте тематизации проблемы «массового общества» в 1950-х и поколенческих бунтов в 1960-х годах. А с конца 1960-х, с подъемом движения Черной власти и последующих прочих этнических движений, для которых оно служило шаблоном, озабоченность и утверждение индивидуальной идентичности, уже связанной Эриксоном с «общинной культурой»,10 были легко, если не слишком легко, перенесены на групповой уровень. Распространению идентитарных претензий значительно способствовала институциональная слабость «левой» политики Соединенных Штатов и сопутствующая слабость классовой идиоматики общественнополитического анализа. Как замечали многочисленные аналитики, класс сам по себе может пониматься как идентичность11. Наша точка зрения заключается лишь в том, что слабость классовой политики Соединенных Штатов (по отношению к Западной Европе) привела к особой открытости данной области к многочисленным претензиям на идентичность. 2 Уже в середине 1970-х гг. У. Дж. М. Маккензи смог охарактеризовать идентичность как слово, «обезумевшее от чрезмерного употребления», а Роберт Коулс заметил, что понятия идентичности и кризиса идентичности стали «чистейшими клише». 12. Но это было лишь начало. В 1980-х, с возвышением расы, класса и пола как «святой троицы» литературной критики и культурологии,13 в бой вступили в полной силе гуманитарные науки. И «разговоры об идентичности» – внутри и за пределами академического мира – продолжают свое распространение по сей день.14 Кризис «идентичности» – кризис перепроизводства и последующего обесценения значения – не выказывает никакого намека на спад.15 Как количественные, так и качественные индикаторы сигнализируют о центрированности – на деле «неотвратимости» – «идентичности» как топоса. В последние годы появилось два новых междисциплинарных журнала, посвященных данному предмету, укомплектованных самыми известными членами редакционных коллегий.16 И на волне растущей озабоченности по поводу «идентичности» в трудах о проблемах пола, половых отношений, расы, религии, этнической принадлежности, национализма, иммиграции, новых общественных движений, культуры и «политики идентичности», даже те, чья работа непосредственно с этими темами не связана, почувствовали себя обязанными обратиться к вопросу идентичности. Выборочный список главных социальных теоретиков и обществоведов, чьи основные труды лежат за пределами традиционной «вотчины» теоретизирования об идентичности, но кто однако в последние годы недвусмысленно писал об «идентичности», включает Зыгмунта Баумана, Пьера Бурдье, Фернана Броделя, Крейга Калхоуна, С.Н. Айзенштадта, Энтони Гидденса, Бернарда Гизена, Юргена Хабербаса, Давида Летена, Клода Леви-Страусса, Поля Рикера, Амартию Сен, Маргарет Сомерс, Чарльза Тейлора, Чарльза Тилли и Харрисона Уайта.17 Категории практики и категории анализа Многие ключевые термины в интерпретативных общественных и исторических науках – например, «раса», «нация», «этническая принадлежность», «гражданство», «демократия», «класс», «община» и «традиция» – являются одновременно категориями общественнополитической практики и категориями общественно-политического анализа. Следуя Бордье, под «категориями практики» мы понимаем нечто относящееся к тому, что другие называют «врожденными», «народными» или «мирскими» категориями. Это категории каждодневного общественного опыта, вырабатываемые и используемые обычными общественными субъектами, в отличие от далеких от опыта категорий, применяемых социальными аналитиками.18 В отношении этих альтернативных категорий мы предпочитаем выражение «категория практики», так как последнее подразумевает относительно четкое различие между «врожденными», «народными» или «мирскими» категориями с одной стороны и «научными» категориями с другой, а такие понятия как «раса», «этническая принадлежность» или «нация» отмечены тесной взаимосвязью и взаимовлиянием в их практическом и аналитическом использовании.19 Также и «идентичность» является как категорией практики, так и категорией анализа. Как категория практики она применяется «мирскими» субъектами в некоторых (но не во всех!) ежедневных установках для осмысления себя, своей деятельности, своего взаимодействия с другими и своего отличия от них. Также она используется политическими деятелями при определенном убеждении людей осознать себя, свои интересы и свои затруднения, при убеждении некоторых людей (с определенными целями) в их «идентичности» с другими и одновременном отличии от других, а также при организации и обосновании коллективных действий в определенном направлении.20 Таким образом термин «идентичность» встречается в различных формах как в повседневной жизни, так и в «политике идентификации». 3 Повседневные «разговоры об идентичности» и «политика идентичности» являются реальными и важными явлениями. Однако современная выпуклость «идентичности» как категории практики не требует ее применения в качестве категории анализа. Рассмотрим аналогию. «Нация» является широко используемой категорией общественно-политической практики. Призывы и требования, сделанные от имени предполагаемых «наций» – например, требования самоопределения – занимают центральное место в политике уже сто пятьдесят лет. Но не нужно использовать «нацию» в качестве аналитической категории для понимания и анализа подобных призывов и требований. Не нужно брать категорию, присущую практике национализма – реалистичной, конкретизирующей концепции наций как реальных общин – и превращать ее в центральную для теории национализма.21 И также не нужно использовать «расу» как категорию анализа – что может привести к понятию существования «расы» как само собой разумеющегося – для понимания и анализа общественно-политической практики, ориентированной на предполагаемое существование мнимых «рас».22 Так же, как можно анализировать «разговоры о нации» и националистическую политику без постулирования существования «наций» или «разговоры о расе» «расово»-ориентированную политику без постулирования существования «рас», можно анализировать и «разговоры об идентичности» и политику идентичности без (как это делают аналитики) постулирования существования «идентичностей». Конкретизация является общественным процессом, а не только интеллектуальной практикой. В качестве такового она центральна для политики «этнической принадлежности», «расы», «нации» и прочих предполагаемых «идентичностей». Анализ подобной политики должен стремиться к учитыванию этого процесса конкретизации. Мы должны пытаться объяснить процессы и механизмы, через которые то, что называется «политической фантазией» «нации» – либо «этнической группы», «расы» или другой мнимой «идентичности» – может в определенные моменты кристаллизоваться как веская, убедительная реакция.23 Но нам следует избегать ненамеренного воспроизведения или усиления подобной конкретизации некритичным принятием категорий практики и категорий анализа. Простое использование термина в качестве категории практики конечно же не дисквалифицирует его как категорию анализа.24 Если бы так происходило, словарный запас для социального анализа был намного беднее и искусственнее, чем он есть. Проблематичным является не то, что определенный термин используется, а то, как он используется. Проблема, как считает в отношении «расы» Лоик Уаккант, заключается в «бесконтрольном объединении общественного и социологического… [или] народного и аналитического понимания».25 Проблема в том, что «нация», «раса» и «идентичность» гораздо чаще используются аналитически, чем практически, в имплицитно или эксплицитно конкретизирующей манере, в манере, предполагающей или утверждающей, что «нации», «расы» и «идентичности» «существуют» и что люди «имеют» «национальность», «расу», «идентичность». Можно возразить, что это не отражает последних попыток избежать конкретизации «идентичности» с помощью теории, что идентичность является разнообразной, фрагментарной и расплывчатой.26 Действительно, «эссенциализм» энергично критикуется, и конструктивистские действия в настоящее время сопровождают большинство дискуссий об «идентичности».27 Хотя мы часто встречаемся с нелегкой амальгамой конструктивистского языка и эссенциалистской аргументации.28 Вопрос не в интеллектуальной небрежности. Скорее, это отражение дуальной ориентации многих академических «идентичников» – и как аналитиков, и как протагонистов политики идентичности. Это отражает напряжение между конструктивистским языком, требуемым академической корректностью, и фундаменталистской или эссенциалистской идеей, требуемой при необходимости реализации 4 обращений к «идентичности» на практике.29 Также, решение не лежит в более последовательном конструктивизме: так как не ясно, почему то, что обычно характеризуется как разнообразное, фрагментарное и расплывчатое, вообще должно концептуализироваться как «идентичность». Применения «идентичности» Что ученые имеют в виду, когда говорят об «идентичности»? 30 Какую концептуальную и разъяснительную работу данный термин, предположительно, выполняет? Это зависит от контекста его применения и теоретической традиции, от которой происходит рассматриваемое применение. Термин крайне – более того, для аналитического понятия – безнадежно – двусмысленнен. Но можно определить несколько его ключевых применений: 1. Понимаемая как основание или базис общественного или политического действия, «идентичность» часто противопоставляется «интересу» в попытке выделить и концептуализировать неинструментальные способы общественно-политического действия.31 При немного другом аналитическом акценте она используется для подчеркивания манеры, в которой действием – индивидуальным или коллективным – можно управлять с помощью скорее узкого самосознания, нежели предположительно универсального своего интереса.32 Это, вероятно, наиболее общее применение термина; оно часто встречается в сочетании с другими применениями. Оно задействует три связанных, но различных контрастных способа концептуализации и объяснения действия. Первый находится между самосознанием и (узко понимаемым) своим интересом.33 Второй – между частностью и (мнимой) универсальностью. Третий – между двумя путями толкования места в обществе. Многие (хотя и не все) цепочки теоретизирования об идентичности рассматривают общественнополитическое действие как четко оформленное его положением в социальном пространстве.34 В этом они согласуются со многими (хотя и не всеми) цепочками универсалистского, инструменталистского теоретизирования. Однако «место в обществе» означает нечто, в двух случаях совершенно отличное. Для идентитарного теоретизирования оно означает позицию в многомерном пространстве, определяемую узкими категорийными атрибутами (раса, этническая принадлежность, пол, сексуальная ориентация). Для инструменталистского теоретизирования оно означает позицию в универсалистически ощущаемой социальной структуре (например, положение на рынке, структура занятости или способ производства).35 2. Понимаемая как специфически коллективное явление, «идентичность» обозначает фундаментальную и последовательную одинаковость среди членов группы или категории. Это может восприниматься объективно (как одинаковость «по своей сути») или субъективно (как испытываемая, ощущаемая или воспринимаемая одинаковость). Ожидается, что одинаковость проявит себя в солидарности, в разделении намерений или осознания, либо в коллективном действии. Данное применение особенно встречается в литературе по общественным движениям;36 по проблеме полов;37 и по вопросам рас, этнической принадлежности и национализма. 38 В этом употреблении линия между «идентичностью» как категорией анализа и «идентичностью» как категорией практики часто размывается. 3. Понимаемая как центральный аспект (индивидуальной или коллективной) «личности» или как фундаментальное условие общественного бытия, «идентичность» призвана указать на что-либо якобы глубокое, базовое, неизменное или фундаментальное. Это отличается от более поверхностных, случайных, мимолетных или непредвиденных аспектов или атрибутов собственной личности и понимается как что-либо, что должно цениться, культивироваться, поддерживаться, признаваться и 5 сохраняться.39 Данное употребление характерно для определенных направлений психологической (или психологизированной) литературы, особенно испытавшей влияние Эриксона,40 хотя оно также появляется в литературе о расах, этнической принадлежности и национализме. Также и здесь практическое и аналитическое применение «идентичности» часто объединяется. 4. Понимаемая как продукт общественного или политического действия, «идентичность» призвана выделить процессуальное, интерактивное развитие того вида коллективного самосознания, солидарности или «групповщины», который может сделать коллективное действие возможным. В данном употреблении, встречаемом в определенных направлениях литературы «нового общественного движения», «идентичность» понимается и как случайный продукт общественного или политического действия, и как основа или базис для дальнейшего действия.41 5. Понимаемая как мимолетный продукт разнообразных и конкурирующих рассуждений, «идентичность» призвана подчеркнуть нестабильную, разностороннюю, колебательную и фрагментарную природу «собственной личности». Это употребление особенно встречается в литературе, испытавшей влияние Фуко, постструктурализма и постмодернизма.42 В несколько отличной форме, без постструктуралистских ловушек, оно также встречается в определенных направлениях литературы по этнической принадлежности – в частности, в «ситуационалистских» и «контекстуалистских» сообщениях по этнической принадлежности.43 Ясно, что термин «идентичность» призван осуществить многое. Он применяется, чтобы подчеркнуть неинструментальные образы действия; сфокусироваться больше на самосознании, чем на собственном интересе; указать на одинаковость среди людей или одинаковость по прохождении времени; уловить якобы центральные, фундаментальные аспекты собственной личности; отрицать, что такие центральные, фундаментальные аспекты существуют; подчеркнуть процессуальное, интерактивное развитие солидарности и коллективного самосознания; и сделать акцент на фрагментарном качестве современного опыта «собственной личности», личности, нестабильно составленной из кусочков рассуждений и случайно «задействованной» в различных контекстах. Данные применения не просто гетерогенны; они указывают в совершенно разных направлениях. Конечно же, между некоторыми из них существуют сходства, в частности между вторым и третьим, а также между четвертым и пятым. А первое применение является довольно общим, чтобы сравнивать его со всеми остальными. Но также существуют и сильные противоречия. Как второе, так и третье применение подчеркивают фундаментальную одинаковость – одинаковость среди людей и по времени, в то время как и четвертое, и пятое применения отрицают понятие фундаментальной или неизменной одинаковости. В таком случае, «идентичность» несет многовалентную, даже противоречивую теоретическую нагрузку. Нужен ли нам действительно этот крайне отягощенный и двусмысленный термин? Подавляющим научным мнением предполагается, что да.44 Даже наиболее умудренные теоретики, с готовностью признавая трудноуловимую и проблематичную природу «идентичности», считают, что она должна остаться обязательной. Таким образом, критическое обсуждение «идентичности» старается не отвергать, а спасти этот термин, переформулировав его так, чтобы сделать его неуязвимым для определенных возражений, особенно для ужасных обвинений в «эссенциализме». Поэтому Стюарт Холл характеризует идентичность как «идею, которую нельзя понимать по-старому, но без которой некоторые ключевые вопросы нельзя понять вообще».45 Что это за ключевые вопросы и почему к ним нельзя обращаться без «идентичности» – остается в изощренных, но трудных для понимания рассуждениях Холла неясным.46 Комментарий Холла вторит более ранней фор6 мулировке Клода Леви-Страусса, характеризующего идентичность как «вид виртуального центра (foyer virtuel), к которому мы должны обращаться, чтобы объяснить некоторые вещи, но которые всегда реально существуют без него».47 Лоренс Гроссберг, обеспокоенный сужением культурологических исследований из-за «теории и политики идентичности», тем не менее неоднократно уверяет читателя, что он «не имеет в виду отказ от понятия идентичности или ее политической важности в определенных видах борьбы» и что его «проектом является не избежание разговоров об идентичности, но ее перебазирование и переартикуляция».48 Альберто Мелуччи, ведущий представитель ориентированного на идентичность анализа общественных движений, признает, что «слово идентичность … семантически неотделимо от идеи неизменности и вероятно, по этой самой причине, плохо подходит к процессуальному анализу, который я отстаиваю».49 Плохо подходит или нет, но в трудах Мелуччи «идентичность» продолжает занимать центральное место. Мы не убеждены, что «идентичность» является обязательной. Выше мы кратко описали некоторые альтернативные аналитические идиомы, которые способны выполнить необходимую работу без сопровождающей путаницы. На данный момент достаточно сказать, что если кто-то хочет доказать, что узкое самосознание формирует общественнополитическое действие неинструментальным способом, то он может так просто об этом и заявить. Если кто-то хочет отследить процесс, через который люди, разделяющие некоторый категорийный атрибут, приходят к разделению определений своего затруднительного положения, понимания своего интереса и готовности предпринять коллективное действие, то это лучше сделать в манере, подчеркивающей непредвиденность и вариативность отношений между чистыми категориями и ограниченными, солидарными группами. Если нужно проверить значения и значимость, которые люди уделяют таким конструкциям, как «раса», «этническая принадлежность» и «национальность», то становится необходимым пробираться через концептуальные дебри, и не ясно, что можно приобрести, объединяя их под уравнительным заголовком идентичности. И если нужно передать последний, современный смысл самосуществования, создаваемого или постоянно реконструируемого из разнообразия конкурирующих рассуждения – и остающегося хрупким, колеблющимся и фрагментарным, – то не очевидно, почему слово «идентичность» получает это передаваемое значение. «Сильное» и «слабое» понимание «идентичности» В самом начале мы предположили, что «идентичность» обозначает либо слишком много, либо слишком мало. Сейчас можно рассмотреть этот пункт подробнее. Наш список применений «идентичности» выявил не только большую гетерогенность, но и сильный антитезис между позициями, подчеркивающими фундаментальную или неизменную одинаковость, и установками, выразительно отрицающими понятия базовой одинаковости. Первые можно назвать сильными или жесткими концепциями идентичности, последние – слабыми или мягкими концепциями. Сильные концепции идентичности сохраняют значения термина на основе здравого смысла – ударение на одинаковости по времени и среди людей. И они хорошо согласуются со способом употребления термина в большинстве форм политики идентичности. Но как раз из-за того, что они в аналитических целях принимают категорию повседневного опыта и политической практики, они влекут за собой целую серию глубоко проблематичных допущений: 7 1. Идентичность – это нечто, что есть или должно быть у всех людей, либо то, к чему все стремятся. 2. Идентичность – это нечто, что есть или должно быть у всех групп (по крайней мере, определенных групп – например, этнических, расовых или национальных). 3. Идентичность – это нечто, чем люди (и группы) могут обладать, не зная об этом. В этом ракурсе идентичность – это нечто, что должно быть обнаружено, и нечто, насчет чего можно ошибаться. Таким образом, сильная концепция идентичности воспроизводит марксистскую эпистемологию класса. 4. Сильные понятия коллективной идентичности подразумевают сильные понятия групповой ограниченности и гомогенности. Они подразумевают высокую степень «групповщины» или одинаковости среди членов группы, резкое отличие от не членов группы, четкую границу между тем, что находится внутри и снаружи.50 При имеющейся сильной оппозиции многих кругов субстанциалистскому пониманию групп и эссенциалистскому пониманию идентичности можно предположить, что нами сделан набросок «соломенного человечка». Тем не менее, в реальности сильные концепции «идентичности» продолжают информационно пополнять важные направления литературе, посвященной вопросам полов, рас, этнической принадлежности и национализма.51 Наоборот, слабое понимание «идентичности» сознательно порывает с повседневным значением этого термина. Это такие слабые или «мягкие» концепции, которым в теоретических дискуссиях последних лет отдавалось явное предпочтение, после того, как теоретики в значительной степени ознакомились с сильными или «жесткими» коннотациями повседневных значений слова «идентичность» и остались ими не удовлетворены. Однако, данный новый теоретический «здравый смысл» имеет свои собственные проблемы. Мы обрисуем три из них. Первая – это то, что мы называем «шаблонным конструктивизмом». Слабые или мягкие концепции идентичности обычно идут в комплекте со стандартными квалификаторами, показывающими, что идентичность является разнообразной, нестабильной, постоянно изменяющейся, непредвиденной, фрагментарной, созданной, договорной и т. д. и т. п. В последние годы эти квалификаторы стали настолько знакомыми – даже обязательными, что стали читаться (и писаться) фактически автоматически. Они рискуют стать обычными символами-заполнителями, знаками, сигнализирующими скорее об установке, чем о словах, передающих значение. Вторая – неясно, почему слабые концепции «идентичности» являются концепциями идентичности. Повседневный смысл «идентичности» в значительной мере предполагает по крайней мере одинаковость по времени, некоторую устойчивость, нечто, что остается идентичным, одинаковым, в то время, как прочие вещи изменяются. Какой смысл в использовании термина «идентичность», если это центральное значение так выразительно отвергается? Третья и самая важная – слабые концепции идентичности могут быть слишком слабыми для полезной теоретической работы. В своей озабоченности по поводу очистки термина от его теоретически дискредитированных «жестких» коннотаций, в своей настойчивости, что идентичности являются разнообразными, гибкими, текучими и т. д., сторонники мягкой идентичности оставляют нас один на один с термином, бесконечно эластичным, что делает его невозможным для применения в серьезной аналитической работе. 8 Мы не претендуем на то, что описанные здесь сильные и слабые версии совместно истощают возможные значения и применения термина «идентичность». Также мы не говорим о том, что маститые теоретики-конструктивисты не выполнили интересную и важную работу с использованием «слабого» понимания идентичности. Тем не менее, мы считаем, что все, что является в данной работе интересным и важным, не зависит от использования «идентичности» как аналитической категории. Рассмотрим три примера. Маргарет Сомерс, критикующая научные дискуссии по идентичности, фокусирующиеся больше на категорийной общности, чем на исторически вариативном реляционном внедрении, предлагает «переконфигурировать изучение формирования идентичности через понятие описательного изложения», «инкорпорировать в центральную концепцию идентичности категорийно дестабилизирующие измерения времени, пространства и относительности». Сомерс создает случай, неотразимый в смысле важности повествования по отношению к общественной жизни и общественному анализу, и убедительно отстаивает ситуативность социальных повествований при исторически конкретных реляционных установках. Она фокусируется на онтологическом измерении повествования, на способе, с помощью которого повествования не только представляют, но – что важно – образуют общественные субъекты и общественный мир, в котором они действуют. Что остается из ее сообщения неясным, это почему – и в каком смысле – образуются через повествования и формируются при конкретных реляционных установках именно идентичности. Действительно, общественная жизнь представлена убедительными «историческими сюжетами»; однако не ясно, почему эта «историчность» должна быть аксиоматически связана с идентичностью. Люди повсюду и всегда рассказывают истории как о себе, так и о других, и позиционируют себя в рамках культурно существующих репертуаров таких историй. Но откуда следует, что подобное «повествовательное позиционирование наделяет общественных субъектов идентичностью – какой бы разнообразной, двусмысленной, эфемерной или конфликтной она ни была»? Что добавляет данное мягкое, гибкое понятие идентичности к аргументу повествовательности? Главная аналитическая работа, проделанная в статье Сомерс, связана с понятием повествовательности, дополненной понятием реляционной установки; работа, связанная с понятием идентичности, ясна гораздо в меньшей степени.52 Представляя свой сборник «Гражданство, идентичность и история общества», Чарльз Тилли характеризует идентичность как «размытое но обязательное» понятие и определяет ее как «опыт субъекта в категории, связи, роли, сети, группе или организации, соединенный с публичным представлением этого опыта; публичное представление часто принимает форму общей истории, повествования». Но каковы отношения между этим обобщающим, свободным определением и той работой, которую бы, по Тилли, должно выполнять данное понятие? Что, аналитически, приобретается при обозначении любого опыта и публичного представления любой связи, роли, сети и т. д. термином идентичность? Когда дело доходит до примеров, Тилли ограничивается обычными сомнительными понятиями: расой, полом, классом, занятием, религиозной принадлежностью, национальным происхождением. Однако не ясно, какое аналитическое действие над этими явлениями можно предпринять с помощью исключительно емкого, гибкого понятия идентичности, какое он предлагает. Выделение «идентичности» в названии издания сигнализирует об открытости к культурному повороту в истории общества и исторической социологии гражданства; кроме того, не ясно, какую работу данное понятие выполняет. По праву известный за оформление резко сфокусированных, «рабочих» понятий, Тилли встречается здесь с трудностью, разъединяющей большинство обществоведов, пишущих в настоящее время об идентичности: введением понятия «мягкий», достаточно гибким, чтобы соответствовать требованиям реляционной, конструктивистской общественной теории, хотя и достаточно надежным, чтобы иметь ценность для явлений, нуждающихся в объяснении, некоторые из которых довольно «жестки».53 9 Крейг Калхоун использует движение китайского студенчества в 1989 как средство для тонкого и яркого обсуждения понятий идентичности, интереса и коллективного действия. Калхоун объясняет готовность студентов к «заведомо известному риску смерти» на площади Тяньаньмэнь вечером 3 июня 1989 г. в терминах «обусловленной честью идентичности» или «осознания своего я», появившихся в самом ходе движения и под конец полностью воспринятых студентами. Его отчет об изменениях произошедших в ощущениях студентами своего «я» за недели их протеста – трансформировавшихся, через динамику борьбы, от начально «позиционного» классового осознания себя студентами и интеллектуалами к более широкой, эмоционально заряженной идентификацией с национальными и даже универсальными идеалами – является неотразимым. Однако здесь также важнейшая аналитическая работа очевидно зависит от понятия, отличного от идентичности – в данном случае, от понятия чести. Как замечает Калхоун, честь является «императивом, когда интересы им не являются». Но она также является императивом, когда и идентичность, в слабом смысле, им не является. Калхоун классифицирует честь под заголовком идентичности и представляет свой аргумент как общий в отношении «образования и трансформации идентичности». Однако его фундаментальный аргумент в данной статье, как кажется, не относится к идентичности в целом, но к способу, которым неодолимое чувство чести может, в экстраординарных обстоятельствах, привести людей к экстраординарным действиям, дабы их центральное чувство собственного «я» не было подорвано радикально.54 Идентичность в этом исключительно сильном смысле – как чувство собственного «я», которое может настоятельно потребовать действия, угрожающего интересам или даже жизни – имеет мало общего с идентичностью в слабом или мягком смысле. Сам Калхоун подчеркивает диспропорцию между «обычной идентичностью – самооценкой, способом, которым люди примиряют интересы в повседневной жизни» и императивом, движимым честью чувством собственного «я», которое может позволить или даже потребовать от людей быть «храбрыми до очевидной глупости».55 Калхоун приводит убедительную характеристику последнего; но не ясно, какая аналитическая работа выполняется первой, более общей концепцией идентичности. В своем отредактированном труде «Социальная теория и политика идентичности» Калхоун работает с этим более общим пониманием идентичности. Он замечает, что «озабоченность индивидуальной и коллективной идентичностью проявляется повсеместно». Конечно же верно, что «[нам] не известны люди без имени, языки или культуры, где бы какимлибо образом не делались различия между собой и другими, нами и ими». 56 Однако не ясно, почему это предполагает повсеместность идентичности, если мы не разбавляем «идентичность» до точки обозначения любой практики, задействующей присвоение имен и различение себя-других. Калхоун – подобно Сомерс и Тилли – идет дальше и приводит разъяснительные аргументы по ряду вопросов, касающихся претензий на общность и различия в современных общественных движениях. В настоящее время подобные претензии действительно часто оформлены в идиому «идентичности», поэтому не ясно, является ли принятие этой идиомы в аналитических целях необходимым или даже полезным. Иными словами Какие альтернативные термины можно использовать вместо «идентичности» при выполнении теоретической работы по «идентичности» без ее сбивающих с толку, противоречивых коннотаций? При данном объеме и гетерогенности работы, выполняемой «идентичностью», было бы полезно поискать единый заменитель, но подобный термин будет в той же мере перегружен, что и сама «идентичность». Нашей стратегией скорее является распутывание запутанного клубка значений, накопившихся вокруг термина «идентичность» и 10 разделение работы на несколько менее перегруженных терминов. Здесь мы обрисуем три группы терминов. Идентификация и категоризация В качестве процессуального, активного термина, произведенного от глагола, «идентификация» не имеет конкретизирующих коннотаций «идентичности».57 Она побуждает нас точно установить агентов, осуществляющих идентификацию. И она не предполагает, что подобная идентификация (даже сильными агентами, такими как государство) обязательно приведет к внутренней одинаковости, различимости, ограниченной групповой общности, к которым стремятся политические деятели. Идентификация себя и других внутренне присуща общественной жизни; «идентичность» в сильном смысле – нет. Можно призвать кого-либо идентифицировать самого себя – охарактеризовать себя, определить свое место по отношению к другим, поместить себя в повествование, в категорию – в любом количестве различных контекстов. При современных установках, которые множат взаимодействия с другими, лично не известными, такие случаи идентификации особенно многочисленны. Они включают бесчисленное количество ситуаций повседневной жизни, а также более формальные и официальные контексты. Как себя идентифицировать и как быть идентифицированным другими – может сильно варьировать от контекста к контексту; самоидентификация и идентификация других являются фундаментально ситуативными и контекстуальными. Одно ключевое отличие лежит между реляционным и категорийным способом идентификации. Можно идентифицировать себя по позиции в реляционной сети (сеть родства, например, или дружеская сеть, патроно-клиентские связи или отношения между преподавателями и студентами). С другой стороны, можно идентифицировать себя (или другое лицо) по членству в классе лиц, имеющих какой-либо общий категорийный атрибут (такой, как раса, этническая принадлежность, национальность, гражданство, пол, сексуальная ориентация и т. д.). Крейг Калхоун считает, что поскольку реляционные способы идентификации остаются во многих контекстах важными даже сегодня, категорийная идентификация в современных установках приобретает еще большее значение.58 Другое основное отличие лежит между самоидентификацией и идентификацией и категоризацией себя другими.59 Самоидентификация имеет место в диалектическом взаимодействии с внешней идентификацией, и обе они не нуждаются в объединении. 60 Внешняя идентификация сама по себе является дифференцированным процессом. В обычной общественной жизни с ее приливами и отливами люди идентифицируют и категоризируют других, как если бы они идентифицировали и категоризировали самих себя. Но существует и другой ключевой тип внешней идентификации, не имеющий своего аналога в сфере самоидентификации: формализованные, кодифицированные, объективизированные системы категоризации, выработанные влиятельными, авторитетными учреждениями. Современное государство является одним из наиболее важных агентов идентификации и категоризации в этом последнем смысле. В культурологических продолжениях социологии государства Вебера, в частности находящихся под влиянием Бордье и Фуко, государство монополизирует или пытается монополизировать не только законную физическую силу, но также и законную символическую силу, как формулирует это Бордье. Это включает возможность наименования, идентифицирования, категоризирования и установления что есть что и кто есть кто. По этим предметам имеется все более расцветающая социологическая и историческая литература. Некоторые ученые рассматривают «идентификацию» слишком буквально: как приложение определительных маркеров к индивидууму через 11 паспорт, отпечатки пальцев, фотографию и подпись, и накоплению подобных идентифицирующих документов в государственных хранилищах. Когда, зачем и с какими ограничениями были разработаны такие системы – оказывается непростой проблемой.61 Другие ученые подчеркивают усилия современного государства вписать свои субъекты в классификационную схему: идентифицировать и категоризировать людей относительно пола, религии, собственности, этнической принадлежности, грамотности, криминальности и вменяемости. Переписи распределяют людей по этим категориям, а учреждения – от школ до тюрем – отсортировывают в соответствии с ними индивидов. В частности, для приверженцев Фуко данные индивидуализирующие и объединяющие способы идентификации и классификации являются в центре того, что определяет «управленчество» в современном государстве.62 Таким образом, государство является сильным «идентификатором», не потому что оно может создавать «идентичности» в сильном смысле – в целом, оно этого не может, но потому что у него есть материальные и символические ресурсы навязать эти категории, классификационные схемы и способы общественного подсчета и учета, которыми должны оперировать бюрократы, судьи, преподаватели и врачи и к которым должны относиться негосударственные субъекты.63 Однако государство является не единственным имеющим значение «идентификатором». Как показал Чарльз Тилли, категоризация выполняет важнейшую «организационную работу» во всех социальных установках, включая семьи, фирмы, школы, общественные движения и любого рода бюрократию.64 Даже самое сильное государство не монополизирует производство и распространение идентификаций и категорий; а те, что оно производит – могут быть оспорены. Литература по общественным движениям – как «старым», так и «новым» – богата свидетельствами того, как лидеры движений бросают вызов официальным идентификациям и предлагают свои альтернативы.65 Она подчеркивает усилия лидеров заставить членов предполагаемого электората идентифицировать себя определенным образом, рассматривать себя – по ряду некоторых причин – как «идентичных» друг другу, идентифицировать друг друга как эмоционально, так и когнитивно.66 Ценно, что литература по общественным движениям уделяет особое внимание интерактивным, дискурсивно опосредованным процессам, через которые развиваются коллективная солидарность и самосознание. Наши замечания касаются движению от обсуждения работы по идентификации – попыток создать коллективное самосознание – к постулированию «идентичности» как необходимого их результата. Рассматривая авторитетные, институционализированные способы идентификации в их совокупности с альтернативными способами, задействованными на практике в повседневной жизни и в проектах общественных движений, можно сделать особое ударение на тяжелой работе и длительной борьбе за идентификацию, а также на неопределенных результатах такой борьбы. Тем не менее, если результатом всегда предполагается «идентичность» – временная ли, фрагментарная, разнообразная, спорная или расплывчатая, то теряется способность делать принципиальные различия. Как мы уже отмечали выше, «идентификация» побуждает к спецификации агентов, проводящих идентифицирование. Хотя идентификация и не требует точно установленного «идентификатора», она может быть всепроникающей и воздействующей без дополнительных усилий со стороны отдельных, определенных лиц или учреждений. Идентификация может более или менее анонимно осуществляться путем рассуждений или публичных повествований.67 Несмотря на то, что при тщательном анализе подобных рассуждений или повествований внимание обычно фокусируется на их конкретизацию в определенных дискурсивных или нарративных высказываниях, их сила может зависеть не от какой-либо 12 частной конкретизации, но от их анонимного, незаметного проникновения в наше мышление, речь и осмысление социального мира. Далее, существует еще одно значение «идентификации», которого кратко касались выше, которое в целом независимо от до сих пор обсуждавшихся когнитивных, характеризующих, классификационных значений. Это психодинамическое значение, первоначально взятое у Фрейда.68 В то время как классификационные значения задействуют идентификацию себя (или кого-либо другого) как подходящего под определенное описание или принадлежащего определенной категории, психодинамическое значение задействует эмоциональную идентификацию себя по отношению к другому лицу, категории или коллективу. Опять же, здесь «идентификация» привлекает внимание к комплексным (и часто амбивалентным) процессам, в то время как термин «идентичность», обозначающий скорее условие, чем процесс, предполагает слишком незначительное соответствие между индивидуальным и общественным. Самосознание и место в обществе «Идентификация» и «категоризация» являются активными, процессуальными терминами, образованными от глаголов и приводящими на ум определенные акты идентификации и категоризации, производимые определенными идентификаторами и категоризаторами. Но для дифференцированной работы, выполняемой «идентичностью», на нужны и другие виды терминов. Вспомним, что одним из ключевых применений «идентичности» является концептуализация и объяснения действия в неинструментальной, немеханической манере. В этом смысле, термин предполагает способы, которыми индивидуальное и коллективное действие может управляться с помощью скорее партикуляристского понимания себя и своего места в обществе, чем мнимо универсальных, структурно определенных интересов. «Самосознание», таким образом, является вторым термином, который мы предлагаем в качестве альтернативы «идентичности». Это диспозиционный термин, обозначающий то, что можно было бы назвать «ситуативной субъективностью»: чьим-либо чувством, кто он есть, какого его место в обществе и как (при заданных первых двух) он готов к действию. В качестве диспозиционного термина, оно принадлежит к области, названной Пьером Бурдье sens pratique, практическим смыслом – одновременно когнитивным и эмоциональным, которым люди наделяют себя и общественный мир.69 Важно подчеркнуть, что термин «самосознание» не подразумевает исключительно современное или Западное понимание «собственной личности» как гомогенного, ограниченного, унитарного субъекта. Чувство «кто это есть» может принимать множество форм. Общественные процессы, через которые люди себя осознают и локализуют, могут в некоторых случаях привести их в кабинет психоаналитика, а в других – к участию в религиозных и мистических культах.70 При некоторых установках люди могут осознавать и испытывать себя по схеме пересекающихся категорий; при других – в сети связей с дифференциальной близостью или интенсивностью. Отсюда важность рассмотрения осознания себя и своего места в обществе относительно других и подчеркивания, что и ограниченное «я», и ограниченная группа являются скорее культурно специфическими, чем универсальными формами. Как и в случае с термином «идентификация», «самосознание» не имеет неизменных коннотаций «идентичности». Однако оно и не ограничено изменчивыми и нестабильными ситуациями. Самосознание может меняться со временем и в общении с людьми, но оно может быть и стабильным. Семантически, «идентичность» предполагает одинаковость относительно времени и лиц; отсюда и неуклюжесть продолжающихся разговоров об «иден- 13 тичности» при отказе от импликации одинаковости. Наоборот, «самосознание» не имеет привилегированной семантической связи с одинаковостью или разностью. «Самопредставление» и «самоидентификация» являются близкородственными терминами. Обсудив выше «идентификацию», мы просто здесь отметим, что, так как отличие не является резким, «самосознание» может быть подразумеваемым; даже если они, как обычно, формируются в или через превалирующие рассуждения, они могут существовать и наполнять действие, не будучи сами дискурсивно артикулированными. С другой стороны, «самопредставление» и «самоидентификация» предполагают по крайней мере некоторую степень эксплицитной дискурсивной артикуляции. Конечно же, «самосознание» не может проводить всю работу, выполняемую «идентичностью». Здесь мы отметим три ограничения по этому термину. Первое, это субъективный, самоотносимый термин. В качестве такового он обозначает чье-либо собственное понимание того, кто он есть. Он не может включать понимание других лиц, даже если внешние категоризации, идентификации и представления могут быть решающими в определении того, как человек воспринимается и как к нему относятся другие, даже при формировании собственного осознания себя. В этом пределе самосознание может быть перекрыто в основе своей принудительными внешними категоризациями.71 Второе, «самосознание», видимо, способствует когнитивному пониманию. В результате, оно, вроде бы, не задействует – или по крайней мере не подчеркивает – аффективные или катектические процессы, вызываемые при некоторых употреблениях термина «идентичность». Несмотря на то, что самосознание не бывает чисто когнитивным, оно всегда аффективно окрашено или заряжено, и термин, конечно же, может аккомодировать данную аффективную величину. Тем не менее, верно, что эмоциональная динамика лучше передается термином «идентификация» (в его психодинамическом значении). И наконец, как термин, подчеркивающий ситуативную субъективность, «самосознание» не включает в себя объективность, требуемую при сильном понимании идентичности. Сильные, объективистские концепции идентичности позволяют отличать «истинную» идентичность (характеризующуюся как глубокая, неизменная и объективная) от «простого» самосознания (поверхностного, колеблющегося и субъективного). Если идентичность – это нечто, что должно быть обнаружено и насчет чего можно ошибаться, тогда чье-либо мгновенное самосознание может не соответствовать его неизменной, базовой идентичности. Какими бы аналитически проблематичными не были данные понятия глубины, постоянства и объективности, они по крайней мере приводят причину употребления языка идентичности, а не самосознания. Слабые концепции идентичности такой причины не приводят. Из конструктивистской литературы ясно, почему слабое понимание идентичности является слабым; но не ясно, почему они являются концепциями идентичности. В данной литературе подчеркиваются и разрабатываются именно различные утверждения идентичности – создаваемость, случайность, нестабильность, многообразие, текучесть; но что они утверждают – сама идентичность – принимается на веру и редко объясняется. Когда разъясняется сама идентичность, она часто представляется как нечто – чувство «кто он есть»72, самооценка73,– что можно открыто включить в «самосознание». У этого термина нет привлекательности, причудливости, теоретических претензий «идентичности», однако это следует рассматривать как ценное качество, а не помеху. Общность, связность, групповщина 14 Одна особая форма аффективно заряженного самосознания, часто обозначаемая как «идентичность» – особенно при обсуждении вопросов расы, религии, этнической принадлежности, национализма, пола, сексуальных отношений, общественных движений и прочих явлений, концептуализируемых как требующих коллективной идентичности - заслуживает здесь отдельного упоминания. Это эмоционально окрашенное чувство принадлежности к отдельной, ограниченной группе, включающее как ощущаемую солидарность или единение с согруппниками и ощущаемое отличие или даже антипатию к определенным аутсайдерам. Проблема в том, что «идентичность» используется для обозначения как такого сильно группового, эксклюзивного, аффективно заряженного самосознания, так и более свободного, открытого самосознания, включающего определенное чувство схожести или принадлежности, общности или связности с некоторыми другими лицами, но без чувства базового единства по отношению к некоторым основополагающим «другим». 74 Важны как тесно групповые, так и более свободные аффилиативные формы самосознания – так же, как и переходные формы между этими двумя полярными типами; однако они формируют личный опыт и обусловливают общественно-политическое действие совершенно разными способами. Вместо перемешивания всех самосознаний, основанных на расе, религии, этнической принадлежности и т. д., в одном большом концептуальном плавильном тигеле «идентичности», мы лучше применим более дифференцированных аналитический язык. Такие термины, как общность, связность и групповщина можно здесь с успехом применить вместо всеохватывающей «идентичности». Это предлагаемая нами третья группа терминов. «Общность» обозначает совместное использование какого-либо общего атрибута, «связность» – реляционные связи, которые соединяют людей. Сами по себе ни общность, ни связность не порождают «групповщину» – чувство принадлежности к определенной, ограниченной, солидарной группе. Но взятые вместе, общность и связность все же могут это сделать. Это аргумент Чарльз Тилли выдвинул некоторое время назад, основываясь на идее Харрисона Уайта о «кат-сети» – группе людей, составляющих как категорию с каким-либо общим атрибутом, так и сеть.75 Предположение Тилли, что групповщина является совместным продуктом «категорийности» и «сети» – категорийной общности и реляционной связности – является суггестивным. Однако мы бы предложили два исправления. Первое, категорийная общность и реляционная связность нуждаются в дополнении третьим элементом, который Макс Вебер назвал Zusammengehörigkeitsgefühl – чувством общей принадлежности. Такое чувство может действительно частично зависеть от степени и формы общности и связности, но также оно зависит от других факторов, таких как конкретные события, их кодирование в неодолимых публичных повествованиях, превалирующие дискурсивные рамки и т. д. Второе, реляционная связность, или то, что Тилли называет «сетью», будучи крайне важной в облегчении вида коллективного действия, в которым интересовался Тилли, для «групповщины» не всегда необходима. Сильно ограниченное групповое чувство может покоиться на категорийной общности и ассоциированном чувстве общей принадлежности с минимальной или отсутствующей связностью. Это типичный случай для крупных коллективов, таких как «нации»: когда размытое осознание себя членом определенной нации кристаллизуется в сильно ограниченное групповое чувство, это, вероятно, зависит не от реляционной связности, но скорее от в значительной степени выдуманной и сильно ощущаемой общности.76 Вопрос не в том, как предполагают некоторые поборники сетевой теории, чтобы повернуть от общности к связности, от категорий к сетям, от общих атрибутов к общественным отношениям.77 И не в том, чтобы ставить текучесть и гибридность выше принадлежности 15 и солидарности. Вопрос в том, что при предложении этого последнего набора терминов лучше разработать аналитическую идиому, реагирующую на самые различные формы и степени общности и связности и на широко варьирующие способы, которыми субъекты действия придают им значение и значимость (и культурологические идиомы, общественные повествования и превалирующие рассуждения, на которых строится это значение). Это даст нам возможность отличить примеры сильно ограниченной, четко ощущаемой групповщины от более свободно структурированных, слабо ограничивающих форм сходства и принадлежности. Три случая: «идентичность» и ее альтернативы в контексте Сделав обзор работы, проделанной «идентичностью», указав некоторые ограничения и слабые места этого термина и предложив ряд альтернатив, сейчас мы попытаемся проиллюстрировать свои доводы – как критические претензии к «идентичности», так и конструктивные предложения, касающиеся альтернативных идиом, – рассмотрев три случая. В каждом случае, как мы считаем, идентитарное внимание на ограниченную групповщину ограничивает социологическое – и политическое – воображение, в то время как альтернативные аналитические идиомы помогут нам раскрыть и то, и другое. Случай из африканистской антропологии: Нуэр Африканистика страдает от своего варианта идентитарного мышления; особенно выпукло это проявляется в журналистских отчетах, в которых «племенная идентичность» африканцев рассматривается как главная причина насилия и неудачного построения государствнаций. Ученые-африканисты обеспокоены этим упрощенным видением Африки по крайней мере с 1970-х годов и склонились к варианту конструктивизма гораздо раньше, чем этом подход обрел свое имя.78 Довод, что этнические группы являются не изначальными, а продуктами истории – включая конкретизацию культурного различия через навязанные колониальные идентификации, – стал главным элементом африканистики. Несмотря на это, ученые стремились подчеркнуть скорее образование границ, чем пересечение границ, образование групп, чем развитие сетей.79 В этом контексте стоит вернуться к классической африканской этнологии: к книге Э. Эванса-Притчарда «Нуэр».80 Основанная на исследованиях в Северной Африке в 1930-х годах, «Нуэр» описывает четко реляционный способ идентификации, осознания себя и своего места в обществе, который интерпретирует общественный мир в понятиях степени и качества связи между людьми, а не в категориях, группах или границах. Локализация себя в обществе определяется в первую очередь как родословная, состоящая из потомков одного предка, просчитывающая по социально условной линии: патрилинейной, т. е. по мужской линии, как в случае с нуэр, по женской линии или, что более редко, по дойной линии происхождения в других частях Африки. Дети ведут родословную по отцу, но так как отношения с родней матери не игнорируются, то они не являются частью данной генеалогической системы. Сегментарность происхождения можно выразить в виде схемы, как это показано на Рисунке 1. Рисунок 1. Сегментарное патрилинейное происхождение; линии представляют происхождение; партнеры по браку происходят от разных линий; дети дочерей принадлежат линии мужа и не показаны; дети сыновей принадлежат к этой же линии и здесь представлены. Обозначения на рисунке: Женщины ▲ Мужчины = Брак 16 Каждый на этой схеме имеет родство со всеми остальными, но по-разному и в различной степени. Хотелось бы сказать, что люди, отмеченные в кружке А составляют группу с «идентичностью» А, отличную от находящихся в кружке В с «идентичностью» В. Трудность такой интерпретации в том, что само движение, отличающее А от В также показывает их родство, так как можно вернуться на одно поколение назад и найти общего предка, живого или нет, но чье место в обществе связывает людей в А и В. Если кто-либо из группы А вступает в конфликт с кем-либо из группы В, такой человек может легко прибегнуть к общности «А», чтобы мобилизовать людей против В. Но кто-либо, кто генеалогически старше, чем эти стороны, может обратиться к связующим их предкам и остудить ситуацию. Дальнейшее погружение в генеалогическую схему в ходе общественного взаимодействия еще больше переставит ударение на реляционном видении своего места в обществе за счет категорийного. Можно поспорить, что данное патрилинейное родство в целом формирует идентичность, отличную от других родословных. Но Эванс-Притчард считает, что сегментация отражает весь общественный строй и что сами линии относятся друг к другу как относятся друг к другу члены мужской и женской линий. Рассмотрим брак. Практически все сегментарные общества придерживаются экзогамии; и в эволюционной перспективе превалирование экзогамии может отразиться в преимуществах кросслинейной связи. Поэтому данная патрилинейная диаграмма предполагает другой набор отношений, через женщин, родившихся в группе своих отцов, но чьи сыновья и дочери принадлежат группам, с членами которых они вступают в брак. Можно еще возразить, что все линии, связанные друг с другом через брак, образуют «нуэр» как идентичность, отличную от «динка» или любой другой группы в данном регионе. Но недавние труды по африканской истории предлагают более тонкий подход. Генеалогическое построение реляционности дает возможности для продолжения более гибкого, чем тенденция ученых двадцатого столетия искать четкую границу между находящимся внутри и снаружи. Брачные отношения можно продолжить за пределы группы нуэр (как через взаимную договоренность, так и через принуждение захваченных в плен женщин вступать в брак). Чужаки – встречающиеся через торговлю, миграцию или другие формы движения – могли бы включаться в группу как фиктивные родственники или не тесно связанные с патрилинейностью кровным братством. Миграция народов Северной Африки была очень экстенсивной – в попытках найти лучшие экологические ниши, или когда сегменты одной линии происхождения вступали и выходили из отношений друг с другом. Торговцы распространили свои родственные отношения на больших территориях, сформировали многочисленные связи на стыках с сельскохозяйственными общинами, иногда создавая смешанные наречия («лингва франка») для стимулирования общения в больших пространственных сетях.81 Во многих частях Африки можно найти определенные организации – религиозные братства, общества, связанные с обрядами инициаций, – перешагнувшие через лингвистические и культурные различия, предложившие то, что Поль Ричардс называет «общей грамматикой» общественного опыта в пределах определенных регионов, для всего содержащегося в них культурного многообразия и политической дифференциации.82 Проблема классификации этих форм реляционной связи в рамках «социального строительства идентичности» заключается в том, что связь и разделение обозначаются одним именем, что затрудняет понимание процессов, причин и следствий различных моделей кристаллизации различий и выковывания связей. Африка была далеко не раем для общественных взаимоотношений, однако и мир, и война задействовали гибкие модели как соединения, так и разъединения. 17 Не следует считать, что принципы подвижной шкалы связей присущи исключительно небольшому «племенному» обществу. Из изучения более крупных политических организаций – с авторитетными правителями и развитой командной иерархией – мы знаем, что родственные системы продолжают оставаться важным принципом общественной жизни. Африканские короли утверждали свою власть, развивая патримониальные отношения с людьми из других генеалогических линий, создавая центр поддержки с пересекающимся родством; но также они использовали принципы линейного родства для консолидации своей собственной власти, укрепляя брачные союзы и расширяя объем королевской генеалогии.83 Почти во всех обществах понятия родства являются символическими и идеологическими ресурсами; однако они формулируют нормы, самосознание и восприятие сходства, и поэтому совсем необязательно, что они производят «группы» родственников.84 Еще в большей степени, чем предшествовавшие формы господства, колониальное правление пыталось территориально спроецировать, один к одному, людей с мнимыми общими характеристиками. Эти насажденные идентификации могли иметь большое значение, но их результаты зависели от фактических отношений и символических систем, с которыми колониальным чиновникам – а также местным культурным деятелям - приходилось работать, и от компенсирующих усилий прочих поддерживать, развивать и артикулировать различные виды сходства и самосознания. Конечно же, колониальная эпоха стала свидетельницей сложной борьбы за идентификацию, но она низвело наше понимание данной борьбы до простого производства «идентичностей». Повседневная жизнь людей была и остается полной нюансов, даже при четко проведенных политических линиях. Замечательный повторный анализ Шэрон Хатчинсон «племени» Эванс-Притчарда использует такой аргумент в современной, движимой конфликтами ситуации. Ее целью является «поставить вопрос о самой идее о народе нуэр как о единой этнической идентичности».85 Она указывает на нечеткость границ народа, ныне называемого нуэр: ни культура, ни история этим линиям не соответствуют. Также она считает, что сегментарная схема ЭвансаПритчарда уделяет чрезмерное внимание доминированию в 1930-х гг. пожилых мужчин, и недостаточно внимания женщинам, мужчинам из менее влиятельных родов или молодым мужчинам и женщинам. Данный анализ не только затрудняет видение «нуэрства» как идентичности, но заставляет тщательно изучить то, как люди пытались как расширить, так и консолидировать свои связи. Доведя свой рассказ до эпохи гражданской войны на юге Судана в 1990-х гг., Хатчинсон отказывается свести конфликт к одним только культурным или религиозным противоречиям между воюющими сторонами и настаивает на глубоком анализе политических отношений, борьбы за экономические ресурсы и пространственные связи. Действительно, в большей части современной Африки некоторые из наиболее серьезных конфликтов произошли в коллективах, культурно и лингвистически относительно единых (Руанда, Сомали), и между слабыми экономическими и социальными системами, основанными скорее на патроно-клиентских отношениях, чем на этнической принадлежности (Ангола, Сьерра-Леоне), а также в ситуациях, когда культурные различия были использованы в качестве политического оружия (КваЗулу в Южной Африке).86 Объяснение настоящих и прошлых конфликтов на основе того, как люди создают и борются за свою «идентичность», чревато тем, что оно может стать искусственным, презентистским и теологическим, что отвлекает внимание от вопросов, подобных тем, к которым обратилась Хатчисон. Восточноевропейский национализм 18 Мы считаем, что язык идентичности, с его коннотациями ограниченности, групповщины и одинаковости, очевидно плохо подходит для анализа обществ с сегментарным линейным происхождением – или современных конфликтов в Африке. Можно принять этот пункт, но поспорить, что идентитарный язык хорошо подходит для анализа других социальных установок, включая нашу собственную, где широко распространены общественные и частные «разговоры об идентичности». Но мы не только считаем, что понятие идентичности недостаточно «мобильно», что его нельзя универсально применять ко всем обществам. Мы хотим привести более сильный аргумент: что «идентичность» как категория анализа не является ни необходимой, ни полезной, даже там, где она широко используется как категория практики. С этой целью мы кратко рассмотрим восточноевропейский национализм и политику идентичности в Соединенных Штатах. Исторические и обществоведческие научные труды по национализму в Восточной Европе – в гораздо большей степени, чем труды по общественным движениям или этнической принадлежности в Северной Америке - характеризуются относительно сильным и жестким пониманием групповой идентичности. Многие комментаторы увидели в посткоммунистическом появлении этнического национализма в данном регионе возрождение прочно и глубоко укоренившихся идентичностей – идентичностей, достаточно сильных и гибких, чтобы пережить десятилетия безжалостного подавления антинациональными коммунистическими режимами. Но этот подход «возвращения репрессированного» является проблематичным.87 Рассмотрим бывший Советский Союз. Объяснение национальных конфликтов как борьбы за упрочение и выражение идентичности, каким-то образом пережившей попытки режима ее сокрушить, ничем не подтверждается. Будучи анти-националистическим и конечно же во всем репрессивным, советский режим совершенно не был анти-национальным.88 Далекий от безжалостного принижения статуса нации, режим пришел к беспрецедентному его институциализированию и кодифицированию. Он нарезал советскую территорию на более пятидесяти мнимо автономных национальных «отечеств», каждое из которых «принадлежало» определенной этнонациональной группе; и присвоил каждому гражданину этническую «национальность», приписываемую при рождении на основе происхождения, регистрируемую в удостоверяющих личность документах, учитываемую в бюрократической деятельности и используемую для контроля доступа к высшему образованию и трудоустройству. Осуществляя все это, режим не просто признавал или ратифицировал существовавшее до этого положение вещей; он заново создавал и людей, и местности в качестве национальных.89 В данном контексте сильное понимание национальной идентичности как глубоко укоренившейся в докоммунистической истории региона, замороженной или репрессированной безжалостным антинациональным режимом и вернувшейся с падением коммунизма выглядит в лучшем случае как анахроничное, в худшем – простой научной рационализацией националистической риторики. А что насчет слабого, конструктивистского понимания идентичности? Конструктивисты могут допускать важность институционализированной советской системой многонациональности и интерпретировать это как институциональное средство, с помощью которого были созданы национальные идентичности. Но почему мы должны принимать на веру, что таким образом была создана именно «идентичность»? Если это сделать, то возникает риск объединения системы идентификации или категоризации с ее предполагаемым результатом – идентичностью. Категорийные групповые деноминации – авторитетные или глубоко институционализированные – не могут служить индикаторами реальных «групп» или жестких «идентичностей». 19 Рассмотрим, например, случай с «русскими» на Украине. Во время переписи населения в 1989 г. около 11,4 миллиона жителей Украины определили свою «национальность» как русские. Однако точность данных этой переписи, даже округленных до ста тысяч, является иллюзорной. Сами категории «русский» и «украинец», как обозначения предположительно различных этнокультурных национальностей или различные «идентичности», являются глубоко проблематичными в контексте Украины, где высок уровень межнациональных браков и где миллионы номинальных украинцев говорят только или главным образом по-русски. К созданной переписью, с ее исчерпывающими и взаимоисключающими категориями, иллюзии «идентичности» или ограниченной групповости следует относиться скептически. Можно представить обстоятельства, в которых могла бы возникнуть «групповщина» среди русских на Украине, но такая групповщину нельзя принимать за данность.90 Формальные институционализация и кодификация этнических и национальных категорий совсем не подразумевает глубины, резонанса или силы таких категорий в жизненном опыте категоризируемых таким образом людей. Сильно институционализированная этнонациональная классификационная система делает определенные категории легко и законно доступными для представления социальной реальности, обрамления политических требований и организации политического действия. Само по себе это является фактом большого значения, без соответствующей ссылки на который развал Советского Союза понять невозможно. Но из этого и не следует, что данные категории будут играть в повседневной жизни важную роль в обрамлении восприятия, ориентировании действия или оформлении самосознания – роль, подразумеваемую даже конструктивистскими работами по «идентичности». Степень, до которой официальная категоризация формирует самосознание, степень, до которой населенческие категории, учрежденные государствами или политическими деятелями, приближаются к реальным «группам», являются открытыми вопросами, к которым можно обращаться лишь эмпирически. Язык «идентичности» скорее мешает, чем способствует постановке таких вопросов, так как он размывает то, что должно оставаться четким: внешнюю категоризацию и самосознание, объективную общность и субъективную групповщину. Наконец, рассмотрим еще один, не советский пример. Граница между венграми и румынами в Трансильвании определенно является более резкой, чем между русскими и украинцами на Украине. Однако здесь также групповые границы значительно более пористы и двусмысленны, чем обычно принято считать. Язык как политики, так и повседневной жизни, конечно же, является строго категорийным, разделяющим население на взаимоисключающие этнонациональные категории и не учитывающим смешенные или неоднозначные формы. Но этот категорийный код, важный, так как он является образующим элементом общественных отношений, не следует принимать за их истинное описание. Усиленный с обеих сторон идентитарными деятелями, категорийный код скрывает столько же, сколько он раскрывает в отношении самосознания, маскируя текучесть и двусмысленность, возникающие из смешанных браков, двуязычности, миграции, посещения венгерскими детьми румыноязычных школ, межпоколенческой ассимиляции (в обоих направлениях) и – что, вероятно, самое важное – из острого неравнодушия к требованиям этнокультурной национальности. Даже в конструктивистском облачении язык «идентичности» склоняет нас к размышлениям, основывающихся на ограниченной групповщине. Происходит это потому, что даже конструктивистское осмысление идентичности принимает существование идентичности как аксиому. Идентичность всегда уже «присутствует» как нечто «имеющееся» у отдель20 ных людей и групп, даже если содержание определенных идентичностей и границы, разграничивающие группы одну от другой, как всегда концептуализированы в потоке. Таким образом, даже конструктивистский язык стремится объективизировать «идентичность», рассматривать ее как «вещь», хотя и гибкую, которую люди «имеет», «выковывают» и «выстраивают». Данная тенденция объективизировать «идентичность» лишает нас аналитической системы рычагов. Это затрудняет нам возможность рассматривать «групповщину» и «ограниченность» скорее как возникающие качества конкретных структурных и конъюнктурных установок, чем всегда уже существующие в той или иной форме. Выделение данного вопроса сегодня актуально как никогда, так как неотразимо групповой язык, превалирующий в обиходе, журналистике, политике, а также в большей части общественных исследований – например, привычка говорить без квалифицирования «албанцев» и «сербов», как если бы они были резко ограниченными, внутренне гомогенными «группами» – не только ослабляет социальный анализ, но и сужает политические возможности в регионе. Претензии на идентичность и затянувшиеся «расовые» дилеммы в Соединенных Штатах В последние десятилетия язык идентичности обрел в Соединенных Штатах особую силу. Он выделяется и как идиома анализа в общественных и гуманитарных науках, и как идиома, с помощью которой артикулируется опыт, мобилизуется лояльность и формулируются символические и материальные требования в повседневной общестивеннополитической практике. Пафос и резонанс в отношении претензий на идентичность в современных Соединенных Штатах имеют много источников, однако наиболее мощным из них является центральная проблема американской истории – ввоз африканских рабов, продолжительность расовых притеснений и реакция на них со стороны афроамериканцев. Афроамериканский «расовый» опыт, как навязанная категоризация и самоидентификация, важен не только сам по себе, но с конца 1960-х гг. и как шаблон для претензий на идентичность любого рода, включая относящуюся к полу, сексуальной ориентации, а также основанную на «этнической принадлежности» и «расе».91 В ответ на обрушившиеся за последние три десятилетия идентитарные требования трансформировались и публичные рассуждения, политические споры и научные подходы почти в любой области общественных и гуманитарных наук. В данном процессе немало ценного. Учебники истории и превалирующие публичные повествования стали давать более богатый и содержательный материал, чем поколение назад. Обманчивые формы универсализма – марксистская категория «трудящегося», который всегда выступает как мужчина, либеральная категория «гражданин», который оказывается белым – стали очень уязвимыми. Сами идентитарные претензии «первого поколения» – и наполненная ими научная литература – стали критиковаться за их слепоту по отношению к очевидным особенностям: афроамериканские движения – за деятельность, игнорирующую проблемы пола афроамериканок, феминистки – за фокусирование внимания на белых женщин из среднего класса. Конструктивистские доводы оказали определенное внимание на круги американистов, позволив ученым сделать акцент на современном значении навязанных идентификаций и самосознаний, развившихся в диалектическом взаимодействии с ними, при подчеркивании, что такие «группы» – самоидентифицированные и идентифицированные другими – являются не изначальными, но созданными исторически. Прекрасным примером служит трактовка понятия расы в историографии Соединенных Штатов.92 Даже до того, как «об21 щественное строительство» стало модным выражением, ученые показывали, что, будучи далеко не заданной величиной американского прошлого, раса как политическая категория возникла в тот же самый момент, что и американские республиканские и популистские импульсы. Эдмунд Морган считал, что в начале восемнадцатого века в Виргинии субординация между белой законтрактированной прислугой и черными рабами была не сильно дифференцированной; иногда они выступали совместно. Только когда элита виргинских плантаторов начала мобилизовываться против британцев, им понадобилось провести четкую границу между политически включенными и исключенными; а факт, что черные рабы были, как работники, более многочисленными и заменяемыми, а в качестве политической поддержки – не внушающими особого доверия, привел к разграничению, которое белая беднота могла, в свою очередь, использовать для выдвижения требований.93 С того времени историки зафиксировали несколько ключевых моментов переопределения расовых границ в Соединенных Штатах – и несколько пунктов, при которых прочие виды связей продемонстрировали возможность возникновения других типов политической принадлежности. «Белый» и «черный» явились историческими созданными и исторически изменчивыми категориями. Тем временем историки-компаративисты показали, что создание расы может принимать гораздо более разнообразные формы и что многие люди, считавшиеся по североамериканской классификации «черными», в остальных частях Америки могли бы рассматриваться бы по-другому.94 Таким образом, американская история раскрывает большую роль насильственной идентификации, но также и раскрывает сложность самосознания людей, определенного обстоятельствами, которые они не контролировали. Коллективное самосознание до Гражданской войны определенным образом связывало черных американцев с Африкой – часто рассматривая африканское (или «эфиопское») происхождение как нечто, располагавшее их в непосредственной близости к центрам христианской цивилизации. Однако ранние движения за возвращение в Африку часто усматривали в ней культурную tabula rasa, либо некую павшую цивилизацию, вновь обретаемую афроамериканскими христианами. 95 Утверждение себя в качестве диаспорового «народа» не обязательно предполагало требования культурной общности – с тех самых пор отношения этих двух концепций друг с другом находятся в напряженном состоянии. Историю афроамериканского самосознания можно писать как временной «подъем» черного национализма, либо можно исследовать взаимодействие такого чувства коллективности с попытками афроамериканских активистов артикулировать различные виды политических идеологий и развить связи с прочими радикалами. Наиболее важным является рассмотрение ряда возможностей и серьезности, с какой они дебатировались. Проблематичным является не исторический анализ общественного строительства как такового, но предположения о том, что строится. В качестве типичного объекта строительства берутся именно «белокожесть» и «раса», а не другие, более свободные формы сходства и общности. Намерение писать об «идентификациях», как они появляются, кристаллизуются и постепенно исчезают в определенных общественно-политических обстоятельствах, может скорее привести к другой истории, чем намерение писать об «идентичности», связывающей одним словом прошлое, настоящее и будущее. Космополитические интерпретации американской истории критикуются за облегчение реального исторического опыта: в первую очередь не учитывается вся боль рабства и дискриминации, а также борьбы против рабства и дискриминации – история афроамериканцев, не разделяемая белыми американцами.96 Здесь происходит сильный резонанс призывов к пониманию особенности опыта, но здесь же появляется серьезная опасность выравнивания истории до статической и единственной «идентичности». Такое выравнивание может иметь свои плюсы и минусы, что ясно продемонстрировали внимательные участ22 ники дебатов по расовой политике.97 Но для дальнейшей классификации в рамках групповой категории «идентичности» исторический опыт и якобы общие «культуры» других «групп», таких же несопоставимых как женщины и пожилые люди, американские индейцы и гомосексуалисты, бедные и инвалиды, ни коим образом не являются более уважительными к боли конкретной истории, чем универсалистская риторика о справедливости и правах человека. А приписывание индивидов к таким «идентичностям» оставляет многих людей – с неровной траекторией происхождения и разнообразием культурообразующих инноваций и адаптаций – зажатыми между не совсем подходящей жесткой идентичностью и мягкой риторикой гибридности, разнообразия и текучести, что не дает ни понимания, ни утешения.98 Остается вопрос, можем ли мы обращаться к сложности истории – включая изменчивость, с какой внешние категоризации клеймят и унижают людей и придают им всеразрешающее чувство коллективного «я» – на более гибком и дифференцированном языке. Если реальный вклад конструктивистского общественного анализа – что сходства, категории и субъективности развиваются и изменяются во времени – будет принят серьезно и не сведен к презентистскому, телеологическому сообщению о построении существующих на данный момент «групп», тогда ограниченную групповщину нужно понимать как случайное, возникающее свойство, а не данную аксиому. Репрезентация современного американского общества ставит аналогичную проблему – избежания плоских, упрощенных сообщений об общественном мире как многоцветной мозаике одноцветных групп идентичности. Данная концептуально обедненная идентитарная социология, в которой «пересечение» рас, классов, полов, сексуальных ориентаций и, возможно, одной или нескольких других категорий создает набор универсальных концептуальных кубиков, заняла в американских ученых кругах 1990-х годов видное положение – не только в общественных науках, культурологии и этнологии, но также в литературе и политической философии. В оставшейся части настоящего раздела мы сместим свой угол зрения и рассмотрим последствия использования данной идентитарной социологии в области философии. «Моральная философия, – писал Алисдер Макинтайр, – предполагает социологию»;99 то же a fortiori относится к политической теории. Проблема в основном современной политической теории заключается в том, что она строится на спорной социологии – более точно: на группоориентированном представлении упоминавшегося общественного мира. Здесь мы не противопоставляем «универсальность» «частности». Скорее, мы считаем, что идентитарный язык и групповая социальная онтология, наполняющая современную политическую теорию, скрывают проблематичный характер самой «групповщины» и исключает другие пути концептуализации определенных сходств и принадлежностей. В настоящее время имеется значительное количество литературы, критикующей идею универсального гражданства. Вместо этого Айрис Марион Янг, одна из наиболее влиятельных критиков, предлагает идеал дифференцированного по группам гражданства, построенного на групповом представительстве и групповых правах. Она считает, что понятие «справедливой общей перспективы является мифом. У различных общественных групп различные потребности, культуры, история, опыт и восприятие общественных отношений. Гражданство не должно пытаться выйти за такие различия, но признать их как «непреодолимые».100 Какого рода различия нужно санкционировать вместе с особым представительством и правами? Рассматриваемые вопросы ассоциированы с «общественными группами», определенными как «всеобъемлющие идентичности и образы жизни» и отличающиеся, с одной стороны, от простых совокупностей – произвольные классификации лиц по какомулибо атрибуту – и с другой – от добровольных объединений. Особые права и представи23 тельство будут предоставляться не всем общественным группам, но тем, кто страдает по крайней мере от одной из пяти форм притеснений. В современном американском обществе это означает «женщины, черные, коренные американцы (индейцы), чикано, пуэрториканцы и прочие испаноязычные американцы, американцы азиатского происхождения, гомосексуалисты, лесбиянки, рабочий класс, старики, а также психически и физически нетрудоспособные люди».101 Что образует «групповость» данных «групп»? Что делает их группами, а не категориями, вокруг которых могут, но конечно же не всегда кристаллизуются идентификации себя и других? Этого Янг не затрагивала. Она предполагает, что различные история, опыт и место в обществе наделяют данные «группы» различными «возможностями, нуждами, культурой и когнитивными методами», а также «различным пониманием всех аспектов общества и уникальными перспективами по социальным вопросам.»102 Социальная и культурная гетерогенность истолковывается здесь как соединение внутренне гомогенных, внешне ограниченных блоков. «Принципы единства», которые Янг отвергает на уровне государственного устройства в целом – так как они скрывают различия, – вводятся заново и продолжают скрывать различия, уже на уровне образующих «групп». В спорах о дифференцированном по группам или «многокультурном» гражданстве на карту поставлены важные вопросы, долго дебатируемые как за пределами, так и внутри академических кругов; все они так или иначе связаны с относительным весом и преимуществами универсалистских и партикуляристских преиензий.103 Социологический анализ не может и не должен пытаться разрешить этот нескончаемый спор, но в силах попытаться укрепить его часто шаткие социологические основания. Он может предложить более богатый запас слов для концептуализации социальной и культурной гетерогенности и частности. Выход за рамки идентитарного языка открывает возможности для определения других видов связи, другой идиоматики идентификации, других способов самосознания, других путей определения своего места в обществе. Перефразируя то, что Адам Пшеворски давно сказал о классах, культурная борьба является борьбой сначала борьбой за культуру, а уж затем борьбой между культурами.104 Активисты политики идентичности используют язык ограниченной группы не потому, что он отражает общественные реалии, а потому, что групповость является неоднозначной и спорной. Их групповая риторика имеет перформативную, образующую величину, способствующую, при ее успешности, созданию отстаиваемых ими групп.105 Здесь мы имеем глубокое расхождение между нормативными аргументами и активистскими идиомами, принимающими ограниченную групповость как аксиому, и историческим и социологическим анализом, подчеркивающим случайность, текучесть и изменчивость. На одном уровне существует реальная дилемма: сохранение культурных различий зависит, по крайней мере частично, от сохранения ограниченной групповости и, поэтому, от контроля «опции выхода», а обвинения в «уклонении» и предательстве своих корней служат дисциплинарными методами.106 Однако критики такой политики считают, что либеральное государственное устройство должно защищать индивидов от притеснений со стороны как общественных групп, так и государства. Хотя на уровне социального анализа данная дилемма не является необходимой. Перед нами не стоит насущный выбор между универсалистской, индивидуалистской аналитической идиоматикой и идиоматикой идентитарной, групповой. Обрамление выбора таким образом не учитывает многообразие форм (кроме ограниченных групп), которые могут принимать схожесть, общность и связность – поэтому мы делаем акцент на необходимости более гибкого словарного запаса. Мы отстаиваем не какую-либо конкретную позицию по политике культурных различий и индивидуального выбора, а словарный запас для социального анализа, помогающий открыть и разъяснить целый ряд альтернативных возможностей. Политика групповой «коа24 лиции», прославляемая, например, Янг и другими, конечно же имеет свое место, однако лежащая в основе данной конкретной формы коалиционной политики групповая социология – с ее допущениями, что ограниченные группы являются базовыми строительными блоками политических союзов – сужает политическое воображение.107 Ничто из вышесказанного не принижает важность текущих дебатов по поводу «универсалистских» и «партикуляристских» концепций социальной справедливости. По нашему мнению, идентитарное фокусирование внимания на ограниченную групповость никак не помогает в постановке таких вопросов; в некоторых отношениях споры обеих сторон основываются на неправильных представлениях. На самом деле нам не нужно выбирать между американской историей, выровненной относительно опыта и «культур» ограниченных групп, и историей, равным образом выровненной относительно единой «национальной» истории. Сведение гетерогенности американского общества и истории к многоцветной мозаике одноцветных групп идентичности скорее мешает, чем помогает пониманию прошлого и достижения социальной справедливости в настоящем. Вывод: частность и политика «идентичности» Мы не вступаем в спор по поводу политики идентичности. Тем не менее, это спор имеет как политическую, так и интеллектуальную подоплеку. В некоторых кругах подрыв основы для выставления партикуляристских претензий будет воспринят как регрессия. Это не является ни нашим намерением, ни правильным выводом из того, о чем мы написали. Убедить людей, что они являются единым целым; что они составляют ограниченную, особенную, солидарную группу; что из внутренние различия не имеют значения, по крайне мере для имеющихся целей – это нормальная и необходимая часть политики, и не только того, что обычно характеризуют как «политика идентичности». Но не все это политика; и у нас действительно есть замечания о способе, с помощью которого рутинное обращение к идентичности может воспрепятствовать использованию других в равной степени важных способов оформления политических требований. Однако мы не собираемся никого лишать «идентичности» как политического инструмента или ставить под сомнение законность политических призывов языком идентичности. Наши аргументы направлены скорее на использование «идентичности» как аналитического понятия. На протяжении всей статьи мы задавали вопросы: какую работу, предположительно должно выполнять данное понятие и как хорошо оно с этим справляется. Мы считаем, что это понятие применяется для выполнения большой аналитической работы – большая часть которой законна и важна. Однако «идентичность» для этой работы подходит плохо, т. к. она пронизана двусмысленностью, разорвана противоположными значениями и отягощена конкретизирующими коннотациями. Квалифицирование данного существительного цепочками прилагательных – устанавливая, что идентичность многообразна, расплывчата, вечно зависима от договоренностей и т. д. – проблему Оруэлла о попадании в плен к слову не решает. Оно дает не намного больше, чем суггестивный оксюморон – многообразное единство, жидкая кристаллизация, – но все так же требует ответа на вопрос: почему нужно использовать один и тот же термин для обозначения все этого и даже большего. Мы считаем, что альтернативные аналитические идиомы могут проделать необходимую работу без сопутствующей путаницы. Вопрос здесь не в легитимности или важности партикуляристских требований, а в том, как их лучше всего концептуализировать. Люди всегда и везде имеют определенные связи, самосознание, предания, траектории, историю, затруднения. И это все наполняет выставляемые ими различные требования. Однако, классифицирование таких всепроникаю25 щих частностей под выровненным, недифференцированным заголовком «идентичность» оказывает на ее непокорные и многогранные формы почти столько же давления, как и попытка ее классификации в рамках таких «универсалистских» категорий, как «интерес». Кроме того, толкование частности языком идентичности сужает как политическое, так и аналитическое воображение. Оно уводит в сторону от целого ряда возможностей политического действия, отличных от уже укоренившихся в якобы общей идентичности – и не только тех, которые восхваляются или проклинаются как «универсалистские». Например, защитники политики идентичности интерпретируют политическое сотрудничество как построение коалиций между ограниченными группами идентичности. Это лишь один из способов политического сотрудничества, и далеко не единственный. Например, Катрин Сиккинк и Маргарет Кек привлекли внимание к важности «систем транснациональных вопросов», от движения за отмену рабства в начале девятнадцатого века до международных кампаний последних лет за права человека, экологию и права женщин. Такие системы обязательно пересекают как культурные, так и государственные границы и связывают определенные места и партикуляристские требования с более широкими проблемами. Возьмем один пример. Движение против апартеида объединило южноафриканские политические организации, которые сами по себе были далеки от единства – некоторые разделяли «универсалистские» идеологии, другие называли себя «африканистами», третьи утверждали совершенно местную, культурно определенную «идентичность», – с международными церковными группами, профсоюзами, панафриканскими движениями за расовую солидарность, группы борьбы за права человека и т. д. В рамках общей системы отдельные группы приходили к договоренностям о сотрудничестве и выходили из них; иногда конфликт между противниками государства, основанного на апартеиде, принимал серьезный, даже смертельно опасный характер. После смены субъектов системы вопросы, стоявшие на повестке дня, были переформулированы. Например, в определенные моменты выделялись вопросы, подлежащие международной мобилизации, в то время как другие вопросы – сильно беспокоившие потенциальных участников – изолировались.108 Превознесение таких систем над более эксклюзивными идентитарными общественными движениями или групповыми требованиями нашей задачей не является. Внутренне системы не более эффективны, чем идентитарные движения сомнительны. Политика – и в Южной Африке, и повсюду – вряд ли представляет собой конфронтацию хороших универсалистов или хороших систем с плохими трайбалистами. Многое было разорено гибкими системами, выстроенными на патроно-клиентских отношениях и сфокусировавшимися на грабежах и контрабанде; иногда такие системы были связаны с политическими организациями «с твердыми принципами»; и часто они имели отношения с оружием и нелегальными торговыми посредниками в Европе, Азии и Северной Америке. Многообразные частности находятся в действии и нужно различать ситуации, где они согласуются вокруг определенных культурных символов, и ситуации, когда они гибки, прагматичны и легко продолжаемы. Употребление одних и тех же слов для крайних случаев конкретизации и текучести, а также для всего, что находится посредине, на точность анализа не влияет. Критика использования «идентичности» при социальном анализе не означает, что нужно ограничиваться лишь частностями. Скорее это более дифференцированное представление требований и возможностей, возникающих из частных схожестей и принадлежностей, из частных общностей и связей, из частных преданий и самосознаний, из частных проблем и трудностей. В последние десятилетия социальный анализ стал, в широком и долговременном плане, более чувствительным к частностям; а литература по идентичности внесла в это дело свой ценный вклад. Теперь пришло время выйти за рамки «идентичности» – не 26 во имя воображаемого универсализма, а во имя концептуальной ясности, требуемой как для социального анализа, так и для политического согласия. Благодарность Свою благодарность за ценные комментарии и предложения по более ранним черновым наброскам мы выражаем Жуже Беренд, Джону Боуэну, Джейн Бербанк, Маргит Файшмидт, Джону Фоксу, Маре Ловман, Йитке Малечковой, Петеру Стаматову, Лоику Уакканту, Роджеру Уолдингеру и редакции Theory and Society («Теория и общество»). Также мы выражаем благодарность Центру специальных исследований в области бихевиоризма, где настоящая статья зародилась в беседе во время обеденного перерыва, а также участникам коллоквиума отдела социологии UCLA (Университета Калифорнии в ЛосАнджелесе) и факультативного семинара по сравнительному изучению общественных преобразований в Университете Мичигана, где были представлены ранние версии данной статьи. И последнее слово благодарности нашим аспирантам, которые – не всегда соглашаясь – мужественно терпели наши вопросы о том, как они употребляют это вроде бы необходимое понятие. 27