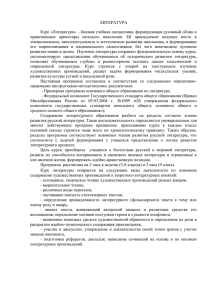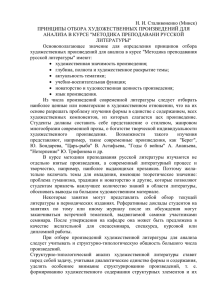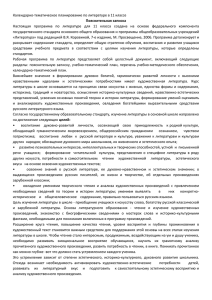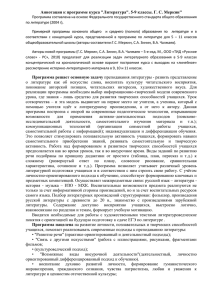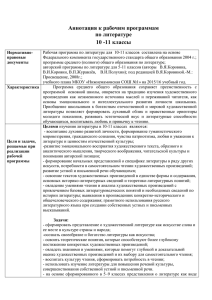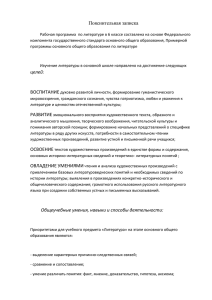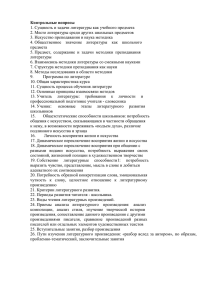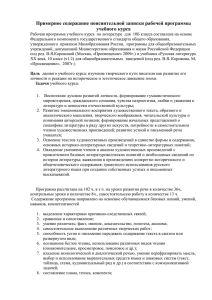ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ В.Е. ХАЛИЗЕВ О СОСТАВЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ И СПЕЦИФИКЕ ЕГО МЕТОДОЛОГИИ Слово “метод” (др. греч. méthodos: путь познания) имеет ряд значений. Одно из них первоначальное и поныне сохраняющееся — путь к цели. Этим словом нередко называют “совокупность приемов исследований” (32, с.197), т.е. “технику”, методику работы ученых. Но данный термин со времен Декарта имеет также иной, более глубокий смысл. Научная методология – это учение о подходе к объекту, о путях познания определенных аспектов мира, “подведомственных” какой-либо научной дисциплине. Понятие “научный метод” составляет предмет огромного количества философских и частнонаучных трудов. Здесь есть своя классика: от “Рассуждения о методе” (1637) Р. Декарта до труда Г.-Г. Гадамера “Истина и метод” (1960). В ХХ в. проблемы методологии обсуждаются весьма активно. Знаменательно появление в предреволюционной России коллективного труда “О научных методах” (СПб., 1911), а также (если обратиться к нашему предмету) монументальной монографии А.М. Евлахова (1910-1917), которая положила начало нескончаемому и порой весьма бурному потоку работ о литературоведческой методологии (хотя, заметим, этот поток в последнее время заметно иссяк). Методы литературоведения (как и других наук) “разноуровневы”. Во-первых, филологи опираются на общенаучную методологию и на методы, адекватные задачам определенной группы наук (в нашем случае – гуманитарных). Во-вторых, литературоведы используют (и досоздают) специфические методы собственной науки и ее отдельных областей. И 7 чем более дифференцировано научное знание, тем богаче и разнообразнее область его методологии. Множественность литературоведческих методов была ясно осознана в дореволюционной отечественной науке. Суждения на этот счет мы находим у А.Н. Веселовского. По его словам, методом “надо пользоваться умеючи, помня, что он не единственный” (9, с. 29). Впоследствии, в 10-е годы, идея множественности методов составила основу названной монографии А.М. Евлахова (12). В начале 20-х годов против методологического монизма, вразрез с требованиями революционной современности, выступил В.Н. Перетц: “Универсального метода нет, есть различные методы, путем коих мы изучаем, исследуем материал сообразно его качествам и поставленным заданиям. Методология каждой науки изучает и выясняет степень пригодности различных методов для получения научной истины” (21, с. 8). Ученый констатировал соответствие литературоведческих методов (их перечислено более десятка) различным граням литературной жизни. Были названы эстетический, историко-психологический, этический, сравнительно-исторический методы и др. Полвека спустя в подобном духе, оспаривая ставший привычным в советское время методологический монизм, решительно высказался М.М. Бахтин. Выразив весьма критическое отношение к разговорам “о каком-то “единоспасающем” методе в литературоведении”, ученый заметил: “Оправданы и даже совершенно необходимы разные подходы, лишь бы они были серьезными и раскрывали что-то новое в изучаемом явлении” (4, с. 330-331). В доперестроечные времена эти, казалось бы, спокойные академические фразы звучали как своего рода вызов господствовавшим стереотипам мышления. Состав науки о литературе. Произведение – центральный предмет изучения Ныне, как никогда ранее, наука о литературе “полиобъектна”, если так можно выразиться. Литературная жизнь в различных ее гранях является предметом целого ряда научных дисциплин с особыми, специфическими методами каждой из них. Литературоведению “подведомственны” не только словеснохудожественные произведения как таковые, но и многое другое: 1) процессы творческой деятельности писателей и их биографии; 2) сфера восприятия литературы читателями; 3) разного рода 8 литературные “общности” – жанры или национальные литературы, литературные эпохи; всемирная литература как таковая или эволюция художественных форм и творческих принципов и т.п. Литературоведение составляет при этом не конгломерат дисциплин, а некое их единство, имеющее определенный центр. Существующие опыты систематизации аспектов науки о литературе представляются недостаточными. Избыточно схематична и весьма неточна следующая привычная (см., например, учебник Л.И. Тимофеева) характеристика литературоведческих дисциплин: основополагающие – теория литературы, история литературы (с примыкающей к ней критикой); вспомогательные – текстология, библиография и др. Сфера конкретных литературоведческих исследований (именно она логически соотносима с теоретическими штудиями), однако, далеко не сводится к истории литературы. Подлежащая научному рассмотрению конкретика литературной жизни – это совокупность отдельных (единичных) словеснохудожественных произведений с их текстами и более крупных, неединичных феноменов (общностей) литературной жизни, будь то константы художественной словесности (мифологемы, архетипы) или собственно историко-литературные явления. При этом в составе науки о литературе первичным, исходным является постижение единичных словесно-художественных произведений, тогда как уяснение более широких и емких феноменов (в том числе истории литературы) вторично, производно: оно зависит от итогов рассмотрения отдельных художественных творений. В 40-е годы В.Кайзер справедливо утверждал, что главный, центральный предмет науки о литературе – поэтическое произведение как таковое, а все остальное (генезис литературного творчества, его воздействие на читателя, собственно история литературы) расположено вокруг этого центра (35, с. 180). Подобные мысли находим у Х. Зедльмайра (14, с. 57, 66). Ученые сосредоточились на словесно-художественных произведениях как таковых лишь в ХХ в. В опытах изучения словесного искусства в XIX столетии преобладал взгляд как бы сквозь произведения; внимание концентрировалось главным образом на том, что их обусловило и породило: мифы и предания, литературные и идейные влияния и заимствования, явления социальной психологии и общественной мысли, факты биографии писателей и т.п. Направленность взгляда ученых (или псевдоученых) преимущественно на 9 внелитературные феномены имела место и в ХХ столетии. Таково марксистское литературоведение, сосредоточенное на социальноклассовых истоках творчества писателей более, чем на нем самом. П.Н. Сакулин не без оснований сетовал, что наука о литературе стала лишь “служанкой истории и социологии” (24, с. 31). Свойственное началу ХХ в. движение научной мысли в сторону анализа самих словесно-художественных произведений дало о себе знать в работах ученых различной ориентации. А.М. Евлахов (ученик А.Н. Веселовского) в 10-е годы утверждал, что целью литературоведа являются сами “писания” автора, а все остальное, в том числе его жизнь, – лишь средство осуществления этой цели (12, т. 3, с. 415). В.Ф. Переверзев в предисловии в своей книге о Гоголе (1914) заявлял: “Мой этюд будет иметь дело только с произведениями Гоголя и ни с чем больше, стремясь проникнуть как можно глубже в изучение особенностей их формы и содержания” (19, с. 45). К 1923 г. относится весьма симптоматичная и весомая фраза А.П. Скафтымова: “Всякое генетическое рассмотрение объекта должно предваряться постижением его внутренне-конститутивного смысла” (25, с. 159). В том же роде высказывались о функциях художественных приемов представители “формальной школы”. “Каждый прием, – писал Б.В. Томашевский, – изучается с точки зрения его художественной целесообразности, т.е. анализируется: зачем применяется данный прием и какой художественный эффект им достигается” (27, с. 26). Ю.Н. Тынянов (предваряя структурализм) говорил о “соотне-сенности каждого элемента литературного произведения как системы с другими и, стало быть, со всей системой” и назвал этот феномен, достойный самого пристального внимания, “конструктивной функцией” приема (28, с. 272). Перенесение акцента с внелитературных факторов творчества на сами словесно-художественные творения побудило ученых к уяснению состава и структуры произведений, к интенсивной разработке теоретической поэтики, а также к раздумьям методологического характера – о путях постижения произведений в их сложности и глубине. Правомерно выделить три феномена в составе изучения литературного произведения. Это, во-первых, рассмотрение текстов как некой эмпирической данности, нередко требующее напряженной исследовательской работы (текстология). Во-вторых, это проблемносистематизирующее изучение художественной формы, т.е. ее описание и анализ на основе данных теоретической поэтики. И, наконец, в-третьих, это смыслопостижение, т.е. интерпретация. Опираясь на терминологию 10 М. Верли, суммируем сказанное об аспектах познания литературы: вопервых, это текстовая филология (Textphilologie); во-вторых, это интерпретирующая поэтика (Interpretierende Poetik), слагающаяся, в свою очередь, из описательно-аналитических процедур и интерпретаций как таковых; в-третьих, это история литературы (36, с. 14). Текстология, как справедливо говорят современные ученые, не является всего лишь вспомогательной и служебной дисциплиной; ее следует отнести к опорным областям литературоведения, располагающим своей собственной теоретико-методологической базой, весьма специфичной и достаточно надежной, что явствует из работ Г.О. Винокура, Б.В. Томашевского, Д.С. Лихачева, А.Л. Гришунина и ряда других ученых. Иначе обстоит дело в мире интерпретирующей поэтики. Здесь много теоретически и методологически непроясненного. Проблемы интерпретации Более или менее уяснены принципы рассмотрения словеснохудожественной формы. В значительной мере устоялись и признаны большинством ученых восходящие к античной риторике представления о трех ее основных аспектах, подлежащих анализу. Они закреплены словами: предметность (мир произведения, предметная изобразительность), художественная речь (стилистический и ритмикофонетический “пласты” формы) и, наконец, композиция (структура в узком и строгом смысле слова). Обладают достаточной определенностью и научные подходы к словесно-художественной форме: описание и систематизация ее элементов как “факторов художественного впечатления” (5, с. 47). Гораздо меньше познаны возможности и перспективы освоения содержания литературных произведений, пути проникновения в глубины художественных смыслов. Именно в области теории и практики интерпретаций таится, на наш взгляд, главная болевая точка литературоведческой методологии, на которой мы и сосредоточимся. Как известно, в составе восприятия и постижения литературных произведений (и “обычным” читателем, и искушенным филологом) не последнюю роль играют начала внерациональные, интуитивные, непосредственно эмоциональные. Этим и предопределяется недоверие к научности интерпретации, подогревающее нескончаемые дискуссии. Восприятие словесно-художественного творения как целого, имеющего эстетическую ценность и, главное, несущего некий смысл, порождает 11 ситуацию поистине драматическую. Литературоведы неотвратимо встают перед антиномией объективного и субъективного, рационального и интуитивного. Вне установки на полную достоверность высказываемого нет науки, а без эмоционально-оценивающего восприятия произведений нет пути к познанию его содержания. Преодолима ли эта антиномия? И не следует ли аналитикам художественных творений с порога отказаться от интерпретаций? Ответы на эти роковые вопросы литературоведения даются разные. Познавательный статус интерпретаций активно и, на наш взгляд, плодотворно обсуждался немецкими филологами (50-70-е годы), опиравшимися на учение о понимании (герменевтику). Труды этих ученых разнонаправленны. В ряде случаев постижение художественных смыслов выводилось ими за рамки научного знания. Так, Гуго Фридрих утверждал, что освоение произведений связано прежде всего с наслаждением, но не с областью познания как такового. И называл опыты рассмотрения словесного искусства “наслаждающейся наукой” (genieβende Wissenschaft), считая их частью самой поэзии (34, с. 8). В других случаях интерпретирующая деятельность рассматривалась немецкими учеными как причастная аналитике и собственно научному знанию. Такова главная установка Эмиля Штайгера. Подобно Г. Фридриху, ученый настаивал на том, что в составе интерпретаций неотъемлемо важны и даже первичны внерациональные начала. По его словам, интерпретирующая деятельность не в полной мере согласуется с научными установками и по своей сути соприродна скорее искусству, чем науке: истолкователю поэтического произведения подобает быть влюбленным в него (inniger Liebhaber) (40, с. 150). В то же время Штайгером вводится понятие “правильной интерпретации”, которая действительна (ist wahr), когда соответствует произведению, которое тоже действительно. Исходный субъективный опыт интерпретатора при этом служит интересам самого произведения: читательское чувство становится базисом собственно научной работы. Штайгер подчеркивает, что толкователю произведения не подобает повиноваться непосредственному впечатлению от него: он должен быть готовым оспорить себя текстовыми фактами, ибо художественное творение может быть понято только из него самого. Интерпретирующая деятельность, утверждает Штайгер, требует не только живого отклика на произведение, но также добросовестности, терпения, эрудиции (41, с. 355-358). 12 Работы Э. Штайгера (и тем более Г. Фридриха) отмечены односторонностью, а именно: бóльшим акцентом на “внерациональном” фундаменте интерпретаций, чем на их научно-познавательных аспектах. Малоубедительны “императив” влюблен-ности интерпретатора в творение искусства и представление о литературоведении как “наслаждающейся науке”; произведение может быть истолковано серьезно и глубоко при самом разном отношении к нему. Но ведущая методологическая установка “школы интерпретации” представляется верной и плодотворной: суждения об активной вовлеченности в интерпретирующую деятельность ее субъекта совершенно справедливы (Заметим, что на эту тему высказывался еще В.Г. Белинский.) Идеи Э. Штайгера были предварены А.П. Скафтымовым, который, намного обгоняя науку своего времени, в 1923 г. писал: “Исследователю художественное произведение доступно только в его личном эстетическом опыте. В этом смысле, конечно же, его восприятие субъективно. Но субъективность не есть произвол… Исследователь отдается весь художнику, только повторяет его в эстетическом переживании, он лишь опознает те факты духовно-эстетического опыта, которые развертывает в нем автор” (25, с. 142). “Школе интерпретации” во многом близка книга Х. Зедльмайра, говорившего о существовании двух наук об искусстве. Первая являет собой констатирующее изучение художественных форм: здесь при описании произведений не находится места их пониманию. Вторая наука об искусстве, лишь формирующаяся, является, по Зедльмайру, прежде всего понимающей; она весьма перспективна, но рискует оказаться аморфной, лишенной строгости и превратиться из науки в литературу; этой становящейся науке, по сути верной своему предмету, “необходимо придать форму” (имеется в виду последовательная рациональность, логическая упорядоченность суждений) (14, с. 55). Подобного взгляда на изучение художественных произведений придерживался Н.Мекленбург. Он ратовал за соединение в деятельности “критического интерпретатора” и непосредственного понимания, и строгой аналитики. Герменевтическое понимание (Verstehen) и аналитическое разъяснение (Erklähren), утверждал ученый, нераздельны (sind nicht zu trennen). При этом он решительно выводил за рамки “критических интерпретаций” непосредственно эмоциональные отклики на словесное искусство, если они лишены аналитического обоснования. Позиция литературоведа, по Н. Мекленбургу, – это не благоговейное созерцание произведения, не наслаждение им; интерпретатору-аналитику 13 подобает прежде всего рефлектирующее и даже отстраненное постижение произведений, которое, однако, имеет “понимающий” характер: “Мы должны не переживать, а понимать” (37, с. 49). Критическая интерпретация, считает ученый, требует не простого “вчувствования” в произведение (Einfühlung), а взгляда на него со стороны — “отчуждения” (Verfremdung) (там же, с. 46). Это последнее понятие, заметим, сродни бахтинскому опорному слову “вненаходимость”. Теоретико-методологические суждения Э. Штайгера, Х. Зедльмайра, Н. Мекленбурга (как и предварившего их А.П. Скафтымова) отвергают и волюнтаристский произвол, нередко присутствующий в интерпретациях, и самодовлеющую, “внеинтерпретационную” аналитику. Они констатируют и обосновывают взаимодополняющий характер интуиции и рациональности в деятельности литературоведа, сущностную согласуемость непосредственного чувства ученого и его логически упорядочного мышления. Всем этим выше названные работы ценны и поныне. Роль интуиции в науках об искусстве В теориях интерпретации, о которых шла речь, активно учитываются специфические черты гуманитарного знания и принципы герменевтики – то, что стало в начале ХХ в. предметом научнофилософских штудий В. Виндельбанда, Г. Риккерта, В. Дильтея, М. Вебера (см.: 11), В. Штерна (42); позже – Г.Г. Шпета и М.М. Бахтина, а также Г.-Г. Гадамера. Эти мыслители решительно отвергли традиционно-рационалистическое (в духе Декарта и Лапласа) представление о примате физико-математических наук в составе человеческого знания. Ими было прочно и надежно установлено, что методы естественных и гуманитарных наук принципиально различны и что это различие вытекает из разности их объектов: природа – дух и культура; общее – индивидуальное; ценностно-нейтральное – соотносимое с ценностями; безгласная вещь – личность как говорящее бытие. Естественные науки “бессильны перед… человеческой жизнью”, – этими простыми и ясными словами Х. Ортега–и–Гассет как бы резюмировал многочисленные штудии рубежа XIX-XX вв. о сущностной разнокачественности научного знания (18, с. 448). Благодаря трудам названных мыслителей стало очевидно, что в гуманитарном познании (искусствоведении и особенно в 14 литературоведении) интуиция играет гораздо большую и принципиально иную роль, нежели в науках естественных и математических. Если “безгласное бытие”, подведомственное наукам о природе, постигается посредством изначального рационально-аналитического вычленения из рассматриваемых общезначимых граней и аспектов – повторяемостей всякого рода, то для гуманитария, исследующего единичные явления, и в частности тексты с их неповторимыми смыслами, существенно нечто принципиально иное. Весь его познавательный акт направляется и сопровождается оценивающим восприятием избранного для изучения объекта. Здесь (в особенности при обращении к художественным творениям) интуиция – не только вспомогательный и служебный момент рациональности, что наличествует во всех областях науки, но также (и это главное!) первичный и исходный аспект познавательного процесса, нечто первостепенно значимое. “Всякое изучение ритмических явлений (в частности, изучение стиха) должно базироваться на непосредственном ритмическом впечатлении”, – утверждал С.М. Бонди. И замечал, что статистический метод (при всей его важности) недостаточен: подсчеты могут “установить только очень простые, примитивные закономерности” (имеется в виду рассмотрение отдельных текстов, а не состояние и эволюция стиховых форм). “Ритмическое же чувство несравненно тоньше, точнее, четче. Оно способно подметить самые сложные или слабо выявленные ритмические закономерности (7, с. 119-120). Интуиция в науках об искусстве – это, однако, не только эстетическое чувство и проявление художественного вкуса (о чем говорил С.М. Бонди), но также явленность “дальнозорких инстинктов” (А.А. Ухтомский), которые связаны со “строем” человеческой души, ценностными ориентациями и широкой нравственной сферой. Все это и составляет первооснову, фундамент аналитических интерпретаций. Но как ни очевидно участие непосредственного чувства ученого в процессе интерпретации, ему следует оставаться в “подтексте” аналитических операций. Словесное воплощение познанного литературоведом должно быть рационально строгим, логически упорядоченным. Из научного изложения, как верно заметил М.Л. Гаспаров, интуицию следует решительно изгнать (10, с. 471). Рациональны, однако, не одни только текстовые воплощения познанного. При собственно научной установке само интуитивное восприятие словесно-художественного творения как целого подлежит “рационализации”. Здесь возникают самые предварительные суждения, необходимые ученому для его дальнейшей работы как аналитика. 15 Умственная рефлексия литературоведа (говоря иначе) имеет своим предметом не только художественно-текстовую данность, но и данность самого восприятия. Читательская интуиция и интерпретационный разум идут рука об руку. И в результате словесно-художественный текст постигается как единство открове-ния и сокровения его смысла и стоящей за ним личности творца. Рациональные и интуитивные начала, как видно, в равной мере необходимы в познании литературных произведений. Абсолютизация первой из этих гносеологических граней интерпретирующей деятельности в ущерб второй способна обернуться бесплодной механистичностью; переоценка роли интуиции чревата вненаучным произволом. При этом ratio ученого, обратившегося к словеснохудожественному произведению, вторично по отношению intuitio. Аналитический разум развивает и углубляет данные непосредственного чувства, и таким образом познавательный процесс достойно завершается. Иными словами, путь, по которому движется сознание интерпретаторааналитика, пролегает от специфически гуманитарного сплава интуитивного и рационального (где преобладает первое) к более строгой, общенаучной, понятийной рациональности, благодаря которой познание достигает своей вершинной точки. Литературоведческая рациональность составляет нескончаемо становящийся в единичных “интерпретационных действиях” центр работы ученых. Но этот центр обретает реальное бытие только в тех случаях, когда наличествует фундамент деятельности интерпретаторааналитика, в котором решающая роль принадлежит интуиции. Содержательность художественной формы (пути изучения) Понятие, наиболее важное для собственно научного смыслопостижения, – содержательность художественной формы. Оно вошло в мир искусствоведения на рубеже XIX-XX столетий (gehalterfüllte Form у Й. Фолькельта) и закрепилось в отечественном литературоведении (значительно позже) благодаря М.М. Бахтину, который в конце 20-х годов писал: “В каждом мельчайшем элементе поэтической структуры… мы найдем химическое соединение познавательного определения, этической оценки и художественнозавершающего оформления” (6, с.156). Оперируя словосочетаниями “содержательная форма”, “оформленное содержание”, 16 “формообразующая идеология”, ученый утверждал, что художественной форме нужна “внеэстетическая весомость содержания” (5, с. 34). Рассмотрение содержательной формы единичных литературных произведений, как это явствует из сказанного, неизменно оказывается субъективно окрашенным. Подобно тому как словесно-художественный текст запечатлевает черты его творца, интерпретация произведения – это след личности и мироотношения филолога. Лишенная этого свойства аналитика рискует оказаться механистической, скользящей по поверхности творений искусства. Так вырисовывается одна из существенных сторон литературоведческой методологии. Это – активная вовлеченность личности ученого в им вершимые познавательные процессы, вовлеченность именно его личности, а не только интеллекта. Эксперименты над животными и растениями, наблюдения над ними и неживой природой, интеллектуальные построения математиков тоже, конечно, осуществляются личностями. Но в работах математиков и “естественников” их мироотношение, ценностные ориентации, эстетические пристрастия не обнаруживаются. Рассмот-рение же художественных творений (как и всего единично ценного) – дело иное. И в выборе объекта изучения, и в самом его постижении здесь очень многое определяется эстетическими, а также нравственными, религиозными, философскими представлениями ученого. Литературоведческая субъективность не только не препятствует научности создаваемых работ, но, напротив, ее стимулирует. “Настоящему, призванному филологу, – пишет С.Г. Бочаров, – надлежит быть также писателем. Литературоведение — это тоже литература” (8, с. 610). Уточним это — не художественная литература в прямом смысле слова (хотя образность ей вполне доступна), не публицистика (хотя этот компонент вполне может в ней присутствовать), и тем более – не эссеистски-игровая критика. Литературоведческие штудии устремлены к постижению тайн словесного искусства, присутствующих в нем “сгустков” челове-ческого опыта — непосредственного жизненного, нравственного, философского, религиозного. В связи с этим достойны внимания слова Андрея Платонова о толкованиях литературных произведений, суть которых – “дальнейшая разработка богатства темы, найденного первым, “основным” автором… “довыработка” недр, дальнейшее совершенствование мысли автора” (20, с. 209). Таким образом, интерпретационные штудии несут в себе начало подлинной научности, а в то же время (в своих высоких образцах) 17 выходят за рамки собственно науки в общегуманитарную сферу, оказываясь подобиями самих художественных созданий, ибо личностны и миросозерцательно значимы. Сошлемся еще раз на А. Платонова: наука действует, “не заботясь о той сущности, где хранится тайна мира” (20, с. 247). И заметим, что аналитики творений искусства (как и сами создатели) к заботам подобного рода причастны. Именно это придает их деятельности культурно-историческую весомость. Спорное в методологии анализа и интерпретации Интерпретирующая аналитика, ориентирующаяся на понятие содержательной формы и предполагающая активную вовлеченность в познавательный процесс ее субъекта, – это едва ли не важнейший для литературоведения научный метод. Он в полной мере отвечает гуманитарной специфике литературоведения. Однако этот методологический подход не является единственным при рассмотрении произведений и признается далеко не всеми: существуют по меньшей мере еще два. Во-первых, это самодовлеюще-описательный подход к произведению исключительно как к тексту. Такой метод устраняется от рассмотрения художественного содержания, игнорирует интерпретацию, с порога отметает интуицию ученого. Подобного рода изучение литературы опирается на методологию негуманитарных, естественных наук. Говоря об этом литературоведческом методе (его правомерно назвать сциентистским), стоит вспомнить ряд феноменов: это – А.М. Евлахов, выступивший против разграничения Г. Риккертом наук о природе и истории (12, т. 1, с. 61); это – родственные репликам тургеневского Базарова слова В.Б. Шкловского о том, что “старую форму нужно изучать как лягушку” (30, с. 125); это – ориентация Б.И. Ярхо на метод биологических наук (32, с. 212); это – суждение структуралиста Ц. Тодорова о том, что интерпретация произведений находится вне пределов научной поэтики (26, с. 41); это – слова Ю.М. Лотмана о том, Заметим, что К. Леви-Стросс (тоже структуралист) придерживался иной точки зрения, нежели Тодоров. Он считал рассмотрение смысловой глубины литературных произведений достойным предметом науки, упрекал формалистов за потерю содержания, которое, по его мысли, открывается ученому как синтезирование данных анализа: “Анализ испытывается синтезом. Если синтез оказывается невозможным, значит, анализ был неполным” (15, с. 25). 18 что ныне на первый план выдвигаются не личные вкусы, опыт, темперамент ученого, а “типовая методика анализа” (17, с. 6). С предельной, даже вызывающей жесткостью отверг изучение художественных смыслов Р. Барт, усмотревший в классических текстах “полчище смертоносных стереотипов”, “тошнотворное месиво расхожих мнений” (3, с. 227). Во-вторых, существуют вненаучные интерпретационные опыты, не опирающиеся на анализ. Они запечатлевают читательский отклик на произведение, но не притязают на доказательность суждений и могут оказываться произвольно субъективными, отдавая дань “интерпретационному авантюризму”. Однако подобные опыты нередко становятся познавательно значимыми (каково, к примеру, эссе М.И. Цветаевой “Пушкин и Пугачев”). В этом же русле – едва ли не большая часть символистских критико-литературоведческих штудий (Вяч. Иванов, Д.С. Мережковский, ранний К.И. Чуковский и др.), которые сохраняют свою культурную значимость и поныне. На наш взгляд, для литературоведения предпочтительнее опора на специфичные для гуманитарных наук подходы (по меньшей мере – их активный учет). Присоединимся к Д.С. Лихачеву; по его убеждению, интерпретация, опирающаяся на анализ, – это стержень науки о литературе, ее гибкий, лишенный твердости центр, окруженный более точными научными дисциплинами, каковы – изучение биографии, история текста, стиховедение (16, с. 30). Постижение художественных смыслов, конечно же, чревато риском отступления от строгой научности. Но идти навстречу подобной опасности необходимо. Литературоведу (воспользуюсь самохарак-теристикой О.Э. Мандельштама) подобает быть не в последнюю очередь “смысловиком”. Имманентно-текстовый и контекстуальный анализ произведения Весьма существенной гранью методологии аналитических интерпретаций является соотношение между имманентно-текстовым и контекстуальным рассмотрением произведений. В общей стратегии литературоведения изучение текста как такового первично по отношению к рассмотрению всего ему внеположного. Этот постулат был четко сформулирован А.П. Скафтымовым, ратовавшим за “имманентный анализ”: “Только само произведение может за себя говорить. Ход анализа и все заключения его должны имманентно вырастать из самого 19 произведения” (25, с. 139). В то же время для объемного и устремленного к полноте постижения художественного создания необходимо соотносить его с иными явлениями литературно-художественной жизни, а также с феноменами и фактами первичной реальности. Еще Ф. Шлейермахер отмечал, что герменевтическое рассмотрение “не изолировано, а широко контекстуально” (39, с. 224). Много позже Х. Зедльмайр утверждал, что изолированному рассмотрению произведений следует предпочесть их “сравнительное описание” (14, с. 74). И с этим трудно не согласиться. Контекст, в котором создается и бытует произведение, бесконечно широк и разнороден. В составе “авторского” контекста, т.е. того, что находилось в кругозоре писателя к моменту творческого акта, весьма существенна совокупность внутрилитературных фактов, которым придал решающее значение М.Л. Гаспаров. По его словам, художественная литература, будучи “самостоятельным… явлением объективной действительности”, не должна пониматься и изучаться “как отражение или выражение каких-либо внелитературных явлений”. Ученый весьма решительно заявил: “Что литературный источник первичен, а жизненный – вторичен, должно быть для литературоведа аксиомой” (10, с. 470, 480). Нам представляется, что соотношения между внутрилитературной и внелитературной сторонами “авторского” контекста могут быть различными, но априорно отдавать лидирующую роль именно первой — нет оснований. Внелитературные факторы безусловно и открыто, демонстративно доминируют в творчестве таких писателей первого ряда, как О. де Бальзак, Ч. Диккенс, Н.В. Гоголь, Н.А. Некрасов, Л.Н. Толстой, М.М. Пришвин, А.П. Платонов. Прислушаемся к Н.С. Арсеньеву: звуки пушкинской поэзии вдохновлялись русской и мировой литературой, “но еще, может быть, больше – кремлевским пожаром, снегами и битвами 1812 года, и судьбами русского народа, и… русской деревней и няней” (1, с. 85). Литературные и первично-жизненные явления, составляющие кругозор писателей, — такова сфера генезиса литературного творчества. Эти явления способны входить в произведения: первые – в облике заимствований и реминисценций, вторые – в качестве тем и идей (философских, религиозных, эстетических, нравственных и т.п.) или же компонентов мира произведений, каковыми являются жизненные аналоги художественной образности и единичные реалии природы, культурной жизни, быта. Однако к феноменам, стимулирующим творчество писателей, его контекст не сводится. Имеет место также то, что В.М. Жирмунский 20 называл типологическими аналогиями (конвергенциями) (13, с. 138), которые можно назвать “внеавтор-ским” контекстом его произведений. Типологические подобия изучаемому произведению находятся и в предшествующем ему литературном опыте, и в последующем. То и другое достойно пристального внимания интерпретатора-аналитика, так как высвечивает меру оригинальности произведения, его неповторимое своеобразие и художественную ценность. Контекст литературного произведения (как “авторский”, так и более широкий, внеположный кругозору писателя) может изучаться поразному. Широко бытуют (ныне нередко под флагом изучения интертекстуальности) самодовлеюще описательные штудии, лишь констатирующие всяческие подобия и схождения. Если этим методом ученый ограничивается, то литературные факты рискуют предстать усредненными, свестись к неким стереотипам; при этом литературное творчество (которое эпохально, национально, индивидуально и бесконечно разнообразно) редуцируется до всегда одинаковой, равной себе топики. Более перспективным представля-ется уяснение различий между типологически подобными литературными фактами, ибо оно способно пролить свет на отличительные, неповторимо индивидуальные черты изучаемого произведения. Таковы контуры контекста творчества писателя и перспективы его рассмотрения. Наряду с контекстом творчества писателя для литературоведа значим и контекст его восприятия: совокупность читательских, литературно-критических, художественных, научных, публицистических, а также издательских откликов на произведения. Обращаясь к этому кругу фактов, интерпретатор-аналитик вступает в насущный для него и познавательно плодотворный диалог с чужими мнениями о предмете изучения. Литературоведу, как хорошо сказано в рецензии И.Б. Роднянской на книгу С.Г. Бочарова “Сюжеты русской литературы” (1999), “важно поместить себя в полилог голосов, сгруппировавшихся вокруг “испытуемого” текста, не остаться рядом с ним в идеологическом авторитарном одиночестве” (23, с. 218). Максимум внимания к самому произведению, к подробностям, оттенкам, нюансам его текста, но одновременно и к контексту творчества писателя в его разнокачественности и многоплановости – такова методологическая стратегия аналитических интерпретаций, которая способна делать их адекватными. Однако при верности ученых этой стратегии и при других достоинствах (художественный вкус, дар аналитика, эрудиция, выработанные профессиональные навыки) 21 исчерпывающая полнота знания о творениях искусствах все же недостижима. На этот счет достаточно убедительно высказался Х. Зедльмайр. Исходя из того, что цель интерпретатора – уловить неуловимое в сети созерцания и на этой основе “передать это неуловимое словами”, ученый делал вывод: исследование отдельного произведения никогда не оказывается абсолютно завершенным, исчерпывающе полным, ибо со временем могут быть уяснены, всплыв в научном сознании, какие-то новые пласты художественного творения (14, с. 119, 242). Согласившись с этим, заметим, однако, что главной причиной “извечной” неполноты знаний о произведениях искусства является наличие в них “зон неопределенности”: и в формально-текстовых гранях, и, в еще большей степени, в содержательно-смысловой стороне. Не обладает определенностью и контекст литературного произведения. О том, что воздействовало на творческий акт писателя, не полностью ведомо даже ему самому. Знаменателен иронический ответ В.В. Маяковского на вопрос анкеты, повлиял ли на него Н.А. Некрасов: “Неизвестно”. О точности литературоведения В творениях искусства неминуемо присутствует нечто ускользающее от рационального сознания авторов, читателей, литературоведов, даже самых серьезных и глубоких. Художественное произведение являет собой одновременно откровение его смысла и личности творца и сокрытие их. Именно это в конечном счете определяет границы возможностей литературоведения. Безоглядный интерпретационно-аналитический оптимизм (“пришел, увидел, исчерпывающе полно познал”) несостоятелен. Вряд ли был прав А.П. Скафтымов, утверждая, что в литературном произведении наличествует “определенный и единый смысл”, вполне доступный добросовестному аналитику, который внимателен к художественному целому и его элементам (25, с. 143); зоны смысловой неопределенности остались вне поля зрения ученого. В связи со сказанным обратимся к широко бытующему понятию точности научного знания. Для ученого — это отнюдь не исчерпывающая осведомленность о предмете. Она являет собой соответствие суждений (их адекватность) определенному комплексу свойств изучаемого объекта. Точность в этом, можно сказать, строгом значении слова не только не исключает, но, напротив, предусматривает 22 неполноту и приблизительность знаний о предмете. Она всегда относительна, может быть большей или меньшей. Задача науки – сокращать, сужать зону приблизительности. И здесь (приходится признать) интерпретационно-аналитическая деятель-ность обладает меньшими возможностями, чем иного рода литературоведческие штудии (например, изучение эволюции художественных форм или текстов как эмпирической данности), а также науки негуманитарные. Еще раз прислушаемся к Х. Зедльмайру: “Живой организм произведения невозможно постигнуть с точностью”, которая имеет место “при познании мертвых вещей”. Отметив, что для разных областей науки об искусстве характерна различная мера точности, он утверждал: для искусствоведения крайне нежелательны как редукция точности, так и “ложная точность”, не соответствующая сущности изучаемого предмета (14, с. 241-242). Ориентация литературоведения на математические науки и на метод статистических подсчетов в ряде случаев дает бесспорно положительные результаты (таковы справедливо признанные образцовыми стиховедческие труды М.Л. Гаспарова). Однако подсчеты не гарантируют объемного постижения произведений. Они служебны и вспомогательны, составляя область не методологии, а методики исследования. По справедливым словам Б.И. Ярхо, статистический метод является лишь “подсобным”: “Самостоятельного существования он не имеет” (32, с. 234). Трудно согласиться с М. Гаспаровым, когда он, не вполне корректно ссылаясь на опыт Б. Ярхо, противопоставляет друг другу литературоведческие методы и статистические (10, с. 474), вынося тем самым за рамки научной рациональности все, что не поддается подсчетам. Согласимся с современными учеными, которые, заметим, весьма успешно применяют статистическую методику: “количественные данные” значимы тем, что “дают обширный материал для историколитературных исследований” (2, с. 22). Да, подсчеты — это весьма существенный прием постижения художественной формы (в данном случае речь идет о лексическом пласте), но не магистральный путь ее изучения: качественные показатели дают лишь материал для исследования. Справедливо и другое суждение той же группы ученых, фиксирующее границы статистического метода: “Наша методика не универсальна. Она не пригодна для анализа отдельного стихотворения или небольшого цикла стихотворений… сравнительно небольшое количество слов почти исключает применение статистики” (там же). 23 Согласившись со сказанным по существу, заметим, однако, что статистические методы несостоятельны в применении к отдельным произведениям не столько в силу недостаточности в них количества слов, сколько из-за их несоответствия природе интерпретирующей деятельности: у математических методов нет подхода к неповторимо единичным текстам, несущим уникальный смысл. Литературоведение и смежные научные дисциплины Аналитические интерпретации (как и наука о литературе в целом) нуждаются в разных свободно избираемых или заново разрабатываемых подходах к произведениям. Выбор метода литературоведом не является актом своеволия или данью случаю. Нет оснований соглашаться с эпатирующим тезисом немецкого литературоведа: “Выбор метода в науке так же свободен, как в эротике” (38, с. 115). Научный метод выбирается лишь соответственно предмету исследования и перспективам его дальнейшего познания. Литературные произведения властно побуждают их толкователей обращаться к самым разным научным дисциплинам. Так, стилистика, фоника и ритмика не могут быть адекватно поняты вне привлечения данных лингвистики (работы по истории языка, его лексическом составе, просодии национальных языков и т.п.). Подобным же образом предметно-изобразительная сторона произведения (его внутренний мир) не поддается изучению с помощью исключительно “внутрилитературоведческих” понятий; требуется обращение к данным иных наук, прежде всего – к истории: художественная образность неизменно порождается ее жизненными аналогами (см.: 29). И, наконец (здесь едва ли не самое главное), постижение смысла (содержания, идеи, концепции) произведения настоятельно требует от ученого своего рода гуманитарной энциклопедичности. Ведь художникам слова есть дело решительно до всего; они живут и дышат представлениями и мыслями самого разного рода: культурно-историческими, нравственными, религиозными, философскими. И в их творениях так или иначе преломляются вошедшие в их сознание внехудожественные феномены в их бесконечном многообразии. Аналитические интерпретации междисциплинарны — как ни привлекателен своей простотой и ясностью лозунг “чистого” литературоведения. Само словесно-художественное произведение побуждает толкователя проявлять себя в качестве гуманитария широкого 24 профиля. Литературоведение (и в его центральном, интерпретационноаналитическом звене, и в иных своих гранях) открыто иным наукам и философии. Пристальное внимание к данным смежных областей знания и их вовлечение в собственную деятельность – это своего рода методологический императив, властвующий над литературоведением. Для науки о литературе крайне нежелательны не только “абсолютный” изоляционизм, но также ориентация исключительно на одну из смежных дисциплин, каковы лингвистика, семиотика, учение о мифе и ритуале, социология, история общественной мысли, психология, религиоведение, нравственная философия, онтология и т.п. Иерархическое “выпячивание” какой-либо одной области знания как единственно насущной для литературоведения в ущерб всем иным методологически несостоятельно. Наука о литературе подобна губке. Одна из важнейших ее черт – активное и плодотворное “впитывание” в себя внеположных ей познавательных данностей. И это опять-таки ставит литературоведение перед серьезнейшими трудностями, ибо в каждой из областей научного знания немало своих нерешенных вопросов, спорных концепций, дискуссионных положений. Тем не менее междисциплинарные контакты необходимы для литературоведения. Они составляют неоценимое благо для нашей науки, открывают путь к широким обобщениям общегуманитарной значимости. Важно только, чтобы эти контакты не отодвигали на второй плане, не оттесняли на периферию специфические начала литературоведения, его филологичность. Об этом убедительно говорил Н. Фрай: постулаты науки о литературе надо вывести из нее самой, а не из теологии, философии. политики, естественных наук или из смешения этих дисциплин; для литературоведа неприемлем какой-либо детерминизм: исторический, марксистский, фрейдистский, экзистенциалистский и т.п. (33, с. 13). Филологам (добавим к сказанному канадским ученым) подобает держаться подальше и от Харибды подчинения диктату смежных научных дисциплин, и от Сциллы гипертрофированного “спецификаторства”, оборачивающегося бесплодным изоляционизмом. Между тем крайности подобного рода давали о себе знать едва ли не во всех литературоведческих школах ХХ столетия. Сосредоточиваясь на ранее недостаточно изучавшихся явлениях, разрабатывая соответствующие методы, ученые, создавшие школы, несомненно, обогатили литературоведение и порой весьма масштабно. Наиболее яркое свидетельство тому – опыты формальной школы, сказавшей много 25 неоценимо важного о поэтической форме (стилистика, фоника, ритмика), о художественной конструкции, об эволюции литературы (борьба между писателями разных поколений во имя обновления приемов). Наследие Б.В. Томашевского, Ю.Н. Тынянова, Б.М. Эйхенбаума, Р.О. Якобсона сохраняет свое значение и ныне. Вместе с тем направленческое литературоведение было склонно экстраполировать свои методы (насущные для решения локального комплекса задач) на все литературоведение. Так, в представлениях формальной школы поэзия всецело сводится к совокупности приемов, а эволюция литературы мыслится только как борьба за обновление формы. При этом от науки о словесном искусстве отсекаются многие важные пласты литературной жизни: предметный слой произведений, их персонажная сфера и содержание, авторская позиция, литературная преемственность (традиция), внехудожественные стимулы творчества писателей. Подобным редукциям сферы литературоведения до отдельных его областей (пусть важных и актуальных) сопутствовало и возведение учеными в абсолют собственного метода при радикальном, с порога, отвержении всех иных. Новая методология провозглашалась в качестве общеобязательной, единственно верной и плодотворной в масштабе всего литературоведения: часть выдавалась за целое (pars pro toto), что составило “ахиллесову пяту” не одной только формальной школы, но едва ли не всех направлений в науке о литературе ХХ в. История литературоведения истекшего столетия – это своего рода калейдоскоп сменявших одна другую (а порой конфликтно сталкивавшихся) монистических методологий, отмеченных догматической узостью: на конкретные исследования нередко налагалась извне, априорно, чисто дедуктивно некая совокупность постулатов, так что свобода и непредвзятость исследования подменялись иллюстрированием заранее выдвинутых положений. При этом в научной среде воцарялись рознь и вражда между учеными (и псевдоучеными), их захлестывал пафос взаимного отчуждения и всяческих размежеваний между различными группами и школами. Пиком ожесточенных методологических схваток и нескончаемых разговоров о “порочных методах” были 20-е годы. В духе времени утверждалось, например, что современность диктует литературоведу “одну обязанность… быть… нетерпимым; одну необходимость: уточнять и отмежевываться” (22, с. 237). В.М. Жирмунский, державшийся независимо от ведущих научных группировок и именовавшийся 26 “эклектиком”, подвергался упрекам, что в нем “мало фанатизма” (31, с. 314); говорилось, что от этого ученого “необходимо отмежеваться” (28, с. 282). Направленческие нетерпимость и фанатизм имели место и в последующие десятилетия. Прав был Х. Зедльмайр, полвека назад отметивший, что науке об искусстве угрожает опасность “расколоться по подобию религиозных общин” (14, с. 52). Порождением и спутником методологического монизма научных школ оказывалось своего рода сектантство. Итак, для науки о литературе насущны мирное и творческое взаимодействие разных подходов к изучаемым явлениям, обретение согласия между ними (в соответствии с принципами традиционной герменевтики) и активная опора на данные иных областей научного знания. При этом литературоведение призвано неуклонно придерживаться общенаучных установок и одновременно принимать во внимание специфику гуманитарного знания. Таковы, на наш взгляд, основные методологические принципы науки о литературе. Список литературы 1. Арсеньев Н.С. О лирическом стиле и некоторых лирических темах Пушкина // Записки 2. Баевский В.С., Романова И.В., Самойлова Т.А. Тематические парадигмы русской русской академической группы в США. – Нью-Йорк, 1975. – Т. 9. — С. 63-85. лирики XIX-XX вв. // Известия РАН. Сер. лит. и яз. – М., 2000. – № 6. — С. 20-31. 3. Барт Р. S/Z. – М., 1994. – 302 с. 4. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979. – 422 с. 5. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. — М., 1975. – 502 с. 6. Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении. – М., 1993. – 207 с. — (Бахтин под маской; Вып. 2). 7. Бонди С.М. О ритме // Контекст, 1976. – М., 1977. – С. 100-129. 8. Бочаров С.Г. Огненный меч на границах культур: Идея обратного перевода // Бочаров 9. Веселовский А.Н. Мелкие заметки к былинам // Журн. М-ва народного просвещения. – С.Г. Сюжеты русской литературы. – М., 1999. – С. 601-611. СПб., 1890. – Март. – С. 1-55. 10. Гаспаров М.Л.. Избранные труды. – М., 1997. – Т. 2. – С. 501. 11. Давыдов Ю.Н. Макс Вебер и современная теоретическая социология: Актуал. пробл. веберовского социол. учения – М., 1998. –510 с. 27 12. Евлахов А.М. Введение в философию художественного творчества: Опыт историколитературной методологии: В 3 т. – Варшава, 1910-1912; Ростов н/Д., 1917. 13. Жирмунский В.М. Литературные течения как явление международное // Жирмунский В.М. Сравнительное литературоведение. – Л., 1979. – С. 137-157. 14. Зедльмайр Х. Искусство и истина: О теории и методе истории искусства. – М., 1999. — 366 с. 15. Леви-Стросс К. Структура и форма (Размышления над одной работой Владимира Проппа) // Зарубежные исследования по семиотике фольклора. – М., 1985. — С. 9-34. 16. Лихачев Д.С. О филологии. — М., 1989. — 206 с. 17. Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. – Л., 1972. — 270 с. 18. Ортега-и-Гассет Х. История как система // Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды. – М., 1997. – С. 437-479. 19. Переверзев В.Ф. Гоголь. Достоевский: Исследования. – М., 1982. – 511 с. 20. Платонов А. Записные книжки. – М., 2000. — 421 с. 21. Перетц В.Н. Краткий очерк методологии истории русской литературы. – Пг., 1922. — 164 с. 22. Поспелов Г.Н. К постановке проблемы жизни и смерти поэтических фактов // Красная новь. – М., 1926. – № 1. — С. 237-249. 23. Роднянская И.Б. Философская собака, зарытая в стиле // Новый мир. — М., 2000. — № 7. — С. 216-223. 24. Сакулин П.Н. Филология и культурология. – М., 1990. – 240 с. 25. Скафтымов А.П. К вопросу о соотношении теоретического и исторического рассмотрения в истории литературы // Русская литературная критика. – Саратов, 1994. – С. 134-171. 26. Тодоров Ц. Поэтика // Структурализм: “за” и “против” – М., 1975. – С. 37-113. 27. Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. – М., 1996. – 334 с. 28. Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. – М., 1977. — 572 с. 29. Хализев В.Е. Жизненный аналог художественной образности // Принципы анализа литературного произведения. – М., 1984. – С. 32-41. 30. Шкловский В.Б. Гамбургский счет. – Л., 1928. — 247 с. 31. Эйхенбаум Б.М., Жирмунский В.М. Переписка Б.М.Эйхенбаума и В.М.Жирмунского // Тыняновский сборник: Третьи тыняновские чтения. – Рига, 1988. – С. 256-329. 32. Ярхо Б.И. Методология точного литературоведения (набросок плана) // Контекст, 1983. – М., 1984. – С. 197-236. 33. Fray N. Analyse der Literaturkritik. – Stuttgart, 1964. — 340 S. 34. Friederich H. Dichtung und die Methoden // Die Werkinterpretation / Hrsg. von Enders H. – Darmstadt, 1967. — S. 294-301. 35. Kayser W. Das sprachliche Kunstwerk: Eine Einführung in die Literaturwissenschaft. – Bern, 1948. — 337 S. 28 36. Literaturwissenschaft und Literaturkritik im 20. Jahrhundert / Hrsg. von Ingold F.R.. – Bern, 1970. — 186 S. 37. Mecklenburg N. Kritisches Interpretieren. Untersuchungen zur Theorie der Literaturkritik. – München, 1972. — 176 S. 38. Rüdiger H. Zwischen Interpretation und Geistesgeschichte: Zur gegenwärtigen Situation der deutschen Literaturwissenschaft // Methodenfragen der deutschen Literaturwissenschaft / Hrsg. von Grimm R. und Hermand I. – Darmstadt, 1973. — S. 102-117. 39. Schleiermacher F.D.E. Hermeneutik und Kritik. – Frankfurt a. M., 1977. — 402 S. 40. Staiger E. Die Kunst der Interpretation. – Zürich, 1955. — 152 S. 41. Staiger E. Das Problem der wissenschaftlichen Interpretation von Dichtwerken: Radiovortrag // Worte und Werte: Bruno Markwardt zum 60 Geburtstag / Hrsg. von Erdmann G. und Eichstaldt A. – B., 1961. — S. 355-358. 42. Stern W. Person und Sache: System des kritischen Personalismus. – Leipzig, Bd. 1-3. 29 1923-1924. –