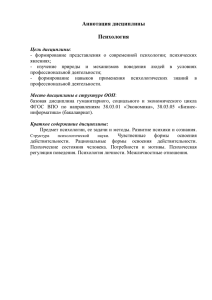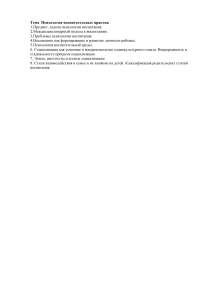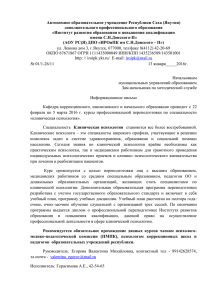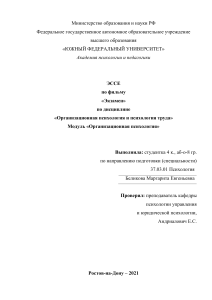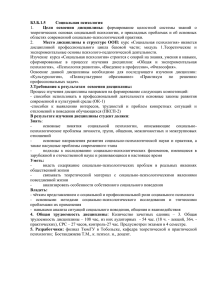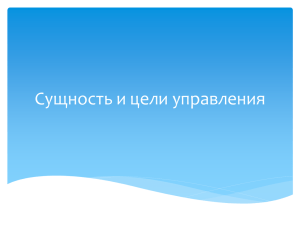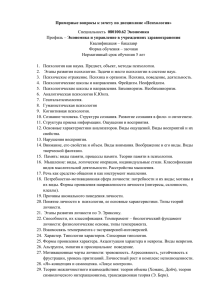Структура клинической психологии Взаимосвязь клинической психологии с другими науками Любая наука развивается во взаимодействии с другими науками и под их влиянием. В этом переплетении различных наук и отраслей друг с другом в полной мере отражаются обусловленные научно-технической революцией взаимосвязанные тенденции: к выделению в самостоятельные области знаний, с одной стороны, и с другой, — интегративные тенденции, приобретающие в настоящее время ведущую роль и заключающиеся в активном использовании новыми отраслями пограничных дисциплин. Эти взаимодействия могут быть «горизонтальными», примером чего является клиническая психология как одна из психологических дисциплин. Но большее значение, как считает Платонов, имеют «вертикальные» взаимодействия, например, клинической психологии с философией.1 Структура клинической психологии охватывает весь спектр и комплекс проблем, связанных с психологическими аспектами сохранения здоровья здоровых, профилактики расстройств, лечения и реабилитации больных. В связи с уровнем и масштабом проблем клиническую психологию можно структурировать следующим образом: общая клиническая психология, частная клиническая психология и специальная клиническая психология. Общая клиническая психология Содержанием общей клинической психологии (ОКП) являются общие и основополагающие допущения о предмете, структуре, теориях, методологии и методах дисциплины. Это все предусматривается и конкретизируется в частной и специальной клинической психологии. Клиническая психология: учебник для вузов / под ред. Б.Д. Карвасарского. – СПБ: "Издательский дом "Питер", 2018. – 896 с. 1 1 Важнейшими функциями ОКП являются прежде всего определение метатеоретических положений, которые позволяют ей войти в ряд научных дисциплин, и формулирование ее релевантных предметных областей. Таким образом, ОКП не создает собственную школу, а служит профессиональным ориентиром. Она является определяющей место дисциплины вне споров школ и специализаций, которая должна помочь при формулировке следующих вопросов: Что такое вообще «психическое расстройство»? По каким критериям различаются клинико-психические расстройства и в каких отношениях они находятся? На основании каких причинных представлений можно дать им объяснение? Какие факторы способствуют или препятствуют их возникновению? Какие критерии должны применяться при оценке клинико-психологических интервенций? ОКП не занимается дефиницией, диагностикой, классификаций или патогенетическим объяснением отдельных расстройств, не занимается отдельной клинико-психологической моделью, но обобщенными основаниями дефиниций, диагностики, классификации, патогенеза и интервенции. Тем самым она создает основание и ориентацию, с одной стороны, подходов к специфическим расстройствам, с другой стороны, для различных клинико-психологических моделей. Психологические перспективы. Психологические перспективы характеризуются четырьмя позициями: 1. В клинической психологии на переднем плане рассмотрения находятся психические факторы и процессы, в то время как биологосоматические и социоэкологические условия определяются как «контексты». Это научное положение, которое включает все аспекты клинико- психологической систематики, а именно: определения, этиопатогенез, классификацию, диагностику и интервенцию. Эта постановка акцента означает, что для психологов и клинических психологов приоритетными являются сопровождающие явления, последствия и возможности помощи, даже если органические, социальные или другие аспекты при психическом 2 расстройстве тоже являются очень важными (как, например, органические факторы при таком хроническом заболевании, как болезнь Альцгеймера). 2. Психологические перспективы также означают, что любая психическая активность относится к предмету клинической психологии, а не только неосознаваемые или эмоциональные процессы, как это имеет место в некоторых моделях. Эти виды активности охватывают, например: - когнитивные процессы: память, научение, инсайт, восприятие, решение проблем, установки, ожидания и т.д.; - эмоциональные процессы: радость, печаль, страх, эмоциональные оценки ситуации и телесные ощущения; - мотивационные и волевые процессы: потребности, желания, намерения, волевые решения; - акциональные и психомоторные процессы: произвольные и непроизвольные действия, координация действий; - интерперсональные процессы: коммуникация и интеракция. 3. Клиническая психология занята принципиально всеми психическими функциями, которые можно обобщить как переживание и поведение. Это включает как осознаваемую, так и неосознаваемую активность или особые состояния – сон, сновидения или транс. Часто в центре клинико-психологических интересов стоит как раз взаимосвязь и независимость этих психических качеств, например, когда человек, несмотря на наличие способностей и возможностей, не в состоянии выполнить некоторые требования, как это имеет место при страхах. 4. Психические проблемы, расстройства, симптоматика являются комплексными образцами отягощенности и проявления или ограничения различных психических функций. Комплексность означает, что, с одной стороны, психические функции могут быть разделены на отдельные части, которые между собой связаны функционально. С другой стороны, эти психические функции интегрируются индивидом: индивид воспринимает себя – в случае необходимости – целостно, так воспринимается и другими. 3 Он замечает изменения в своей жизни, мыслях и ощущениях, мотивах, поведении или своих социальных отношениях. Он ощущает радость, безопасность, надежность, осознание себя, потребности, любопытство, но также страхи, недоверие, злость, стыд, конфликты, сомнение и недостаток доверия самому себе, отсутствие мужества; он привносит с собой эти психические состояния, процессы в свою жизнь. Психические процессы переживаются как принадлежащие ему, как личностные характеристики, как составные часта его идентичности. С другой стороны, другими он будет воспринят как дружественный, умеющий хорошо слушать, имеющий интересные идеи, хорошо организующий свою жизнь или плохо выглядящий, дрожащий, недоступный, раздраженный, неуверенный, напряженный, нерешительный, реагирующий неадекватно или агрессивно. Он будет пытаться активно привлекать позитивно пережитые состояния, избегать негативного опыта и формировать свою среду согласно своим потребностям. Можно и другим способом разрешить плюралистические проблемы – посредством проблемно-специфического и/или расстройств-специфического подхода, что позволяет выделить частную клиническую психологию и специальную клиническую психологию.2 Частная клиническая психология Патопсихология Патопсихология (гр. pathos – страдание) – ветвь клинической психологии, изучающая закономерности распада психической деятельности и свойств личности в сопоставлении с закономерностями формирования и протекания психических процессов в норме. К числу основателей патопсихологии следует отнести Хьюго Мюнстерберга, Анри Бергсона, Пьера Жане и др., высказавших свое о ней представление в первом номере журнала «Pathopsychologie» и определивших патопсихологию как психологическую дисциплину, которая пытается понять психические Залевский, Генрих Владиславович. Введение в клиническую психологию: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / Г.В. Залевский. Томск: ТМЛ-пресс, 2010. – 222 с. 2 4 отклонения привлечением методов и знаний нормальной психологии. Напротив, психопатология ориентируется на медицинское понятие болезни и является частью общего учения о болезни человека, нозологии: «У них (патопсихологии и психопатологии) разные позиции... у первой психологическая перспектива – идти от психически нормального... у второй – от болезни, психически нарушенного и болезненного...». В основной круг теоретических проблем патопсихологии как синтеза общепсихологического и клинико-психиатрического знания входят: - изучение психологических механизмов становления сложных психопатологических синдромов (бред, галлюцинация и др.); влияние индивидуального опыта больного и его личности на содержание и динамику этих синдромов; - исследование структуры и динамики нарушений познавательной деятельности и эмоционально-личностной сферы при разных психических расстройствах; возможность психологической коррекции этих нарушений; - изучение личности больных с разными психическими расстройствами; роль личности больного как в становлении болезненной симптоматики, так и в ее психологической коррекции; - выделение и описание структуры патопсихологических синдромов нарушения отдельных видов психической деятельности (память, мышление, восприятие и т.д.), а также патопсихологических синдромов, типичных для разных заболеваний; соотношение первичных и вторичных расстройств в структуре синдромов; - проблема соотношения распада и развития психики. Клиническая нейропсихология Клиническая нейропсихология – основное направление нейропсихологии как отрасли психологии, изучающее мозговую основу психических процессов и эмоционально-личностной сферы и их связь с 5 отдельными системами головного мозга. Клиническая нейропсихология, сформировавшаяся на границах психологии, неврологии и нейрохирургии, – это структурная составляющая клинической психологии, задача которой заключается в изучении нейропсихологических синдромов, возникающих при поражении того или иного участка мозга. Объектом исследования в ней является мозг больного или травмированного человека, а предметом исследования – причинно-следственные отношения между повреждением (опухоль, кровоизлияние, травма – их локализация, объем), произошедшими изменениями со стороны психических процессов разного уровня и поведением личности. Психосоматология и соматопсихология Само понятие «психосоматика» было введено И. Хайротом в 1918 г., а через 10 лет К. Якоби впервые использовал родственное понятие «соматопсихика». В том и в другом случаях подразумевается тесная связь соматических и психических процессов, которая была замечена еще в древности в рамках целостного понимания человека и роли психологического фактора в происхождении и течении заболеваний. Психосоматология (роль психологических факторов в возникновении соматических болезней). Первые психосоматические теории связаны с психоанализом. Теория «символического языка органов», согласно которой, асоциальные стремления, мысли, фантазии вытесняются в область бессознательно и затем проявляются в расстройствах внутренних органов, например, отвращение к кому-либо или неприятие чего-либо выражается рвотой, а «сексуальное голодание» проявляется нарушением моторной функции желудка, его секреторной активности и анорексией (по аналогии с истерическими конверсиями). Респираторные заболевания трактовались в этом ключе как выражение стремления вернуться в лоно матери, когда собственная дыхательная система еще не работает. 6 Против придания симптомам соматических заболеваний лишь символического значения выступили Александер и Данбар. Александер выделил группу психогенных расстройств в вегетативных системах организма и назвал их вегетативными неврозами, считая, что симптом – это не символическое замещение подавленного конфликта, а нормальное физиологическое сопровождение хронизированных эмоциональных состояний. Любая эмоциональная реакция, не нашедшая выхода в данный момент, имеет свой относительно четко очерченный соматический эквивалент. Специфичность заболевания, по его мнению, следует искать в конфликтной ситуации. Поэтому его объяснительную модель часто называют «концепцией специфических для болезни психодинамических конфликтов» или «концепцией специфического эмоционального конфликта». Разрядка конфликта происходит только по вегетативным путям, и это обусловливает развитие таких болезней, как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, бронхиальная астма, язвенная болезнь, сахарный диабет и др. Для каждого заболевания характерен свой интрапсихический конфликт, которому соответствуют определенные эмоциональные переживания со своими физиологическими коррелятами. Например, больной нейродермитом подавляет желание физической близости, пациенты с язвенной болезнью переживают конфликт между потребностью в зависимости, опеке и стремлением к автономности и независимости.3 Данбар сформулировала теорию «профиля личности», согласно которой люди, страдающие определенной болезнью, похожи по их личностным особенностям, и что именно эти особенности их личности отвечают за возникновение болезни. Данбар изучила историю жизни и психологические особенности свыше 1 500 больных с разной соматической патологией (сахарный диабет, ревматоидный артрит, нарушение сердечного ритма, стенокардия, гипертония и др.) и описала соответствующие им Клиническая психология: учебник для вузов / под ред. Б.Д. Карвасарского. – СПБ: "Издательский дом "Питер", 2018. – 896 с. 3 7 различные типы личности, такие как «гипертонический», «коронарный», «аллергический», «склонный к повреждениям» и др. Эта концепция дала толчок многим экспериментальным исследованиям. В русле теории «профилей личности» находится огромное количество исследований, в которых описаны психологические особенности больных с определенной соматической патологией. Сюда же относятся концепция о типах поведения А и Б при кардиозаболеваниях, описание «раковой личности» и др. Вместе с тем многие вопросы в рамках теории профилей остаются и сегодня нерешенными или спорными. Например, остаются неясными механизмы влияния личностных черт на развитие болезни. В результате появляется ряд психосоматических теорий «новой волны». Некоторые из них опираются на разработанное Дж. Райхом понятие «инфантильной личности», эмоции и чувства которой не выражаются в экспрессивном поведении, фантазии стереотипны и примитивны, она «эмоционально сцеплена» с «ключевой фигурой», обычно с матерью, М. Шур предложил «теорию десоматизации-ресоматизации», в основе которой лежит представление о неразрывности соматических и психических (эмоциональных) процессов у человека в раннем детстве. Рассматривая основные факторы, предрасполагающие к возникновению психосоматической патологии, некоторые авторы в качестве таковых предлагают «межличностные понятия отношения». «алекситимия», Алекситимия «потеря объекта» и («недостаток слов для выражения чувств») – термин, предложенный П. Сифнеосом, который считал, что ситуацию в эмоциональная межличностной невыразительность сфере, а создает конфликтную эмоциональное напряжение трансформируется в патологические физиологические реакции. Что касается «межличностных отношений», то здесь акцентируются особые отношения между матерью и ребенком, неадекватное поведение так называемой «психосоматической матери» как авторитарной, доминирующей, открыто тревожной и латентно враждебной, требовательной и навязчивой. Тем самым 8 болезнь включается в контекст социальных отношений. В некоторых психосоматических концепциях используется понятие «потеря объекта», например, близких, особенно «ключевой фигуры». Психосоматические больные не могут адекватно переработать переживания потери объекта, а потому напряжение, дистресс остаются, особенно в тех случаях, когда имеет место дефект в структуре личности. Одной из последних концепций психосоматических расстройств является так называемая «психобиологическая модель», согласно которой, физическое здоровье зависит от способности (само) регулировать сложные физиологические и биохимические процессы. Как оказалось, ни одна из предложенных объяснительных моделей психосоматических расстройств не является исчерпывающей. Поэтому, как отмечает Л.П. Урванцев, в настоящее время становится очевидной необходимость формулирования комплексного подхода к этой проблеме. Соматопсихология (влияние соматической болезни на психику). Как показывает клиническая практика, не только психологические факторы могут негативно влиять на соматическую сферу человека, но и наоборот, соматическая болезнь оказывает патогенное влияние на его психику, изменяя его познавательные процессы, психические состояния и даже относительно устойчивые свойства. В связи с этим говорят о «психологии больного человека» или «психологических особенностях больного», выделяя несколько групп относящихся к нему феноменов. Л.П. Урванцев, во-первых, разграничивает «психологические новообразования», связанные с болезнью, и те устойчивые личностные характеристики, которые остаются неизменными или претерпевают лишь незначительные изменения. Во-вторых, он указывает на неоднородность психологических особенностей пациентов, связанных с болезнью, выделяя среди них наиболее общие, частные и индивидуальные. Любая болезнь не только влияет на присущие преморбидной личности психические процессы, состояния и психологические свойства, но и ведет к 9 появлению такого «психологического новообразования», как внутренняя картина болезни, которая порой полностью определяет поведение больного и успешность его лечения. Поэтому познание внутренней картины болезни (ВКБ), знание закономерностей ее формирования и функционирования, учет данных закономерностей в практической работе с больным являются важнейшими условиями эффективности работы врача и психолога. Р.А. Лурия определял внутреннюю картину болезни как «...все то, что испытывает и переживает больной, вся масса его ощущений... его общее самочувствие, самонаблюдение, представления о своей болезни, о ее причинах... весь тот огромный мир больного, который состоит из весьма сложных сочетаний восприятия и ощущения, эмоций, аффектов, конфликтов, психических переживаний и травм». В.В. Николаева систематизировала представления разных авторов о субъективной стороне заболевания в предлагаемых ими понятиях: «внутренняя картина болезни» (Р.А. Лурия), «аутопластическая картина болезни» (Гольдшейдер), «переживание болезни» (Е.А. Шевалев, В.В. Ковалев), «реакция адаптации» (Е.А. Шевалев, О.В. Кербиков), «отношение к болезни», сознание болезни» (Л.Л. Рохлин), считая все же интегральным понятием, отражающим разные стороны и уровни субъективного переживания, понятие внутренней картины болезни. Это сложное, структурированное образование, по ее мнению, включает, по крайней мере, четыре уровня психического отражения болезни в психике заболевшего:4 - первый уровень — чувственный, уровень ощущений. - второй уровень — эмоциональный, связанный с различными видами реагирования на отдельные симптомы, заболевание в целом и его последствия. Залевский, Генрих Владиславович. Введение в клиническую психологию: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / Г.В. Залевский. Томск: ТМЛ-пресс, 2010. – 222 с. 4 10 - третий уровень — интеллектуальный, связанный с представлением, знанием больного о своем заболевании, размышлениями о его причинах и возможных последствиях. - четвертый уровень — мотивационный, связанный с определенным отношением больного к своему заболеванию, с изменением поведения и образа жизни в условиях болезни и актуализацией деятельности по возвращению и сохранению здоровья. Некоторые авторы считают необходимым различать ВКБ в рамках нормальной и психопатологической личностной реакции. Особенности реакции на болезнь при отсутствии психической патологии привлекают внимание и Л.П. Урванцева: - адекватная оценка болезни и отношение к ней, соответствующее реальной тяжести и опасности. Это характерно для пациентов, бывших до болезни сильными, уравновешенными, гармоничными личностями; - переоценка опасности, тяжести болезни, ее последствий. В одних случаях выражены элементы тревоги, паники, снижения настроения; мысли и внимание прикованы к болезни, пациент обычно проявляет большую активность; в других — доминируют сниженное настроение (но без повышенной тревожности), апатичность, монотонность, пессимистические прогнозы, прикованность внимания. Такие больные обычно выполняют все указания врача, ловят каждое его слово. К этому типу реагирования склонны те, у кого до болезни преобладали тревожно-мнительные черты, или же лица с негибкостью, «застревающие» на переживаниях (в частности, касающихся соматического здоровья); - недооценка тяжести заболевания. Здесь возможны два варианта. Одни больные, в конце концов, привыкают к болезни, перестают концентрировать на ней свое внимание. Они соблюдают режим, благодушны. Правильнее, пожалуй, говорить в этом случае о снижении эмоционального компонента ВКБ, так как ее рациональное (на уровне знания) отражение в 11 целом соответствует действительности. Другие больные отрицательно относятся к лечению, стремятся «закрыть глаза» на все, связанное с болезнью, что можно объяснить психологической реакцией. В основном это наблюдается у стеничных личностей, стоящих ближе к ригидному типу (прямолинейность, бескомпромиссность суждений и убеждений, косность с элементами «гиперсоциальности»; отрицание наличия болезни и ее симптомов с целью - диссимуляции, а также из-за страха ее последствий. И здесь выделяется два варианта. В одном случае признаки болезни слабо выражены, но опасны (например, это бывает при туберкулезе, злокачественных опухолях), или же она является результатом поведения, осуждаемого моральными нормами (например, при попытке скрыть сифилис, СПИД). В другом случае мы имеем дело с вытеснением мыслей о болезни, нежеланием говорить о ней по этой причине (например, при хронической почечной недостаточности, сопровождающейся общей вялостью и апатией). Психология здоровья В данном структурная случае составляющая психология здоровья клинической рассматривается психологии, хотя как сегодня отмечается тенденция, с одной стороны, выделения ее в самостоятельную область знания и практики, а с другой — отождествления с клинической психологией или ее подменой. И определения понятия психологии здоровья тоже отражают эти тенденции. Так, Дж. Матараццо дает следующее определение психологии здоровья: «Психология здоровья является набором специфических образовательных, научных и профессиональных положений психологии в укрепление и сохранение здоровья, профилактику и лечение болезни, а также идентификацию этиологических и диагностических коррелятов здоровья, болезни и дисфункции, а также анализ и развитие системы охраны здоровья и формирование политики в области здоровья». Р. Страуб (R.O. Straub), автор большого американского учебника «Health Psychology» («Психология здоровья»), определяет ее как «применение 12 психологических принципов исследования к проблемам здоровья, предупреждения и лечения болезней», что фактически либо равно объему понятия клинической психологии, либо даже перекрывает его. Задачи и предмет ее научных и практических интересов — психология здорового человека, изучение интра- и экстраличностных факторов сохранения и укрепления здоровья всех уровней — физического, психического (функционального), психологического (душевного и духовного), а также выявление факторов и условий профилактики нарушений здоровья, формирования здорового образа жизни и адекватной «внутренней картины здоровья». Во многом круг ее задач пересекается с задачами психогигиены и первичной профилактики — не лечение болезней, а их предупреждение. В настоящее время выделились отдельные разделы и направления психогигиены: возрастная психогигиена, психогигиена труда, психогигиена семьи, психогигиена быта, психогигиена семьи и половой жизни, специальная психогигиена (военная, авиационная, космическая и др.).5 Специальная клиническая психология (отдельные психические расстройства, кризисные состояния) Психология отдельных психических расстройств Эта часть клинической психологии формируется исходя из специфики отдельных расстройств, определяемых Перре и Бауман (2002) как «расстройства паттернов функционирования» (например, депрессии, заикания, агорафобии, социальные фобии, навязчивости, шизофрения, хронические боли, мигрень, тики, расстройства пищевого поведения, расстройства личности, алкогольная зависимость, кризисные состояния и т.д.), и пытается использовать имеющиеся научные данные о проявлениях, эпидемиологии, возникновении, течении и успешной соответствующего расстройства. Цель этих усилий терапии в том, для чтобы Клиническая психология: учебник для вузов / под ред. Б.Д. Карвасарского. – СПБ: "Издательский дом "Питер", 2018. – 896 с. 5 13 сформировать объемную картину отдельных оптимальные возможности терапии. расстройств и Программы терапии развить являются предметом ориентированной на специфические расстройства и различия психотерапии. Подход не привязан к ориентированным на школы концепциям — психоаналитической, поведенческой и т.д., а учитывает при объяснении и терапии психических расстройств различные психологические, биохимические или медикаментозные, а также социальные факторы, влияние которых на индивида эмпирически доказано. Психология кризисных состояний Структура клинической психологии может быть представлена и с позиции онтогенетических (развития) проблем клинической психологии: - общая клиническая психология; - клиническая психология для детей (детская клиническая психология); - клиническая психология для подростков и юношества (подростковая и юношеская клиническая психология); - клиническая психология для взрослых (клиническая психология взрослых); - клиническая психология для пожилых и старых людей (клиническая геронтопсихология). Термин «кризис» имеет греческое происхождение и означает поворотный момент, любой момент, влияющий на ход событий. Строго говоря, кризис может быть как внезапным улучшением, так и внезапным ухудшением. В медицине этот термин означает поворотный момент в течении болезни. Любое внезапное прерывание нормального хода событий в жизни индивида или общества, которое требует переоценки моделей деятельности и перестройки привычных стереотипов поведения, тоже обозначают термином «кризис». Кризис или кризисное состояние человека справедливо связывают с состоянием стрессовым (дистрессовым), вызванным различного рода стрессорами. Известный список стрессоров и 14 оценка их в баллах предложены американскими специалистами Т. Холмсом и Р. Рейем (1998). Кризис понимается как состояние человека при блокировании целенаправленной жизнедеятельности, как дискретный момент развития личности. Хронический кризис несет в себе угрозу социальной дезадаптации, суицидальные настроения, нервно-психические или психосоматические расстройства. Кризис воспринимается многими людьми не только как трудный период в жизни, но нередко как «тупик, делающий дальнейшую жизнь бессмысленной». И здесь необходима психологическая помощь, «кризисная интервенция», ведущими методами которой являются кризисное психологическое консультирование и психотерапия кризисных состояний. Поскольку кризисы и кризисные состояния, особенно их хронизацию, можно упреждать, необходимы превентивные, в том числе психологические, меры. Следует обратить внимание на то, что кризисные состояния могут быть уже свершившимся фактом в явной форме и выраженными, но могут быть и скрытыми (латентными), неявными и неострыми (ведь многое зависит от индивидуальных особенностей человека, характера и степени стрессора). В последнем случае роль клинических психологов особенно велика в оказании профилактической психологической помощи.6 Междисциплинарные связи клинической психологии в 21 веке: вектор развития Междисциплинарные связи диктуются самими явлениями, поскольку, по словам К. Поппера, «мы исследуем не предметы, а проблемы. Проблемы же способны пересекать границы любых дисциплин и их предметов». Обе тенденции можно видеть на примере самой клинической психологии, которая возникла на стыке психологии и психиатрии, и при этом включает в себя целый ряд отраслей. Однако наиболее отчетливо переплетение этих тенденций, современный масштаб глобализации исследований можно Залевский, Генрих Владиславович. Введение в клиническую психологию: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / Г.В. Залевский. Томск: ТМЛ-пресс, 2010. – 222 с. 6 15 проследить в эволюционировании нейронауки. Ее начало стало следствием осознания необходимости интеграции знаний о мозге, психике и поведении, что выразилось в создании в 60-е годы прошлого столетия Международной организации по изучению мозга (International Brain Research Organization) и Общества нейронауки (Society of Neuroscience). Уже в недрах нейронауки продолжились как интеграция дисциплин в новые отрасли (информатика + биология = биоинформатика), узкоспециализированные так области, с и фрагментация возникновением на более когнитивной, аффективной, социальной нейронаук. Более того, эти отрасли одновременно становятся частью других интегральных наук. Например, когнитивная нейронаука является важнейшим компонентом когнитивистики взаимодействует с (когнитивной философией, науки), антропологией, внутри которой лингвистикой и информатикой. Какие силы направляют это движение, в частности, для клинической психологии 21 века? Здесь, как, наверное, в развитии любого процесса, связанного с человеком, можно выделить нисходящие и восходящие влияния. Нисходящие влияния — это предвидение и стратегическое планирование на глобальном и отраслевом (охрана психического здоровья) уровне, а также — более локально — влиятельные теоретические модели, создающие контекст исследований и формирования инновационных практических подходов. Восходящие влияния порождаются созреванием знаний о конкретном предмете в рамках отдельных дисциплин, что ведет к растворению границ и слиянию специализированных научных подходов, как это происходит с соседними каплями воды при превышении ими определенного объема. Нисходящие влияния Планирование определяется представлениями людей (социальных институтов) о настоящем и желаемом будущем и обусловливает направление потока усилий и ресурсов. На самом высоком уровне это представления о глобальных вызовах, т.е. проблемах планетарного масштаба. Со времени 16 появления, основанного на трудах А. Тойби, понятия «глобальные вызовы», разные экспертные сообщества и ученые предлагают свои, несколько различающиеся списки вызовов. Вот, например, как в настоящее время видят их эксперты университета Линкольна: перемещение больших масс людей как результат миграции и мобильности; экономический глобализм; возрастание социального и имущественного неравенства; конфликты и войны; идентичность в условиях изменяющихся культурных и общественных норм; рост недовольства в обществах, социальная нестабильность, в частности, связанная с развитием социальных сетей; изменения в экономических центрах силы; технологические прорывы, включая вхождение в нашу жизнь искусственного интеллекта; пробелы в видении и предвидении из-за ускорения событий и жестких требований к скорости принятия решений, что не оставляет времени «лидерам» на обдумывание; и, наконец, ущерб экологии/изменения климата, что может повлечь дефицит важнейших ресурсов для жизни. Каждый вызов — многогранная проблема, и в ней есть место, где мы обнаруживаем ее влияние на психическое здоровье, как минимум, в виде стрессора, что влечет необходимость участия клинических психологов в междисциплинарных командах, работающих над ее решением. Так, одним из ответов на увеличение количества природных катастроф (пожаров и наводнений), связанных с изменением климата, а также на перемещение больших масс людей является появление «гуманитарной психиатрии». Она определяется как оказание услуг по охране психического здоровья и социальной поддержке группам населения, которые столкнулись с коллективным насилием, принудительным перемещением или стихийными бедствиями. В конце прошлого века гуманитарная психиатрия сводилась к оказанию психиатрической помощи лицам с посттравматическим стрессовым расстройством. В 21 веке она становится частью общего гуманитарного ответа, основанного на представлении, согласно которому психиатрические проблемы — лишь верхушка айсберга всех проблем, и они могут быть 17 смягчены или устранены при удовлетворении витальных (в пище, жилье, безопасности) и социальных (в межличностных связях и справедливости) потребностей, оказании социальной поддержки и обучении отдельных лиц, семей или сообществ самоподдержке, что требует участия специалистов из разных сфер. Конкретным вкладом клинической психологии в эти мультидисциплинарные усилия стала разработка краткосрочных психологических техник, важной особенностью которых является легкость обучения им лиц, не имеющих серьезной психологической подготовки, — местного медицинского персонала и волонтеров. Это обеспечивает массовый доступ к психологической помощи в ситуациях гуманитарных катастроф, которые, как правило, затрагивают большое количество людей и часто происходят как раз там, где психологическая помощь дефицитна.7 Этот пример иллюстрирует один из главных трендов развития междисциплинарных связей клинической психологии, который наметился с начала 21 века, — практически обязательное использование ее возможностей и специалистов в рамках широких междисциплинарных/межведомственных подходов к решению глобальных прикладных проблем. Пандемия COVID-19 повлияла как на психическое и физическое здоровье большого числа людей, так и на финансовый и социальный сектор экономики. Конкретные списки наиболее острых проблем и первоочередных задач, сформированные в начале 21 века, в связи с этим были несколько пересмотрены. Однако описанная выше тенденция только усилилась. Так, отражая место психологии в новой ситуации начала 2022 года, Американское психологическое общество (APA) выделило четырнадцать трендов. И в качестве первого эксперты APA указывают на повсеместную востребованность психологов. Человеческое поведение лежит в основе большинства самых серьезных вызовов: неравенства, изменения климата, удаленной работы, изъянов охраны здоровья и благополучия, недоверия к Клиническая психология 21 века: методология, теория, практика. Научное издание. Коллективная монография /под ред. Н.В. Зверевой, И.Ф. Рощиной. — M.: издательство ФГБНУ НЦПЗ, 2023. — 584 с. 7 18 вакцинам и дезинформации, — отмечают они, — и психологов не только попросили участвовать в дискуссии, но и возглавить решение некоторых задач. Разумеется, прежде всего это касается традиционных направлений работы клинических психологов, от которых потребовалась масштабная помощь работникам здравоохранения и сферы услуг в устранении психологических проблем, вызванных пандемией — тревоги, депрессии, выгорания, а также непосредственно больным и их семьям; более широкое проникновение в травмированными школы, обучение пандемией; учителей совершенствование работе с детьми, методов помощи различным меньшинствам, работа по устранению их дискриминации относительно доступа к медицинским услугам в условиях дефицита медицинской помощи. Помимо этого, APA обращает внимание на усиление некоторых междисциплинарных трендов. А именно, речь идет о продолжающемся росте взаимодействия психологии с нейронаукой, а также о связях психологии с коммуникологией (наукой о коммуникации), причем последнее объясняется необходимостью «программирования» здорового поведения населения. Нужно отметить, что тренд на контакты с коммуникологией обусловлен и другими потребностями в области охраны психического здоровья. Во-первых, это касается задачи по продвижению социальной справедливости в области психического здоровья, выдвинутой ВОЗ в рамках плана действий по улучшению охраны психического здоровья на 2013-2030 гг., включая снижение стигматизации психических больных. Отмечается, что в 21 веке обсуждение проблем психиатрии должно стать частью публичного обсуждения проблем психического здоровья. Во-вторых, связи с науками о коммуникации приобретают все большее значение ввиду необходимости адекватно доносить до общества суть внедряемых в практику здравоохранения научных достижений. Так, на повестке дня, как и век назад, интерпретация достижений генетики. За последние 10 лет молекулярная генетика достигла огромных успехов по выявлению генетических вариантов 19 (точек по всему геному), которые связаны с риском развития различных психических расстройств. информацию о риске Всю индивидуальную конкретного заболевания полногеномную было предложено представлять в виде единого количественного признака — полигенного показателя риска. Государственные институты (среди них наиболее активен Кабинет министров Великобритании) уже планируют активное внедрение полигенных показателей риска в практическое здравоохранение. APA упоминает их среди достижений нейронауки, которые помогут психологам найти пути к улучшению жизни людей. Однако внедрение генетических данных вызывает озабоченность. И проблема не сводится к сохранению индивидуальной информации, что обычно волнует различные этические комитеты. Требуется глубокое понимание возможностей и ограничений этого инструмента в контексте представлений о природе человека для избежания ловушки неоевгеники. Психологи — специалисты, наиболее вооруженные необходимыми знаниями для объяснения тем, кто принимает решения, и обществу, которое может от этих решений пострадать, каковы реальные закономерности нормального и патологического индивидуального развития и какое место в этом развитии занимает генетический аппарат человека. Однако выбор форм, в которых эти разъяснения должны быть представлены, и путей распространения информации действительно потребует инновационных подходов, разработка которых без союза с коммуникологией невозможна. Спускаясь с уровня «предвидения» на уровень теоретических моделей, задающих вектор развития междисциплинарных связей, отметим тренд, который в некоторой степени стал следствием реинкарнации идеи Гиппократа «лечить не болезнь, а больного» в биопсихосоциальную модель Дж. Энгеля. Непосредственно в психиатрии судьба модели складывалась сложно. Однако модель стала одним из важных факторов развития мультидисциплинарных реабилитационных 20 программ с участием клинических психологов во многих других областях медицины, включая управление болью, постковидный синдром, восстановление после онкологических заболеваний и др. Восходящие влияния Стоит уточнить, что в описанном выше контексте междисциплинарность — это, скорее, мультидисциплинарность команды, конгломерат, где каждый специалист имеет свой фронт работ и вооружен свойственными ему инструментами, подчиняясь лишь единой конечной цели и единому командованию. В отличие от этого, в случае восходящих влияний мы чаще имеем дело со сплавом наук, требующим от каждого участвующего специалиста более глубокого проникновения в знания, терминологию и методы дисциплин, совместно с которыми решается (чаще научная) задача. Не прошло и года после спада пандемии, как мы оказались в новом мире, который многие эксперты определяют как мир неопределенности и нестабильности. В нем, как представляется, на одно из первых мест выходит проблема, которая касается не отдельных групп (мигрантов, пожилых людей, психических больных, разнообразных меньшинств и т.д.), а имеет гораздо более широкую базу, и это проблема психологической устойчивости (resilience). Хотя Общества изучения психологической устойчивости пока не создано, научное исследование этой проблемы — один из ярчайших примеров развития мультидисциплинарного знания из накопления специализированных знаний, т.е. как продукта восходящих влияний.8 Психологическая устойчивость (далее устойчивость) не имеет общепринятого определения. В общем виде под ней понимают способность или процесс, способствующий успешной адаптации — сохранению или даже укреплению, несмотря на воздействие вредных, угрожающих индивиду факторов, психического здоровья или субъективного благополучия (возможно, это два разных вида устойчивости). Интерес к устойчивости и ее Клиническая психология: учебник для вузов / под ред. Б.Д. Карвасарского. – СПБ: "Издательский дом "Питер", 2018. – 896 с. 8 21 научное изучение зародились в исследованиях факторов риска развития психопатологии около 50 лет назад. Первоначально эти исследования фокусировались на «негативных» путях, то есть каскаде событий, ведущем к взрослой психопатологии от детских психологических травм. Речь преимущественно шла о неблагоприятном детском опыте, включая насилие и игнорирование ребенка со стороны родителей, но в настоящее время включает любые угрозы, как например пандемии, природные или техногенные катастрофы. Накопившиеся факты о широкой вариативности ответов на такие события заставили исследователей обратить внимание на «позитивные» пути — пути устойчивости и сопротивления, имеющие, повидимому, трансдиагностический характер. Masten et al. выделяют четыре волны развития исследований устойчивости. Первая — описательная — сводилась к выделению свойств, которые делают человека устойчивым к факторам риска. Вторая состояла в попытке понять, как эти свойства ведут к успешной адаптации. Третья заключалась в осуществлении практической помощи лицам из группы риска (т.е. имевшим неблагоприятный опыт), что позволило увидеть слабые и сильные стороны моделей устойчивости. Отметим, эти стадии можно скорее назвать мультидисциплинарными, имея в виду относительную автономность исследований признаков разных уровней (социальных, биологических, психологических, клинических). И наконец четвертая волна — появившаяся только в 21 веке — межсистемных исследований, с попыткой понять взаимодействие разных уровней, потребовавшая интеграции концептуального и методического аппарата разных дисциплин. Masten et al. обращают внимание на то, что в настоящее время устойчивость может быть понята только как динамический процесс, распределенный по многим системам, как внутренним, так и внешним по отношению к индивиду. Авторы, опираясь на такую дисциплину, как психопатология развития (developmental psychopathology), особо подчеркивают вовлеченность внешних систем — от семьи до социальных институтов, которые могут 22 оказать поддержку или любым другим способом повлиять на вектор развития индивида, что ставит проблему устойчивости в контекст гуманитарных — психологических, педагогических, социальных, и даже политических наук. В этом же ключе можно рассматривать кросскультурные исследования устойчивости и исследования устойчивости в рамках сестринского дела. Однако стоит обратить внимание и на расширение «списка» внутренних систем, который отнюдь не сводится к ЦНС. Здесь прежде всего уместно вспомнить об отце эндокринной теории стресса Гансе Селье, исследования которого положили начало рассмотрению гипоталамо- гипофизарно-надпочечниковой оси как основной системы ответа на стресс. Вторым важным событием стало рождение в 70-е годы прошлого века психонейроиммунологии — междисциплинарной области исследований, изучающей взаимодействие между поведением, нервной и эндокринной системами и иммунными процессами. Ее основателями считают психолога Роберта Адера и микробиолога и иммунолога Николаса Коэна. После их экспериментальных работ, исследования игнорируемых до этого связей между мозгом и иммунной системой стали многочисленными и позволили показать, что как воздействия на мозг и эндокринную систему изменяет иммунный ответ, так и стимуляция антигенами, которая вызывает иммунный ответ, приводит к изменениям в нервной и эндокринной системах, и что поведение способно влиять на реактивность иммунной системы и, наоборот, иммунный статус организма имеет последствия для поведения. В настоящее время психоиммунология обеспечивает основной научный контекст изучения того, как восприятие травматических событий может транслироваться в стойкие изменения на разных уровнях жизнедеятельности человека, включая развитие психопатологии. Предложена «иммунологическая гипотеза психосоциальной даже устойчивости», которая рассматривает в качестве одного из источников устойчивости тренировку иммунной системы в процессе столкновения организма с инфекцией. 23 Постепенно в медико-биологические исследования устойчивости в контексте психонейроиммунологии вливаются все новые дисциплины, включая антропологию и генетику. В последние годы точкой роста в изучении влияния ранних травмирующих воздействий на психическое здоровье во взрослом возрасте являются эпигенетические исследования. Эпигенетика — наука о факторах, которые меняют активность генов, не меняя последовательности ДНК. К ним относят метилирование ДНК, модификацию гистонов и не кодирующие РНК. Эпигенетические изменения в геноме стали рассматривать в качестве одного из основных молекулярных механизмов встраивания опыта в биологическую организацию индивида, включая особенности работы мозга. Пока большинство исследований посвящено изучению связи между травматическими событиями и другими факторами риска психопатологии и метилированием ДНК (это уже упоминавшиеся «негативные пути»). Изучение собственно устойчивости с точки зрения эпигенетики пока не проводилось, но, очевидно, ждет своей очереди. Следует отметить, что междисциплинарному знанию о проблемах, механизмом которых являются межсистемные взаимодействия и перестройки, способствует проникновение в психологию и психиатрию новых статистических методов анализа, в частности метода сетей. Относительно устойчивости, он пока использовался только для понимания взаимосвязи различных психологических свойств индивида (гипотетических факторов устойчивости с симптомами). Но может быть расширен до включения признаков работы различных систем — для выделения, в частности, основных точек соприкосновения/путей перехода между ними.9 Не загадывая на все столетие, можно отметить, что клиническая психология в настоящее время занимает заметное и почетное место внутри общего усиливающегося тренда к интеграции научного знания, образования Клиническая психология 21 века: методология, теория, практика. Научное издание. Коллективная монография /под ред. Н.В. Зверевой, И.Ф. Рощиной. — M.: издательство ФГБНУ НЦПЗ, 2023. — 584 с. 9 24 неожиданных и непредвидимых заранее междисциплинарных связей и мультидисциплинарных/межведомственных усилий. Для самой клинической психологии (и психологии в целом) — это вызов как к научной дисциплине, поскольку междисциплинарные исследования требуют от клинической психологии максимально четких определений теоретических конструктов и надежных и валидных инструментов их измерения, тестируемых гипотез и гибких, способных к междисциплинарному взаимодействию специалистов. В последнем случае речь идет не столько о личных качествах, сколько о развитии новых форм мультидисциплинарного образования, не просто о снабжении будущего психолога широким научным кругозором — миссия, с которой хорошо справляются современные университеты, а об обучении работе с комплексными мультидисциплинарных проблемами. исследований и Развитие меж- и мультидисциплинарного образования — это нетривиальные задачи, работа над решением которых в самом разгаре. Описанные тенденции к возрастанию роли клинической психологии в решении глобальных проблем делают эти задачи особенно актуальными для психологического образования. Список использованной литературы: 1. Залевский, Генрих Владиславович. Введение в клиническую психологию: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / Г.В. Залевский. - Томск: ТМЛ-пресс, 2010. – 222 с. 2. Клиническая психология: учебник для вузов / под ред. Б.Д. Карвасарского. – СПБ: "Издательский дом "Питер", 2018. – 896 с. 3. Клиническая психология 21 века: методология, теория, практика. Научное издание. Коллективная монография /под ред. Н.В. Зверевой, И.Ф. Рощиной. — M.: издательство ФГБНУ НЦПЗ, 2023. — 584 с. 25