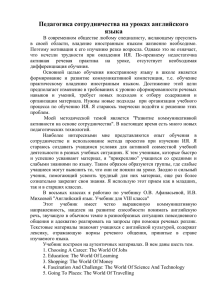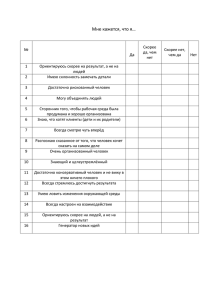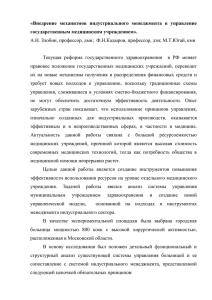Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология Москва
реклама
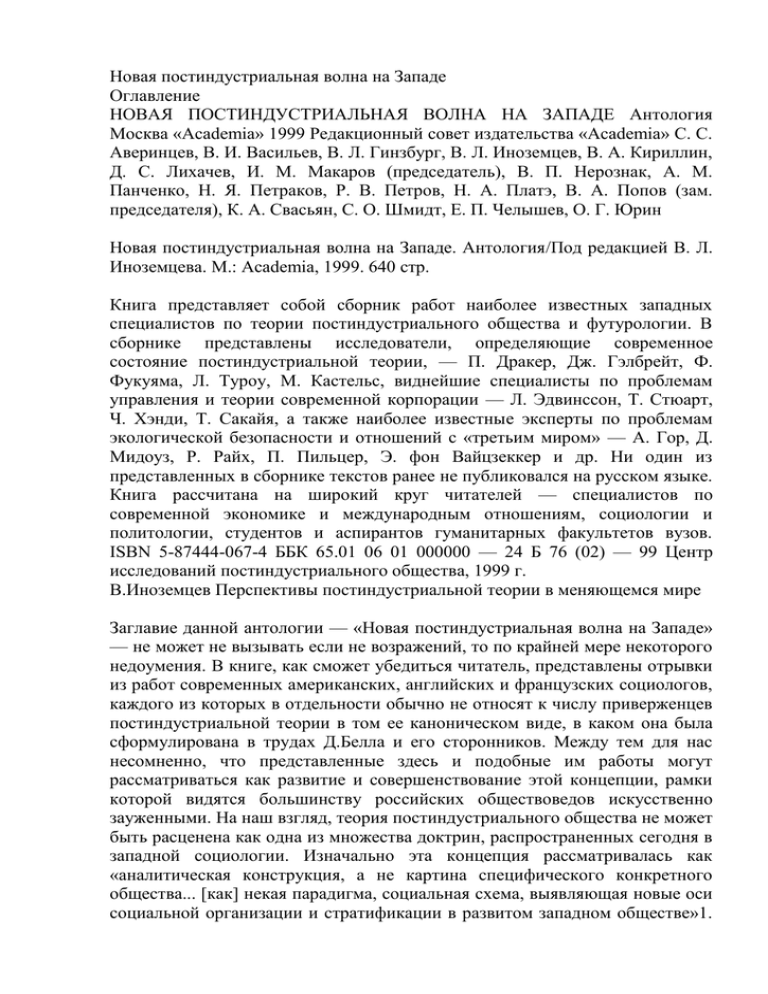
Новая постиндустриальная волна на Западе
Оглавление
НОВАЯ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНАЯ ВОЛНА НА ЗАПАДЕ Антология
Москва «Academia» 1999 Редакционный совет издательства «Academia» С. С.
Аверинцев, В. И. Васильев, В. Л. Гинзбург, В. Л. Иноземцев, В. А. Кириллин,
Д. С. Лихачев, И. М. Макаров (председатель), В. П. Нерознак, А. М.
Панченко, Н. Я. Петраков, Р. В. Петров, Н. А. Платэ, В. А. Попов (зам.
председателя), К. А. Свасьян, С. О. Шмидт, Е. П. Челышев, О. Г. Юрин
Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология/Под редакцией В. Л.
Иноземцева. М.: Academia, 1999. 640 стр.
Книга представляет собой сборник работ наиболее известных западных
специалистов по теории постиндустриального общества и футурологии. В
сборнике представлены исследователи, определяющие современное
состояние постиндустриальной теории, — П. Дракер, Дж. Гэлбрейт, Ф.
Фукуяма, Л. Туроу, М. Кастельс, виднейшие специалисты по проблемам
управления и теории современной корпорации — Л. Эдвинссон, Т. Стюарт,
Ч. Хэнди, Т. Сакайя, а также наиболее известные эксперты по проблемам
экологической безопасности и отношений с «третьим миром» — А. Гор, Д.
Мидоуз, Р. Райх, П. Пильцер, Э. фон Вайцзеккер и др. Ни один из
представленных в сборнике текстов ранее не публиковался на русском языке.
Книга рассчитана на широкий круг читателей — специалистов по
современной экономике и международным отношениям, социологии и
политологии, студентов и аспирантов гуманитарных факультетов вузов.
ISBN 5-87444-067-4 ББК 65.01 06 01 000000 — 24 Б 76 (02) — 99 Центр
исследований постиндустриального общества, 1999 г.
В.Иноземцев Перспективы постиндустриальной теории в меняющемся мире
Заглавие данной антологии — «Новая постиндустриальная волна на Западе»
— не может не вызывать если не возражений, то по крайней мере некоторого
недоумения. В книге, как сможет убедиться читатель, представлены отрывки
из работ современных американских, английских и французских социологов,
каждого из которых в отдельности обычно не относят к числу приверженцев
постиндустриальной теории в том ее каноническом виде, в каком она была
сформулирована в трудах Д.Белла и его сторонников. Между тем для нас
несомненно, что представленные здесь и подобные им работы могут
рассматриваться как развитие и совершенствование этой концепции, рамки
которой видятся большинству российских обществоведов искусственно
зауженными. На наш взгляд, теория постиндустриального общества не может
быть расценена как одна из множества доктрин, распространенных сегодня в
западной социологии. Изначально эта концепция рассматривалась как
«аналитическая конструкция, а не картина специфического конкретного
общества... [как] некая парадигма, социальная схема, выявляющая новые оси
социальной организации и стратификации в развитом западном обществе»1.
Такой подход к предмету и задачам исследования существенным образом
выделяет постиндустриальную теорию из остальных социологических
доктрин нашего времени. Мы не стремимся выступить в роли апологетов
этой концепции и, в отличие от советских идеологов, считавших ее
лженаучной, доказать отсутствие в ее внутренней структуре всех и всяческих
недостатков. Хотелось бы лишь привлечь внимание читателей к двум
важнейшим обстоятельствам, которые определяют роль и значение этой
теории.
Во-первых, нельзя не признать, что теория постиндустриального общества
является сегодня единственной социальной метатеорией, которая в полной
мере воспринята западной социологической традицией. Причины этого
весьма сложны и комплексны, и на них мы подробно остановимся ниже.
Пока же необходимо отметить, что данная концепция по сути своей
представляет
собой
позитивистскую
теорию,
истоки
которой
обнаруживаются во временах зарождения того индустриального строя,
возможность преодоления которого она сегодня декларирует. Развитие
постиндустриальной теории от идеи до зрелой научной концепции шло
естественным эволюционным путем, никогда не подпадавшим под жесткое
влияние идеологических факторов и всегда сопряженным со свободной
научной дискуссией. Это фактически единственная из западных теорий,
приверженцы которой не только не отрицали научного значения марксизма,
но и стремились вести с ним глубокий конструктивный диалог (не
поддержанный, к сожалению, советскими обществоведами).
Естественное, эволюционное развитие постиндустриальной концепции в
конечном счете обеспечило ее заслуженное и чрезвычайно широкое
распространение в современной западной социологии. Следует особо
подчеркнуть, что это не было связано с бурным совершенствованием
методологических основ теории (в чем можно легко убедиться, изучая
литературу 80-х и 90-х годов) или приданием ей какого-либо официального
статуса (что вообще невозможно в рамках свободного общества).
Постиндустриальная теория, которая прямо и непосредственно не бросала
вызов ни одному из направлений западной социологической традиции, но
была в то же время отлична от всех прочих, постепенно стала объективной
основой большинства социологических построений. Этому можно найти
четыре основные причины. Во-первых, концепция постиндустриального
общества оптимально сочетает в себе элементы социо- философской теории
и черты прикладной социологической доктрины, она гармонично сочетает
решение задач исторической периодизации и типизации с определением
структуры, характера и исторического места современных западных обществ.
Во-вторых, основоположники постиндустриализма в весьма четкой и
недвусмысленной форме определяют формирование нового общества в
понятиях прогресса научного знания и технологических достижений, и это
оказалось более чем уместным в послевоенном мире, когда не только в
социологии, но и в общественном мнении стала доминировать
исключительно высокая оценка науки, образования и развития технологий.
В-третьих, эта доктрина с самого начала подвергала резкой критике
разграничение обществ на «капиталистические» и «социалистические»,
отмечая, что оно не является в должной мере сущностным; поражение и крах
коммунистических режимов укрепили эту позицию (именно ее усвоение
сильно пополнило в 90-е годы ряды сторонников постиндустриализма). И,
наконец, четвертая причина, которую, видимо, сегодня еще не просто
воспринять достаточно адекватно (и это станет предметом активных
дискуссий в ближайшее десятилетие), кроется в кризисе, поразившем сегодня
страны Азии, стремившиеся пойти по пути догоняющего индустриального
развития. Это окончательно продемонстрировало, сколь затруднительно для
стран, находящихся на индустриальной стадии професса, стать
полноправными участниками сообщества постиндустриальных держав, и
подчеркнуло раздел планеты на постиндустриальную зону и остальной мир.
Таким образом, несмотря на отсутствие в последние десятилетия того
взрывного интереса к постиндустриальной проблематике, который
наблюдался в 70-е годы, эта концепция все глубже проникает в сознание
исследователей и становится естественным методологическим базисом
современной западной социологии.
Во-вторых, следует особо отметить, что подобный ход развития концепции
не противоречит ее основам, а непосредственно определяется ими. Если
обратиться к наиболее известным работам Д.Белла, признанного патриарха
постиндустриализма,
можно
легко
увидеть,
что
неоднократно
провозглашавшийся им акцент на проблемы организации технологий и
теоретического знания не исчерпывает суть постиндустриального общества.
Помимо этого рассматривается множество иных социальных и
экономических сдвигов — переход от товаропроизводящего хозяйства к
сервисной экономике, повыше- ние роли образования, изменение структуры
занятости и ориентиров человека, становление новой мотивации
деятельности, развитие принципов демократии, формирование новой
политической системы общества, переход к определенным элементам
планирования и нерыночной экономике благосостояния. Этот перечень
можно продолжать достаточно долго, но даже из сказанного становится ясно,
что теория постиндустриального общества, не воспринимая в качестве
центрального никакого преходящего социального процесса или явления (и
здесь проходит ее существенное отличие от марксизма, акцентировавшего
внимание на классовом конфликте буржуазного общества и «основном
противоречии» капитализма), была изначально создана в таком виде,
который мог как легко инкорпорировать в себя целый ряд новых
направлений в социологическом анализе, так и, в свою очередь, породить
множество новых подходов, основанных на применении своих
основополагающих методологических постулатов к оценке возникающих с
течением времени тенденций и процессов.
Именно из этого, на наш взгляд, проистекает тот факт, что теория
постиндустиального общества никогда не встречала в западной социологии
явной оппозиции, — факт, который нельзя не признать уникальным в
истории развития социальных доктрин. На этом базируется наш взгляд на
работы, представленные в данной антологии, как на некую новую волну
постиндустриализма.
Авторы
этих
работ
восприняли
широкий
методологический подход, проповедуемый постиндустриальной теорией, и
либо стремятся развить его с учетом современной специфики, либо
применяют его к конкректным проблемам современного общества. Здесь
следует прямо указать, что три основных блока проблем, представленные в
нашем сборнике (помимо методологического и общетеоретического
осмысления перспектив и движущих сил развития современной
цивилизации), а именно вопросы становления нового типа личности,
изменения ее мотивов и целей; радикальных перемен, происходящих в
процессе создания богатства и переосмысления понятий стоимости и
ценности; наконец, взаимодействия постиндустриальных держав с внешним
миром в условиях перераспределения центров силы и сохранения
экологических проблем, — все эти вопросы прямо трактуются на основе
важнейших
постулатов
теории
постиндустриализма.
Сегодня
постиндустриальная доктрина незаметно, но весьма уверенно становится
одним из наиболее эффективных тео- ретических инструментов
исследования тенденций развития обществ, вступающих в XXI век.
К составлению этой антологии подтолкнули нас еще несколько
обстоятельств, обусловленных российской спецификой. Хорошо известно,
что в эпоху доминирования идеологизированного марксизма теория
постиндустриального общества рассматривалась как оппозиционная
официальной точке зрения и не подрергалась глубокому анализу, оставаясь
объектом резкой, но поверхностной критики. Крах коммунизма и
стремительная переориентация на формирование рыночной экономики
привели к гипертрофированному вниманию российских исследователей к
трудам идеологов «свободного рынка» и эконометрическим работам; на этом
фоне труды основателей и классиков постиндустриальной теории
продолжали оставаться фактически незнакомыми российскому читателю.
Это привело к двум крайне неблагоприятным тенденциям, каждая из которых
уже проявилась вполне отчетливо.
С одной стороны, концепция постиндустриального общества, чьи основатели
всегда жестко дистанцировались от коммунистических воззрений, стала
служить в России неким инструментом, позволяющим отечественньш
социологам протаскивать свои самые странные теоретические построения.
Некоторых видных российских ученых привлекают в этой теории не ее
внутренняя сущность и методологический потенциал, а скорее ряд
наукообразных клише, которые они приспосабливают к своим потребностям
так же, как несколько ранее делали это с марксистской теорией. Сегодня,
когда А-В.Бузгалин и А.И.Колганов заявляют, что «коммунизм рождается
как постиндустриальное и постэкономическое общество (курсив авторов. —
B.H.)"2,
а
Ю.В-Яковец
считает
укладывающейся
в
рамки
постиндустриализма мысль о том, что «каждая последующая ступень
исторического прогресса в 1,5 раза короче предыдущей», и рассчитывает на
этой основе продолжительность различных фаз постиндустриальной
цивилизации с точностью до 5 (!) лет до 2300 (!) года3, не остается сомнений,
что усвоение идей постиндустриализма в современной России находится на
гораздо более примитивном уровне, нежели в советский период. Даже
идеологизиро- ванная критика 70-х годов имела под собой понимание того,
что же именно хотели сказать западные исследователи, и основывалась на
противоречии этих положений марксизму. Современная же «поддержка»,
оказываемая рядом российских авторов постиндустриальной концепции,
дискредитирует ее в глазах здравомыслящих ученых больше, нежели
критические замечания вчерашних партийных идеологов.
С другой стороны, демагогические рассуждения о постиндустриализме все
чаще служат обоснованию новой роли России в мире и конструированию
путей ее включения в мировую цивилизацию. В этой связи акцент делается
на возможность прорыва России в эту новую стадию через развитие своего
интеллектуального потенциала. Однако совершенно не принимается в расчет
тот факт, что реальным фундаментом становления постиндустриального
строя являются широкое распространение успехов индустриализации и
достижение высокого уровня благосостояния населения, который и стал
основой изменения предпочтений и ценностей современного человека.
Между тем наши обществоведы, признавая, что «Россия не успела
вклиниться в постиндустриальную стадию, так как находится на
индустриальной», полагают, что страна имеет сегодня «исторический шанс
— необремененная постиндустриальной моделью, она готова не только
гармонично войти в новую модель цивилиза-ционного развития, но и при
определенных условиях стать лидером этого процесса»4. Более того,
фактически утверждается, что «эпицентром этого переворота [в становлении
новой постиндустриальной парадигмы] окажется, по всей вероятности,
Россия»5, поскольку подобный идеал «выстрадан» нашей страной и
воспринят ее народными массами6. Стремясь в условиях беспрецедентного
идеологического кризиса и отсутствия конструктивных идей найти в
западной социологической мысли хоть что-то, что коррелирует с их
собственными представлениями, отечественные обществоведы вновь
обращаются к идее о возможности «догоняющего» развития, осно- ванного
на искусственном сосредоточении материальных и человеческих ресурсов на
отдельных направлениях, способного обеспечить индустриальный прогресс,
но, как показал ранее опыт СССР, а сегодня и Азии, не создать основы
постиндустриального строя. Между тем сегодня, в условиях нарастающего
экономического кризиса, проповедь исключительности и мессианства весьма
опасна. Полагать, что Россия, бесспорно, являющаяся важным членом
мирового сообщества, но все же одним из многих таких же равноправных
членов, способна идти своим путем, минуя многие этапы, и указывать
человечеству правильный путь в будущее, — значит оценивать свой народ не
как «не хуже» другого, что вполне естественно для каждого обладающего
чувством собственного достоинства человека, а преподносить его в качестве
«лучшего» среди прочих; но это означает перейти ту тончайшую грань,
которая лежит между демократическим гуманизмом и фашистской
идеологией исключительности.
Все это показывает, что знакомство с современными работами западных
авторов, не скованных идеологической приверженностью принципам ничем
не ограниченной рыночной экономики и исследующих современные
экономические и социальные тенденции с методологических позиций одной
из наиболее совершенных социологических теорий, чрезвычайно важно для
российских ученых, имеющих огромный творческий потенциал, реализация
которого серьезно сдерживается их оторванностью от основных направлений
современной социальной теории и фактически полным прекращением какого
бы то ни было диалога с западными исследователями.
Представляя читателям этот сборник, мы считаем целесообразным более
подробно рассмотреть как становление постиндустриальной концепции, так
и основные направления ее развития начиная с середины 70-х годов. Именно
поэтому данное введение разделено на две достаточно самостоятельные
части.
Концепция постиндустриального общества представляется нам воплощением
продолжительной научной традиции, восходящей еще к эпохе Просвещения.
Именно в то время исследователи впервые стали акцентировать внимание не
столько на вопросах политического устройства общества или организации
его духовной сферы, сколько на экономических аспектах социальной жизни.
Нельзя не заметить при этом, что первым же следствием нового подхода
стало перенесение акцента на проблемы технологического порядка.
Примером тому может служить знаменитая работа Ж.-А. де Кондорсе «Эскиз
исторической картины прогресса человеческого разума»7; в ней в наиболее
явной форме соединились элементы прежних и новых воззрений: весьма
интересно наблюдать, как автор, описывая этапы технологического и
хозяйственного прогресса цивилизации, пытается связать их с периодами
эволюции человеческого разума, дабы придать своей работе более
привычную для того времени форму. Но отмечая эту книгу как некую
квинтэссенцию социально-философской мысли того времени, следует
помнить, что тогда же разрабатывались экономические идеи Ад.Смита и А.Р.Ж.Тюрго, исторические подходы Д.Юма и И.Г.Гердера и моральная
философия Ж.-Ж.Руссо и Ф. Хатчесона; они решительно вытесняли
социальную метафизику картезианства и примитивные социологические
построения Ф.Бэкона, Т.Гоббса и Г.Гроция.
Эти тенденции стали необратимыми с наступлением индустриальной эпохи,
которую ее идеологи самым непосредственным образом связывали с
реализацией идей века Просвещения. Противопоставление индустриальной
цивилизации как нового прогрессивного этапа в развитии человечества его
предшествующим стадиям доминировало в сознании исследователей в
течение всей первой половины прошлого столетия. При этом сторонники
идеи
индустриализма
стремились
уже
не
продемонстрировать
преемственность нового общества по отношению к прежнему, а всемерно
подчерк- нуть его самостоятельный характер, его доминирующее значение в
наступающую эпоху. Одним из ярких подтверждений таких настроений
является, в частности, известный заказ, сделанный А. де Сен-Симоном
автору «Марсельезы» Руже де Лилю написать «Промышленную
Марсельезу», открывающую миру революционный потенциал нового строя.
Идеологи индустриального общества — а именно в качестве такового
понимали формировавшийся социум основоположники позитивизма —
считали, что этот тип социального устройства свободен от тех резких
классовых противоречий, которые существовали ранее, прежде всего в силу
отсутствия праздного класса, внеэкономическими методами присваивавшего
продукт общественного труда. Определяя промышленника как человека,
«который трудится для производства или для доставки разным членам
общества одного или нескольких материальных средств, удовлетворяющих
их потребности или физические склонности»8, А. де Сен-Симон высказывал
два важных положения относительно природы индустриального строя. Вопервых, он обосновывал тезис о том, что «единственной целью, к которой
должны быть направлены все наши мысли и все наши усилия, является
организация промышленности, понимаемой в самом широком смысле,
охватывающей все виды полезных работ»9; при этом он предполагал, что в
будущем особое значение приобретут технические и научные знания, а
«постоянной целью общественной организации [станет] возможно лучшее
применение для удовлетворения потребностей человека знаний, добытых
науками, искусствами и ремеслами, расширение этих знаний, их
совершенствование и возможно большее накопление, словом, возможно
более полезное сочетание всех отдельных работ в области наук, искусств и
ремесел»10. Во-вторых, устранение социальных противоречий мыслилось им
на пути доминирования промышленного класса над обществом
(«промышленный класс, — писал он, — есть основной класс, питающий все
общество, класс, без которого не может существовать никакой другой;
поэтому он имеет право заявить ученым, а тем более всем другим
непромышленным элементам: мы согласны давать вам пищу, жилище и
одежду и вообще удовлетворять ваши потребности только на определенных
условиях»11); идея же равенства, столь близкая идеологам эпохи
Просвещения, реализовывалась через апелляцию к тому, что различное
положение, занимаемое людьми в социальной иерархии, будет определяться
не наследованными правами и привилегиями, а исключительно различиями в
их собственных способностях и талантах.
Аналогичную точку зрения, обогащенную оценкой отдельных частных
моментов, высказывали позже наиболее известные представители
позитивизма в социологии — О.Конт и Дж.Ст.Милль. Оба они отметили как
тот факт, что индустриальное общество не может в полной мере искоренить
неравенства («если существуют люди, терпящие физические лишения или
деградирующие морально, — указывал Дж.Ст. Милль, — то это является
показателем несовершенства их социального окружения; указывать же на то,
что страдающие члены общества являются низшими в физическом или
моральном отношении, — значит обнаруживать не смягчающее, а лишь
усиливающее несправедливость обстоятельство»12), так и то, что место
самого индустриального строя в истории человечества нуждается в более
четком определении. Фактически именно эти два мыслителя стали
последними крупными социальными философами, которые в рамках
позитивистской традиции проводили явное противопоставление между
буржуазным обществом и феодализмом. О.Конт отмечал, что уход
феодализма с исторической арены был естественным процессом, что
«падение этой системы совершалось беспрерывно в продолжение
предшествовавших веков вследствие ряда видоизменений, независимых от
всякой человеческой воли, которым способствовали все классы общества,
оно явилось, одним словом, необходимым следствием движения
цивилизации»13; Дж.Ст. Милль называл этот тип общества важной и
необходимой подготовительной фазой, обеспечившей в конечном счете
триумф капиталистического строя. «При господстве и под влиянием
феодальной системы, — указывал он, — в цивилизации произошел
значительный прогресс, и причиной падения этой системы были не ее
недостатки, а хорошие стороны, а именно прогресс, происшедший под ее
влиянием, в силу чего человечество стало желать и сделалось способным
осуществить лучшую социальную форму, чем та, которую давал
феодализм»14. Начиная с этого момента противопоставление феодализма и
капитализма стало отходить на второй план; в условиях экспансии
индустриальных порядков особое внимание стали привлекать элементы,
которые акцентировали внимание на исторической преемственности
различных социальных систем в большей мере, чем на подчеркивании
различий между ними. Таким образом, возникла потребность в периодизации
истории на основе анализа роста и развития производительных сил. Тем
самым
была
заложена
предпосылка
становления
теории
постиндустриального общества.
Наиболее явно новая тенденция проявилась во второй половине прошлого
столетия. Разделяя предложенный А. де Сен-Симоном, О.Контом и Дж-
Ст.Миллем подход к буржуазному обществу как к обществу
«промышленников», ряд философов и социологов, следовавших основным
методологическим принципам позитивизма, акцентировал внимание на
вычленении отдельных исторических фаз по признакам технологической
организации производства, обмена и распределения создаваемых в обществе
благ. Приверженцы «исторической» школы в политической экономии
предприняли выделение эпохи дикости, а также пастушеской,
земледельческой,
земледельческо-мануфактурной
и
земледельческомануфактур-но-коммерческой стадий15. По несколько иным критериям были
определены этапы замкнутого домашнего хозяйства, городского хозяйства и
народного хозяйства16. На основе анализа типов распределения и обмена
производимых благ были разграничены, кроме того, периоды естественного
натурального, денежного и кредитно- го17, а несколько позже — эпохи
индивидуального, переходного и социального хозяйства18. В относительно
завершенном виде концепция периодизации, основанная на изучении
организации производства и обмена благ, увидела свет в работах
представителей «новой исторической школы» в начале XX века19. Таким
образом, возникла первая фундаментальная составляющая теории
постиндустриального общества: в качестве доминирующего распространился
подход, основанный на периодизации истории не по принципу оценки
классовой структуры соответствующих обществ, а на основе исследования
технологических аспектов организации общественного производства.
Параллельно развивалось и иное научное направление, приверженцы
которого с позиций преобладания технологических факторов в
общественном развитии разрабатывали проблемы модификации социальной
структуры под воздействием этих факторов. Одним из первых исследований,
в котором глубокий анализ промышленной системы был соединен с
изучением институциональной структуры общества, стала известная работа
Т.Веблена20, положившая начало институциональному направлению в
политической экономии. Предложенная им теория оказалась чрезвычайно
удачной; учитывавшая многие факторы, в том числе формы организации
обмена, характер взаимодействия между социальными группами и классами,
формирование индивидуальной мотивации, она стала наиболее полной и
многофакторной из всех, созданных в первой половине нашего столетия.
Такая широта охвата разнообразных социальных проблем придала
концепции Т.Веблена большое прогностическое значение и активизировала
работы других авторов в рамках институциональной традиции. Главное
значение
институциональной
концепции
для
становления
постиндустриальной теории заключалось прежде всего в том, что ранее
абстрактная идея противопоставления стадий технологической эволюции
преломилась в новых условиях в структуризацию секторов общественного
производства и выявление внутренних закономерностей хозяйственного
развития, не зависящих от социальной и политической системы той или иной
страны. В конце 40-х годов в работах американского экономиста К. Кларка
«Экономика в 1960 году» и французского обществоведа Ж. Фурастье
«Великая надежда XX века» были сформулированы важнейшие
методологические принципы теории постиндустриального общества —
подразделение всего общественного производства на первичный (сельское
хозяйство), вторичный (промышленность) и третичный (сфера услуг)
секторы и положение о грядущем росте доли третичного сектора по
сравнению с первичным и вторичным как в совокупной рабочей силе
развитых стран, так и в структуре валового национального продукта. Таким
образом, сформировалась вторая фундаментальная составляющая теории
постиндустриального общества: на этот раз принцип доминирования
технологических аспектов организации общественного производства над
оценкой классовой структуры оказался распространен не только на
историческую периодизацию, но и на конкретный анашз экономического
развития современных обществ.
Эти положения ознаменовали собой относительную завершенность
построения
системы
методологических
предпосылок
теории
постиндустриализма. Следует заметить, что эти предпосылки вполне
оформились лишь в работах, созданных в середине нашего столетия; между
тем достаточно сравнить положение А. де Сен-Симо-на о том, что, когда
промышленники станут господствующим классом, «они придадут каждому
из них значение соответственно услугам, оказанным ими промышленности...
и [в результате] общественное спокойствие будет вполне обеспечено,
благосостояние государства будет развиваться с той быстротой, какая только
возможна, и общество будет обладать всем тем индивидуальным и
общественным счастьем, на какое только может притязать человеческая
природа»21, с тезисом Ж. Фурастье, согласно которому, когда
промышленная организация разовьется настолько, что большая часть
занятых сосредоточится в сфере создания услуг и информации, а человек
сможет посвятить себя занятиям более совершенным, чем непосредственное
производство, утвердится господство технокра- тии, государство начнет
осуществлять действенный контроль за экономикой, а средства производства
перестанут быть объектом классовой борьбы22, чтобы понять, насколько
близки основные подходы современных постиндустриалистов к подходам их
далеких предшественников. По сути дела, изменились лишь исторические
условия возникновения концепций; идеал же, который рассматривался в
качестве цели, остался прежним. Разница заключалась, однако, в том, что в
отличие от начала XIX века, когда подобные стремления не выходили за
рамки благих пожеланий, в наше время они обрели черты формирующейся
реальности. Поэтому на повестку дня встало терминологическое обозначение
новой стадии социальной эволюции.
Истоки термина «постиндустриальное общество» не могут быть названы
достаточно однозначно. Традиционно считается, что это понятие было
введено в научный оборот американском социологом Д.Рис-меном, который
в 1958 году применил его в заглавии одной из своих статей, получившей
благодаря этому широкую известность, но носившей относительно частный
характер23. Между тем, пусть и не так широко, известно, что еще в 1917 году
А.Пенти, один из теоретиков английского либерального социализма,
использовал это понятие, вынеся его даже в заглавие одной из своих книг24.
И совсем забытым остается тот факт, что сам А.Пенти отдавал приоритет в
применении данного термина А.Кумарасвами25, автору ряда работ по
доиндустриаль-ному развитию азиатских стран26. При этом следует
отметить, что те авторы, которые использовали понятие постиндустриализма
в начале нашего столетия, отчетливо вкладывали в него смысл, отличный от
принятого сегодня; предполагая, что индустриальный строй обострил многие
социальные противоречия, они рисовали идеальное общество, где
возрождены принципы автономного и даже полукустарного производства,
посредством чего преодолеваются конфликты, порожденные индустриальной
системой27.
Сложно сейчас сказать, было ли применение понятия «постиндустриальное
общество» Д.Рисменом возрождением ранее использовавшегося термина или
же оно принадлежало самому американскому социологу; в любом случае
нельзя не указать на один очевидный факт: как в начале века, так и в конце
50-х годов социологи пришли к использованию этого понятия не столько как
определяющего с позитивной точки зрения новую социальную структуру,
сколько как противопоставляющего ее предшествующим стадиям
общественной эволюции. При этом методологические основы такого
противопоставления, имевшиеся у А.Кумарасвами и А.Пенти, являются
безусловно менее основательными, чем предложенные Д.Рисменом и
другими современными авторами. Таким образом, для понимания
внутренней структуры теории постиндустриализма вполне можно считать
автором данного термина Д.Рисмена, а также других исследователей,
применивших его в 60-е годы.
К этому периоду относится и синтез различных подходов к оценке
современного
состояния
социума,
давший
начало
теории
постиндустриального общества в ее нынешнем понимании. Этот период
принес
не
только
широкое
распространение
самого
понятия
постиндустриализма (именно тогда Д.Рисмен выносит его в заголовок своей
известной статьи, а Д.Белл использует в лекциях, прочитанных им в
Зальцбурге), но и окончательное осмысление того, что любые политические
и социальные различия в современных условиях не могут считаться важнее
фактора технологического прогресса (уже в конце 50-х Р.Арон был убежден
в том, что «Европа состоит не из двух коренным образом отличных миров:
советского и западного, а представляет собой единую реальность —
индустриальную цивилизацию»28). К концу 60-х годов данная проблематика
стала одной из наиболее актуально обсуждавшихся западными социологами;
в новой идее уже тогда виделась глобальная методологическая парадигма,
способная дать новый импульс обществоведческим исследованиям.
Представители фактически любого из идеологических течений — от
консерватора У.Ростоу29 и умеренного либерала К.Томинаги30 до
придерживавшегося явно социалисти- б. Иноземцев ческой ориентации
А.Турена31 и чешского марксиста Р.Рихты32 — стремились внести свой
вклад в процесс становления новой концепции33.
Новый этап в развитии теории был открыт выходом в 1973 году книги
Д.Белла «Грядущее постиндустриальное общество», вызвавшей взрыв
интереса к соответствующей проблематике и обусловившей превалирование
футурологических концепций в западной социологии 70-х годов. В течение
этого и следующего десятилетий появляются многочисленные работы,
посвященные осмыслению исторического рубежа, на котором оказалось
человечество. По мере углубления в соответствующие проблемы становятся
все более очевидными два различных подхода, представленные в
предпринимаемых исследованиях. С одной стороны, многие авторы
стремились подчеркнуть различие между сложившимся к концу 60-х годов
западным обществом и возникающей новой технологической цивилизацией;
наиболее типичным образом подобный подход проявляется на
терминологическом уровне в использовании понятий с префиксом «пост-». С
другой стороны, некоторые исследователи сочли возможным формулировать
позитивные определения нового строя, характеризуя его на основе одного
или нескольких наиболее, с их точки зрения, присущих ему признаков. Этот
процесс требует глубокого анализа, выходящего за рамки короткой
вступительной статьи; между тем следует отметить, что фактически все
понятия, основанные на применении префикса «пост-», были вве- дены в
научный оборот между 1959 и 1972 годами34, в последующем же приоритет
на время перешел к иным терминам и концепциям. Однако особое значение
имеет тот факт, редко рассматривающийся в литературе, что начиная со
второй половины 80-х годов можно видеть некий ренессанс теории
постиндустриализма, причем этот ренессанс имеет весьма глубокий и
сущностный характер: сегодня гораздо меньшим влиянием пользуются не
только введенные в 70-е и 80-е годы «позитивные» понятия, но и весьма
влиятельная ранее теория постмодернизма, одно время претендовавшая на
цельную социофилософскую картину. На всех этих вопросах мы остановимся
несколько ниже.
Итак, исторически первый из отмеченных подходов был представлен прежде
всего сторонниками собственно теории постиндустриального общества и
приверженцами концепции постмодерни-ти; помимо этих понятий, начиная с
60-х годов использовался целый ряд иных терминов, скорее дополнявших
складывавшуюся картину, чем определявших ее.
Идея постиндустриального общества остается сегодня весьма популярной, а
соответствующий термин широко применяется в философских,
социологических и экономических работах. Некоторые исследователи
конкретизируют
свои
подходы,
говоря
о
постиндустриальном
капитализме35, постиндустриальном социализме36, а также экологическом37
и конвенциональном постиндустриализме38 и т.д. Между тем основой
концепции постиндустриального общества остается оценка нового социума
как резко отличающегося от общества, господствовавшего на протяжении
последних столетий: отмечаются прежде всего снижение роли материального
производства и развитие сектора услуг и информации, иной характер
человеческой деятельности, изменившиеся типы вовлекаемых в
производство ресурсов, а также существенная модификация традиционной
социальной структуры.
Данной теории, и это достаточно очевидно, присущи оттенки
технологического детерминизма, что не могло не стать причиной критики ее
представителями концепции постмодернизма39, принципы которой широко
распространились в футурологических исследованиях в 80-е и начале 90-х
годов40, но которая занимает сегодня скорее оборонительные позиции, а ее
основные постулаты все чаще становятся объектом весьма критического
отношения. Наряду с этими двумя основными теоретическими
направлениями с 60-х годов и до сегодняшнего дня развиваются
представления о современном обществе как о постбуржуазном41,
посткапиталистическом42, постпредпринимательском43, пострыночном44,
пост-традиционном45
и
даже
постцивилизационном,
или
постисторическом46. Однако эти экзотические понятия не получили в
литературе существенного распространения.
Приверженцы второго подхода стремятся определить новое состояние
цивилизации через анализ его отдельных признаков; при этом часто в центре
внимания оказываются явления, непосредственно не определяющие
общество как социальное целое. Наиболее известная попытка такого рода
связана с введением в научный оборот в начале 60-х годов фактически
одновременно
в
США
и
Японии
Ф.Махлупом
Перспективы
постиндустриальной теории в меняющемся мире и Т.Умесао термина
«информационное общество»47, положившего начало теории, развитой
такими известными авторами, как М.Порат, Й.Масуда, Т.Стоуньер, Р.Катц и
др.48 Такой подход лежит в русле того имеющего продолжительную
историю направления европейской философии, которое рассматривает
эволюцию человечества сквозь призму прогресса знания. К этому
направлению примыкают некоторые иные доктрины, и в первую очередь —
концепция технетронного (technrtronic — от греческого techne) общества,
созданная Зб.Бжезински49, а также доктрины, подчеркивающие роль знаний
и обозначающие современный социум как «the knowledgeable society»50,
«knowledge society»51 или «knowledge-value society»52.
Имеет место также целый ряд попыток определить новое общество не через
его технологические характеристики, а с позиций апелляции к иным
отдельным чертам социальной структуры. Они, впрочем, достаточно
малочисленны, а возникающие определения лишены необходимой
конкретности. Так, понимание формирующегося состояния как
«организованного (organized)»53, «конвенционального (conventional)»54 или
«программируемого общества» 55 не обеспечивает выделения того
комплекса основных принципов и отношений, который может быть признан
центральным в становлении и развитии нового общества. Свидетельством
неадекватности такого подхода может служить и то, что подобные определения все чаще принимают предельно общий характер; так, начинают говорить
об «активном (active)»56 и даже «хорошем (good)»57 обществе. В этом
контексте признание О.Тоффлера в том, что все ранее предложенные
определения будущего социума не являются удачными, вполне
показательно58.
Анализ этих подходов приводит к пониманию того, что концепции,
рассматривающие формирующийся строй как отрицание второй из трех
глобальных стадий общественной эволюции, являются более комплексными,
нежели теории, подчеркивающие одну из сторон становящегося социума.
Формы подобного противопоставления отражают не неспособность
исследователя адекватно обозначить новое общественное состояние, а
реальные возможности современной социологии, не охватывающей всего
комплекса отношений и противоречий трансформирующегося общества в
условиях, когда оно еще не стало оформившимся целым; заметим, что
понятие «феодализм», например, было введено в научный оборот тогда,
когда сам этот строй уже стал достоянием истории. Таким образом, мы
полагаем, что обозначение нового общества с использованием префикса
«пост-» при всей его условности представляется сегодня наиболее
приемлемым. Нельзя не отметить также, что такой подход вполне допускает
построение на его основе адекватной теории прогресса, так как позволяет
выделить в истории человечества три большие эпохи и противопоставить
формирующийся сегодня социум не всей истории общества, а лишь его
отдельной
стадии;
так,
Д.Белл
обосновывает
существование
доиндустриального, индустриального и постиндустриального общее- тва59,
С.Крук
и
С.Лэш
—
премодернистского,
модернистского
и
постмодернистского состояния60, О.Тоффлер — «первую», «вторую» и
«третью» волны цивилизации61.
На основании всего изложенного можно утверждать, что теория
постиндустриального общества стала результатом взаимодействия и
развития многих экономических, социальных и политологических
концепций. Среди ее предшественников следует назвать созданную на базе
работ новой исторической школы в 40-е и 50-е годы так называемую
трехсекторную
модель
общественного
производства,
жестко
разграничившую всю национальную экономику на первичный (добывающие
отрасли), вторичный (обрабатывающую промышленность) и третичный
(сферу услуг) секторы; разрабатывавшуюся в 50-е и в начале 60-х годов
концепцию стадий экономического роста, часто отождествлявшихся со
стадиями развития самой человеческой цивилизации; доктрину «единого
индустриального общества», чрезвычайно популярную среди технократов в
60-е годы, а также теории как позитивной, так и негативной конвергенции,
позволявшие рассмотреть с относительно унифицированных позиций
противостоявшие тогда друг другу западный и восточный блоки.
Порожденная естественной эволюцией глубокой и многогранной традиции
позитивизма, теория постиндустриального общества не может быть
однозначно отнесена ни к экономической, ни к социологической, ни к
политологической науке. Ее несколько обособленное положение в ряду
прочих социальных доктрин определяется, на наш взгляд, тем, что любая
глобальная по своим методологическим принципам и масштабу
охватываемых проблем теория не может не занимать особого места в ряду
ограниченных своими прагматическими задачами прикладных концепций.
В силу этого в центре внимания сторонников данной теории находится
производство — во всех его аспектах, включая организационные проблемы.
С особой тщательностью анализируются технологические аспекты
производства, распределения и обмена, в то время как их классовый
характер, вопросы эксплуатации и политической власти остаются в стороне,
что особенно заметно на примере изучения ранних этапов развития
человечества.
Индустриальному обществу противопоставляется аграрное в качестве
предшественника и постиндустриальное в качестве преемника. В последнее
время термин «аграрное общество» все чаще заменяется, в полном
соответствии с принятой методологией, понятием «доиндустриальное
общество». Это, на наш взгляд, вызвано модификацией терминологического
аппарата современной запад- ной историографии, классики которой относят
начало становления индустриального общества в Европе к началу XIX века.
Так, Ф.Бродель пишет: «Использование слова "промышленность"
применительно к периоду до XVIII века — или, скорее, до XIX века — не
вполне правильно. Промышленность доиндустриальной эпохи, даже в XVIII
веке, знала лишь средневековые источники и формы энергии, существуя в
условиях господства архаической экономической системы, ничтожной
производительности сельского хозяйства, дорогостоящих и примитивных
способов перевозки и недостаточно развитых рынков»62; А.Собуль
связывает становление индустриального общества во Франции с событиями
первой четверти XIX столетия63. Исследователи экономического развития
европейских стран в XVI—XVIII веках предпочитают использовать для
обозначения доиндустриальной фазы развития понятие «мануфактурная
экономика» как более совершенное, чем «промышленное хозяйство»64, а с
начала 70-х годов, после выхода в свет известной статьи Ф.Мендельса65,
термин «протоиндустриализация» все более становится синонимом процесса
перехода от аграрной системы к индустриальной66. Таким образом,
возникающая триада «доиндуст-риальное — индустриальное —
постиндустриальное общество» приобретает вполне завершенный с
методологической и терминологической точек зрения характер.
Основным признаком доиндустриальной стадии развития общества считается
такая организация производства, при которой почти вся рабочая сила занята
в непосредственном производстве предметов потребления, в основном
продовольствия, механизмы обмена неразвиты, процессы урбанизации
находятся в зачаточном состоянии, а политическая элита осуществляет
управление обществом без серьезной экономической базы своей власти. По
словам Д.Бел- ла, «жизнь в доиндустриальных обществах, которые до сих
пор являются основной формой существования для большинства населения
мира, представляет собой главным образом взаимодействие с природой.
Рабочая сила занята преимущественно в добывающей промышленности:
сельском и лесном хозяйстве, горном деле и рыболовстве. Человек
использует грубую мускульную силу, действует унаследованными от
предыдущих поколений методами, и его восприятие окружающего мира
формируется под влиянием природных условий определенной местности —
смены времен года, ураганов и бурь, плодородия почвы, запасов воды,
глубины залегания полезных ископаемых, периодичности засух и
наводнений. Жизненные ритмы определяются обстоятельствами, которые
невозможно предвидеть»67. Ему вторит О.Тоффлер, отмечающий, что
«общества "первой волны" получали энергию от "живых аккумуляторов" —
мускульной силы человека и животных — или от солнца, ветра и воды...
товары обычно производились кустарным способом; изделия изготовлялись
поштучно и на заказ, что в значительной степени относилось и к
распределению»68. Отличие доиндустриальных обществ от развитого
индустриализма наиболее удачно подчеркнуто Ж.Бодрийяром, который
указал, что примитивные сообщества не обладали ни специфическим
способом производства, ни самим производством в том смысле, в каком эти
понятия применимы для анализа современного социума69.
Необходимо отметить, что доиндустриальная стадия не противопоставляется
исследователями всем остальным этапам общественной эволюции в качестве
чего-то такого, что должно быть разрушено и отринуто наступающей
индустриальной эпохой. Как подчеркивает Д.Белл, аграрное хозяйство
отличается от индустриального тем, что в качестве основного ресурса оно
использует сырье, а не энергию, предполагает извлечение продуктов из
природных материалов, а не их производство, и вынуждено наиболее
интенсивно использовать труд, а не капитал; однако при этом отмечается, что
«постиндустриальное общество не замещает индустриальное или даже
аграрное общество... оно добавляет новый аспект, в частности в области
использования данных и информации, которые представляют собой
необходимый компонент усложняющегося общества»70. Сравнивая
доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное состояния как
преимущественно естественную, технологическую и социальную71 формы
человеческих сообществ, пост-индустриалисты никогда не упускают из вида
системы складывавшихся в соответствующие периоды личностных
взаимоотношений, отмечая, что в доиндустриальных обществах важнейшим
аспектом социальной связи была имитация действий других людей, в
индустриальном — усвоение знаний и возможностей прошлых поколений,
тогда как сегодня интерперсональные взаимодействия становятся в полной
мере комплексными и охватывают все стороны социальной структуры72.
Сторонники
постиндустриальной
теории
зачастую
отмечают
методологическую сложность четкого определения отдельных типов
общества и тем более их хронологических границ. Ни то, ни другое не
рассматривается ими в качестве потенциального недостатка создаваемой
теоретической системы, ибо таковая обращена в первую очередь на изучение
и утверждение эволюционного, а не революционного начала в истории
человечества. Так, Р.Арон, указывая, что индустриальный строй,
приходящий на смену традиционному обществу, представляет собой «такой
тип социума, который открывает новую эру в историческом развитии»,
отмечает при этом, что «легко дать абстрактное определение каждой формы
социума, но трудно обнаружить его конкретные пределы и выяснить,
является ли то или иное общество архаическим или индустриальным»73.
Д.Белл, рассматривая процесс становления постиндустриального состояния,
также отмечает, что оно приходит «взамен индустриальной системы так же,
как она пришла на смену аграрной,.. но это не должно означать прекращения
производства материальных благ. Постиндустриальные тенденции, —
продолжает он, — не замеща- ют предшествующие общественные формы как
"стадии" социальной эволюции. Они часто сосуществуют, углубляя
комплексность общества и природу социальной структуры»74.
Подобные представления о доиндустриальном и индустриальном периодах
предполагают, что и обществу постиндустриальному вряд ли может
соответствовать четкая дефиниция, основанная на одном или хотя бы
небольшом числе базовых характеристик. В развернутом определении
постиндустриализма, данном Д.Беллом, отсутствует четкое обозначение его
фундаментального признака. Автор пишет: «Постиндустриальное общество
определяется как общество, в экономике которого приоритет перешел от
преимущественного производства товаров к производству услуг, проведению
исследований, организации системы образования и повышению качества
жизни; в котором класс технических специалистов стал основной
профессиональной группой и, что самое важное, в котором внедрение
нововведений... во все большей степени стало зависеть от достижений
теоретического знания... Постиндустриальное общество... предполагает
возникновение нового класса, представители которого на политическом
уровне выступают в качестве консультантов, экспертов или технократов»75.
Естественно, что определить хронологические рамки подобного социума
оказывается достаточно сложно, да это, как правило, и не входит в задачу его
исследователей. Обычно утверждается, что новые тенденции стали нарастать
после второй мировой войны, хотя зачастую это происходило в формах,
дававших,
казалось
бы,
возможность
говорить
об
экспансии
индустриализма76; в случае применения в качестве критерия степени
развитости третичного сектора своеобразной критической точкой считается
середина 50-х годов, когда в США количество работников сферы услуг
превысило количество занятых в материальном производстве77. Однако
реальные изменения, заставившие подавляющее большинство западных
футурологов говорить о современных развитых обществах как о
постиндустриальных, от- носятся к середине и концу 70-х годов и включают
радикальное ускорение технического прогресса, быстрое изменение
структуры занятости, становление нового менталитета у значительной части
населения, а также возникновение ряда ситуаций, необъяснимых с точки
зрения традиционной экономической науки.
Когда сторонники постиндустриальной теории стремятся подчеркнуть
радикализацию технических нововведений, чаще всего в качестве примера
рассматривается развитие информационных технологий. Анализируя период
40-х — 70-х годов, они отмечают, что смена поколений компьютерной
техники и переход от одного технологического решения к другому, более
совершенному, происходит со все возрастающей быстротой: скорость
развертывания информационной революции не только от трех до шести раз
выше темпов развития технологий использования энергии, но и имеет
тенденцию к постоянному ускорению78. Другим признаком ускорения
технического прогресса выступает быстрое сокращение промежутка времени
между изобретением нового процесса и началом его использования в
массовом производстве: если человечеству потребовалось 112 лет для
освоения фотографии и 56 лет — для организации широкого использования
телефонной связи, то соответствующие сроки для радара, телевидения,
транзистора и интегральной микросхемы составляют 15, 12, 5 и 3 года79.
Быстрое изменение структуры занятости также связано с 70-ми - 80-ми
годами, 1согда количество работников, занятых непосредственно в
производственных операциях, сократилось в США до 12 процентов80, а весь
фабричный пролетариат составлял не более 17 процентов трудоспособного
населения81.
Столь же отчетливо наступление постиндустриальной эпохи проявляется в
кризисе традиционных экономических концепций, вызываемом ростом
производства и потребления информации. Так как основным ресурсом
постиндустриального хозяйства является зна- ние (как теоретическое, так и
прикладное), а его использование, в отличие от потребления материальных
благ, во-первых, не тождественно уничтожению блага и, во-вторых, может
осуществляться одновременно неограниченным числом хозяйствующих
субъектов82, применение ряда фундаментальных принципов экономической
теории оказывается невозможным. Сегодня становятся несоизмеримыми
затраты на воспроизводство товаров, учитываемые в трудовой теории
стоимости; в то же время устраняется фактор редкости блага, на чем
основаны многие постулаты современного макроэкономического анализа. В
связи с этим совершенно справедливо утверждение, что вызов, брошенный
«Экономиксу» постиндустриальными изменениями, является самым
решительным за всю историю экономической науки83.
Именно период с начала 70-х до конца 80-х годов представляется теоретикам
постиндустриализма тем историческим этапом, который обусловил
становление нового общества. Значимость происходящих изменений тем
очевиднее, что, несмотря на относительно прохладное отношение к
«революционной» риторике, многие считают преодоление индустриальных
тенденций глобальной революцией, не ограниченной технологическими
нововведениями, а опос-редующей переход к качественно новому состоянию
всего общественного целого84, и даже подчеркивают, что эта революция
представляется самой значительной из всех, которые когда-либо переживало
человечество85.
В завершение краткого обзора картины социального прогресса,
представленной в рамках постиндустриальной теории, отметим основные
методологические принципы выделения трех этапов общественной
эволюции.
Постиндустриалисты
разграничивают
эти
периоды
революционными переходами; подобная периодизация осуществляется ими
на основании нескольких критериев, каждый из которых в достаточной
степени логически и методологически строг. Постиндустриальное общество
противопоставляется
доиндустриаль-ному
и
индустриальному
по
следующим важнейшим направлениям: основному производственному
ресурсу, которым выступает информация, тогда как в доиндустриальном и
индустриальном обществе таковым являлись, соответственно, сырье и
энергия;
характеру
производственной
деятельности,
который
квалифицируется как обработка в противоположность добыче и
изготовлению; и технологии, называемой наукоемкой, в то время как первые
две стадии характеризовались трудоемкой и капиталоемкой технологиями. В
результате возникает знаменитая формулировка о трех обществах, первое из
которых представляет собой взаимодействие с природой, второе —
взаимодействие
с
преобразованной
человеком
природой,
а
постиндустриальное общество выступает в таком случае как взаимодействие
между людьми86.
Подводя итог этой части вступительной статьи, мы хотели бы обратить
внимание на проблему, которая может показаться весьма занимательной для
российских исследователей, а именно на некоторые элементы
методологического сходства постиндустриальной концепции с теорией
общественного развития основоположников марксизма. Мы уже
рассматривали этот вопрос в ряде более ранних публикаций87, но считаем
полезным вернуться к нему, представляя читателям данную антологию.
«Пересечение» марксовой концепции и теории постиндустриального
общества произошло, на наш взгляд, на двух различных уровнях, что и
привело к весьма глубокому проникновению относительно близких идей в
обе концепции. С одной стороны, К. Маркс, творчески усвоивший многие
элементы
исторических
концепций
представителей
европейского
Просвещения конца XVIII века, перенял и целый ряд элементов
позитивистского метода, особенно применительно к теории истории. Их
сочетание с элементами скорее диалектического мироощущения, нежели
диалектического анализа, позволило создать неоднократно исследовавшуюся
нами кон- цепцию общественных формаций (Gesellschaftsformationen)88,
которая может быть названа первьм в истории примером адекватного
подхода к социальному прогрессу89. С другой стороны, марксистская
концепция, даже в ее примитивизированном советскими теоретиками виде,
имела в межвоенный и послевоенный период серьезное влияние на западных
исследователей, которые формировали наиболее важные общефилософские
доктрины в рамках диалога (пусть и не всегда достаточно комплексного и
адекватного) с марксистскими взглядами. По целому ряду проблем, в
частности по вопросам классовой структуры современного общества, роли
технологических изменений в общественном прогрессе, различным аспектам
функционирования политических институтов и так далее, важность этого
диалога была настолько значительной, что позволила, например, Д.Беллу без
всякого преувеличения или иронии говорить о самом себе и о некоторых
своих коллегах как о «постмарксистах»90. Таким образом, в концепции
постиндустриального общества содержится и не может не содержаться
целый ряд положений, которые легко могут быть восприняты российскими
марксистами и способствовать творческому усвоению ее положений
отечественными обществоведами. Остановимся лишь на некоторых из них.
Во-первых, и марксистская концепция, и теория постиндустриального
общества основаны на признании того, что источником прогресса
цивилизации и его измерителем выступает совершенствование форм и
методов материального производства. Какие способы оценки того или иного
общества в марксизме или постиндустриализме мы бы ни взяли, они так или
иначе связаны с анализом совершенства материального (или
нематериального, на соответствующей исторической стадии) производства.
Превосходство одного из обществ над другим марксисты оценивают в том
числе и по более высокой производительности труда, постиндустриалисты —
по источникам энергии и формам производственного процесса; одно из
известных марксовых членений исторического процесса — на периоды
личной зависимости, вещной зависимости и свободной индивидуальности —
хронологически весьма мало отличается от выделения доиндустриального,
индустриального и постиндустриального обществ.
Во-вторых, и это представляется наиболее существенным, оба теоретических
направления выделяют в истории человечества три большие фазы, причем
такое выделение построено на близких методологических принципах, и
внутри него может быть прослежено сходство по нескольким направлениям.
Так, основоположники марксизма отмечают соответственно архаическую91,
экономическую92
и
коммунистическую
общественные
формации
(Gesellschaftsforma-tionen, formations de la societe)93, а сторонники
постиндустриализма — аграрное, индустриальное и постиндустриальное
общество94 или первую, вторую и третью «волны» в истории цивилизации95
на основе оценки форм и методов общественного производства в
соответствующих социумах. И те, и другие признают каждое из
предложенных делений относительно условным, и мысль К.Маркса и
Ф.Энгельса о том, что коммунизм представляет собой «движение,
уничтожающее современное состояние», вполне гармонирует с идеей
Д.Белла о постиндустриальном обществе как абстракции, созданной для
упорядочения наших знаний о перспективах прогресса цивилизации96. Ни
первые, ни вторые не считают возможным говорить о четких
хронологических границах общественных формаций и индустриального
общества; К.Маркс в письме В.Засулич прямо говорит о периоде смены
formations de la societe как об отдельной исторической эпохе97; Р.Арон
признает трудности обнаружения хронологических пределов того или иного
общества98. Сторонники обеих теорий считают, что каждая новая
общественная формация, равно как и каждая новая фаза истории в
понимании постиндуст-риалистов не отрицает и не замещает
предшествующей, а «покоится на ней как на своем базисе» (К.Маркс) или
«добавляет к ней новое измерение»99.
В-третьих,
как
основоположники
марксизма,
так
и
классики
постиндустриальной теории отмечают, что переходы между общественными
формациями и границы индустриального общества ознаменованы
революционными изменениями. При этом и те, и другие признают, что
переход от первичной общественной формации ко вторичной или от
доиндустриального общества к индустриальному представлял собой
длительный процесс, который революционен скорее по своей сущности, чем
по характеру; переход же, опосре-дующий смену экономической
общественной формации коммунистической и индустриальной цивилизации
постиндустриальной представляется как основоположникам марксизма, так и
сторонникам
постиндустриальной
теории
революцией,
способной
радикально изменить ход истории и кардинально преобразовать
человеческое сообщество. Согласно известному мнению Ф.Энгельса,
революция пролетариата будет отлична от предшествующих революций как
революция социальная от революций политических; переход к
постиндустриальному обществу представляется сторонникам данной теории
«наиболее значительной из социальных революций в истории
человечества»100.
В-четвертых, следует отметить значительное сходство в изображении того
социума, который трактуется как коммунистическая общественная формация
или как постиндустриальное общество. Этот аспект следует, разумеется,
рассматривать, делая поправку на исторический период создания марксовой
теории. В середине XIX века невозможно было предвидеть технологические
прорывы конца XX столетия, однако и при этом основоположники марксизма
не раз говорили о техническом прогрессе как основе преобразования
общества. Теоретики постиндустриализма, создававшие свои тео- рии тогда,
когда информационная революция стала реальностью, также определяют
постиндустриальное общество как социум, основанный на высоких
технологиях, причем делают это уже не в качестве прогноза, а констатируя
имеющие место в реальной жизни изменения. С другой стороны, К.Маркс и
Ф.Энгельс совершенно справедливо обозначали грядущее историческое
состояние как общество свободной индивидуальности. Развитие
способностей человека, экспансия субъект-субъектных взаимодействий,
замещение трудовой деятельности проявлениями творческой активности —
все это отмечают в качестве основной характерной черты нового состояния и
исследователи постиндустриального общества. Общая направленность обеих
теорий остается гуманистической, а рассматриваемые ими идеалы —
достойными человека целями исторического прогресса.
В-пятых, можно отметить весьма интересные терминологические сходства
между марксистской и постиндустриальной доктринами. Они, конечно,
могут быть и совершенно случайными, но скорее всего свидетельствуют о
чем-то большем, нежели простое совпадение. И основоположники
марксизма, и такие известные авторы теории постиндустриального общества,
как Г.Кан101 и Д.Белл102, рассматривают третью большую фазу
общественной эволюции как постэкономическую, Симптоматично и то, что
ряд постиндустриалистов, в частности Й.Го-ровиц, говоря о современном
хозяйстве, отмечают, что понятие факторов производства может быть
заменено термином «модели общения»103; похожий термин — «форма
общения» — активно использовался и К.Марксом в тот период творчества,
когда его концепция еще не была тотально подчинена целям обоснования
необходимости революционного изменения общества.
Все изложенное свидетельствует, на наш взгляд, о том, что теория
постиндустриального общества представляет собой весьма серьезную и
глубокую социологическую доктрину, которая имеет продолжительную
историю, весьма глубокие и разветвленные корни, разработанную
методологическую и терминологическую осно- ву и способна служить
действенным средством социального прогнозирования на пороге XXI века.
Данная концепция в значительной мере построена на том же фундаменте, на
котором была создана и марксистская теория, и сформировалась в
противостоянии с нею, результатом чего, однако, стали скорее элементы
взаимного сходства, нежели принципиальные и резкие отличия. Все это
должно поддерживать значительный интерес российских обществоведов к
постиндустриализму, чему мы и стремимся способствовать выпуском этой
антологии.
Рассмотрим теперь эволюцию постиндустриальной доктрины на протяжении
последних полутора десятилетий и очертим круг проблем, затронутых в этом
сборнике, а также основные принципы его компоновки и построения.
В начале 80-х годов внимание к проблемам изучения постиндустриального
общества явно притупилось. На наш взгляд, этому есть две причины.
С одной стороны, взлет теории в начале и середине 70-х годов ознаменовал
завершение продолжительного периода накопления и интерпретации фактов,
позволивших создать эту методологически стройную доктрину. Достаточно
очевидно, что после того, как были осуществлены эти глобальные
обобщения, следовало ожидать либо нового поиска фактов и, по крайней
мере, применения полученных теоретических выводов к прикладным
социологическим исследованиям, либо некоторой переориентации на иные
теоретические построения. В общем и целом можно утверждать, что каждый
из этих моментов имел место в действительности: потенциал дальнейших
обобщений был в значительной мере исчерпан, конкретные исследования
приобрели массовый характер, а внимание многих социологов оказалось
переключено на концепции информационного общества и теорию
постмодернизма.
С другой стороны, ряд событий конца 70-х годов поселил в общественное
сознание на Западе серьезные сомнения в адекватности постиндустриальной
концепции. Одним из наиболее серьезных событий такого рода был сырьевой
кризис, вполне продемонстрировавший зависимость западного мира не
только от индустриальных, но даже и от сырьевых отраслей хозяйства.
Трудные экономические проблемы второй половины 70-х также
способствовали переориентации на более традиционные экономические и
социологические теории, которые, как казалось, могли подсказать выход из
сложившейся ситуации. Наконец, не следует забывать, что быстрый
хозяйственный рост в других регионах мира, особенно в Азии, давал почву
для предположений, будто потенциал индустриального мира далеко не
исчерпан и что высокоразвитые индустриальные державы могут составить
серьезную конкуренцию западному постиндустриальному миру.
В этих условиях особое внимание исследователей привлекали две теории,
противоположные по своим основным методологическим подходам, но
являвшиеся в значительной мере порождением тех же тенденций в
социологии, которые привели и к становлению постиндустриальной
концепции.
Тот акцент, что теоретики постиндустриализма делали на технологическом
профессе и кодификации теоретических знаний как центральных моментах
формирующегося постиндустриального общества, не мог не привести к
становлению других теорий, также учитывающих эти моменты в качестве
основных. Мы уже отмечали, что параллельно с развитием идеи
постиндустриализма формировалась и ее специфическая ветвь, делавшая
упор на технические и информационные стороны организации современного
общества.
Концепция информационного общества была подготовлена фактически всем
ходом дискуссии о производительном и непроизводительном труде и
различными попытками членения обшественного производства на сектора.
Как известно, концепция производительного труда в западной литературе
развивалась, в направлении признания производительным все более
широкого круга видов деятельности. Различные авторы — от Т.Р.Мальтуса и
Дж.Ст.Милля104 — способствова- ли формированию теории, которая,
выраженная позже Ж-Гарнье105, У.Джевонсом106 и А. Маршаллом107,
признавала непроизводительной только активность, воплощенную в благах,
не обладающих актуальной полезностью. Отказавшись, таким образом, от
деления народного хозяйства на отрасли материального производства и
непроизводственную сферу, западные социологи перешли к выделению трех
секторов общественного производства — первичного, охватывающего
сельское хозяйство и добывающие отрасли, вторичного, к которому
относилась прежде всего обрабатывающая промышленность, и третичного,
представленного сферой услуг. Именно развитие третичного сектора и его
доминирование в структуре производства и занятости и рассматривалось
многими
постин-дустриалистами
в
качестве
важного
признака
постиндустриального общества.
Однако 80-е годы нарушили это представление. Уже во второй половине 70-х
стало очевидно, что тот технологический прогресс, который так внимательно
исследовали постиндустриалисты, все более явным образом воплощается в
самостоятельном существовании информации и знаний, которые
приобретают исключительно важную роль в производственном процессе. К
концу 60-х годов доля тех отраслей, которые были непосредственно связаны
с производством и использованием знаний (они получили быстро
распространившееся название «knowledge industries»), в валовом
национальном продукта США оценивалась в пределах от 29108 до 34,5109
процента. Их бурная экспансия, начавшаяся в середине 70-х годов и
продолжающаяся по сей день, радикально изменила структуру
общественного производства.
Информация и знания, понимаемые не как субстанция, воплощенная в
производственных процессах или средствах производства, а уже как
непосредственная производительная сила110, становятся важнейшим
фактором современного хозяйства. Отрасли, производящие знания и
информационные продукты, относимые традици- онно к «четвертичному»
или «пятеричному» секторам экономики, ныне становятся первичным
(«primary»,
пользуясь
терминологией
М.Пората111")
сектором,
«снабжающим хозяйство наиболее существенным и важным ресурсом
производства»112.
Говоря о важности этого ресурса, мы имеем в виду не сугубо качественную
характеристику; речь идет не столько о том, что не избыток или недостаток
сырьевых ресурсов, труда или капитала, а «концепции, которые люди держат
в своих головах, и качество доступной им информации определяют успех или
неудачу предприятия»113, сколько о том, что информационные издержки,
как ранее затраты труда или капитала, становятся основными и в чисто
количественном аспекте. В 1991 году в США впервые расходы на
приобретение информации и информационных технологий, составившие 112
млрд. долл., стали больше затрат на приобретение производственных
технологий и основных фондов, не превысивших 107 млрд. долл.114 Рост
значения информации настолько стремителен, что к началу 1995 года в
американской экономике «при помощи информации производилось около
трех четвертей добавленной стоимости, создаваемой в промышленности»115.
Именно развитие информационных технологий стало в значительной степени
определять экономический потенциал государства в современных условиях и
существенным образом влиять на его положение в мировом разделении труда
и международной торговле. К 1994 году все виды услуг обеспечили около 22
процентов внешнеторгового оборота стран, входящих в Организацию
экономического сотрудничества и развития116, причем 42,2 процента этого
товарооборота составили информационные услуги117. Объем рынка
коммуникационных услуг в 1995 году составил 395 млрд. долл. (из которых
на долю Соединенных Штатов приходится 41 процент118), а рынка услуг по
обработке данных — 95 млрд. долл.119 (контролируется США на 75
процентов120).
В таких условиях перспектива формирования концепции «информационного
общества» становилась вполне закономерной. Как мы отметили выше, этот
термин, введенный в научный оборот в начале 60-х годов фактически
одновременно в США и Японии Ф.Махлупом и Т.Умесао, положил начало
теории, развитой такими известными авторами, как М.Порат, Й.Масуда,
Т.Стоуньер, Р.Катц и др. Концепция «информационного общества», казалось,
предоставила ее сторонникам возможность позитивного определения
наступающего общественного состояния и таким образом позволила сделать
шаг вперед по сравнению с теорией постиндустриализма. Между тем
подобное утверждение вряд ли можно считать очевидным. Действительно,
эта доктрина обогатила наши знания о современном обществе, отметила
целый ряд фундаментальных явлений, ранее не получавших должного
осмысления. В ее рамках были разработаны многие оригинальные
положения, тесно связанные с концепцией стоимости, рассмотрено
возрастание
и
самовозрастание
информационной
стоимости,
проанализированы свойства информации как общественного блага, заложены
основы оценки широкого круга информационных благ и целых социальных
институтов. Однако идея информационного общества в силу ее излишней
зацикленное™ на технологических проблемах развития общественного
производства вряд ли могла претендовать на характер целостной социальной
теории, каковой представляется нам теория постиндустриализма; более того,
значительно развивая некоторые элементы постиндустриальной концепции,
она ни в одном из существенных пунктов не противоречила ей и фактически
могла рассматриваться как одно из направлений постиндустриализма.
Но в этот же период постиндустриальная теория подверглась критике и с
другой стороны, с позиций концепции, претендовавшей даже на более
широкие и глобальные теоретические обобще- ния; то была теория,
изображавшая современный исторический этап в качестве постмодернити, и
на данном направлении следует остановиться подробнее, тем более что эти
проблемы затрагиваются в работах, отрывки из которых составили
настоящую антологию.
Постмодернизм,
основанный
на
безусловно
впечатляющем
культурологическом базисе, возник как ответ не на экономические или
социальные, а скорее на политические и культурологические проблемы, но,
ставя перед собой задачи весьма глобальные, создатели этой теории придали
ей форму комплексной социологической доктрины. Характерно, что как
заметное общественное явление постмодернизм возник тогда, когда сфера
культуры, из которой он объективно вышел, заявила о своих претензиях не
только на особое, но и на доминирующее положение среди остальных
социальных сфер.
Отметим, что обозначение современного периода как modemus возникло
тогда, когда осуществилось жесткое противопоставление христианского
мира языческим обществам Средиземноморья121 как anticuus122,
подчеркивавшее, что именно христианство может и должно быть
отождествлено с реальным прогрессом человечества. Характерно, что
распространение этого понятия, особенно активное с V века123, шло
параллельно с принятием христианской теории прогресса в той
интерпретации, которая была изложена св. Августином и предполагала, что
земной путь человечества не будет вечным124; в этой и только в этой
ситуации обозначение данного отрезка истории как modemus было вполне
обоснованным и логичным и могло стать инструментом социологического
анализа. Между тем в XVII—XVIII веках, в ходе формирования
позитивистской теории, возобладали идеи бесконечности прогресса, а под
модернити стали понимать общества, в которых воплотились идеалы эпохи
Просвещения. В результате оказалось, что эпоха модернити охватывает все
развитие западных обществ начиная с середины XVIII125 (иногда
утверждается, что с конца XVII126 и даже с последней четверти XV127)
века; именно подобное представление и оставалось доминирующим до
середины нашего столетия, и в значительной мере исходя из него
постмодернисты создавали элементы своей теоретической конструкции.
Таким образом, термин, первоначально являвшийся, если можно так сказать,
предельно глобализированным, начинает применяться все более и более
часто к весьма конкретному общественному состоянию и фактически
обозначает буржуазный строй XVIII—XIX веков в его европейском
исполнении.
В сложившейся ситуации нельзя было не видеть двух недостатков
концепции. С одной стороны, отождествляя понятие модернити фактически с
эпохой
господства
буржуазного
способа
производства,
теория
постмодернизма не предлагала тем самым никакого нового подхода к
периодизации истории. С другой стороны, используя весьма условную
терминологию, она постепенно оказывалась в плену другого и главного
своего недостатка — исключительного релятивизма, который позднее привел
ее к многочисленным и глубоким противоречиям.
Мы видели, что первоначально эпоха модернити была определена
христианскими теоретиками как период, который вполне можно обозначить в
качестве постантичного, если бы тогда были распространены сегодняшние
терминологические шаблоны. В XIX и XX веках, когда были радикально
изменены прежде всего ценностные ориентации самих исследователей, к
anticuus были de facto причислены и средневековые общества; чтобы
замаскировать этот прием, модернити стало противопоставляться не
античному обществу, а той эпохе, которую стали называть «традиционной» и
обозначать как post-traditional order128. Все эти методологические
ухищрения использовались и используются только для одной цели, которая,
впрочем, вполне очевидна: под модернити весьма привычно понимать любой
исторический период, кажущийся исследователям вполне развитым и
зрелым. Идея модернити подтвердила тем самым свое никем не
оспаривавшееся сходство с идеей современности; она продемонстрировала
тот факт, что современную эпоху вполне можно и даже должно называть
современной эпохой, однако в то же время она показала свою недостаточную
эффективность в конкретном социальном анализе. Такое понимание
модернити не может не иметь следствием утверждения, что выход за
пределы модернити невозможен, идея постмодернити оказывается, таким
образом, настолько внутренне противоречивой, что немедленно отрицает
самое себя, как только начинает выходить за пределы предмета общения
узкого круга интеллектуалов-культурологов и претендовать на определение
самостоятельного научного направления. Именно подобные претензии и
повлекли за собой глубокий внутренний кризис постмодернистской теории.
Характерно, что появление понятия «постмодернизм» в культурологических
трактатах не намного опередило первые случаи его применения в
социологии, да и то это «опережение» можно считать весьма условным. В
1934 году, когда Федерико де Ониз впервые использовал термин «postmodemismo» для характеристики испанской и латиноамериканской поэзии
начала XX века, стремившейся порвать с канонами прошлого129, историки и
социологи были вполне готовы к тому, чтобы воспринять всю современную
эпоху как post-modem период. Всего через пять лет, в 1939 году, А.Тойнби
обозначил таким образом этап, открытый окончанием Первой мировой
войны, а в 1946 году отодвинул его границы далее, в XIX век, назвав
переломным моментом середину 70-х годов прошлого столетия130. В
послевоенные годы изучение постмодернистских традиций в литературе и
искусстве также шло параллельно с расширявшимся использованием этого
понятия
философами
и
социологами;
наиболее
известные
культурологические статьи Л.Фидлера и Л.Мейера131, где, как считают, был
определен интересующий нас термин132», работы И.Хассана и
Ч.Дженкса133, посвященные развитию постмодернистских тенденций в
искусстве и архитектуре, не говоря уже о трудах Ж.-Ф.Лиотара и
Ж.Бодрийяра134, заложивших основы постмодернистской психологии,
теории языка и других символов, появились на свет даже несколько позже,
чем А.Тойнби стал активно использовать понятие постмодернити в своих
исторических исследованиях, а К.Райт Миллс и П.Дракер определили
формирующийся порядок как post-modem135. Спор о приоритетах и
источниках данной концепции кажется нам поэтому неплодотворным; можно
утверждать, что постмодернизм стал естественной реакцией представителей
разных направлений общественных наук и различных сфер искусства на
возросшую комплексность социума, выделение в котором неких узких форм
человеческой деятельности более не казалось целесообразным.
Нельзя при этом не отметить, что теория постмодернизма основывалась на
более широком интеллектуальном базисе, чем любая другая социологическая
концепция нашего времени. В XX веке фактически каждое социологическое
направление привносило определенные элементы в развитие этой доктрины,
т. к. любое развитие объективно приводило к отрицанию прежней
социальной системы и в этом аспекте способствовало становлению
«постмодернити». Между тем можно утверждать, что в наиболее
завершенном виде данное направление представлено группой французских
интеллектуалов, чьи идеи произросли на той же почве, что дала жизнь и
брожению 1968 года. Такое сочетание самых разнообразных направлений в
рамках единой по своему духу теории привело к тому, что сторонники
трактовки современного мира в качестве постмодернити были потенциально
способны к широкому видению исторической перспективы, однако стоявшие
перед ними задачи оказались решены лишь отчасти, и при этом не самым
совершенным образом.
С одной стороны, выступая с критикой иных социологических теорий, и, в
частности, концепции постиндустриального общества, постмодернисты
повторили пройденный ими путь, когда поспешили определить новое
общество
через
максимально
резкое
его
противопоставление
предшествующему. По мнению А. Турена, «история модернити представляет
собой историю медленного, но непрерывного нарастания разрыва между
личностью, обществом и природой»136; при этом он указывает, что наиболее
опасны разде-ленность социума и активного субъекта137, феномен роста
отчужденности человека от общества, становящейся непомерно высокой
платой за достижение материального и экономического прогресса. Говоря
сегодня о растущей плюралистичности общества138, многовариантности
современного прогресса139, уходе от массового социального действия, об
изменившихся мотивах и стимулах человека140, его новых ценностных
ориентациях и нормах поведения141 как о важнейших характерных чертах
складывающегося общества, сторонники постмодернизма уделяют излишнее,
на наш взгляд, внимание остающимся относительно поверхностными
процессам демассификации и дестандартизации142, преодолению принципов
фордизма143 и отходу от форм индустриального производства144.
Результатом становится ситуация, когда состояние социума, которое
претендует на статус качественно нового, противопоставляется не более чем
традиционному капитализму — либо как дезорганизо- ванный145, либо как
поздний146 капитализм, — несмотря на то, что в философских дискуссиях
такое понимание затушевывается обильной риторикой. Таким образом,
методологически эта концепция не несет в себе ничего качественно нового
по сравнению с теорией постиндустриального общества. ¦
С другой стороны, в рамках постмодернизма оказывается почти
невозможным четкое терминологическое определение формирующегося
социального состояния. Этот момент тесно связан с условиями
формирования самой данной доктрины. Возникнув на волне социальных
трансформаций 60-х, постмодернизм стал наиболее понятным (но при этом и
наименее удачным) термином, в котором воплотились ощущение быстро
меняющегося мира, революционные ожидания того времени и который
оказался весьма удобным для многих деятелей культуры, политиков и
философов147. На этом этапе постмодернизм еще не был наукой, какой он
стал во второй половине 70-х, когда основы нового миропорядка были уже
заложены, а социальные и экономические тенденции успешно объяснены в
рамках постиндустриальной концепции; сама ситуация как бы
предопределяла доктринерский характер нового направления, хотя оно и
оставалось обреченным на популярность благодаря своей фразеологии,
напоминавшей события переломного периода. По мере того как реальная
революционность сходила на нет, революционный и схоластический дух
теории оказывался все более явным. Акцентируя внимание на резком
ускорении социальных изменений на этапе становления постмодерни-ти,
исследователи в то же время не отказывались и от трактовки модернити как
эпохи, «отрицающей саму идею общества, разрушающей ее и замещающей
ее идеей постоянного социального изменения»148; в результате оказывалось,
что не только современное общество следует рассматривать как
постсовременное, но и динамизм его обусловлен не меньшим динамизмом,
уже присутствовавшим в прошлом.
К середине 80-х годов постмодернистская теория пришла в состояние явного
упадка. Попытки преодоления неструктурированности теории, предпринятые
в этот период, в наибольшей степени продемонстрировали всю степень ее
несовершенства.
Первым шагом стал осторожный пересмотр отношения к современной эпохе
как к периоду постмодернити. Наблюдаемый в сегодняшнем мире
технологический, духовный и социальный прогресс все чаще стали
обозначать относительно нейтральным терми- ном «модернизация» 149,
причем подчеркивалось, что в этом качестве может рассматриваться лишь
комплексный процесс, ведущий к становлению новой социальной структуры,
отмечались отличия модернизации как усложнения социальной структуры от
собственно развития, которое может не иметь явной позитивной
направленности150. В результате постмодернити стали трактовать не как
установившееся состояние, а как некий гипотетический строй, формирование
которого относилось к тому периоду, когда процесс модернизации будет
завершен151; между тем сама постановка вопроса о том, что процесс
естественного развития может иметь какое-то завершение, не может не
казаться странной.
Вторым шагом на пути «развития» доктрины стало внесение дополнительной
путаницы в применяющуюся терминологию. Если до середины 80-х годов
доминировала точка зрения, сторонники которой считали modernity и
postmodemity, modernism и postmodernism двумя периодами в социальной
эволюции и двумя культурологическими доктринами соответственно152 или
же в иной форме указывали, что первая пара понятий предназначена для
исследования социальных различий, тогда как вторая фокусируется на
проблемах культуры'0, то во второй половине десятилетия сторонники
постмодернистской концепции стали использовать понятия modernity и
modernism, postmodemity и postmodernism как взаимозаменяемые. Этот шаг
стал очередным признанием неспособности объяснить происходящие
изменения в рамках концепции. Когда в начале 90-х годов стало ясно, сколь
широкий круг явлений охватывается понятиями модернити и постмодернити,
возникла иная позиция: период мо-дернити был ограничен отрезком истории
с середины XVII по конец XIX века, тогда как завершающая треть прошлого
столетия и первая половина нынешнего века стали обозначаться понятием
«модернизм», что должно было подчеркнуть возросшее влияние
интеллектуально-культурной сферы на социальные трансформации этого
времени154.
Третьим шагом стало признание, что «контуры нынешнего мира, который
может быть обозначен как постмодернистский, весьма отличаются от того,
что мы привыкли называть постмодернити»155; это стало фактически тем
последним пределом, за которым объективно начинался распад внутренних
оснований теории.
С начала 90-х, когда потенциал саморазвития нового общества стал
очевиден, а вероятность очередных переломных моментов оказалась
сведенной на нет, начался повсеместный отказ от применения понятия
постмодернити к обозначению современной реальности. Инструментом
осмысления нынешнего состояния общества попытались было сделать
аморфную идею «радикализованной модернити»156; потом была высказана
мысль, согласно которой постмодернити (иногда обозначаемая уже и как
постмодернизм) не является историческим преемником модернити (или
модернизма), а представляет собой его реконституирование157; позже
приверженцы этой концепции переняли распространившееся в 90-е годы
использование термина «beyond», отмечая, что лучше говорить о состоянии,
возникающем «beyond modernity», чем собственно о постмодернити158;
отмечалось также, что постмодернити можно рассматривать как завершенное
состояние модернити, в котором модернити проявляется в наиболее цельной
форме, как modernity for itself159. Это направление получило свое логическое
завершение в утверждении, что то социальное состояние, которое мы сегодня
можем наблюдать, скорее всего является зрелой модернити, тогда как
прежнее, которое в течение десятилетий именовалось модернити, следует
трактовать
как
ограниченную
модернити160;
вся
мудрость
постмодернистской доктрины в этом случае оказалась сведенной к весьма
показательному
рассуждению,
согласно
которому
«модернизм
характеризуется незавершенностью модернизации, а постмодернизм в этом
отношении более современен, чем модернизм как таковой»161.
Это теоретическое отступление сопровождалось радикальными поражениями
постмодернистов на двух других направлениях, каж- б. Иноземцев дое из
которых считалось в свое время исключительно важным для становления их
теории.
С одной стороны, эпоха модернити, формирование которой относилось
сторонниками постмодернизма к XVIII веку, рассматривалась ими как
порождение европейской хозяйственной и политической практики этого
времени. При этом не только указывалось, что «модернити, будучи
порождено Европой, в то же самое время само породило Европу» как
социальную систему, способную к быстрому и динамичному развитию, но и
подчеркивалось, что его расцвет пришелся на XIX век прежде всего как на
период «явного доминирования европейской культуры»162. В соответствии с
этим наступление эпохи постмодернити трактовалось не только сквозь
призму роста культурного разнообразия163 и отхода от принципа
национального государства, остававшегося одной из основ европейского
политического устройства164, но и прямо связывалось с утратой
европейским регионом доминирующих позиций в мировой экономике и
политике и переносом акцентов на иные социокуль-турные модели165.
Однако сначала поражение восточного блока, а в течение последнего года и
крушение мифа об эффективности азиатских экономических систем сделали
западную модель, о противоречивости и малой приспособленности которой к
современным
условиям
столько
раз
говорили
постмодернисты,
единственным мировым лидером накануне наступающего тысячелетия.
Такой ход событий исключает любые апелляции к той революционности, на
которых строились эмоциональные основы постмодернистской идеологии.
С другой стороны, не менее показательна неудача постмодернистов в их
попытках нападок на идеи историзма. Введенный А. Геле -ном термин «постистория»166 активно использовался в 70-е и 80-е годы для того, чтобы
максимально подчеркнуть значение современного социального перехода.
Между тем позднее под воздействи- ем меняющейся реальности подобные
подходы трансформировались в утверждения о том, что «преодоление
истории" представляет собой не более чем преодоление историцизма167,
причем значение этого термина никогда не было внятно объяснено; затем
внимание стало акцентироваться не столько на конце истории, сколько на
конце социального начала в истории168, после чего пришло понимание того,
что речь следует вести уже не о пределе социального развития, а лишь о
переосмыслении ряда прежних категорий169; закончилось же все вполне
утвердившимися положениями о том, что постмодернити не означает конца
истории170, а Европа сегодня не вышла из истории, как не вышла она и из
модернити171.
Все эти отступления от основных провозглашавшихся принципов не могут,
на наш взгляд, допускаться в рамках конструкции, претендующей на роль
социальной теории, определяемой в данном случае как постмодернизм. Коль
скоро поражения на основных направлениях признаны столь явным образом,
естественным следствием может быть лишь утверждение о неспособности
этой концепции адекватно описывать социальные движения нашего времени.
Таким образом, к середине 90-х годов возникла весьма сложная и
противоречивая
ситуация.
С
одной
стороны,
традиционная
постиндустриальная доктрина, подчеркивающая прежде всего центральную
роль знания и ускоряющегося сдвига от производства материальных благ к
производству услуг и информации, в своем оригинальном виде получила
широкое признание, но при этом оставалась скорее методологической
основой для развития новых концепций, нежели теорией, которая могла
непосредственно применяться для описания новых реалий. С другой
стороны, по меньшей мере две доктрины — теория информационного
общества с ее вниманием к технологическим сдвигам и переменам и
концепция пост- модернизма, построенная вокруг акцента на становление
новой личности и ее место в современном обществе, — продемонстрировали
определенную односторонность и стали объектами достаточно резкой
критики. Нельзя не отметить при этом, что большинство теоретиков,
положивших начало традиционной постиндустриальной доктрине,
фактически не вмешивались в ход дискуссии, приведшей к подобному
размежеванию позиций.
В середине 90-х годов в западной социологии сложилась принципиально
новая, на наш взгляд, ситуация, которую мы и хотели бы
продемонстрировать на примере тех работ, что вошли в настоящую
антологию. Характерной чертой этой ситуации стало возобновление попыток
глобального осмысления происходящих перемен, причем подобные попытки
оказываются объективно связанными с важнейшими методологическими
постулатами постиндустриальной доктрины. Представляется, что причины
именно такого направления развития теоретических воззрений на
современное общество кроются в резко уменьшившейся неопределенности
мирового развития.
В течение 80-х и начала 90-х годов страны Запада, несмотря на
сохраняющийся цикличный характер их хозяйственного развития и
определенные социальные и политические трудности, преодолели наиболее
болезненные противоречия и проблемы, которые угрожали стабильности
западной цивилизации.
Во-первых, формирование устойчиво функционирующего хозяйства,
основанного на новейших технологических достижениях и не только
обеспечивающего быстрый экономический рост, но и не допускающего в
течение последних десятилетий того кошмара в виде гигантской безработицы
и социальной напряженности, который яркими красками изображался в 60-е
годы, обусловило установление социального мира в большинстве развитых
стран, а формирование социального рыночного хозяйства свидетельствует,
что это изменение в самом ближайшем будущем будет окончательно и
прочно закреплено. Результатом стало резкое упрочение внутренней
стабильности постиндустриального мира, который впервые стал развиваться
на своей внутренней основе, находясь в полной безопасности от значимых
социальных потрясений. Все это сформировало фундамент для одного из
наиболее важных изменений — радикально обновился менталитет работника
и стала складываться новая система ценностей современного человека,
адекватная ны- нешней социальной структуре. Появление элементов
постматериалистической мотивации становится, на наш взгляд, тем
важнейшим
фактором,
без
которого
стабильное
развитие
постиндустриального общества оказывается невозможным, однако (что
необходимо подчеркнуть особо) фактор этот фактически не анализировался с
должным вниманием в работах основателей постиндустриализма в 70-е годы.
Во-вторых, страны свободного мира одержали важную историческую победу
над коммунистическим блоком. Следствия экономического краха
социалистической системы и распада Советского Союза были весьма
многообразны и, вполне можно утверждать, играли доминирующую роль в
определении социального и политического климата в первой половине 90-х
годов. С одной стороны, западный мир получил чисто экономические
преимущества — от сокращения военных расходов и затрат на сдерживание
СССР и его союзников (что стало не последним фактором, позволившим
США достичь в 1997/98 финансовом году бездефицитного бюджета) до
открывшихся новых возможностей высокоэффективных инвестиций в
развивающиеся хозяйственные системы и появления огромного
дополнительного рынка сбыта для своих товаров. С другой стороны, что
было не менее, а может быть, и более важным, произошел очень сильный
сдвиг как на политическом, так и на психологическом, если можно так
сказать, уровне: западные страны утвердились в своем положении мирового
гегемона и приступили к формированию однополярного мира, который, судя
по все-- му, ознаменует первую половину следующего столетия.
В-третьих, огромную роль сыграло и то, что современный тип
технологического развития радикально измененил взгляд на экологические
проблемы. В 70-е и 80-е годы экологические вопросы, с одной стороны, были
существенным фактором внутренних противоречий в постиндустриальных
странах, с другой — в значительной степени определяли зависимость
западной цивилизации от других регионов мира, богатых природными
ресурсами. Сегодня технологическая революция и продуманная внутренняя
политика предотвратили ухудшение экологической обстановки в развитых
странах, прежде всего в Европе, и сделали разработку и использование
природоохранных технологий одной из наиболее привлекательных сфер
инвестирования капитала и знаний. Кроме того, применение
невозобновляемых ресурсов и энергоносителей сократилось столь резко, что
следствием стало катастрофическое для доиндустриаль-ных регионов и
России падение цен на полезные ископаемые, лишь увеличившее мощь и
влияние постиндустриального сообщества. Все эти три фактора
иллюстрируют определенную самодостаточность постиндустриальной
цивилизации, достигнутую к середине 90-х годов.
Между тем развитие постиндустриального общества не является процессом
беспроблемным и непротиворечивым. Существует целый ряд вопросов,
которые, на наш взгляд, могут существенным образом осложнить переход от
современного состояния к зрелому постиндустриальному строю; это вопросы
экономического, социального и культурологического характера. Не будучи в
состоянии рассмотреть их достаточно подробно, остановимся лишь на теме,
прямо или косвенно связанной с проблемой адекватности тех рыночных
оценок, которые казались незыблемыми и неоспоримыми в условиях
индустриализма и которые сегодня кажутся весьма шаткими и
неопределенными. В период, когда идеологи российских хозяйственных
реформ столь уверенно направляют страну по пути развития рыночной
экономики, было бы совершенно неправильно, на наш взгляд, не замечать,
что применение традиционных методов и индикаторов наталкивается на
серьезные препятствия.
Природа этих препятствий, как мы полагаем, кроется в том, что современная
общественная трансформация инициируется изменениями, происходящими
прежде всего на индивидуальном, а иногда даже социопсихологическом
уровне; как следствие, многие хозяйственные закономерности и отношения
нередко приобретают новое содержание, но продолжают рассматриваться с
прежних позиций, что может приводить (и приводит) к ошибочным выводам.
Даже если оставить за рамками этой вводной статьи проблемы, связанные с
новыми социальными конфликтами внутри развитых обществ, с
современным пониманием свободы и открывающимися возможностями
самореализации личности, нельзя не упомянуть о тех элементах внутренней
противоречивости формирующейся цивилизации, которые связаны с
изменениями в стоимостных отношениях и в системе собственности.
Распространение нелимитированных, но в то же время невоспроизводимых
благ, усиление роли информации и других уникальных ресурсов в
производстве готового продукта в любой отрасли промышленности и сферы
услуг, снижение доли стоимости сырья, материалов и рабочей силы в цене
результата труда, не говоря уже о неэкономически мотивированной
деятельности, становящейся важным фактором производственного процесса,
— все это делает традиционные характеристики общественного хозяйства
все более и более условными.
Особенно заметно это на двух примерах.
Во-первых, с каждым новым шагом на пути становления зрелой
постиндустриальной
цивилизации
становится
все
более
явным
несовершенство современных макроэкономических показателей. Такие
инструменты оценки хозяйственного развития, как валовой национальный
продукт, национальный доход и им подобные (которые, нельзя не отметить,
рассматривались Д.Беллом и другими авторами в 60-е и 70-е годы как
наиболее
важные
показатели
экономического
планирования
и
прогнозирования), сегодня оказываются анахронизмами. Так, мало уже кто
возражает против того, что показатель валового национального продукта
содержит информацию только о прямых издержках на производство благ и
не в состоянии отразить ущерб, который наносится обществу и окружающей
среде их использованием; что в условиях информационной революции
движение стоимостных показателей, одним из которых является и ВНП,
ничего не говорит о реальном соотношении производимых и потребляемых
благ; что за пределами содержания ВНП остаются значение и роль
нематериальных активов, важность учета которых сегодня очевидна; что в
нем не могут быть отражены качественные характеристики продукта,
являющиеся наиболее актуальными в условиях современного производства,
и так далее. Отсюда вытекает необходимость пересмотра важнейших
хозяйственных индикаторов, самой теории экономического роста и его
темпов, переоценка проблемы государственных расходов, внешнего и
внутреннего долга и многое другое.
Во-вторых, неадекватность традиционных индикаторов ярко проявляется и
на примере роста нематериальных активов современных корпораций,
неисчислимых на основании экономических принципов, и связанных с этим
последствий. В этой связи следует отметить три весьма тревожных
обстоятельства. Первое связано с тем, что суммарная доля нематериальных
активов современных компаний и корпораций растет, но этот рост далеко не
всегда соответствует увеличению их реального хозяйственного потенциала.
Прежние стоимостные показатели оказываются сегодня неспособ- ными
адекватно отразить рыночную оценку компаний; об этом свидетельствует
увеличение разрыва между стоимостью предприятий, указанной в их
балансе, и ее оценкой со стороны инвесторов. Такие процессы радикально
воздействуют на все стороны экономической жизни: их проявлением
становятся рост фондовых индексов вне реальной зависимости от развития
производства материальных благ и услуг и увеличивающийся отрыв
суммарных финансовых активов от реальных объемов производства — и это
есть второе тревожное обстоятельство. Третье связано с быстрым подъемом
курсовой стоимости акций, приводящим к беспрецедентному отрыву
финансового и фондового рынков от реального хозяйственного развития,
особенно заметному в последние десятилетия.
Все это делает чрезвычайно актуальным анализ роли и места стоимостных
отношений в условиях формирования информационного общества, и этот
анализ оказывается в центре внимания современных социологов,
исследующих проблемы становления постиндустриальной цивилизации.
Учитывая изложенное, нетрудно понять, что развитие постиндустриальной
доктрины в 90-е годы приняло весьма специфический характер. Одно из
основных проявлений этой специфичности заключается в том, что
одновременно стали проявляться две хотя и не противоречащие друг другу,
но в исполнении современных социологов достаточно разобщенные
тенденции — стремление к широким обобщениям, отмечающее ренессанс
теоретических поисков, столь распространенных в 60-е и 70-е годы, и
тщательное и детальное изучение частных вопросов, которое было
безусловно преобладающим в 80-е. Кроме того, сегодняшние теоретические
прорывы
в
осмыслении
природы
и
направлений
развития
постиндустриального общества гораздо в большей мере, нежели прежде,
порождены изучением частных экономических и социальных проблем. Если,
например, исследования Г.Кана, Д.Белла, К.Томина-ги, Р.Дарендорфа и
других пионеров постиндустриализма базировались прежде всего на
глубоком осознании радикально изменившегося характера современного
общества, что было связано как с повышением роли науки, так и с
беспрецедентными хозяйственными трансформациями, то сегодня наиболее
значимыми оказываются работы, авторы которых пришли к широким
теоретическим обобщениям в первую очередь вследствие изучения частных
проблем — изменяющейся практики современного менеджмента, предпочтении работников, политических и экологических особенностей,
трансформирующихся принципов оценки производственных и сервисных
компаний и так далее. При этом характерно, что по сей день в западной науке
не появилось работ, которые могли бы, например, превзойти классический
труд Д.Белла о постиндустриальном обществе и возвестить о новой
глобальной парадигме, которой должно следовать развитие социологии в
XXI веке. Именно поэтому мы говорим о современных исследованиях как о
«новой постиндустриальной волне» в западной науке, но не как о
возникновении новой теории социального прогресса. На наш взгляд,
несмотря на оживление общетеоретической и методологической дискуссий в
последние годы, исследование конкретных социальных проблем доминирует
сегодня и будет доминировать на протяжении ближайшего десятилетия в
рамках постиндустриального направления. И дело здесь не только в
необходимости более глубокого обобщения новых фактов, но в гораздо
большей степени в незавершенности самих процессов, которые обозначили
бы какое-то новое русло в развитии постиндустриальной доктрины.
Сегодняшний мир находится, несмотря на отмеченные выше факторы его
устойчивости, в гораздо более динамичной и даже несколько хаотической
фазе по сравнению с той, когда были созданы работы классиков
постиндустриализма. Нельзя не вспомнить, что Д.Белл основывал свои
теоретические построения прежде всего на таких фактах, как явное
обострение внимания к научным исследованиям и их практическое
применение (что было очевидной тенденцией с конца второй мировой
войны),
доминирование
сервисного
сектора
над
материальным
производством (что также четко обозначилось в 50-е и 60-е годы) и
становление социально ориентированного рыночного хозяйства (что было
неизменной целью как европейских, так и американского правительств в 60-е
и начале 70-х годов). Таким образом, его книга фиксировала тенденции,
достаточно явно проявлявшиеся на протяжении по крайней мере четверти
столетия, и описывала первый этап становления постиндустриального строя,
который к тому времени казался вполне завершенным. В современных
условиях мы являемся свидетелями существенно иной ситуации. Сырьевой и
экологический кризис, особенно драматично проявившийся в середине 70-х,
был радикально преодолен только к началу 90-х; распад социалистической
системы, на идее сосуществования с которой была в значительной мере
основана прежняя концепция, произошел всего десять лет назад;
информационная экономика пока еще только формируется, а рост фондовых
индексов и возможная в связи с этим дестабилизация стали приметой
последних лет. Весьма характерно, что только в прошлом году разразился
экономический кризис в Азии, которая совсем недавно, как предполагали,
могла бросить вызов западному хозяйственному превосходству; это углубило
понимание роли именно информационного прогресса, а не индустриальной
мощи современных государств. Таким образом, сегодняшние теоретические
обобщения объективно не могут быть столь глобальными и четкими, как
четверть века назад, хотя само их появление свидетельствует о том, что этап
простого накопления фактологических данных, неизбежно следующий за
периодом быстрого теоретического развития любой концепции,
приближается к своему естественному завершению.
Итак, мы подошли к вопросу о том, какие группы социологов определяют
современное состояние постиндустриальной теории. Несмотря на всю
условность, мы считали бы возможным выделить три типа исследователей,
работы которых оказывают наиболее сильное влияние на формирование
нового облика данной концепции.
К первой группе мы отнесли бы ученых, которые принимали участие
(причем многие из них весьма активное) еще в дискуссиях 70-х годов, но
сегодня представляют уже не столько результаты исследований
относительно частных проблем, а широкие концептуальные работы.
Наиболее ярким представителем этой группы может служить П.Дракер, один
из самых известных творцов современной теории менеджмента,
опубликовавший
в
1995
году
ставшую
бестселлером
книгу
«Посткапиталистическое общество», в которой он изложил свои воззрения на
современное состояние и перспективы развития западной цивилизации.
Нельзя не отметить, что в этой работе термин «посткапиталистическое
общество», введенный Р.Дарендорфом в 1959 году, фактически впервые
получил детальное обоснование и стал основой концепции, претендующей на
глобальный характер. К той же группе относится Дж.К.Гэлб-рейт, патриарх
американской экономической науки и автор «Нового индустриального
общества». В своей книге «Справедливое общество» (1996) он излагает
комплексное видение мира, стоящего на пороге нового столетия. С меньшим,
нежели у Дж.К.Гэлбрейта, налетом долженствования, опираясь на последние
тенденции ми- рового прогресса, подходит к рассмотрению современных
проблем в своем труде «Будущее капитализма» и Л.Туроу, возглавляющий
школу менеджмента при Массачусетсском технологическом институте. Как и
прежде, исследуют вопросы взаимодействия индивида и общества, личности
и государства такие известные социологи, как американец А.Этциони
(«Новое золотое правило», 1997) и французский социалист А. Турен
(«Сможем ли мы жить вместе?», 1997). Весьма интересно трактует будущее
западного мира и перспективы межцивилизационного диалога один из
ведущих американских политологов, участвовавший еще в политических
дебатах 70-х, С.Хан-тингтон («Столкновение цивилизаций и формирование
нового мирового порядка», 1997).
Все эти работы, хотя они и посвящены различным проблемам (а потому
помещены в разные части представляемой антологии), близки друг другу по
целому ряду аспектов. Во-первых, их авторы — известные социологи, не
понаслышке знающие об экономических и политических процессах, которые
ознаменовали послевоенный период, пережившие многие потрясения,
выпавшие на долю западных стран, и уже в силу этого способные к самым
глубоким и неординарным обобщениям. Во-вторых, каждый из них пришел к
потребности создать посвященные глобальным проблемам работы в силу
продолжительного и всестороннего исследования определенного типа
проблем, сформировавшегося в западном обществе в последние десятилетия.
В-третьих, представленные исследования выполнены в главном русле
постиндустриальной теории, и их авторы не покушаются на ее
методологические основы, а скорее обогащают концепцию, аккуратно и
бережно инкорпорируют в нее новые элементы; ни одна из названных здесь
работ в явной форме не претендует на создание альтернативной глобальной
теории.
Вторая группа исследователей способна, на наш взгляд, определить лицо
западной социологии в начале нового столетия. Это не означает, что речь
идет исключительно о молодых ученых, выступивших в 90-е годы со своими
новаторскими работами. Мы говорим о представителях разных поколений,
которые акцентируют свое внимание на относительно частных социальных
проблемах, но уже накопили явный потенциал для глобальных обобщений и
формулирования новой концепции перспектив цивилизации. К предста-'
вителям этой группы, работы которых включены в нашу антологию,
относятся молодой американский исследователь Ф.Фукуяма, из- вестный
прикладной социолог Р.Инглегарт, ведущий японский футуролог Т.Сакайя и
шведский исследователь Л.Эдвинссон. На первый взгляд, между ними можно
найти гораздо больше черт различия, нежели сходства. Ф.Фукуяма,
получивший известность в 1989 году, после опубликования его статьи
«Конец истории» (на ее основе он написал затем книгу под тем же
названием), изначально поставил весьма глобальные вопросы и наметил
весьма перспективные цели; между тем новая его книга («Доверие», 1995),
отрывок из которой включен в этот сборник, показывает не только глубокую
обоснованность целого ряда приведенных в первой работе положений, но и
раскрывает весьма нетрадиционный взгляд автора на вопросы современной
социальной эволюции. Напротив, Р.Инглегарт в двух представленных здесь
работах («Культурный сдвиг в зрелом индустриальном обществе», 1990, и
«Модернизация и постмодернизация», 1997) проделывает совершенно
противоположную эволюцию, начиная с исследования системы
предпочтений и ценностей личности в наиболее успешно развивающихся
постиндустриальных странах и переходя затем к осмыслению того, как эти
изменения воздействуют на поляризацию современного мира и определяют
происходящие в нем процессы. Т.Сакайя, посвятивший целый ряд своих
трудов
исследованию
процессов
технологического
развития
и
совершенствования информационных технологий, анализирует вопрос о том,
к каким переменам в хозяйственной системе, в мотивах деятельности
работников и в стереотипах поведения приводит подобный прогресс и
какими могут стать его последствия («Стоимость, создаваемая знанием, или
История будущего», 1991). И, наконец, Л.Эдвинссон, признанный сегодня в
мире как один из наиболее известных экспертов по проблеме
«интеллектуального капитала», ставит в центр своей работы проблему
отличия хозяйственной системы, основанной на производстве и
использовании интеллектуального капитала как своей важнейшей цели, от
традиционной рыночной экономики (Эдеинссон Л., Мэлоун М.
«Интеллектуальный капитал», 1997).
Все названные выше работы имеют ряд общих черт, которые, на наш взгляд,
и обусловливают их значимость на современном этапе постиндустриальной
трансформации. Во-первых, они посвящены важнейшим проблемам
современной жизни, связанным с воздействием личностных факторов на ход
и направления постиндустриальной трансформации. Они акцентируют
внимание на том, что именно роль и значение человека как субъекта
производства и активной личности определят основные характеристики
социальной системы будущего, где доминирующая роль материального
производства окажется в общем и целом преодоленной. Во-вторых, авторы
большинства этих работ пока еще не вышли за рамки осмысления пусть и
весьма значимых, но все же вполне конкретных социальных проблем; здесь
сохраняется большой потенциал для обобщений, а выдвигаемые тезисы
могут непосредственно быть проверены на практике. В-третьих, в связи с
тесным переплетением общетеоретических проблем и практических
вопросов в рамках данной сферы исследования она будет в ближайшие годы
развиваться не только в силу одного лишь стремления к обогащению
академических знаний, но и под воздействием реальных хозяйственных
потребностей, что неизбежно придаст ей определенный динамизм и станет
залогом появления у ее современных лидеров большого числа учеников и
последователей. Таким образом, мы склон-ны полагать, что именно в этой
области в начале следующего столетия будут сделаны наиболее значимые
для развития социологической науки выводы и обобщения.
Третья группа представлена исследователями, в творчестве которых пока
еще не определилось оптимальное сочетание общетеоретических положений
и конкретных, прикладных проблем, актуальных в сегодняшнем обществе.
Они издают достаточно много разнообразных работ, но так как мы
стремились дать российскому читателю представление прежде всего о
достижениях в рамках постиндустриализма, мы не акцентировали на них
особого внимания. Исследования подобного типа представлены в антологии
отрывками из двух частей трилогии М.Кастельса «Информационная эра»
(«Становление общества сетевых структур», 1996, и «Могущество
самобытности», 1997) и доклада Римскому клубу за 1997 год, выполненного
коллективом автором под руководством Э. фон Вайц-зеккера («Фактор
четыре», 1997). На первом примере читатель может отчетливо увидеть, как
проявляется противоречие между стремлением к исследованию новых
фактов и желанием достичь широких теоретических обобщений. М.Кастельс
в своем фундаментальном трехтомном исследовании обосновывает, в
частности, ту точку зрения, что наиболее важной чертой современного
общества является его «сетевой» характер, сменяющий прежнюю
стратифицированную структуру. Рассматривая множество различных по своей сути процессов, автор вынужден постоянно примирять различные
противоречия в своей концепции, в результате не только не возникает
строгой теоретической системы, но даже не определяются внятным образом
основные используемые понятия. Этот пример наиболее, на наш взгляд,
отчетливо свидетельствует о том, что в современных условиях еще не
пришло время для новых обобщений, так как сами развертывающиеся
процессы еще не завершены, а их пусть даже подробное, но поверхностное
описание не позволяет достаточно ясно выявить существенные тенденции
социального прогресса. Похожую позицию, но с учетом специфики
поднимаемых проблем, заняли и авторы доклада Римскому клубу,
посвященного в основном проблемам экологии. На этот раз в работе
доминирует идея проведения ряда мер, осуществляемых на надгосударственном уровне, которые, по мнению авторов, способны предотвратить
экологическую катастрофу. Между тем фактически вся книга наполнена
примерами, демонстрирующими скорее обратное, а именно то, сколь активно
и эффективно используются природоохранные технологии в западных
странах на основе уже существующих и четко функционирующих рыночных
принципов. В результате книга, насыщенная фактами и примерами,
завершается выводами, которые умещаются всего на нескольких страницах,
причем большинство из них вполне очевидны, а те, что не могут быть
отнесены к этой категории, остаются более чем дискуссионными.
Такие работы отражают два важных момента. Во-первых, они
свидетельствуют, что современная ситуация в постиндустриальных странах
не может определяться как простая совокупность новых фактов и явлений, а
требует тщательного выявления скрытых в ней тенденций. Более того, эти
тенденции вряд ли могут найти сегодня отражение в новой броской
доктрине; скорее, они находятся в русле сделанных ранее футурологических
прогнозов. Во-вторых, такие исследования лишний раз подтверждают, что
современный социальный прогресс не является заданным и управляемым
процессом; правильнее рассматривать его как некий сложный процесс,
естественным
образом
развивающийся
на
основе
внутренних
закономерностей. В частности, преодоление экологической опасности стало
явно выраженной тенденцией не под воздействием мифических всемирных
экологических налогов, а вследствие такого прогресса технологий, который
сделал ресурсе- и энергосберегающие методы производства экономически
выгодными. Поэтому, на наш взгляд, разного рода глобалистские и по самой
своей идее нормативного -кие работы не имеют серьезных перспектив в
условиях современной эпохи, имеющей ярко выраженный переходный
характер.
Обращаясь непосредственно к композиции предлагаемой антологии,
хотелось бы сделать несколько пояснительных замечаний. Сама идея издания
подобной книги в определенной мере была инициирована сборником «Новая
технократическая волна на Западе», изданном в Москве издательством
«Прогресс» в 1986 году. В значительной мере именно это определило и
похожее название данной антологии. В те времена, когда каждая новая
переводная книга воспринималась с огромным интересом, я, тогда студент
экономического факультета Московского университета, был восхищен
работой, которую проделали составители этого сборника. Сегодня мне
кажется очевидным то, насколько искусственно был сужен круг авторов, чьи
работы оказались включенными в книгу 1986 года. Кроме того, в нее вошли
не только отрывки из фундаментальных работ тех или иных авторов, но
также их статьи и выступления, которые скорее популяризировали ранее
заявленные позиции, чем были примерами новаторского изложения. И,
наконец, даже к моменту публикации отобранные тогда фрагменты имели
как минимум десятилетнюю историю, а то и относились даже к началу 70-х.
Тем не менее именно то издание, вызвавшее столь живой и неподдельный
интерес у меня и многих моих друзей и коллег, рассматривалось мною как
ориентир, которого надлежало держаться и который хотелось превзойти.
В нашей антологии представлены 22 книги, изданные в середине и второй
половине 90-х годов. Хотелось познакомить российских читателей прежде
всего с теми работами, которые вышли в течение последних трех лет и,
скорее всего, еще не известны ни большинству читающей публики,
интересующейся социальными проблемами, ни даже многим специалистам.
Вполне возможно, что кто-то из авторов вообще не знаком российским
исследователям, так как их работы имеют достаточно специальный характер,
а реферирование и рецензирование выходящих на Западе книг по
социологической проблематике сегодня практикуется в России меньше, чем
в 80-е годы. В то же время мы стремились по возможности широко
представить также и труды мэтров современной социальной науки, работы
которых, несомненно, известны отечествен- ным ученым (а некоторые даже
переводились в СССР и России), чтобы продемонстрировать направления их
новейших исследований и достигнутые результаты.
Все выбранные для публикации тексты сгруппированы в четыре части,
отражающие, на наш взгляд, основные блоки проблем, над которыми
работают современные западные социологи.
Первый раздел посвящен методологическим проблемам современной
социальной теории. Здесь представлены работы как признанных классиков
экономической и социологической науки, таких, как П.Дракер,
Дж.К.Гэлбрейт, Э.Гидденс или Л.Туроу, так и молодых исследователей (в
частности, Ф.Фукуямы) и авторов, чьи работы имеют скорее популярный
характер (таких, как Ч.Хэнди), но оказывают весьма существенное
воздействие на формирование современного «интеллектуального климата» и
мировоззрение молодых социологов. Именно работы такого рода позволяют
нам утверждать, что методология исследований современного общества в
русле постиндустриальной традиции представляется вполне жизнеспособной
и может быть успешно использована социологической наукой в
наступающем XXI веке.
Во втором разделе рассматриваются главным образом проблема
самосознания современного человека, его мотивов и целей, его отношения к
другим людям и к обществу в целом. Поскольку эта тема так или иначе
обсуждается в большинстве представленных в сборнике работ, выбрать те из
них, что следовало бы поместить именно в эту рубрику, было достаточно
непросто. В конечном счете мы остановились на двух книгах Р.Инглегарта,
втором томе трилогии М.Кастельса и последней работе А.Этциони, в
которых
данная
проблема
однозначно
находилась
в
центре
предпринимаемых авторами исследований.
Третий раздел кажется нам исключительно важным по двум причинам. Вопервых, в нем представлены авторы, в своем большинстве неизвестные
отечественному читателю, либо отрывки из книг, редко цитирующихся даже
на Западе (к таким относится, например, «Адаптивная корпорация»
О.Тоффлера, выходившая всего лишь одним изданием, но содержащая
тезисы, весьма ценные для понимания основ деятельности современной
компании). Во-вторых, именно в этом разделе содержатся прямые или
косвенные указания на то, что нынешняя система хозяйства весьма серьезно
отличается от капитализма свободного рынка, который российские
реформаторы стремятся построить, считая его образцом современного
общества. Центральной проблемой этого раздела выступает вопрос об
источниках богатства постиндустриальных наций, о неприменимости
традиционных стоимостных ориентиров, о формировании и использовании
«человеческого» и «интеллектуального» капитала.
В четвертом разделе объединены весьма разнородные работы по актуальным
проблемам современного мира — от взаимоотношений развитых и
развивающихся стран до экологических задач. Здесь читатель найдет и
концептуальные работы М.Кастельса и А. Турена, и фрагменты из книг,
авторы которых делают акцент на проблемах не столь теоретических и
рассматривают их с конкретных позиций сегодняшнего дня. Это прежде
всего новая книга Донеллы и Ден-ниса Мидоузов, авторов нашумевшего
первого доклада Римскому клубу; сегодня под влиянием устойчивого
развития постиндустриальных стран авторы вынуждены пересмотреть ряд
апокалипсических прогнозов, выдвинутых ими ранее. Глубокий анализ
современных международных проблем, содержащийся в трудах С.Хантингтона и бывшего министра труда США Р.Райха, также представляет
значительный интерес. Не останется незамеченным и отрывок из книги
А.Гора, дающей представление о нем не только как о видном деятеле
Демократической партии и вероятном кандидате на пост президента США в
2000 году, но и как о серьезном ученом-экологе.
С учетом того, что авторы большинства представленных в сборнике книг
мало знакомы отечественному читателю, мною подготовлены подробные
научно-биографические справки о каждом из них (некоторые были любезно
предоставлены самими авторами). В рамках этих справок предпринята также
попытка оценить каждую из представленных книг в целом, равно как и
отметить ее влияние на ход современных научных дискуссий.
Завершая вводные замечания, мне хотелось бы отметить заслуги тех моих
друзей и коллег, без помощи которых выход этого сборника был бы
невозможен. Прежде всего я хочу адресовать самые теплые слова г-ну
Георгию В. Зеленину, сотруднику аппарата ЮНЕСКО, который горячо
поддержал эту идею осенью 1997 года. На основе обсуждений ряда работ
западных социологов, которые мы провели с ним в Париже с октября 1997 по
май 1998 года, и родился окончательный план данной книги. Ему также
принадле- жиг окончательный выбор большинства отрывков, вошедших в
настоящую антологию. Особой благодарности заслуживают переводчики с
английского и французского языков, в течение долгих месяцев работавшие в
Париже и Москве. Г-н Алексей И. Антипов оказал мне значительную помощь
в редактировании переведенных текстов. Г-н Деннис Иган с января по август
1998 года установил контакты с издательствами и авторами, владевшими
правами на издание соответствующих отрывков, и оформил все необходимые
разрешения на публикацию их в России. Профессор Д. Белл благосклонно
обсудил со мною содержание сборника и указал на необходимость как
включения в него ряда работ, так и на желательность исключения некоторых
текстов, первоначально планировавшихся к публикации. Г-жа Вера А.
Медведева приняла участие в поиске наиболее точных формулировок в
переведенном фрагменте из книги А.Турена.
В заключение же остается пожелать читателю вынести из книги те идеи,
которые он сочтет полезными. В. Иноземцев
1 - См.: Meadows D.H., Meadows D.L, Randers J. Behrens III, W.W. The Limits
to Growth. N.Y., 1972.
2 - Мы называем так эту модель потому, что существовали также модели
World 1 и World 2. World 1 была первоначальной версией, разработанной
профессором Массачусетсского технологического института Дж.Форестером
в рамках проводившегося Римским клубом исследования взаимозависимости
между глобальными тенденциями и глобальными проблемами. World 2
является окончательной документированной моделью, представленной
профессором Дж.Форестером в книге: Forester J. World Dynamics. N.Y., 1971.
Модель World 3 была создана на базе World 2, в первую очередь как
следствие изменения ее структуры и расширения количественной базы
данных. Мы должны отметить, что профессор Дж.Форестер является
безусловным вдохновителем данной модели и автором используемых в ней
методов.
3 - См.: Meadows D.H., Meadows D.L., Renders J. Behrens III, W.W. The Limits
to Growth. P. 24.
4 - Vargish Th. Why the Person Sitting Next to You Hates Limits to Growth //
Technological Forecasting and Social Change. Vol. 16. 1980. P. 187-188.
5 - См.: Pipes D. In the Path of God: Islam and Political Power. N.Y., 1983. P.
102-103, 169-173.
6 - [Автор приводит слова византийской принцессы Анны Комнин].
Цитируется по кн.: Armstrong К. Holy War: The Crusades and Their Impact on
Today's World. N.Y., 1991. P. 3-4, и Toynbee A. Study of History. Vol. VIII. L,
1954. P. 390.
7 - Buzan B.G. New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century //
International Affairs. No 67. July 1991. P. 448-449.
8 - Lewis В. The Roots of Muslim Rage: Why So Many Muslims Deeply Resent
the West and Why Their Bitterness Will Not Be Easily Mollified // Atlantic
Monthly. No 266. September 1990. P. 60.
9 - Mohamed Sid-Ahmed. Cybernetic Colonialism and the Moral Search // New
Perspectives Quarterly. No. 11. Spring 1994. P. 19; [мнение индийского
политического деятеля М.Дж.Акбара цитируется no) Time. 1992. June 15. Р.
24; [позиция тунисского правоведаАбдельвахаба Бёльваля представлена в]
Time. 1992. June 15. Р. 26.
10 - McNeil W.H. Epilogue: Fundamentalism and the World of 1990's; Marty
M.E., Scott Appleby R. (Eds.) Fundamentalisms and Society; Reclaiming the
Sciences, the Family, and Education. Chicago, 1992. P. 569.
11 - Mernissi F. Islam and Democracy: Fear of the Modem World. Reading (MA),
1992. P. 3, 8, 9, 43-44, 146-147.
12 - Подборка подобных высказываний приведена в журнале «Economist».
1992. August 1. Р. 34-35.
13 - См.: International Herald Tribune. 1994. May 10. Р. 1, 4.
14 - Ayatollah Ruhollah Khomeini. Islam and Revolution. Berkeley (CA), 1981. P.
305.
15 - Economist. 1991. November 23. Р. 15.
16 - Keynes J.M. The General Theory of Employment, Interest, and Money. P. 42.
<%page 425>
17 - Сейчас луддитами стали называть всех, кто выступает против
технического прогресса, в то время как изначально луддиты (названные так
по имени выдуманного ими мифического предводителя, короля Лудда из
Шервудского леса) разрушили текстильные станки в знак протеста как
против низкой заработной платы и тяжелых условий труда, так и против
технических нововведений.
18 - См.: Somban W. Der modeme Kapitalismus. Muenchen und Leipzig, 1924. S.
23, 40, 91, 180, 319.
19 - См., напр.: Dopsch A. Naturalwirtschaft und Geldwirtschaft in der
Weltgeschiehte. Wien, 1930. S. 1-23.
20 - См.: Veblen Th. The Theory of Business Enterprise. N.Y., 1994.
21 - Сен-СимонА., де. Катехизис промышленников. С. 153.
22 - См.: Fourastie J. Le grand espoir du XXe siecle. P., 1949. P. 42, 80-83, 319.
23 - См.: Riesman D. Leisure and Work in Post-Industrial Society // Larrabee E.,
Meyersohn R. (Eds.). Mass Leisure. Glencoe (111.), 1958. P. 363-385.
24 - См.: Penty A. Old Worlds for New: A Study of Post-Industrial State. L., 1917.
25 - См.: Penty A. Post-Industrialism. L., 1922. Р. 14.
26 - См., напр.: Coomaraswamy A. (Ed.) Essays in Post-Industrialism: A
Symposium of Prophecy Concerning the Future of Society. L., 1914.
27 - См.: Rose M.A. The Post-Modem and the Post-Industrial. A Critical Analysis.
Cambridge, 1991. P. 22-24.
28 - Aron R. 28 Lectures on Industrial Society. L., 1968. P. 42.
29 - См.: Rostow W.W. Politics and the Stages of Growth. Cambridge, 1971.
30 - См.: Tominaga К. Post-Industrial Society and Cultural Diversity// Survey.
Vol. 16. 1971. No 1. P. 68-77.
31 - См.: Touraine A. La societe post-industrielle. P., 1969.
32 - Книга Р.Рихты и его соавторов была издана в Чехословакии и там же
переведена на английский язык (см.: Richta R. (Ed.) Civilization at the
Crossroads. 1968. Printed in Czechoslovakia, distributed in the US by International
Arts and Science Press, White Plains, N.Y., 1969). Подробнее о ней и ее авторе
см.: Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. N.Y., 1976. P. 105-112.
33 - Имели место и в некотором роде курьезные ситуации. Д.Белл
рассказывал мне, что его дружеские отношения с А.Туреном были
фактически прерваны после того, как в 1969 году последний опубликовал
свою книгу «La societe post-industrielle», хотя и знал, что под таким же
названием вскоре будет выпущена книга Д.Белла, в то время уже бывшего
Председателем комиссии Американской академии искусств и наук по 2000
году и считавшегося признанным авторитетом в этой области. Характерно,
что в своих основных аспектах книга А.Турена посвящена проблемам, весьма
далеким от концептуального осмысления постиндустриального общества, и
ее название было в большой мере лишь данью моде.
34 - См.: Beniger J.R. The Control Revolution. Technological and Economic
Origins of the Information Society. Cambridge (Ma.) - L, 1994. P. 4-5.
35 - См.: Heilbroner R.L. Business Civilisation in Decline. N.Y.-L, 1976. P. 73.
36 - См.: Gon A. Farewell to the Working Class: An Essay on Post-Industrial
Socialism. L., 1982.
37 - См.: Roswk Т. Where the Wasteland Ends: Politics and Transcendence in
Postindustrial Society. N.Y., 1972; Bahro R. From Red to Green. L., 1984.
38 - См.: Illich I. The Tools for Conviviality. L., 1985.
39 - См.: Block F. Postindustrial Possibilities. A Critique of Economic Discourse.
Berkeley-Los Angeles, 1990. P. 5.
40 - См., например: Crook S., Pakulsky J., Waters M. Postmodemisation: Change
in Advanced Society. L., 1992; Gellner E. Postmodernism, Reason and Religion.
L, 1992; Giddens A. Modernity and Self-Identity. Cambridge, 1991; Jameson F.
Post-Modernism, or. The Cultural Logic of Late Capitalism. L., 1992; Lash S.
Sociology of Postmodernism. L.-N.Y,, 1990; Lash S., Friedman J. (Eds.)
Modernity and Identity. Oxford, 1992; Rose M.A. The Post-Modem and the PostIndustrial. Cambridge, 1991, и др.
41 - См.: Lichtheim G. The New Europe: Today and Tomorrow. N.Y., 1963.
P.194.
42 - См.: Dahrendorf R. Class and Class Conflict in Industrial Society. Stanford,
1959. P. 51-59, 98-105, 274; Drucker P.F. Post-Capitalist Society. N.Y., 1993. P.
4-6,14-15.
43 - См.: Drucker P.F. The New Realities. Oxford, 1996. P. 168.
44 - См.: Bums Т. The Rationale of the Corporate System. P. 50. Цитировано по
кн.: Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. P. 54, note.
45 - Термин введен С.Эйзенштадтом в 1970 году и сегодня широко
применяется в рамках теории post-modernity (см.: Giddens A. Modernity and
Self-Identity. Cambridge, 1991.P. 2-3).
46 - См.: Bouiding К. The Meaning on the XXth Century: The Great Transition.
N.Y., 1964; Seidenberg R. Post-Historic Man. ChapeU Hill, 1950.
47 - См.: Machiap F. The Production and Distribution of Knowledge in the United
Slates. Princeton, 1962; Dordick U.S., Wang G. The Information Society: A
Retrospective View. Newbury Park-L, 1993.
48 - См.: Pomi M., Riibili M. The Information Economy: Development and
Measurement. Wash., 1978; Masuda Y. The Information Society as Post-Industrial
Society. Wash., 1981; Stonier T. The Wealth of Information. L., 1983; Kalz R.L.
The Information Society: An International Perspective. N.Y., 1988, и др.
49 - См.: Brzezinski Zb. Between Two Ages. N.Y.,1970. P. 9.
50 - См.: Lane R.E. The Decline of Politics and Ideology in the Knowledgeable
Society //American Sociological Review. 1966. Vol. 31. P. 649-662.
51 - См.: Dickson D. The New Politics of Science. N.Y., 1984. P. 163-216; Stehr
N. Knowledge Societies. Thousand Oaks-L., 1994. P. 5-18.
52 - См.: Sakaiya T. The Knowledge-Value Revolution or A History of the Future.
Tokyo-N.Y,, 1991. P. 57-58, 267-287.
53 - См.: Crook S., et al Postmodemisation. Change in Advanced Society.
Newbury Park-L, 1993. P. 15-16.
54 - См.: Pakuiski J., Waters M. The Death of Class. Thousand Oaks-L., 1996. P.
154.
55 - См.: Touraiite A. Critique de lamodemite. P., 1992. P. 312-322.
56 - См.: Etzioni A. The Active Society. N.Y., 1968.
57 - См.: Bellah R., et al. Good Society. N.Y., 1985; Galbraith J.K. The Good
Society: The Human Agenda. Boston-N.Y., 1996; Etvoni A. The New Golden
Rule. N.Y., 1997. P. 25-28.
58 - См.: Toffler A. The Third Wave. N.Y., 1980. P. 9.
59 - См.: Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social
Forecasting. N.Y, 1973; Bell D. The Cultural Contradictions of Capitalism. N.Y.,
1976.
60 - См.: Crook S., Pakulski J., Waters M. Postmodemisation: Change in
Advanced Society. L., 1992; Lash S. Sociology of Postmodernism. L.-N.Y., 1990;
Lash S., Friedman J. (Eds.) Modernity and Identity. Oxford, 1992.
61 - См.: Toffler A. The Third Wave. N.Y, 1980.
62 - См., например: Braudel F. A History of Civilizations. L., 1995. Р. 374.
63 - См.: Soboul A. La reprise economique et la stabilisation sociale, 1797-1815//
Bmudel F., Labrousse E. (Eds.) Histoire economique et social de la France. T. III.
P., 1993. P. 105-112.
64 - См., например: Rule J. The Vital Century. Englands Developing Economy
1714-1815. L.-N.Y, 1992. P. 93-134.
65 - См.: Mendels F.F. Proto-Industrialisation: The First Phase of the
Industrialisation Process // Journal of Economic History. 1972. Vol. 32. P. 241261.
66 - См.: Ogitvie S.C., German M. The Theories of Proto-Industrialisation //
Ogilvie S.C., Cerman M. (Eds.) European Proto-Industrialisation. Cambridge,
1996. P. 1-11.
67 - Bell D. The Cultural Contradictions of Capitalism. P. 147.
68 - Toffler A. The Third Wave. P. 25, 26.
69 - См.: Baudrillard J. The Mirror of Production // Selected Writings. Cambridge,
1988. P. 115.
70 - Bell D. The Cultural Contradictions of Capitalism. P. 198, note.
71 - См.: Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. P. 149.
72 - См.: Barglow R. The Crisis of the Self in the Age of Information. L.-N.Y.,
1994. P.119.
73 - Arm R. The Industrial Society. Three Lectures on Ideology and Development.
N. Y. -Wash., 1967. P. 97.
74 - Bell D. The Third Technological Revolution and Its Possible Socio-Economic
Consequences// Dissent. Vol. XXXVI. No 2. Spring 1989. P. 167.
75 - Bell D. Notes on the Post-Industrial Society // The Public Interest. 1967. No 7.
P. 102.
76 - См.: Toffler A. The Third Wave. P. 17.
77 - См.: Bell D. Notes on the Post-Industrial Society. P. 28.
78 - См.: Uasuda Y. The Information Society as Post-Industrial Society. Wash.,
1983. P. 45.
79 - См.: Clark D. Post-Industrial America: A Geographical Perspective. N.Y.-L.,
1985. P. 27.
80 - См.: Naisbitt J. Megatrends. The New Directions, Transforming Our Lives.
N.Y., 1984. P.5.
81 - См.: Bell D. The Third Technological Revolution. P. 168.
82 - См.: Sadler P.Managerial Leadership in Post-Industrial Society. Aldershot,
1988.
83 - См.: Stonier Т. The Wealth of Information. A Profile of the Post-Industrial
Economy. L., 1983.
84 - См.: Kahn H., Brown W., Martell L. The Next 200 Years. A Scenario for
America and the World. N.Y., 1971. P. 22.
85 - См.: Servan-Schreiber J.J. Le defi mondiale. P., 1980. Р. 374; а также: Saxby
S. The Age of Information. L.-Basingstoke, 1990. P. 34.
86 - См.: Bell D. The Cultural Contradictions of Capitalism. P.198, note.
87 - См.: Иноземцев B.Л. Марксистская теория экономического прогресса:
истоки и преемники. Репринт доклада. М., ИЭ РАН, 1992 // Иноземцев В.Л.
За десять лет. К концепции постэкономического общества. М., 1998. С. 161—
211; Иноземцев В. Теория постиндустриального общества как
методологическая парадигма российского обществоведения // Вопросы
философии. 1997. № 10. С. 29—44.
88 - См., напр. Иноземцев В. Капитализм, социализм или
постиндустриальные общества? // Коммунист. 1991. № 4. С. 32—40;
Иноземцев В.Л. Экономическая общественная формация: границы понятия и
значение теории // ПОЛИС. 1991. № 4. С. 35—46; Иноземцев В.Л.
Альтернативность общественного развития // Вестник Московского
университета. Серия 6. Экономика. 1991. № 2. С. 3—10, и др.
89 - См.: Иноземцев В.Л. К теории постэкономической общественной
формации. М., 1995. С. 29, 96-154.
90 - См.: Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. P. 55.
91 - См.: Marx К. Deuxieme projet de la lettre a Vera Ivanovna Zassoulitch // Karl
Marx, Friedrich Engels Gesamtausgabe. Abt. 1. Bd. 25. Berlin, 1985. S. 232-233.
92 - См.: Marx-Engels Werke. Bd. 13. S. 8.
93 - См.: Marx К. Deuxieme projet de la lettre a Vera Ivanovna Zassoulitch. S.
232.
94 - См.: Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. P. 115-119, 126.
95 - См.: Toffler A. The Third Wave. P. 13-16 и др.; Toffler A. Poweishift. N.Y.,
1991. P. 15; Toffler A., Toffler H. Creating the New Civilization: The Politics of
the Third Wave. Atlanta, 1995. P. 19-20, и др.
96 - См.: Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. P. 119.
97 - См.: Marx К. Troisieme projet de la lettre a Vera Ivanovna Zassoulitch // Karl
Marx, Friedrich Engels Gesamtausgabe. Abt. 1. Bd. 25. S. 238.
98 - См.: Aron R. The Industrial Society. Three Lectures on Ideology and
Development. N.Y.-Wash., 1967. P. 97.
99 - Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. P. 487, и др.
100 - Servan-Schreiber J.J. Le defi mondiale. P. 374.
101 - См.: Kahn H. Forces for Change in the Final Third of the Twentieth Century.
N.Y., Hudson Institute, 1970; Kahn H., Wiener A.J. The Year 2000. A Framework
for Speculations on the Next Thirty-Three Years. N.Y, 1967. P. 186.
102 - См.: Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. P. 38.
103 - См.: Horowilt I.L. Communicating Ideas: The Crisis of Publishing in a PostIndustrial Society. N.Y, 1986. P. 141.
104 - См.: Mallhus T.R. Principles of Political Economy, Considered With A New
View to Their Practical Applications. N.Y., 1951. P. 35; Милль Дж.Ст. Основы
политической экономии. Т. 1. М., 1980. С. 137.
105 - См. Gamier J. Traite d'economie politique. 5eme ed. P., 1863. P. 25.
106 - См. Jewons W.S. The Principles of Economics. L., 1905.P.88.
107 - CM. Marshall A. Principles of Economics. Vol.I.P.65.
108 - См. Bell D. Sociological Journeys. Essays 1960-1980. L., 1980. P. 151-152.
109 - См. Stewart T.A. Intellectual Capital. P. 11.
110 - CM. Stehr N. Knowledge Societies. L.-Thousand Oaks, 1994. P. 101.
111 - См.: Porat M.U. The Information Economy: Definition and Measurement.
US Dept. of Commerce. Wash., 1977.
112 - Drucker P.F. The Age of Discontinuity. Guidelines to Our Changing Society.
New Brunswick (US)-London, 1994. P. 264.
113 - Stonier T. The Wealth of Information. A Profile of the Post-Industrial
Economy. L„ 1983. P. 17.
114 - См.: Stewart T.A. Intellectual Capital. P. 20-21.
115 - Stewart T.A. Intellectual Capital. P. 14.
116 - См.: World Economic and Social Survey 1996. N.Y., 1996. P. 278.
117 - Ibid. P. 279.
118 - См.; OECD Communications Outlook 1995. Р., 1995. Р. 22.
119 - См.: World Economic and Social Survey 1996. P. 283.
120 - См.: Barksdale J. Washington May Crash the Internet Economy // Wall
Street Journal Europe, October 2, 1997. P. 8.
121 - См.: Turner B.S. Periodization and Politics in the Postmodern // Turner B.S.
(Ed.) Theories of Modernity and Postmodemity. L.-Thousand Oaks, 1995. P. 3.
122 - См.: Calinescu M. Five Faces of Modernity. Durban (NC), 1987. P. 13.
123 - См.: Freund W. Modernus und andere Zeitbegriffe des Mittelalters. Koein,
1957. S.4ff.
124 - См.: St. Augustinus. De civitate Dei, XI, 16; XV, 4.
125 - См.: Smart В. Postmodernity. L.-N.Y., 1996. Р. 91.
126 - См.: Giddens A.
127 - См.: ToynbeeA. A Study of History. Vol. VIII. L., 1954. P. 144.
128 - См.: Giddens A. Modernity and Self-Identity. Cambridge, 1996. P. 2-3.
129 - См.: Rose M.A. The Post-Modem and the Post-Industrial. P. 171.
130 - См.: Ibid. P. 9.
131 - Fiedler L. Cross the Boarder — Close the Gap: Post-Modemism // Cunliffe
M. (Ed.) American Literature Since 1900. L., 1975; Meyer L.B. The End of the
Renaissance ? // Hudson Review. 1963. Vol. XVI.
132 - Подробнее о ходе дискуссии этого периода см.: Bertens H. The Idea of
the Postmodern: A History. L.-N.Y., 1995. P. 23-24.
133 - См.: Hassan I. The Literature of Silence. N.Y., 1967; Hassan I. The
Dismemberment of Orpheus: Toward A Postmodern Literature. N.Y., 1971; Jencks
Ch. Modem Movements in Architecture. Harmondsworth, 1973; Jencks Ch. PostModernism: the New Classicism in Art and Architecture. L., 1987.
134 - См.: Lyotard J.-F. Derive a partir de Marx a Freud. P., 1973; Lyotard J.-F. La
condition postmodeme. P., 1979; Baudrillard J. La societe de consommation. P.,
1970; Baudriliard J. L'Echange simbolique et la mort. P., 1976.
135 - См.: Wrighs Mills C. The Sociological Imagination. Harmondsworth, 1970.
P. 184; Drucker P.F. The Landmarks of Tomorrow. N.Y., 1957. P. IX.
136 - Touraine A. Critique de la modemite. P. 199.
137 - См.: Touraine A. Pourrons-nous vivre ensemble? Egaux et differents. P.,
1997. P. 36.
138 - См.: Heller A., Feher F. The Postmodern Political Condition. Cambridge,
1988. P. 1.
139 - См.: Lash S., Urry J. Economies of Signs and Space. L.-Thousand Oaks,
1994. P. 257.
140 - См.: Inglehart R. Culture Shift in Advanced Industrial Society. Princeton,
1990. P.92-103.
141 - См.: Featherstone M. Consumer Culture and Post-Modemism. L., 1991. P.
126.
142 - См.: Lash S. Postmodernism as Humanism? // Turner B.S. (Ed.) Theories of
Modernity and Postmodemity. P. 68-69.
143 - См.: Lash S. Sociology of Postmodernism. L.-N.Y., 1990. P. 37-38; Castells
M. The Informational City: Informational Technology, Economic Restructuring
and the Urban-Regional Process. Oxford, 1989. P. 23, 29.
144 - См. Kumar К. From Post-Industrial to Post-Modem Society. P. 123,
145 - См. Lash S. Sociology of Postmodernism. P. 18.
146 - См. Jameson F. Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism.
L. 1992 P. XXI
147 - См.: Calinescu M. Five Faces of Modernity. P. 268.
148 - Touraine A. Critique de la modemite. P. 281.
149 - Touraine A. Critique de la modemite. P. 23.
150 - Touraine A. Pourrons-nous vivre ensemble? P. 157.
151 - См.: Jameson F. Postmodernism, or. The Cultural Logic of Late Capitalism.
P. IX.
152 - См.: Kumar К. From Post-Industrial to Post-Modern Society. P. 67. <%sub
153> См.: Lyon D. Postmodemity. Buckingham, 1994. P. 6.
154 - См.: Smart В. Modem Conditions, Postmodern Controversies, L.-N.Y.,
1992. P. 150; Lash S. Sociology of Postmodernism. P. 123.
155 - Giddens A. The Consequences of Modernity. P. 3.
156 - См.: Ibid. P. 150.
157 - См.: Smart В. Postmodemity. P. 116.
158 - См.: Giddens A. The Consequences of Modernity. P. 49.
159 - См.: Bauman Z. Intimations of Postmodemity. P. 187-188.
160 - См.: Touraine A. Critique de la modemite. P. 466.
161 - Jameson F. Postmodernism, or. The Cultural Logic of Late Capitalism. P.
310.
162 - Heller A., Feher F. The Postmodern Political Condition. P. 146, 149.
163 - См.: Smart В. Postmodemity. P. 150.
164 - См.: Heller A., Feher F. The Postmodern Political Condition. P. 13.
165 - См.: Heller A., Feher F. The Postmodern Political Condition. P. 13; Smart В.
Modernity, Postmodemity and Present // Turner B.S. (Ed.) Theories of Modernity
and Postmodemity. P.27-28.
166 - См.: Vaftimo G. The End of Modernity. Oxford, 1991. P. 103 - 104.
167 - См.: Vaftimo G. The End of Modernity. P. 5-6.
168 - См.: Baudriltard J. In the Shadow of the Silent Majorities or. The End of the
Social and Other Essays, N.Y., 1983; оценку его взглядов см.: Turner B.S.
Periodization and Politics in the Postmodern. P. 10 и сл.
169 - См.: Smart В. Postmodemity. P. 58.
170 - См.: Ваитап Z. Intimations of Postmodemity. P. 276-277; Giddens A. The
Consequences of Modernity. P. 50.
171 - См.: Heller A., Feher F. The Postmodern Political Condition. P. 156-157.
Оглавление
Новая постиндустриальная волна на Западе
Оглавление
Питер Дракер Посткапиталистическое общество
Питер Фердинанд Дракер — признанный патриарх современного
менеджмента — родился 19 ноября 1909 года в Вене. Юридическое и
экономическое образование подучил в Австрии и Великобритании. Степень
доктора гражданского и международного права была присвоена ему
Франкфуртским университетом (Германия) в 1931 году. Большую часть
жизни Питер Дракер провел в Англии и США.
В 30-х—50-х годах П.Дракер занимал должности обозревателя и редактора
нескольких британских газет (в качестве собственного корреспондента «The
Guardian» он в 1930—1931 годах работал в течение семи месяцев в СССР), а
также был советником в ряде английских и американских банков. Научная
карьера Л.Дрвкера началась в Беннингтон колледже, штат Вермонт, США, в
качестве профессора социальной философии. В 1939 году вышла его первая
книга — «Конец экономического человека», выдержавшая в AH&IUU и
США более двадцати изданий. С 1950 по 1971 год П.Дракер работал
профессором Школы бизнеса при Нью-Йоркском университете, с 1971 года
является профессором социологии и управления Клермонтского
университета (Claremont Graduate School) в Клермонте, штат Калифорния. В
разные годы П.Дракер сотрудничал с рядом крупнейших международных
корпораций и некоммерческих организаций, Suit советником по проблемам
управления ряда американских министерств, а также правительств Канады и
Японии.
Профессор Дракер является автором тридцати книг; в их числе ставшие в
США бестселлерами «Будущее индустриального человека» [1942}, «Теория
корпорации» [1946], «Невидимая революция» [1976], «Менеджмент в эпоху
перемен» [1980]', «Новые реалии» [1989]', «Посткапиталистическое
общество» [1993]. Его работы переведены более чем на двадцать языков, а
научные заслуги отмечены высшими наградами Нью-Йоркского и
Гарвардского университетов. В 1987 году Клермонтский университет назвал
в его честь свою школу менеджеров, с 1995 года функционирует
международный ФондДракера (Drucker Foundation), специализирующийся на
проблемах исследования управления в некоммерческих организациях.
П.Дракер является почетным профессором шести американских
университетов, а также университетов Бельгии, Чехии, Великобритании,
Испании, Швейцарии и Японии. Его перу принадлежат, помимо научных
работ, два романа, книга мемуаров и исследование по японской живописи
конца XIX — начала XX века, Профессор Дракер женат, у него четверо детей
и шестеро внуков. Он живет в городе Клермонт, штат Калифорния.
Книга «Постэкономическое общество» (1993), изданная в 14 стра-нах на
восьми языках, развивает и систематизирует идеи, изложенные в более
ранних работах П.Дракера. Ее ядром является концепция преодоления
традиционного капитализма, причем основными признаками происходящего
сдвига считаются переход от индустриального хозяйства к экономической
системе, основанной на знаниях и информации, преодоление
капиталистической частной собственности и отчуждения в его марксовом
понимании, формирование новой системы ценностей современного человека
и отказ от идеи национального государства в пользу глобальной экономики и
глобального социума. Изменения, происходящие под воздействием этих
процессов, рассматриваются автором как сущностные черты современной
эпохи - периода радикальной трансформации основ общественного
устройства, а не стабильного развития определенной социальной системы.
По мнению П.Дра-кера, аналогичными по своему историческому значению
могут быть названы лишь эпохи Ренессанса и становления основ
индустриального общества. Характер исследуемых проблем делает книгу
исключительно разносторонней; большое внимание уделяется в ней не
только экономическим, но социологическим, моральным и психологическим
вопросам, встающим перед современным социумом. Два важнейших тези- ca
— о том, что сегодня основной импульс прогресса исходит не от социальной
структуры, а от отдельной активной личности, и что нынешнее время требует
от каждого человека активных действий по преобразованию не только
общества, но прежде всего самого себя, — придают работе гуманистический
пафос.
Композиционно книга состоит из трех частей, озаглавленных «Общество»,
«Политика» и «Знание». В каждой из них под соответствующим углом
зрения рассматривается проблема места современной творческой личности в
коллективе, организации и социуме. С таких позиций автор подходит к
постановке целого ряда принципиальных социологических и экономических
вопросов — о согласовании интересов индивида и коллектива и
возникновении нового типа противоречий в обществе, стратификация в
котором основана на способности генерировать новые знания; о пересмотре
роли и значения традиционных факторов производства; о методологических
основах определения эффективности использования информации и знаний.
Книга не дает однозначных ответов на большинство из поставленных
вопросов, что, однако, согласуется с авторским подходом, согласно которому
общество, находящееся в процессе трансформации, не может быть изучено в
полной мере.
Мы предлагаем читателям первую главу книги, названную «От ка- •
питализма к обществу знания» (стр. 19—47 в издании Harper-Collins). Здесь
не затронут целый ряд специальных вопросов, но читатель получает тем не
менее достаточно полное представление о методологии, применяемой
автором к исследованию современного западного общества. Выбор данного
отрывка для публикации в России был согласован нами с профессором
Дракером в ходе личной встречи с ним в Клермон-те в феврале 1998 года. Он
любезно предоставил нам также биографическую справку, материалы
которой использованы в настоящем представлении его работы российскому
читателю. ПОСТКАПИТАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО*
Всего за полтора столетия, с 1750 по 1900 год, капитализм и технический
прогресс завоевали весь мир и способствовали созданию глобальной
цивилизации. Ни капитализм, ни технические новшества сами по себе не
были чем-то новым; проявляясь с некоторой периодичностью, они в течение
многих веков были хорошо известны и на Западе, и на Востоке. Абсолютно
новым явлением стали темпы их распространения и всеобщий характер
проникновения сквозь культурные, классовые и географические преграды.
Такие темпы и масштабность распространения превратили капитализм в
Капитализм с большой буквы, в целостную систему, а технические
достижения — в промышленную революцию.
Это превращение происходило под воздействием радикальных изменений в
самой концепции знания. И на Западе, и на Востоке знание всегда
соотносилось со сферой бытия, существования. И вдруг почти мгновенно
знание начали рассматривать как сферу действия. Оно стало одним из видов
ресурсов, одной из потребительских услуг. Во все времена знание было
частным товаром. Теперь практически в одночасье оно превратилось в товар
общественный.
В течение столетия — на протяжении первого этапа этой трансформации —
знания использовались для разработки орудий труда, производственных
технологий и видов готовой продукции. Это стало началом промышленной
революции, но в то же время породило феномен, который Карл Маркс
(1818—1883) называл «отчуждением», привело к возникновению новых
классов и классовых войн, а с ними и к идеологии коммунизма. На втором
этапе, который начался приблизительно в 1880 году и достиг своей
кульминации в конце второй мировой войны, знание в новом его понимании
на- чали применять к трудовой деятельности. Результатом стала револю-ция
в производительности труда, которая за семьдесят пять лет превратила
пролетария в среднего буржуа с доходом, приближающимся к уровню
представителей высшего сословия. Таким образом революция в
производительности труда положила конец классовой войне и идеологии
коммунизма.
Последний этап начался после второй мировой войны. Сегодня знание уже
применяется к сфере самого знания, и это можно назвать революцией в сфере
управления. Знание быстро превращается в определяющий фактор
производства, отодвигая на задний план и капитал, и рабочую силу.
Пожалуй, нынешнее общество еще преждевременно рассматривать как
«общество знания»; сейчас мы можем говорить лишь о создании
экономической системы на основе знания (knowledge society). Однако
общество, в котором мы живем, определенно следует характеризовать как
«посткапиталистическое».
На протяжении веков капитализм в той или иной форме периодически
возникал и в восточных, и в западных странах. Известны многочисленные
периоды стремительного появления технических изобретений и новшеств, и
многие из них приводили к не менее радикальным техническим
преобразованиям, чем в конце XVIII — начале XIX века1. Однако изменения
последних 250 лет беспрецедентны и уникальны по своим темпам и
масштабам. Если раньше капитализм представлял собой лишь один из
элементов общества, то Капитализм с большой буквы превратился в
общественную сис- тему. Если в прежние времена распространение
капитализма ограничивалось какой-либо отдельной местностью, то
современный капитализм — Капитализм с большой буквы — охватил всю
Западную и Северную Европу всего лишь за какие-то сто лет — с 1750 по
1850 год, а затем, в последующие 50 лет, распространился на всю обитаемую
территорию планеты.
Капитализм прежних эпох был уделом небольших, замкнутых общественных
групп. Он почти не затрагивал аристократию, землевладельцев, военных,
крестьян, людей свободных профессий, ремесленников, даже наемных
рабочих. Капитализм с большой буквы повсюду, где бы он ни появлялся,
активно проникал во все слои общества и трансформировал их.
В Старом Свете с давних времен происходило быстрое внедрение новых
орудий
труда,
производственных
технологий,
материалов,
сельскохозяйственных культур, методов — всего, что сегодня входит в
понятие «технология».
Немногие из современных изобретений могут сравниться по скорости
распространения с очками, которые были изобретены еще в XIII веке.
Разработанные примерно в 1270 году на основе экспериментов в области
оптики английского монаха-францисканца Роджера Бэкона, в 1290 году они
уже использовались пожилыми людьми для чтения при папском дворе в
Авиньоне, к 1300 году — при дворе султана в Каире, а не позднее 1310 года
— при дворе императора монгольской династии в Китае. Только швейная
машинка и телефон — два главных изобретения XIX века — сопоставимы с
ними по темпам распространения.
Однако в прежние эпохи любые технологические преобразования —
практически без исключений — не выходили за рамки отдельного ремесла
или узкой сферы применения. Только через двести лет — в начале XVI века
— изобретение Бэкона стали использовать для коррекции близорукости.
Гончарный круг широко применялся в Средиземноморье еще в 1500 году до
н. э.; сосуды для при- Посткапиталистическое общество готовления пищи,
для хранения воды и продуктов питания имелись в каждом доме. Но принцип
гончарного круга начал впервые использоваться в сугубо женском ремесле
— прядении — только лишь к 1000 году н. э.
Аналогичным образом усовершенствование ветряной мельницы около 800
года превратило этот механизм из игрушки, каковой он являлся с
древнейших времен, в настоящий станок (причем полностью
«автоматизированный»), однако в кораблестроении этот механизм стал
применяться только триста с лишним лет спустя — после 1100 года. До этого
корабли приводились в движение только при помощи весел; если сила ветра
и использовалась для этой цели, то лишь в качестве вспомогательного
источника энергии, и лишь в том случае, если он дул в попутном
направлении. Действие паруса основано на том же принципе, что и работа
ветряной мельницы, и необходимость создания такой его разновидности,
которая позволяла бы использовать энергию бокового и встречного ветра,
ощущалась давно. Конструкция ветряной мельницы была усовершенствована
где-то на севере Франции или в Нидерландах, и хотя жители этих регионов
хорошо разбирались в кораблях и мореплавании, на протяжении нескольких
столетий никому не приходило в голову, что механизм, изобретенный для
перекачивания воды и перемалывания зерна, т. е. для использования на суше,
можно применить и на море.
Изобретения,
сделанные
в
ходе
индустриальной
революции,
незамедлительно внедрялись повсеместно, во все ремесла и отрасли
промышленности, где только это было возможно. Эти изобретения с самого
начала воспринимались как технологии.
Между 1765 и 1776 годом Джеймс Уатт (1736—1819) усовершенствовал
паровую машину, превратив ее в рентабельный источник энергии. Сам Уатт
использовал паровую машину только для откачки воды из шахт; именно для
этого она и была изобретена Томасом Ньюкоменом в начале XVIII века. Но
один из ведущих производителей металла в Англии быстро понял, что
усовершенствованную паровую машину можно также применять для подачи
воздуха в домну, и сделал заказ на вторую машину, изготовленную Уаттом.
Компаньон Уатта Мэтью Боултон (1728—1809) сразу же сообразил, что
паровую машину можно использовать в качестве источника энергии в любых
видах промышленного производства, особенно в крупнейшей из всех
обрабатывающих отраслей — тек- стильной. Тридцать пять лет спустя
американец Роберт Фултон (1765—1815) пустил по Гудзону первый пароход.
Еще через двадцать лет паровой двигатель установили на колеса, и
получился паровоз. К 1840, самое позднее — к 1850, году паровой двигатель
полностью изменил все виды производственных технологий, от изготовления
стекла до печатного дела. Произошли коренные изменения в области дальних
сухопутных и морских перевозок, начались преобразования в сельском
хозяйстве. К тому времени паровая машина применялась по всему миру, за
исключением Тибета, Непала и внутренних районов тропической Африки.
В XIX веке считали (а многие считают и до сих пор), что промышленная
революция — первый случай в истории, когда изменения в «способе
производства», пользуясь терминологией Маркса, изменили социальную
структуру общества и привели к формированию новых классов —
капиталистов и пролетариев. Это мнение неверно. В период с 700 по 1100 год
под влиянием развития техники в Европе также появились два новых класса
— феодальные рыцари и городские ремесленники. Рыцари возникли
благодаря изобретению стремени, появившемуся в Средней Азии около 700
года; ремесленники — благодаря усовершенствованию водяного колеса и
ветряной мельницы и их превращению в настоящие машины, которые
впервые в истории человечества приводились в движение природными
силами воды и ветра, без использования мускульной силы человека.
Благодаря стремени стало возможным вести боевые действия верхом; без
стремени наездник с копьем, мечом или тяжелым луком в руке тут же упал
бы с коня согласно третьему закону Ньютона. На протяжении нескольких
веков рыцарь оставался непобедимой «боевой машиной». Но этой машине
требовалась поддержка «военно-аграрного комплекса», представлявшего
собой совершенно новое явление в истории. У немцев вплоть до XX века
дворянское имение называлось Rittergut, т. е. дословно «рыцарское
поместье», которое имело свой правовой статус, было наделено
экономическими и политическими привилегиями и состояло не менее чем из
пятидесяти крестьянских дворов или около двухсот душ крестьян,
производивших продукты питания для «боевой машины» — самого рыцаря,
его оруженосца, трех коней и дюжины конюхов и слуг. Иначе говоря, стремя
привело к возникновению феодализма.
Ремесленники древности были рабами. Ремесленники первого «машинного
века» — европейского средневековья — стали городским правящим классом,
«бюргерами», которые впоследствии создали уникальный облик
европейского города, а затем готический стиль и стиль эпохи Возрождения.
Эти технические новшества — стремя, водяное колесо и ветряная мельница
— распространялись по всему Старому Свету с огромной быстротой. Однако
классы, возникшие в ходе промышленной революции, в целом так и остались
чисто европейским явлением. Только в Японии около 1100 года возник класс
независимых ремесленников, которые пользовались большим уважением и—
до 1600 года — значительной властью. Что же касается стремени, то японцы
хотя и пользовались им для верховой езды, боевые действия по-прежнему
вели в пешем строю. Правителями Японии, преимущественно аграрной
страны, были дайме— князья, имевшие под своим началом пеших воинов.
Они облагали податями крестьян, но своих феодальных поместий не имели.
В Китае, Индии и мусульманских странах упомянутые технические
новшества также не вызвали социальных перемен. В Китае ремесленники попрежнему оставались крепостными и не имели какого-либо общественного
статуса. Военные не стали землевладельцами, оставаясь, как в древние
времена в Европе, профессиональными наемниками. Да и в самой Европе
социальные перемены, вызванные первой промышленной революцией,
окончательно сформировались лишь почти четыре столетия спустя.
В то же время общественные преобразования, вызванные наступлением
современного капитализма и промышленной революцией, в полной мере
проявились в Западной Европе менее чем за сто лет. В 1750 году
капиталисты и пролетарии все еще представляли собой маргинальные
группы; собственно говоря, пролетариев — в том смысле, в котором это
слово использовалось в XIX веке, т. е. промышленных рабочих, — почти еще
не было. К 1850 году капиталисты и пролетарии превратились в наиболее
динамичные классы. Они быстро становились доминирующими классами
общества повсюду, куда проникали капитализм и современная техника. В
Японии этот процесс занял менее 30 лет, начиная с Мэйдзи исин в 1867 году
до войны с Китаем в 1894 году, немногим больше времени потребовалось в
Шанхае и Гонконге, Калькутте и Бомбее, а также в царской России.
Благодаря высоким темпам и огромным масштабам преобразований
капитализм и промышленная революция создали мировую цивилизацию2.
В отличие от некоторых идеологов XIX века, таких, как Гегель и Маркс,
которые склонны были упрощать общественное развитие, мы знаем сегодня,
что крупные исторические события редко бывают вызваны одной конкретной
причиной и имеют единственное объяснение. Как правило, они происходят в
результате кумулятивного действия целого ряда независимых друг от друга
обстоятельств и процессов.
Примером может служить возникновение компьютера. Своими корнями его
идея уходит во времена разработки двоичной системы исчисления, когда
немецкий математик и философ XVII века Гот-фрид Лейбниц понял, что все
числа можно выразить при помощи двух цифр — 0 и 1. Второй важнейшей
предпосылкой стало открытие английского изобретателя XIX века Чарльза
Бэббиджа (1792— 1871), который изобрел настоящую «вычислительную
машину», способную при помощи зубчатых колес, т. е. механики, выполнять
в десятичной системе четыре простейших действия арифметики — сложение,
вычитание, умножение и деление. Несколько позже, уже в начале нынешнего
века, два английских ученых-логика — Альфред Норт Уайтхед и Бертран
Рассел — в своем труде «Основания математики» доказали, что любое
понятие, представленное в четкой логической форме, может быть выражено
математически. На основе этого открытия американец австрийского
происхождения Отто Нейрат, работавший специалистом в области
статистики в Департаменте военной промышленности США в период первой
мировой войны, пришел к выводу, в те времена абсолютно неожиданному и
крамольному, что любая информация, будучи представлена в
количественной форме, имеет абсолютно одинаковый вид, к какой бы сфере
деятельности она ни относилась, что позволяет использовать одни и те же
методы обработки и представления данных. Немного раньше, незадолго до
первой мировой войны, американский инженер Ли де Форест изобрел свой
аудион (ламповый усилитель), способный преобразовывать электронные
импульсы в звуковые волны, что позволило передавать речь и музыку по
радио. Двадцать лет спустя инженеры, работавшие в небольшой компании по
производству перфокарт под названием «Ай-Би-Эм» (IBM), сообразили, что
аудион можно использовать для электронного переключения с 0 на 1 и
обратно.
Не будь любого из этих элементов, не было бы и компьютера. Какой из них
наиболее важен, определить очень трудно. Но при одновременном наличии
их всех появление компьютера стало практически неизбежным. По чистой
случайности компьютер изобрели американцы. Этой случайностью стала
вторая мировая война, которая заставила американское военное ведомство
выделить огромные средства на разработку машин для быстрых расчетов
местонахождения высокоскоростных самолетов и морских судов противника
(хотя положительные результаты этих разработок появились гораздо позже,
когда война уже давно закончилась). Если бы не это обстоятельство,
компьютер, скорее всего, изобрели бы англичане. По сути дела, первый
действующий компьютер, названный «Лео», разработали специалисты
английской корпорации «Джей Лайонз энд Компани» в 40-е годы, но
компания не имела достаточных средств, чтобы конкурировать с
Пентагоном, и ей пришлось отказаться от своего замечательного (и гораздо
более дешевого) изобретения.
Превращению капитализма в Капитализм с большой буквы, а технического
прогресса — в промышленную революцию способствовал целый ряд
отдельных событий, не всегда связанных друг с другом. Наиболее известную
из имеющихся на этот счет теорий — о том, что Капитализм явился детищем
«протестантской этики», — развивал в самом начале нашего века немецкий
социолог Макс Вебер (1864—1920). К настоящему времени эта теория
оказалась в значительной мере дискредитированной ввиду недостаточной ее
обоснованности. Немногим больше данных имеется для подтверждения
одной из идей Маркса, высказанной несколько раньше, согласно которой
паровой двигатель — новый генератор энергии — требовал столь
значительных вложений капитала, что ремес- ленники уже не могли
финансировать свои «средства производства» и вынуждены были уступить
руководящую роль и управление капиталистам.
Имеется, однако, один важнейший элемент, без которого такие
общеизвестные явления, как капитализм и технический прогресс, не могли
бы превратиться в социальную пандемию всемирного масштаба. Этим
элементом стало радикальное изменение значения знания, которое
произошло в Европе около или вскоре после 1700 года3.
Существует множество теорий о пределах и природе знания — столько же,
сколько было метафизиков в истории философии, начиная от Платона (400 г.
до н.э.) и кончая Людвигом Витгенш-тейном (1889—1951) и нашим
современником Карлом Поппером (род. 1902). Но со времен Платона на
Западе появились только две теории — и еще две были созданы на Востоке
— относительно значения и функции знания. Мудрец Сократ полагал, что
единственная функция знания — это самопознание, т. е. интеллектуальный,
нравственный и духовный рост человека. Его основной оппонент, блестящий
и высокообразованный философ Про-тагор, утверждал, что цель знания —
сделать деятельность человека более успешной и эффективной. Для
Протагора знание есть логика, грамматика и риторика; впоследствии именно
эти предметы и составят тривиум — три основные дисциплины времен
средневековья, которые, собственно говоря, и по сей день в целом
соответствуют понятию широкого образования (то, что у немцев называется
«Allgemeine Bildung»). Две теории знания, возникшие на Востоке, были в
целом аналогичны западным. С точки зрения конфуцианства, знание — это
понимание того, что и как нужно говорить, чтобы добиться своей цели и
успеха в земной жизни. Для даосистских и дзен-буддистских монахов знание
есть самопознание, путь к просвещению и мудрости. И хотя между этими
двумя теориями имеются очевидные разночтения относительно самого
смысла знания, у них нет разногласий относительно того, что не есть знание.
Знание никогда не означало способности к действию. Полезность не есть
знание; полезность есть умение, навык — то, что по-гречески называется
techne. В отличие от своих восточных современников, китайских
конфуцианцев, с их безмерным презрением ко всему, кроме книжной
мудрости, и Сократ, и Протагор с уважением относились к techne.
Но и для них techne не означало знания. Оно имело лишь конкретное
применение и не содержало каких-либо общих принципов. Знания капитана
корабля о плавании из Греции в Сицилию нельзя было применить в какомлибо другом деле. Более того, приобрести умение и навыки можно было
только поступив в обучение или накопив собственный опыт. Умение, techne,
нельзя было объяснить словами ни в устной, ни в письменной форме; его
можно было только показать. Вплоть до 1700 года и даже позднее в
английском языке понятие «ремесло» обозначали словом «mystery»
(дословно «таинство») — и не только потому, что человек, овладевший
секретами того или иного ремесла, давал клятву не раскрывать этих секретов,
но и потому, что ремесло было недоступно тому, кто не прошел обучения у
мастера и не перенял на практике его тайн.
Понятие «технология» сформировалось за какие-то пятьдесят лет, начиная с
1700 года. Само это слово предполагает, что в нем содержится techne, т.е.
секреты ремесла, и «-логия», т.е. организованное, систематизированное,
целенаправленное знание. Первое техническое учебное заведение — Школа
мостов и дорог — было основано во Франции в 1747 году; за ним
последовали первая Школа сельского хозяйства в 1770 году и первая Школа
горного дела в 1776 году (обе в Германии). В 1794 году был основан первый
технический университет — Политехническая школа во Франции, а вместе с
ней возникла и профессия инженера. Вскоре, в период с 1820 по 1850 год, в
систематизированную отрасль знания были преобразованы медицинское
образование и медицинская практика.
Параллельно с этим в Великобритании с 1750 по 1800 год наблюдался
переход от патентов, закреплявших монопольные права для обогащения
королевских фаворитов, к патентам, выдаваемым в целях содействия
применению знаний для разработки новых орудий труда, изделий и
производственных технологий, а также в целях поощрения изобретателей,
делавших свои открытия всеобщим достоянием. Такая политика не только
положила
начало
целой
эпохе
стремительного
технического
изобретательства в Великобритании; она также привела к тому, что ремесло
перестало быть таинством и секретом.
Величайшим документом, свидетельствовавшим о грандиозном переходе от
ремесла к технологии, стала «Энциклопедия» — одна из наиболее
значительных книг в истории, изданная с 1751 по 1772 год Дени Дидро
(1713-1784) и Жаном Д'Аламбером (1717-1783). В этом знаменитом труде
была
предпринята
попытка
представить
в
организованном и
систематизированном виде знания обо всех ремеслах, чтобы дать людям
возможность получить «специальные знания», не нанимаясь в ученики. Не
случайно статьи в «Энциклопедии», посвященные конкретным ремеслам,
например, прядению или ткачеству, были написаны отнюдь не
ремесленниками. Их авторами стали «специалисты в области информации»:
аналитики, математики, логики, в том числе, например, Вольтер и Руссо.
Основная идея «Энциклопедии» состояла в том, что успешные результаты
материальной деятельности, от разработки орудий труда и технологий до
производства готовых изделий, достигаются через систематизированный
анализ и целенаправленное применение знаний.
Кроме того, «Энциклопедия» учила, что принципы, приносящие
положительные результаты в одном ремесле, дадут их и в любом другом, а
это было равнозначно разрушению традиционных представлений об ученом
и ремесленнике.
Ни одно из технических учебных заведений XVIII века не стремилось к
выработке новых знаний, как, впрочем, не стремились к этому и создатели
«Энциклопедии». Никто даже не пытался рассуждать о применении науки
для разработки орудий производства, технологий и изделий, т. е. об
использовании научных знаний в области техники и технологии. Эта идея
созрела лишь через сто лет, в 1830 году, когда немецкий химик Юстус фон
Либих (1803—1873) изобрел сначала искусственные удобрения, а затем —
способ сохранения животного белка. Тем не менее первые технические
школы и «Энциклопедия» выполнили задачу, которая, пожалуй, имела
гораздо более важное значение. Они свели воедино, систематизировали и
сделали всеобщим достоянием techne, навыки и секреты различных ремесел,
сложившиеся на протяжении тысячелетий. Практический опыт они
преобразовали в знания, практическое обучение — в учебники, секреты — в
методологию, а конкретные действия — в прикладную науку. Все это
послужило основой для промышленной революции — процесса глобального
преобразования общества и цивилизации на основе развития техники.
Именно это изменение в значении знания и обеспечило неизбежность и
доминирующую роль современного капитализма. Стремительное развитие
техники привело к такой потребности в капитале, которая во много раз
превосходила возможности ремесленников. Новая техника и технология
требовали концентрации производства, т. е. перехода к мануфактуре.
Накопленные знания невозможно было эффективно применить в десятках
тысяч мелких мастерских в городах и в кустарном производстве на селе. Для
этого требовалось сосредоточить производство под одной крышей.
Для применения новой техники и технологии требовалось много энергии,
источником которой служили вода или пар и которую невозможно было
поделить
между
множеством
мелких
производителей.
Однако
энергетические нужды, будучи важным фактором, имели все же
второстепенное значение. Главное заключалось в том, что производство,
основанное на умении, навыках и мастерстве ремесленников, почти в
одночасье сменилось производством, основанным на технике и технологии.
В результате столь же стремительно капиталисты заняли центральную
позицию в экономике и общественной жизни. До того они всегда оставались
«на вторых ролях».
Вплоть до 1750 года крупные предприятия принадлежали не частным
владельцам, а государству. Старейшим, а в течение нескольких столетий и
крупнейшим производственным предприятием Старого Света был
знаменитый арсенал, которым владело и управляло правительство Венеции.
Даже «мануфактуры» XVIII века, такие, как Мейсенский и Севрский
фарфоровые заводы, находились в собственности государства. Но уже к 1830
году в странах Запада преобладали крупные частные капиталистические
предприятия. Еще через 50 лет, ко времени смерти Маркса в 1883 году, они
распространились по всему миру, за исключением таких его удаленных
уголков, как Тибет и пустынные районы Аравийского полуострова.
Конечно, распространению техники и капитализма оказывалось
сопротивление. Случались целые восстания, например, в Англии и в
немецкой Силезии, но они носили местный характер, продолжа- лись
несколько недель, самое большее несколько месяцев, и были не в состоянии
даже замедлить темпы экспансии капитализма. <...>
Труд Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов»
появился в тот же год, когда Джеймс Уатт получил патент на
усовершенствованную паровую машину. Но в своей книге Смит практически
не уделяет внимания станкам, фабрикам и промышленности. В ней попрежнему анализируется ремесленное производство. И сорок лет спустя,
после наполеоновских войн, фабрики и станки еще не стали определяющим
фактором с точки зрения философов и писателей, внимательно следивших за
развитием социальных процессов. Они не играют почти никакой роли в
экономических теориях Давида Рикардо (1772—1823). В романах Джейн
Остин, самого тонкого критика общественных процессов Англии начала XIX
века, вы не встретите ни промышленных рабочих, ни банкиров. Общество в
ее представлении является в полной мере «буржуазным», но оно остается
доиндустриальным, обществом помещиков и арендаторов, приходских
священников и морских офицеров, адвокатов, ремесленников и торговцев.
Только в далекой Америке Александр Гамильтон увидел, что машинное
производство быстро становится основной формой хозяйственной
деятельности. Но даже из его последователей мало кто обратил внимание на
«Доклад о производствах» (1791); к нему вернулись лишь через много лет
после смерти Гамильтона — в 1804 году.
Тем не менее уже в 30-е годы прошлого столетия Оноре де Бальзак издавал
один за другим пользовавшиеся огромным успехом романы, в которых
изображал жизнь капиталистической Франции, где доминирующую роль
играли банкиры и фондовая биржа. Спустя еще 15 лет фабричное
производство и станки, а также новые классы — капиталисты и пролетарии
— стали занимать центральное место в книгах Чарльза Диккенса. В романе
«Холодный дом» (1852—1853) новое общество и его противоречия образуют
побочную сюжетную линию в противопоставлении двух способных братьев
— сыновей управляющего имением. Один становится крупным
промышленником на севере страны и намеревается добиться избрания в
парламент, чтобы бороться против власти землевладельцев. Другой остается
верным
вассалом
разоренного,
поверженного,
никчемного
(но
докапиталистического) «дворянина». Другой роман Диккенса — «Тяжелые
времена» (1854) — первое и, бесспорно, наиболее яркое про- изведение о
промышленном строе, в котором повествуется об остром конфликте на
ткацкой фабрике и жестокой классовой борьбе.
Небывалые темпы преобразования общества привели к социальной
напряженности и конфликтам иного порядка. Сегодня мы знаем, что широко
распространенное, если не всеобщее, мнение о том, что фабричным рабочим
в начале XIX века жилось тяжелее, чем безземельным работникам в
доиндустриальной деревне, ни в коей мере не соответствует
действительности. Конечно, им приходилось тяжело, и обращались с ними
грубо. Но они в огромных количествах приходили на фабрики именно
потому, что здесь им было лучше, чем на самом дне пребывающего в застое
тиранического и голодающего сельского общества. <...> «Прекрасная зеленая
земля Англии», которую Уильям Блейк в своей знаменитой поэме «Новый
Иерусалим» надеялся освободить от новых «мельниц Сатаны», реально
представляла собой сплошную сельскую трущобу4.
Хотя индустриализация с самого начала означала для населения улучшение
материального положения, а не «обнищание», согласно знаменитому
выражению Маркса, преобразования шли головокружительными темпами, и
это глубоко шокировало людей. Представители нового класса — пролетарии
— «отчуждались» от средств производства (еще один термин, придуманный
Марксом). Такое отчуждение, предсказывал он, с неизбежностью приведет к
эксплуатации пролетариата <...>. Это, в свою очередь (по Марксу), будет
служить основой концентрации собственности у кучки крупных владельцев и
растущего обнищания бесправного пролетариата — до тех пор, пока система
не рухнет под тяжестью собственного веса, а оставшиеся немногочисленные
капиталисты не будут свергнуты пролетариями, которым «нечего терять,
кроме своих цепей». бы заинтересованы в повышении производительности
труда и могли бы установить гармоничные взаимоотношения на основе
применения знания к процессу производства. Наиболее глубоко эти идеи
были восприняты работодателями и профсоюзными лидерами Японии после
окончания второй мировой войны.
Немного найдется людей, оказавших такое влияние на развитие науки, как
Тейлор, равно как и тех, чьи идеи сталкивались бы с таким упрямым
непониманием и усердным перевиранием7. Отчасти Тейлор пострадал
потому, что история доказала его правоту и неправоту его оппонентовинтеллектуалов. Отчасти его идеи игнорируют потому, что презрительное
отношение к труду все еще сохраняется, особенно среди интеллигенции.
Конечно, такое занятие, как земляные работы (наиболее известный пример из
Тейлора), «образованный человек» не сможет оценить по достоинству, а тем
более признать его важность.
Однако в значительно большей степени репутация Тейлора страдала именно
из-за того, что он применил знание к исследованию процесса труда. Для
профсоюзных лидеров того времени это было сушим проклятием; кампания
общественного презрения, поднятая ими против Тейлора, была одной из
самых злобных в американской истории.
Преступление Тейлора, с точки зрения профсоюзов, состояло в отрицании
самого понятия «квалифицированный труд». Любой физический труд — это
просто «труд». Согласно тейлоровской системе «научного управления»,
любой труд анализируется при помощи одной и той же схемы. Каждый
рабочий, который способен выполнять работу так, как следует ее выполнять,
— «первоклассный работник», заслуживающий «первоклассной заработной
платы», т, е. не ниже, а то и выше заработка квалифицированного рабочего,
который много лет осваивал секреты мастерства.
Во времена Тейлора особым уважением и влиянием в Америке пользовались
профсоюзы, которые действовали на государственных оружейных заводах и
судоверфях, где в период до первой мировой войны было сосредоточено все
оборонное производство мир- ного времени. Эти профсоюзы представляли
собой цеховые монополии, в них принимали только сыновей и
родственников ранее принятых членов. Чтобы быть членом такого
профсоюза, требовалось пройти профессиональное обучение в течение 5—7
лет, но никакой систематической подготовки или изучения трудовых
методик при этом не предусматривалось. Записывать ничего не разрешалось;
не было никаких чертежей и эскизов рабочих заданий. Члены профсоюза
давали клятву хранить в тайне секреты мастерства и никогда не обсуждать
свою работу ни с кем, кроме товарищей по профсоюзу. Утверждение Тейлора
о том, что работу можно изучить, проанализировать и представить в виде
ряда простых повторяющихся действий, каждое из которых следовало
выполнять определенным, приемлемым именно для конкретного работника
образом, в определенное время, при помощи подходящих инструментов,
представляло собой лобовую атаку на профсоюзы. В ответ они от души
поливали Тейлора грязью и добились от Конгресса принятия запрета на
проведение «исследований рабочих операций» на государственных
оружейных заводах и судоверфях; этот запрет оставался в силе даже после
второй мировой войны.
Тейлор навредил своему делу и тем, что владельцев предприятий обидел не
меньше, чем профсоюзы. <...> Он упорно настаивал на том, что львиная доля
роста доходов в результате внедрения «научных методов управления»
должна доставаться рабочим, а не владельцам предприятий. Более того,
«четвертый принцип» Тейлора гласил, что и сам рабочий должен участвовать
в изучении процесса труда — если не в качестве партнера, то по крайней
мере как консультант.
Наконец, Тейлор считал, что власть на предприятии не должна принадлежать
его владельцу только на основании права собственности. Предприятием
должны управлять наиболее подходящие для этого люди. Иначе говоря, он
настаивал на том, что мы сегодня называем «профессиональным
управлением», а для капиталистов XIX века это была анафема и
«радикальная ересь». Они жестоко критиковали Тейлора, называя его
«смутьяном» и «социалистом». <...>
Аксиома Тейлора, согласно которой любой физический труд,
квалифицированный или неквалифицированный, можно проанализировать и
организовать при помощи знаний, казалась его современникам сущей
нелепицей. Представление о том, что в навыках ремесла скрыта некая тайна,
господствовало в течение еще многих лет. Именно на нем строилась
уверенность Гитлера в своих силах, когда он в 1941 году объявлял войну
США. Он считал, что американцам потребовался бы целый флот кораблей,
чтобы направить в Европу достаточно крупные военные силы. Америка же
почти не имела в то время торговых судов, а эсминцев для их защиты не
было вовсе. Кроме того, в современной войне, по мнению Гитлера, в
больших количествах требовались высокоточные оптические приборы, а в
Америке не было квалифицированных рабочих-специалистов по оптической
технике.
Гитлер был абсолютно прав. У США почти не было торгового флота,
эсминцев было совсем мало, да и те устаревшие. Производство оптических
приборов также практически отсутствовало. Но при помощи тейлоровских
научных принципов управления американцам удалось в кратчайшие сроки
превратить абсолютно неквалифицированных рабочих, многие из которых в
прошлом были испольщиками, родились и выросли в доиндустриальную
эпоху, в первоклассных сварщиков и судостроителей. Всего за несколько
месяцев такие же рабочие были обучены изготавливать высокоточные
оптические приборы, даже более качественные, чем у немцев, и было
организовано их конвейерное производство.
Наибольшее влияние Тейлор оказал на систему профессиональнотехнического обучения рабочих. За сто лет до него Адам Смит был
абсолютно убежден, что для приобретения ремесленных навыков,
необходимых для изготовления высококачественных изделий, населению
любого региона требуется никак не меньше пятидесяти лет, если не целое
столетие; в качестве примеров Смит приводил изготовление музыкальных
инструментов в Богемии и Саксонии и шелковых тканей в Шотландии. Через
70 лет после Смита, приблизительно в 1840 году, немец Август Борзиг
(1804—1854), одним из первых за пределами Англии построивший паровоз,
изобрел свою систему профессионально-технического обучения, сочетавшую
в себе практику на заводе под руководством наставника с теоретической
подготовкой в училище. По сей день эта система является основой
производительности труда в промышленности Германии. Но даже по системе
Борзига профессиональное обучение занимало от 3 до 5 лет. Позднее,
сначала в годы первой, но особенно во время второй мировых войн,
американцам с помощью систематического применения тейлоровских
подходов к профессиональному обучению удалось обеспечить подготовку
первоклассных специалистов всего за несколько месяцев. Именно этот
фактор, более, чем какой-либо другой, обеспечил победу США и над
Японией, и над Германией.
Все мощные в экономическом отношении державы раннего периода
современной истории — Великобритания, США, Германия — стали
таковыми благодаря лидерству в развитии техники и технологии. Страны,
быстрый рост которых начался после второй мировой войны — Япония,
Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, — обязаны своим подъемом
системе профессионально-технического обучения по Тейлору. Она позволила
этим странам в короткие сроки научить рабочих практически
доиндустриальной эпохи, а потому низкооплачиваемых, трудиться на уровне
мировых стандартов производительности. После второй мировой войны
профессионально-техническое обучение на основе принципов Тейлора стало
единственной эффективной движущей силой экономического развития.
Применение знания к организации труда обеспечило взрывной рост его
производительности8. В течение столетий способность рабочих производить
или перемещать изделия не увеличивалась. С появлением станков объем
производства возрос. Но производительность самих рабочих оставалась не
выше, чем у мастеров Древней Греции, строителей дорог Римской империи
или ткачей, производивших качественные шерстяные ткани, которые
обеспечивали благосостояние Флоренции в эпоху Возрождения.
Но вот Тейлор начал применять знание к организации труда, и уже через
несколько лет производительность стала повышаться ежегодно на 3,5—4%, т.
е. удваиваться примерно за восемнадцать лет. С тех пор как Тейлор стал
внедрять свои принципы, производительность труда в развитых странах
увеличилась раз в пятьдесят. Этот беспрецедентный рост и явился основой
для повышения материального благосостояния и улучшения качества жизни
населения передовых стран.
Примерно половина этой дополнительной производительности воплотилась в
увеличении покупательной способности населения, т. е., другими словами,
привела к повышению жизненного уровня. Но от одной трети до половины
роста производительности реализовалось в увеличении продолжительности
свободного времени рабочих. Еще в 1910 году рабочие развитых странах
трудились столько же, сколько и во все прежние эпохи, — не менее 3 тысяч
часов в год. Сегодня японцы работают 2 тысячи часов в год, американцы —
около 1850, немцы — самое большее 1600, а почасовая производительность
их труда в 50 раз выше, чем восемьдесят лет назад. Другими проявлениями
роста производительности стали развитие системы здравоохранения (доля
расходов на медицинское обслуживание в объеме валового национального
продукта развитых стран выросла практически с нуля до 8—12%), а также на
образование (рост соответствующего показателя составил от двух до десяти
процентов и выше).
Как и предсказывал Тейлор, рост производительности труда принес выгоды
именно рабочим, или же пролетариям, если пользоваться терминологией
Маркса. В 1907 году Генри Форд (1863—1947) выпустил первый дешевый
автомобиль — «Форд» модели Т. Однако он был дешевым только по
сравнению с другими моделями, представленными в то время на рынке, цена
которых, будучи соотнесена со средним уровнем доходов, соответствовала
стоимости двухмоторного частного самолета в наши дни. «Форд Т» стоил
750 долларов, что составляло заработок американского промышленного
рабочего за три-четыре года; тогда 80 центов в день считались хорошим
заработком, и никаких «дополнительных льгот», конечно же, не было. Даже
среди врачей немногие зарабатывали более 500 долларов в год. Сегодня
рабочий автомобильного завода в США, Японии или Германии, являющийся
членом профсоюза, работая всего лишь сорок часов в неделю, зарабатывает,
с учетом дополнительных льгот и выплат, 50 тысяч долларов (или 45 тысяч
после уплаты налогов), что приблизительно в восемь раз превышает
стоимость нового недорогого автомобиля.
К 1930 году система научного управления Тейлора, вопреки сопротивлению
со стороны профсоюзов и интеллигенции, получила широкое
распространение во всех развитых странах. В результате этого Марксов
«пролетарий» превратился в «буржуа». Капитализм и промышленная
революция принесли выгоды прежде всего рабочим, а не капиталистам. Этим
и объясняется полный провал марксизма в высокоразвитых странах, которым
Маркс предсказывал революцию к 1900 году. Этим же объясняется и тот
факт, что после 1918 года «пролетарская революция» так и не произошла
даже в потерпевших поражение странах Центральной Европы, где царили
нищета, голод и безработица. Этим объясняется и то, почему Великая
депрессия не привела к коммунистической революции, чего с полной
уверенностью ожидали Ленин и Сталин, да и практически все марксисты. К
этому времени марксовы пролетарии еще не стали богатыми, но уже
превратились в средний класс. Они стали трудиться производительно.
Считается, что Дарвин, Маркс и Фрейд преобразовали современный мир. По
справедливости, Маркса в этом ряду следовало бы заменить на Тейлора. Но
то, что Тейлору не воздается по заслугам, не так уж важно. Гораздо важнее
другое: лишь очень немногие действительно понимают, что именно
применение знания к процессам труда обеспечило создание экономики
развитых стран, вызвав к жизни бурный рост производительности за
последние сто лет. Инженеры считают причиной такого развития машинное
производство, экономисты — капиталовложения. Но оба эти фактора как
имелись в достатке в первое столетие капиталистической эры — до 1880
года, так существуют в изобилии и поныне. С точки зрения наличия и
использования станков и инвестиций второе столетие капитализма мало чем
отличалось от первого. Однако в первые сто лет производительность труда
рабочих абсолютно не увеличивалась, соответственно не было и роста
реальных доходов или сокращения рабочего времени. Второе же столетие
коренным образом отличалось от первого, и единственное объяснение тому
— применение знания к процессам труда.
Производительность новых классов — классов посткапиталистического
общества — можно повысить только путем применения знания к процессам
труда. Этого невозможно добиться ни при помощи станков, ни при помощи
капитала. В сущности, современное оборудование и капитал в отсутствие
влияния других факторов, скорее всего, способны затруднить рост
производительности труда, а не способствовать ему.
В те годы, когда Тейлор начинал свои исследования, девять рабочих из
десяти были заняты физическим трудом — изготовляли или передвигали
различные предметы вручную — и в добывающей, и в обрабатывающей
промышленности, и в сельском хозяйстве, и на транспорте.
Производительность труда таких рабочих и сегодня увели- чивается теми же
темпами, что и в прошлом, — на 3,5—4 % в год, а в сельском хозяйстве США
и Франции даже быстрее. Но революция в производительности труда уже
закончилась. Сорок лет назад, в 50-е годы, рабочие, занятые физическим
трудом, составляли большинство во всех развитых странах. К 1990 году их
доля сократилась до 20% от общего числа занятых. К 2010 году она будет
составлять не более одной десятой. Повышение производительности труда
рабочих, занятых физическим трудом в добывающей, обрабатывающей
промышленности, в сельском хозяйстве и на транспорте, уже не может
создавать [дополнительные] материальные ценности само по себе.
Революция в производительности труда стала жертвой собственного успеха.
Отныне значение имеет только повышение производительности труда людей,
не занятых физическим трудом. Для этого требуется применение знания к
знанию.
Когда в 1926 году я решил после школы устроиться на работу, а не поступать
в институт, мой отец очень расстроился; в нашей семье все становились
юристами или врачами. Но он не назвал меня непутевым и не пытался
переубедить. Отец не пугал меня тем, что я ничего не добьюсь в жизни. Я
был уже взрослым, мог принимать ответственные решения и хотел работать,
как взрослый.
Лет тридцать спустя, когда моему сыну исполнилось восемнадцать, я чуть ли
не силой заставил его поступить в институт. Как и его отец, он хотел
поскорее стать взрослым и быть на равных со взрослыми. Как и его отец, он
чувствовал, что двенадцать лет сидения за школьной партой мало чему его
научили и вряд ли он сумеет много узнать, если просидит за такой же партой
еще четыре года. Как и его отец в том же возрасте, он хотел действовать, а не
учиться.
И все же к 1958 году, через тридцать два года после окончания средней
школы и поступления на работу в фирму по экспортным операциям в
качестве стажера, я понял, что высшее образование мне необходимо. Высшее
образование открывало перспективы служебного роста. В 1958 году для
американского юноши, выросшего в благополучной семье и хорошо
окончившего среднюю школу, от- каз от учебы в высшем учебном заведении
означал, что у него нет никаких шансов на успех. В свое время мой отец без
труда подыскал для меня место ученика-стажера в солидной торговой фирме.
Тридцать лет спустя такие компании не принимали в качестве стажеров
выпускников средней школы; а если бы к ним обратился такой выпускник,
ему ответили бы следующее: «Пойдите поучитесь четыре года в институте, а
потом, возможно, придется продолжить учебу в аспирантуре».
В годы юности моего отца (он родился в 1876 году) высшее образование
было уделом молодых людей из богатых семей, а также очень немногих
одаренных юношей из бедных семей (мой отец был как раз из таких). Из
самых известных американских предпринимателей XIX века только один
учился в высшем учебном заведении: Дж. П. Морган поступил на
математический факультет Геттингенского университета, но после первого
курса бросил его. Большинство их даже не посещало среднюю школу, не
говоря уже о том, чтобы ее окончить9.
Во времена моей юности высшее образование уже считалось желательным;
оно означало определенный социальный статус. Однако оно не было
обязательным и мало что давало для жизни и карьеры. Когда я проводил
первое исследование в крупной компании — «Дженерал моторе»10,
работники отдела по связям с общественностью всеми силами старались
скрыть тот факт, что многие из руководителей фирмы имели высшее
образование. В те годы приличнее считалось начать трудовой путь рядовым
станочником, постепенно поднимаясь по служебной лестнице11. Еще в 1950
или 1960 году кратчайший путь к достижению уровня доходов среднего
класса в США, Великобритании и Германии (но уже не в Японии) лежал не
через высшее учебное заведение; для этого сле- довало уже в
шестнадцатилетнем возрасте пойти работать на какое-нибудь крупное
предприятие, где действовали профсоюзы. Здесь можно было достичь уровня
доходов среднего класса уже через несколько месяцев — результат бурного
роста производительности труда. Сегодня это практически невозможно. В
наше время для таких заработков необходим диплом о высшем образовании,
свидетельствующий о систематических знаниях, полученных в учебном
заведении.
Изменение значения знания, начавшееся двести пятьдесят лет назад,
преобразовало общество и экономику. Знание стало сегодня основным
условием производства. Традиционные «факторы производства» — земля (т.
е. природные ресурсы), рабочая сила и капитал — не исчезли, но приобрели
второстепенное значение. Эти ресурсы можно получать, причем без особого
труда, если есть необходимые знания. Знание в новом его понимании
означает реальную полезную силу, средство достижения социальных и
экономических результатов.
Все эти изменения, желательны они или нет, являются необратимым
процессом: знание теперь используется для производства знания. Это третий
и, очевидно, последний шаг в его преобразованиях. Использование знаний
для отыскания наиболее эффективных способов применения имеющейся
информации в целях получения необходимых результатов — это, по сути
дела, и есть управление. В настоящее время знание систематически и
целенаправленно применяется для того, чтобы определить, какие новые
знания требуются, является ли получение таких знаний целесообразным и
что следует предпринять, чтобы обеспечить эффективность их
использования. Иными словами, знание применяется для систематических
нововведений и новаторства12.
Это третье изменение роли знания можно определить как революцию в сфере
управления. Как и на двух предыдущих этапах — применения знаний для
разработки орудий труда, технологий, видов готовой продукции и
применения знаний к процессам трудовой деятельности, — революция в
управлении охватила весь мир. Промышленная революция проникла во все
сферы жизни и приобрела всемирный масштаб за сто лет — с середины
XVIII до середи- ны XIX века. Столь же широкого масштаба революция в
производительности труда достигла за семь десятилетий — с 1880 года до
конца второй мировой войны. Революция в управлении продемонстрировала
те же результаты менее чем за пятьдесят лет — с 1945 по 1990 год.
Для большинства людей сегодня, как и прежде, слово «менеджмент»
означает управление производственно-коммерческой деятельностью.
Действительно, это понятие возникло первоначально на крупных
коммерческих предприятиях. Когда я начинал изучать проблемы управления
лет пятьдесят назад, я тоже уделял главное внимание вопросам управления
производственно-коммерческой деятельностью. Но вскоре стало ясно, что
организация управления необходима на любом современном предприятии и в
любом учреждении. Более того, выяснилось, что некоммерческие
организации — как государственные, так и негосударственные — еще
сильнее нуждаются в эффективной системе управления, поскольку здесь
отсутствует дисциплинирующий фактор прибыльности, который довлеет над
любым коммерческим предприятием. То, что управление необходимо не
только в сфере производственно-коммерческой деятельности, сначала было
признано в США. Сейчас это начинают понимать во всех развитых странах.
Сегодня нам известно, что управление носит общий характер, независимо от
функций и задач конкретных организаций. В обществе, основанном на
знаниях, ему принадлежит особая роль.
Управление существует очень давно. Меня часто спрашивают, кого я считаю
самым лучшим или самым великим начальником. Я всегда отвечаю: «Того,
кто более четырех тысяч лет назад задумал, спроектировал и построил
первую египетскую пирамиду, — и она до сих пор стоит». Но управление —
это особый вид трудовой деятельности, значение которого стали понимать
лишь после первой мировой войны, да и то немногие. В качестве учебной
дисциплины оно появилось лишь после второй мировой войны. Даже в 1950
году, когда Мировой банк начал выделять кредиты на развитие экономики,
его специалисты не употребляли слово «управление». В сущности, можно
сказать, что управление, изобретенное тысячи лет назад, открыто нами лишь
в последние десятилетия.
Этому открытию способствовал, в частности, опыт самой войны и особенно
эффективная работа американской промышленно- сти. Но, пожалуй, не менее
важную роль в получении управлением всеобщего признания сыграли успехи
Японии, достигнутые после 1950 года. В первые послевоенные годы Японию
нельзя было назвать слаборазвитым государством, но ее промышленность и
экономика были почти полностью уничтожены, а отечественной техники
практически не было, Главным национальным достоянием страны была
готовность воспринять и приспособить к своим нуждам систему управления,
разработанную американцами за годы войны, и в первую очередь — систему
профессионально-технического обучения. Всего за двадцать лет — с 50-х
годов, когда с ее территории были выведены американские оккупационные
войска, до 70-х — Япония стала второй страной в мире по экономической
мощи и лидером в развитии техники. После окончания войны в Корее в
начале 50-х годов южная часть полуострова была разрушена еще больше, чем
Япония семью годами раньше. Да и во все прежние эпохи Корея была
отсталой страной, к тому же за тридцатипятилетний период ее оккупации
японцы целенаправленно подавляли здесь предпринимательскую инициативу
и стремление к получению высшего образования. Однако благодаря
деятельности талантливых молодых людей, получивших образование в
американских вузах, а также за счет эффективного заимствования и
внедрения научных принципов управления Южная Корея за двадцать пять
лет превратилась в страну с высокоразвитой экономикой.
Широкое распространение эффективного управления способствовало более
точному пониманию того, что же оно представляет собой на самом деле.
Когда я начинал изучать проблемы управления во время второй мировой
войны и в первые годы после ее окончания, определение понятия
«руководитель, начальник, менеджер» звучало так: «человек, отвечающий за
работу своих подчиненных». То есть начальник — это «шеф», а управление
— высокая должность и власть. Видимо, и по сей день многие имеют в виду
именно это, когда говорят о «начальниках», «управлении» и «руководстве».
Но к началу 50-х годов содержание понятия «руководитель» изменилось; оно
стало означать: «человек, отвечающий за эффективность и результаты
работы коллектива». Сегодня мы понимаем, что и это определение слишком
узко, а адекватным следует считать следующее: «человек, отвечающий за
применение и эффективность знания».
Это изменение отражает подход к знанию как важнейшему из ресурсов.
Земля, рабочая сила и капитал являются сегодня, главным образом,
сдерживающими, ограничивающими факторами. Без них даже знание не
сможет приносить плодов, а управление не будет эффективным. Но если
обеспечено эффективное управление, в смысле применения знания к знанию,
другие ресурсы всегда можно изыскать.
То обстоятельство, что знание стало главным, а не просто одним из видов
ресурсов, и превратило наше общество в посткапиталистическое. Данное
обстоятельство изменяет структуру общества, и при этом коренным образом.
Оно создает новые движущие силы социального и экономического развития.
Оно влечет за собой новые процессы и в политической сфере.
В основе всех трех этапов повышения роли знаний — промышленной
революции, революции в производительности труда и революции в
управлении — лежит коренное изменение значения знания. Мы прошли путь
от знания (в единственном числе) к знаниям (во множественном числе), т. е.
к многочисленным отраслям знаний.
В прежние времена знание носило общий характер. Сегодня знания в силу
необходимости стали глубоко специализированными. Раньше не
употребляли такое понятие, как «человек, обладающий знаниями». Говорили:
«образованный, ученый человек». Образованные люди — это люди широкой
эрудиции. Они обладали достаточными знаниями, чтобы вести разговор или
писать на самые разнообразные темы, но они не могли заниматься
практической деятельностью в какой-либо конкретной области. Есть такая
старая присказка: с образованным человеком приятно общаться за
обеденным столом, но не дай бог оказаться с ним вдвоем на необитаемом
острове, — там нужен человек, обладающий практическими знаниями и
навыками. Однако в современном университете «образованных людей» в
традиционном понимании могут счесть лишь дилетантами.
Герой повести Марка Твена «Янки при дворе короля Артура» (1889) не был
образованным человеком. Он не учил ни латыни, ни древнегреческого,
наверное, не читал Шекспира, да и Библию знал довольно слабо. Но он знал
и умел делать все, что связано с техникой, в том числе получать
электроэнергию и собирать телефонные аппараты.
Сократ полагал, как было уже сказано выше, что цель знания заключается в
самопознании и саморазвитии; при этом результаты служат самому человеку.
Оппонент Сократа, Протагор, утверждал, что цель знания — уметь сказать
что нужно и как нужно. На современном языке это называется «имидж». В
течение более двух тысяч лет именно такая трактовка знания имела
определяющее значение для западной системы образования и обучения, да и
для самого понятия знания. Тривиум эпохи средневековья — система
образования, по сей день служащая основой того.что мы называем широким
образованием, — включал в себя грамматику, логику и риторику, т. е. умение
определить, что сказать и как. Эти средства не годятся для того, чтобы
решить, что делать и как. То же самое можно сказать и о дзен-буддистском и
конфуцианском понимании знания, а эти две концепции определяли
восточную систему образования и культуру Востока многие тысячелетия.
Дзен-буддистское понимание было сосредоточено на самопознании, а
конфуцианское, подобно тривиуму средневековья, — на китайских
эквивалентах грамматики, логики и риторики.
То, что мы теперь называем знанием, ежечасно доказывает свою значимость
и проверяется на практике. Знание сегодня — это информация, имеющая
практическую ценность, служащая для получения конкретных результатов.
Причем результаты проявляются вне человека — в обществе, экономике или
в развитии самого знания.
Для получения сколько-нибудь значимых результатов в любой области
требуются знания высокоспециализированные. Именно по этой причине
традиция, берущая начало у древних, но сохраняющаяся и по сей день в той
системе, которую мы называем «широкое образование», понизила статус
таких знаний до уровня tech-пе ~ умения, ремесла. Такие знания невозможно
было преподавать, их нельзя было выучить; в их основе отсутствовали какиелибо общие принципы. Эти знания были вполне конкретными и
специализированными, они были связаны с практическим опытом, а не с
учебой, с практической подготовкой, а не со школь- ным обучением. Сегодня
мы уже не называем такие специализированные знания «ремеслами», мы
называем их «дисциплинами». И это — одно из величайших преобразований
в истории развития человеческой мысли.
Научная дисциплина переводит «ремесло» в разряд методологии — таковы,
например,
производственные
технологии,
научная
методология,
количественный метод или дифференциальный диагноз (в медицине).
Каждая такая методология преобразует частный опыт в систему, отдельные
случаи и события — в информацию. В результате умения и навыки
преобразуются в некую систему, которую можно преподавать и усваивать.
Переход от общего знания к комплексу специализированных знаний
превращает знание в силу, способную создать новое общество. Но следует
иметь в виду, что такое общество должно быть основано на знании,
организованном в виде специализированных дисциплин, и что членами его
должны быть люди, обладающие специальными знаниями в различных
областях. Именно в этом их сила и эффективность. Здесь, в свою очередь,
встают фундаментальные вопросы: о ценностях, об общем видении будущих
перспектив, об убеждениях, — обо всем том, что обеспечивает целостность
общества как единой системы и делает нашу жизнь значимой и осмысленной.
<...>
* - Weizsaecker E., van, Lovins A.B., Lovins L.H. Factor Four. Doubling Wealth
— Halving Resource Use. L., Earthscan Publications Ltd., 1997. Copyright —
Weizsaecker E., von, Lovins А. В., Lovins L.H. 1997. Текст воспроизводится с
согласия Э. фон Вайцзеккера.
1 - См.: Meadows D.H., Meadows D.L, Randers J. Behrens III, W.W. The Limits
to Growth. N.Y., 1972.
2 - Мы называем так эту модель потому, что существовали также модели
World 1 и World 2. World 1 была первоначальной версией, разработанной
профессором Массачусетсского технологического института Дж.Форестером
в рамках проводившегося Римским клубом исследования взаимозависимости
между глобальными тенденциями и глобальными проблемами. World 2
является окончательной документированной моделью, представленной
профессором Дж.Форестером в книге: Forester J. World Dynamics. N.Y., 1971.
Модель World 3 была создана на базе World 2, в первую очередь как
следствие изменения ее структуры и расширения количественной базы
данных. Мы должны отметить, что профессор Дж.Форестер является
безусловным вдохновителем данной модели и автором используемых в ней
методов.
3 - См.: Meadows D.H., Meadows D.L., Renders J. Behrens III, W.W. The Limits
to Growth. P. 24.
4 - Vargish Th. Why the Person Sitting Next to You Hates Limits to Growth //
Technological Forecasting and Social Change. Vol. 16. 1980. P. 187-188.
7 - Buzan B.G. New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century //
International Affairs. No 67. July 1991. P. 448-449.
8 - Lewis В. The Roots of Muslim Rage: Why So Many Muslims Deeply Resent
the West and Why Their Bitterness Will Not Be Easily Mollified // Atlantic
Monthly. No 266. September 1990. P. 60.
9 - Mohamed Sid-Ahmed. Cybernetic Colonialism and the Moral Search // New
Perspectives Quarterly. No. 11. Spring 1994. P. 19; [мнение индийского
политического деятеля М.Дж.Акбара цитируется no) Time. 1992. June 15. Р.
24; [позиция тунисского правоведаАбдельвахаба Бёльваля представлена в]
Time. 1992. June 15. Р. 26.
10 - McNeil W.H. Epilogue: Fundamentalism and the World of 1990's; Marty
M.E., Scott Appleby R. (Eds.) Fundamentalisms and Society; Reclaiming the
Sciences, the Family, and Education. Chicago, 1992. P. 569.
11 - Mernissi F. Islam and Democracy: Fear of the Modem World. Reading (MA),
1992. P. 3, 8, 9, 43-44, 146-147.
12 - Подборка подобных высказываний приведена в журнале «Economist».
1992. August 1. Р. 34-35.
Оглавление
Новая постиндустриальная волна на Западе
Оглавление
Энтони Гидденс Последствия модернити
Энтони Гидденс— наиболее известный сегодня в мире британский социолог
— родился 18 января 1938 года. Он получил высшее образование на
социологическом факультете Гулльского университета, который окончил в
1965 году, затем учился в Лондонской школе экономики, где в 1974 году стал
доктором социологии. Большая часть научной деятельности Э.Гидденса
связана с Кембриджским университетом (Великобритания), где он работал с
1969 года, получш должность профессора социологии в 1985 году и занимал
ее до 1995 года. В 1996 году профессор Гидденс был назначен директором
Лондонской высшей школы экономических и политических наук, кем
является и поныне.
Широкую известность Э.Гидденсу принесли его работы в области
социальной теории, теории мотивации и рефлексии. Его концепция
основывается на признании современного общества посттрадиционным,
решительно порывающим с принципами индустриализма и возводящим
человека на новую ступень личной свободы. Профессор Гидденс написал
более двадцати книг, среди них такие, как «Новые законы социологических
исследований» [1976], «Современная критика исторического материализма»
[1981], «Устройство общества. Очерк теории структурирования» [1984]',
«Национальное государство и насшие» [1985], «Центральные проблемы
социальной теории» [1986] «Социальная теория и современная социология»
[1981], «Социология» 11989], «Последствия модернити» [1990], «Модернити
и тождественность самому сеое» [1991], «Человеческие общности» (I992J,
«Трансформация интимности» [1992]. Кроме того, он является соавтором
шести и ре- доктором восьми коллективных монографий. Он состоит
почетным профессором одиннадцати европейских и пяти американских
университетов.
Книга «Последствия модернити» написана в виде развернутого изложения
лекций, которые автор прочитал в 1988 году на социологическом отделении
Стенфордского университета (штат Калифорния, США), Она представляет
собой большой очерк, в концентрированной форме излагающий основные
элементы тех представлений о модерни-ти и постмодернити, что
содержались в целом ряде более ранних работ автора. Выбирая для нашего
сборника именно эту книгу, мы исходили из того, что в ней наиболее полно
раскрыты методологические основания концепции Э.Гидденса.
В книге доминирует идея о том, что модернити, под которой автор понимает
социальную систему, возникшую вместе с национальным государством и
систематическим капиталистическим производством (то есть систему, в
значительной мере определяемую понятием индустриального общества), не
сменяется сегодня какой-то новой стадией, которую многие социологи
стремятся обозначить в качестве «постмодернити», а скорее переживает
бурное развитие, некую «радикали-зацию».
Автор называет два источника этой радикализации. С одной стороны, это
растущая социологизация жизни, повышение значения рефлексии и
саморефлексии, изменение системы ценностей человека, их переориентация
с внешних на внутренние, с материальных на нематериальные. Эти явления
подрывают устои традиционного капиталистического хозяйства. С другой
стороны, это глобализация, устранение прежних границ национальных
государств и становление мировой сети производственных и
информационных структур. Оба эти источника не рассматриваются им как
чуждые идеям модернити; напротив, полагая, что модернити сама по себе
глубоко социологична и что в ней заложено противопоставление традиции,
стремление к безграничной экспансии, он утверждает, что сегодня
правильнее вести речь не о новом обществе, сменяющем модернити, а о
периоде новой, ради-кализованной, модернити.
С этих позиций автор подходит к анализу современной хозяйственной и
социальной глобализации. Утвердительно отвечая на вопрос о том,
порождена ли модернити западным типом развития, профессор Гидденс
отмечает, что современные новые индустриальные страны, входя в орбиту
развитых государств, не несут вызова модели модер- нити, не отрицают ее, а
скорее придают ей дополнительные комплексность и динамизм. Порывая с
абсолютным доминированием западных стран, современная система не
отрицает западных ценностей, и это, по мнению автора, также доказывает,
что определение современного мира как постмодернити вряд ли
своевременно и продуктивно.
Подбирая фрагменты из этой книги Э.Гидденса, мы остановились на
наиболее принципиальных методологических элементах его работы,
вюгючыв в публикацию отрывки из части I (параграфы «Рефлексивность
модернити» и «Модернити или пост-модернити?»), части V (параграф
«Постмодернити») и части VI (параграф «Является ли модернити западным
проектом?») (эти фрагменты соответствуют стр. 36-39, 40, 41-47, 48-53, 163,
164-165,168-169, 170-173, 174-178 в издании Polity Press). ПОСЛЕДСТВИЯ
МОДЕРНИТИ* РЕФЛЕКСИВНОСТЬ МОДЕРНИТИ
В идее модернити содержится противопоставление традиции. В конкретных
социальных условиях можно обнаружить множество комбинаций
современного и традиционного. Некоторые авторы пытаются доказать, что
эти элементы настолько тесно переплетены, что любое их обобщенное
сопоставление становится бесполезным. Но дело обстоит вовсе не так, в чем
можно убедиться, исследуя отношения модернити и рефлексивности. В
определенном
смысле
рефлексивность
является
определяющей
характеристикой любой человеческой деятельности. Люди «имеют в виду»
мотивы того, что они делают, в качестве неотъемлемого элемента своих
поступков. <...> Человеческое действие включает в себя не цепи совокупных
взаимодействий и причин, но постоянный — и никогда не ослабевающий —
контроль за поведением и его контекстами. Однако это не исчерпывает
смысла рефлексивности, которая специфически связана с модернити, хотя и
является ее необходимой основой.
Традиционным культурам свойственно почитание прошлого, и символы
ценятся потому, что содержат и увековечивают опыт поколений. Традиция
— способ интеграции рефлексивного контроля действия и пространственновременной организации сообщества, средство взаимодействия с
пространством и временем, обеспечивающее преемственность прошлого,
настоящего и будущего любой деятельности или опыта... <...> Она не
является целиком застывшей, поскольку переоткрывается заново каждым
новым поколением, принимающим культурное наследие от тех, кто ему
предшествует. Традиция не столько противится изменению, сколько образует
контекст специфических временных и пространственных признаков, по
отношению к которым изменение приобретает значимую форму.
В культурах, основанных на устном предании, традиция как таковая
неизвестна, хотя эти культуры — наиболее традиционные. Чтобы осознать
традицию как нечто отличное от других форм организации действия и опыта,
нужно внедриться в пространство-время способами, которые становятся
возможными лишь после изобретения письменности. Последняя расширяет
границы
пространственно-временного
дистанцирования
и
создает
перспективу прошлого, настоящего и будущего, в которой рефлексивное
постижение новоприобретенного знания может быть отделено от
сложившейся традиции. Тем не менее, в цивилизациях, существовавших до
эпохи модернити, рефлексивность в значительной мере ограничена
перетолкованием и прояснением традиции, так что на весах времени чаша
«прошлого» существенно перевешивает чашу «будущего». Более того,
поскольку грамотность является монополией немногих, стандартизация
повседневной жизни определяется традицией в ее привычном смысле.
С наступлением эпохи модернити рефлексивность принимает иной характер.
Она включается в саму основу воспроизводства системы, так что мысль и
действие постоянно преломляются друг в друге. Стандартизация
повседневной жизни вообще не имеет внут- ренних связей с прошлым, разве
лишь в той мере, в какой «сделанное прежде» оказывается случайно
совпадающим с тем, что можно принципиально защитить в свете нового
знания. Обоснование практики ее традиционностью теряет силу, и традиция
может быть оправданна лишь в свете знания, которое само по себе ею не
определяется. Между тем в силу инерции обычаев даже в наиболее
модернизированных
сообществах
традиция
продолжает
играть
определенную роль, которая, как правило, гораздо менее значима, чем это
предполагается авторами, фокусирующими внимание на интеграции
традиции и модернити в современном мире. Ибо то, что по праву зовется
традицией, — это традиция в фальшивом одеянии, обретающая идентичность
лишь в рефлексивности нового.
Рефлексивность современной общественной жизни обусловлена тем, что
социальная практика постоянно проверяется и преобразуется в свете
поступающей информации и таким образом существенно меняет свой
характер. Мы должны ясно осознавать природу этого феномена. Все формы
общественной жизни частично конституируются самим знанием о них
действующих лиц. <...> Во всех культурах социальная практика регулярно
изменяется в свете постоянно внедряющихся в нее открытий. Но только с
наступлением эры модернити пересмотр правил настолько радикализуется,
что применяется (в принципе) ко всем аспектам человеческой жизни,
включая технологическое вмешательство в материальный мир. Часто
говорится, что модернити отмечена жаждой нового, но, по-видимому, это не
вполне точно. Основная черта этой эпохи состоит не в том, чтобы принимать
новое ради него самого, но в презумпции всеохватывающей рефлексивности
— которая, разумеется, включает и рефлексию о природе самой рефлексии.
Возможно, что лишь сейчас, в конце двадцатого века, мы начинаем в полной
мере сознавать, сколь тревожна эта тенденция. Когда требования разума
заменили диктат традиции, стало казаться, что он дает больше уверенности,
чем прежние догмы. Однако представление выглядело убедительным лишь
до тех пор, пока мы не увидели, что рефлексивность модернити в
действительности подрывает позиции разума, во всяком случае там, где он
понимается как достижение определенного знания. Модернити обусловлена
рефлексивно применяемым знанием, но уравнивание знания и уверенности
является недоразумением. Мы живем в мире, который целиком
конституирован через рефлексивно примененное знание, и мы никогда не
можем быть уверены, что любой его элемент не будет пересмотрен.
Никакое знание в условиях модернити не есть знание в «старом» смысле, где
«знать» — значит быть уверенным. Это применимо в равной мере к
естественным и общественным наукам, хотя в последнем случае можно
привести некоторые дополнительные соображения.
В общественных науках к неустоявшемуся характеру знания, основанного на
опыте, мы должны добавить «ниспровержение», проистекающее из
возвращения социального научного дискурса в контекст, этим же дискурсом
анализируемый. Та рефлексия, формальной разновидностью которой
являются общественные науки (особый жанр экспертного знания),
совершенно необходима для рефлексивности модернити в целом.
Поскольку основным содержанием эпохи Просвещения была защита
требований разума, естественные науки обычно рассматривались как
важнейшая попытка отделить современную точку зрения от ей
предшествовавших.
Даже
те,
кто
предпочитал
социологию
интерпретационистскую социологии натуралистической, естественно
считали общественную науку бедной родственницей естественных наук,
особенно принимая во внимание уровень технологического развития,
являющийся результатом научных открытий. Но общественные науки в
действительности гораздо более причас-тны модернити, чем естественные,
поскольку постоянный пересмотр социальной практики в свете знания о ней
есть само существо современных институтов.
Все общественные науки соучаствуют в этих рефлексивных связях, хотя
социология занимает в них особое место. Ведущая позиция социологии в
рефлексивности модернити проистекает из ее роли наиболее обобщенного
типа рефлексии о современной общественной жизни. Рассмотрим пример из
натуралистической социологии.
Официальные статистические сведения относительно, к примеру,
численности народонаселения, количества браков и разводов, преступлений
и правонарушений и т.д., по-видимому, дают средства для точного изучения
общественной жизни. С точки зрения пионеров натуралистической
социологии, таких, как Дюрк-гейм, они представляют собой четкие данные,
на языке которых соответствующие аспекты современных сообществ могут
быть про- анализированы более точно, чем там, где такие цифры
отсутствуют. И все же официальные статистические сведения не являются
лишь аналитическими характеристиками общественной активности; они
вновь становятся сущностным элементом социального универсума, из
которого берутся и подсчитываются. <...>
Составление официальной статистики есть само по себе рефлексивное
мероприятие, отражающее те же открытия общественных наук, которые ими
пользуются. <...> Ее рефлексивность не ограничивается сферой государства.
Любой житель западной страны, кто сегодня, к примеру, вступает в брак,
знает, что показатель разводов высок (и может также, пусть неточно или
частично, знать гораздо больше о демографии брака и семьи). Знакомство со
статистикой разводов может повлиять на само желание вступить в брак,
равно как и на решения, касающиеся попутных проблем — имущественных
соглашений и т.д. Кроме того, осведомленность об уровне разводов — это
обычно нечто большее, чем знание конкретных фактов. Разводы становятся
предметом
теоретизирования
непрофессионалов,
пользующихся
социологическими категориями. Тем самым в реальности каждый,
намеревающийся вступить в брак, имеет определенное представление о том,
как изменялись институты семьи, соотносительное общественное положение
и власть мужчин и женщин, сексуальные нравы и т.п. — все эти
представления включаются в процесс дальнейшего изменения, о котором они
рефлексивно информируют. Брак и семья не были бы тем, чем они являются
сегодня, если бы они не были полностью «социологизирова-ны» и
«психологизированы».
Диалог социологии и концепции, теории и открытий других общественных
наук в отношении своего предмета имеет постоянный характер. Подобным
образом они рефлексивно реструктуриру-ют свой предмет, который, в свою
очередь, научается мыслить социологически. Сама модернити глубоко и по
существу социологич-на; проблематичность же позиции профессионального
социолога как поставщика экспертного знания об общественной жизни
проистекает из того факта, что он самое большее на один шаг опережает
просвещенного непрофессионала.
Вот почему тезис о том, что большее знание об общественной жизни (даже
если таковое в высшей степени подкреплено опытом) равносильно большему
контролю над нашей судьбой, является ложным. Он (хотя и спорно)
справедлив относительно физических явле- ний, но не универсума
общественных событий. Расширение нашего понимания социального мира
могло бы привести ко все более ясному постижению человеческих
институтов и, следовательно, к возрастающему технологическому контролю
над ними, если бы общественная жизнь была либо полностью отделена от
человеческого знания о ней, либо это знание постоянно проникало бы в
мотивы социального действия, производя шаг за шагом рост
«рациональности» поведения в отношении специфических потребностей.
Оба условия применимы к многообразным обстоятельствам и контекстам
социальной активности, но ни одно из них не поднимается до того
всеобъемлющего воздействия, которое провозглашалось в качестве цели
наследниками идей Просвещения. Так происходит вследствие влияния
нескольких факторов.
Первый <...> заключается в дифференцированности власти. Присвоение
знания осуществляется не единообразно, зачастую оно в разной степени
доступно для тех структур, которые способны поставить его на службу
групповым интересам.
Второй затрагивает роль ценностей. Изменения в этой сфере зависят от
нововведений в познавательной ориентации, создаваемых изменяющимися
взглядами на социальный мир. Если бы новое знание могло быть достигнуто
на трансцендентальном рациональном базисе ценностей, то такая ситуация
была бы невозможна. Но подобного базиса не существует, и перемены
мировоззрения, происходящие от привносимых знаний, динамически
связаны с изменениями в ценностных ориентациях.
Третий фактор — влияние непредумышленных последствий. Никакой объем
накопленных знаний об общественной жизни не может охватить всех
обстоятельств их применения, даже если такое знание было бы совершенно
отличным от среды, к которой оно относится. Если наши знания о
социальном мире постоянно улучшаются, то область непредусмотренных
последствий может становиться все более узкой, а нежелательные
последствия — более редкими. Тем не менее, рефлексивность современной
общественной жизни блокирует такую возможность. <...> Хотя ее редко
обсуждают в связи с проблемой ограниченности познания, основанного на
принципах Просвещения, она, тем не менее, очень важна. Дело не в том, что
для разума нет стабильного социального мира, а в том, что само познание
этого мира вносит вклад в его нестабильный и изменчивый характер. <...>
Рефлексивность модернити, которая непосредственно связана с
непрерывным
производством
систематического
самопознания,
не
стабилизирует отношения между знанием эксперта и знанием, применимым в
деятельности непрофессионала. Знание, на которое претендуют
профессиональные исследователи (до некоторой степени и многообразными
способами), присоединяется к своему предмету, тем самым ( в принципе, но
также, обычно, и на практике) его изменяя. В естественных науках данный
процесс не имеет параллелей; здесь нет ничего общего с физикой микромира,
где вмешательство наблюдателя изменяет то, что изучается.
В этом пункте мы можем связать дискуссию о рефлексивности со спорами о
термине «постмодернити», который часто используется как синоним
постмодернизма, постиндустриального общества и т.д. Однако если идея
постиндустриализма, как она разработана Дэниелом Беллом, хорошо
эксплицирована, о двух других вышеупомянутых понятиях этого, конечно,
не скажешь. Попытаюсь провести различие между ними. Термин
«постмодернизм», если он вообще что-нибудь означает, относится, главным
образом, к стилям или направлениям в литературе, живописи, скульптуре и
архитектуре, касаясь аспектов эстетической рефлексии о природе модернити.
Зачастую понимаемый лишь весьма смутно, модернизм являлся выражением
особого мироощущения в самых разнообразных сферах, и можно сказать, что
он вытеснен направлениями постмодернистского характера.
К постмодернити, по крайней мере, согласно моему определению этого
понятия, относится нечто иное. Вхождение в данный период означает, что
траектория общественного развития уводит нас от институтов модернити в
направлении к новому и особому типу общественного строя. Постмодернити,
если таковая существует, может отражать осведомленность об этом переходе,
но не показывает, что он действительно имеет место.
К чему обычно относится понятие «постмодернити»? Помимо общего
ощущения жизни в период явственного несоответствия с прошлым, данный
термин обычно означает по крайней мере одно, а зачастую не только одно из
нижеследующего: мы обнаружили, что ничего нельзя знать наверняка,
поскольку стала очевидной ненадежность всех прежних «оснований»
эпистемологии; «история» лишилась телеологии, и, следовательно, никакую
версию «прогресса» нельзя убедительно защищать; возникла новая
социальная и политическая реальность, в которой на первое место
выдвинулись проблемы защиты окружающей среды и, возможно, новых
общественных движений вообще. Едва ли кто-либо сегодня отождествляет
постмодернити с тем, что когда-то широко под этим подразумевалось: с
заменой капитализма социализмом. Фактическое снятие подобного перехода
с повестки дня — один из главных факторов, стимулирующих нынешние
дискуссии о возможном завершении периода модернити. <...>
Прежде
всего
отвергнем
как
не
заслуживающую
серьезного
интеллектуального рассмотрения идею о невозможности систематического
знания о тенденциях общественного развития. Если бы кто-то придерживался
такой точки зрения, то он едва бы смог написать об этом книгу.
Единственной возможностью был бы отказ от интеллектуальной активности
вообще — даже «игровой деконструк-ции» — в пользу, скажем, полезных
для здоровья физических упражнений. Что бы ни означало отсутствие
фундаментализма в эпистемологии, сюда это не относится. Для большей
убедительности исходного пункта обсуждения можно рассмотреть
«нигилизм» Ницше и Хайдеггера. Несмотря на различия между двумя
философами, есть позиция, где они сходятся. Оба связывают с модернити
идею, согласно которой «история» может быть идентифицирована с
прогрессивным приращением рациональных оснований знания1. Согласно их
подходу, это выражено в понятии «преодоления»: формирование нового
понимания служит для установления того, что имеет ценность в накопленном
запасе знаний и что не имеет. Каждый считает необходимым
дистанцироваться от основных требований Просвещения, но все же
оказывается не в состоянии критиковать их с точки зрения более высоких
или лучше обоснованных требований. Поэтому они не пользуются понятием
«критическое преодоления», столь важным для критического подхода
Просветителей к догмам.
Тем не менее всякий, кто усматривает в этом суть перехода от модернити к
постмодернити, сталкивается с большими трудностями. Одно из главных
возражений очевидно и хорошо известно. Говорить о постмодернити как
замещающей модернити — значит признавать именно то, что (ныне)
провозглашается
невозможным:
придание
истории
логической
последовательности и точное указание нашего места в ней. Более того, если
именно Ницше бьи тем философом, кто разъединял модернити и
постмодернити — а процесс этот предположительно происходит в наши дни,
— то как объяснить, что он видел все это почти столетие назад?..
Однако семена нигилизма изначально присутствовали в философии
Просвещения. Если сфера разума полностью освобождена, никакое знание не
может покоиться на безусловном основании, ибо даже понятия, которых
придерживаются наиболее твердо, могут считаться обоснованными лишь «в
принципе» или «до дальнейшего рассмотрения». Иначе они станут догмой и
выпадут из той самой сферы разума, которая прежде всего и определяет, что
такое обоснованность. Хотя большинство считает свидетельство наших
чувств наиболее надежной информацией, какую мы можем получить, даже
мыслители раннего Просвещения хорошо понимали, что такое
«свидетельство» всегда может быть подвергнуто сомнению. Чувственные
данные никогда не в состоянии обеспечить совершенно прочную основу
познания. Сегодня, когда широко распространилось признание того, что
чувственное наблюдение пронизано теоретическими категориями,
философская мысль весьма резко отклонилась от эмпиризма. Более того, со
времен Ницше мы намного отчетливее сознаем логически круговой характер
разума, равно как и проблематичные отношения между знанием и властью.
Однако эти выводы скорее обеспечивают более полное понимание
рефлексивности, свойственной самой модернити, чем выводят нас за
пределы последней. Модернити нестабильна не только из-за логически
кругового характера разума, но и потому, что природа этого логического
круга совершенно загадочна. Как мы можем оправдать приверженность
разуму во имя разума? Парадоксально, но именно логические позитивисты
случайно наткнулись на эту проблему, дойдя до крайности в своей попытке
очистить рациональное знание от остатков традиции и догмы. Модернити
оказывается загадочной в своей основе, и путей «преодоления» этой загадки
не видно. Мы сталкиваемся с вопросами там, где некогда все казалось ясным,
что осознают не только философы. Понимание существования этого
феномена вызывает беспокойство, которое давит на всех.
Постмодернити ассоциируется не только с концом фундамента-лизма, но и с
«концом истории». <...> «История» не имеет ни исконной формы, ни общей
телеологии; она не должна отождествляться с «историчностью», поскольку
последняя четко связана с институтами модернити. Исторический
материализм Маркса ошибочно отождествляет первую со второй и тем
самым не только наделяет историческое развитие ложным единством, но и не
может адекватно выделить особые признаки модернити. Обсуждаемый
вопрос был хорошо освещен в знаменитом диспуте между Леви-Стросом и
Сартром. «Использование истории с целью делать историю» — это в
основном явление эпохи модернити, одна из разновидностей
рефлексивности, а не общий признак, применимый ко всем эпохам. Даже
история как датирование есть особый способ кодирования темпо-ральности.
Нужно внимательно относиться к пониманию историчности. Ее можно
определить как использование прошлого для формирования настоящего, но
она не подразумевает уважения к прошлому. Напротив, историчность
означает использование знания о прошлом как средство разрыва с ним или, в
крайнем случае, поддержку лишь того, что может быть оправданно на
принципиальной основе. Историчность ориентирует нас прежде всего на
будущее. Последнее рассматривается как сущностно открытое, но
контрфактически
обусловленное
действием,
предпринимаемым
с
представлением о будущих возможностях. Это фундаментальный аспект
пространственно-временного «расширения», возможность и необходимость
которого обусловлена модернити. «Футурология» — построение таблиц
возможных/вероятных/достижимых версий будущего — становится более
важной, чем летопись прошлого. <...>
Разрыв с провиденциальными взглядами на историю, крушение
фундаментализма вместе с ориентированным на будущее контрфактическим
мышлением и «опустошение» прогресса в непрерывном изменении — все это
настолько отличается от основных идей Просвещения, что констатация
происшедших глубоких перемен становится оправданной. Однако сводить
таковые к постмодерни-ти — ошибка, мешающая адекватному пониманию
их природы и следствий. Происшедшие изменения следует рассматривать
скорее как результат самопрояснения мысли по мере ее очищения от
традиций и провиденциальных взглядов. Мы не выходим за пределы
модернити, но переживаем эпоху ее радикализации.
Постепенный упадок европейской, или западной, глобальной гегемонии,
обратной стороной которого является растущее распространение
современных институтов по всему миру, со всей очевидностью является
одним из главных действующих ныне факторов. Прогнозируемый «упадок
Запада» занимал мысли некоторых авторов с конца девятнадцатого века. В
таком контексте это выражение обычно означает концепцию циклических
исторических изменений, где современная цивилизация видится лишь как
одна из регионально локализованных цивилизаций, наряду с иными,
предшествовавшими ей в других регионах. Цивилизации имеют свои
периоды юности, зрелости и старости, и по мере вытеснения одних из них
другими распределение силы меняется. Но модернити не является лишь
одной из цивилизаций среди прочих. Упадок влияния Запада не связан с
ослаблением воздействия институтов, впервые появившихся именно там, но,
напротив, есть результат их глобального распространения. Экономическая,
политическая и военная мощь, давшая Западу его первенство и основанная на
соединении четырех институциональных измерений модернити, больше не
отличает столь явно западные страны от каких-либо других. Мы можем
интерпретировать данный процесс как глобализацию — термин, который
должен занять ключевое место в лексиконе общественных наук.
Что сказать об изменениях иного рода, часто связываемых в том или ином
смысле с постмодернити, — о подъеме новых общественных движений и
возникновении небывалых политических проблем? Они действительно
важны. Однако мы должны тщательно отделить наш способ рассуждения от
многообразных теорий или интерпретаций, выдвинутых на их основе. Я
анализирую постмодернити как серию имманентных переходов от — или «за
пределы» — многообразных институциональных учреждений модернити.
Мы пока еще не оказались в социальном универсуме эпохи постмодернити,
тем не менее мы видим немало признаков возникновения способов жизни и
форм общественной организации, которые отличаются от тех, что
культивируются современными институтами.
В контексте данного анализа можно легко понять, почему ради-кализация
модернити столь же тревожна, сколь и важна. Ее наибо- лее заметные черты
— крах эволюционизма, исчезновение исторической телеологии, признание
радикальной, конститутивной рефлексивности, а также утрата Западом своей
привилегированной позиции — переносят нас в новый и беспокойный
универсум опыта. «Нас» в первую очередь относится к тем, кто живет на
самом Западе — или, более точно, в индустриальном секторе мира, — но
последствия этого ощутимы повсюду.
Сейчас мы живем в период подъема модернити. Что находится вне ее?
Можем ли мы придать какое-либо определенное значение понятию
«постмодернити»? Какие виды утопий можем мы создать как
ориентированные в будущее проекты, которые были бы связаны с
имманентными тенденциями развития и тем самым оставались
реалистическими?
Что, прежде всего, следует за капитализмом? Если социализм (что бы за этим
словом ни стояло), то маловероятно, чтобы он был похож на существующие
социалистические общества, которые, несомненно отличаясь от стран
капитализма, представляют собой экономически неэффективный и
политически авторитарный способ функционирования индустриализма.
«Социализм», конечно, означает так много разных вещей, что данный термин
становится зачастую не более чем ярлыком для некоего общественного
строя, близкого сердцу того или иного мыслителя. Если он означает строго
планируемое производство, организованное главным образом в рамках
экономических систем национальных государств, то социализм, конечно,
постепенно исчезает. Главное открытие двадцатого века заключается в том,
что сложные системы, подобные современным экономикам, не могут быть
эффективно подчинены кибернетическому контролю. Детальная и
постоянная сигнализация в них должна исходить скорее «снизу», чем быть
направляемой «сверху».
Если это справедливо на уровне национальных хозяйственных систем, то еще
более верно в мировом масштабе, и эру постмодернити следует постигать в
глобальном плане. Рынки обеспечивают сигнальные устройства в сложных
системах обмена, но они также поддерживают или активно обусловливают
главные формы отчуждения (согласно верному диагнозу Маркса). Выход за
пределы капитализма, рассмотренный лишь с точки зрения эмансипации,
предполагал
преодоление
классовых
различий,
создаваемых
капиталистическими рынками. Закономерности реальной жизни, тем не
менее, направляют нас еще дальше, за рамки обстоятельств, в которых
экономические критерии определяют жизненные условия людей. Мы
находим здесь потенциал для постдефицитной системы (post-scarcity system),
координируемой на глобальном уровне.
Простое утверждение, что капиталистические рынки должны быть
подвергнуты «регулированию» для преодоления их неустойчивости,
подводит нас к дилемме. Подчинение рынков централизованному контролю
со стороны центра экономически неэффективно и ведет к политическому
авторитаризму. Предоставление рынкам свободы действия без всяких
ограничений создает основные несоответствия между жизненными шансами
различных групп и регионов. Постдефицитная система выводит нас за
пределы этой дилеммы, ибо, когда основные предметы потребления больше
не являются дефицитными, рыночные критерии могут служить всего лишь
сигнальными устройствами, а не средством поддержания отчуждения.
Принимая во внимание, что положение национальных государств меняется,
когда на более низком уровне возникают новые формы местных
организаций, а над ними — международные организации более высокого
ранга, естественно ожидать возникновения новых форм участия, которое
может принять форму расширения самоуправления в рамках корпорации, в
местных объединениях, демократизации средств массовой информации и
транснациональных объединений различного типа.
Что касается межгосударственных отношений, то очевидна перспектива
возникновения более скоординированного глобального политического
порядка. Тенденция к глобализации вынуждает страны сотрудничать в
решении проблем, с которыми первоначально они стремились справляться
самостоятельно. Вплоть до конца девятнадцатого века многие верили, что
движение к мировому правительству естественно вытекает из движения к
глобальным взаимосвязям. Эти авторы недооценивали степень суверенитета
национальных государств, и представляется невероятным, чтобы какая-либо
форма мирового правительства была способна возникнуть в обозримом
будущем. «Мировое правительство», скорее, может предполагать
совместную выработку глобальной политической стратегии государств и
скоординированные подходы к разрешению конфликтов, чем формирование
сверхгосударства. Тем не менее, тенденция к глобализации на этом уровне
вполне отчетлива.
Что касается военной силы, может показаться, будто шансы перехода к миру,
в котором инструменты войны лишились бы былого значения, весьма малы.
Глобальные военные расходы продолжают от года к году расти, а разработки
новых вооружений не прекращаются. Но все же в ожидании мира без войн
есть большая доля реализма. Подобный мир имманентен как самому
процессу индустриализации войны, так и изменению позиции национального
государства на глобальной арене. Теория Клаузевица безнадежно устарела с
распространением промышленного производства вооружений; когда границы
в основном устоялись и территории национальных государств охватывают
фактически всю земную поверхность, территориальная экспансия теряет свое
былое значение. Наконец, растущая взаимозависимость на глобальном
уровне расширяет круг ситуаций, когда сходные интересы разделяются
всеми государствами. Мир без войн — это, конечно, утопия, но утверждать,
что такая картина абсолютно нереалистична, нельзя.
Все это относится и к искусственно созданной окружающей среде. Стимулом
постоянной революционизации технологий являются как стремление к
капиталистическому накоплению, так и соображения национальной обороны,
но как только толчок дан, процесс обретает внутреннюю динамику. Главной
движущей силой становится стремление расширить научные знания и
желание продемонстрировать их эффективность.
Процессы технологического обновления и, в более общем плане,
индустриального развития в настоящее время по-прежнему ускоряются, а не
замедляются. В сфере биотехнологии технические достижения затрагивают
саму нашу физическую конституцию, точно так же, как и естественную
среду, в которой мы живем. Будут ли эти мощные источники обновления
всегда оставаться бесконтрольными? Никто не может сказать этого с
уверенностью, но есть и противоположные тенденции, проявляющиеся
отчасти в экологических движениях... Ущерб, наносимый окружающей
среде, ныне стал предметом глубокой озабоченности и находится в центре
внимания правительств во всем мире. Во избежание серьезного и необратимого вреда следует противостоять не только внешнему
неконтролируемому воздействию на окружающую среду, но также и логике
самого ничем не сдерживаемого научного и технологического прогресса.
Гуманизация технологии будет сопряжена, скорее всего, с усилением
моральных аспектов в нынешних, по большей части «инструментальных»,
отношениях между людьми и преобразуемой внешней средой.
Поскольку судьбоносные экологические проблемы столь очевидно имеют
глобальный характер, то и формы вмешательства в окружающую среду с
целью минимизации факторов риска будут по необходимости планетарными.
Может быть создана всеохватывающая система попечения, целью которой
было бы сохранение экологического благосостояния мира как целого.
Возможный путь осмысления этих целей планетарной заботы предложен в
так называемой «гипотезе Геи», выдвинутой Джеймсом Лавлоком. Согласно
его идее, наша планета ведет себя «как единый организм, даже живое
создание».
Органическое
здоровье
Земли
поддерживается
децентрализованными экологическими циклами, взаимодействие которых
формирует самоорганизующуюся биохимическую систему2 . Если такая
точка зрения будет доказана аналитически, то она определенно отразится на
заботе о состоянии планеты, которая скорее будет похожа на охрану здоровья
личности, чем на возделывание сада, где растения живут сами по себе.
Почему мы должны предполагать, что мировые события будут двигаться в
направлении,
очерченном
этими
разнообразными
утопическими
соображениями? Конечно, мы не можем этого утверждать, хотя все
дискуссии, рисующие возможность такого будущего, могут по самой своей
природе воздействовать на происходящие изменения. Имманентные
тенденции развития суть не более чем [сумма] влияний, и период, когда
решается, будет ли вообще развитие идти в этих направлениях, весьма
продолжителен по времени и наполнен различными факторами риска. Более
того, то, что происходит в рамках одного институционального измерения,
может неблагоприятно воздействовать на остальные. Каждый фактор может
иметь последствия, угрожающие жизни миллионов людей.
Какими бы ни были новые технологические разработки (при всей их
полезности для производства они могут представлять угрозу для
окружающей среды или военной безопасности), должен существовать предел
глобальному капиталистическому накоплению. Поскольку рынки в какой-то
степени представляют собой саморегулирующиеся механизмы, некоторые
виды дефицита могут быть преодолены. Но у ресурсов, доступных
неопределенно долгому накоплению, есть как внутренние границы, так и
внешние факторы, которые либо не затрагиваются, либо усугубляются
рынком и могут стать причиной социальных взрывов.
Что касается административных ресурсов, то обратной стороной тенденции к
демократизации является риск сползания к тоталитаризму. Усиление
функций надзора обеспечивает многообразие форм демократического
участия, но также делает возможным и групповой контроль за политической
властью, подкрепляемый монопольным доступом к средствам насилия как
инструменту террора. Тоталитаризм и модернити взаимосвязаны не только
условно, но и по самой своей сути3. Имеется множество режимов, которые
если и не достигают абсолютного тоталитарного уровня, то проявляют
многие его характеристики.
Возможность ядерного конфликта — это не единственная опасность,
угрожающая человечеству в среднесрочной перспективе, в форме войны,
поставленной
на
индустриальную
основу.
Широкомасштабная
конфронтация, использующая даже обычное вооружение, была бы
опустошительной по своим последствиям, так как продолжающееся слияние
науки и военной технологии может в изобилии произвести формы оружия,
столь же смертельного, как ядерное. Перспектива экологической катастрофы
менее вероятна, чем риск большой войны, но столь же опасна по своим
последствиям. Долговременный необратимый ущерб окружающей среде уже
мог быть нанесен, — и возможно, мы просто не ощущаем его видимых
последствий.
Оборотной стороной модернити — и этого фактически никто не способен не
сознавать — может быть не что иное, как «республика трав и насекомых»
или группа разрушенных и травмированных человеческих сообществ.
Никакие провиденциальные силы не вмешаются ради нашего спасения, и
никакая историческая теле- ология не гарантирует, что эта вторая версия
постмодернити не вытеснит первую. Апокалипсис стал тривиальностью, он
знаком как контрфактическая ситуация повседневной жизни, и, как и все
параметры риска, он может стать реальностью.
Когда мы говорим о модернити, мы имеем в виду институциональные
трансформации, происходящие на Западе. В какой степени модернити
является отличительным признаком западной цивилизации? Отвечая на этот
вопрос, мы должны рассмотреть различные аналитически вычленяемые
черты модернити. С точки зрения институционального развития для
модернити главное значение имеют два особых организационных комплекса:
национальное
государство
и
систематическое
капиталистическое
производство. Оба они коренятся в специфических чертах европейской
истории и имеют мало аналогий в предшествующих периодах или в других
культурных контекстах. Если они в тесной связи друг с другом к настоящему
времени распространились по всему миру, то прежде всего благодаря
порождаемой ими мощи. Никакие иные, более традиционные, общественные
формы не могут противостоять ей, сохраняя полную изолированность от
глобальных тенденций. Является ли модернити исключительно западным
феноменом с точки зрения образа жизни, развитию которого способствуют
эти две великие преобразующие силы? Прямой ответ на этот вопрос должен
быть утвердительным.
Одно из важнейших последствий модернити <...> заключено в глобализации.
Это не только сметающее иные культуры распространение западных
институтов по всему миру. Глобализация <...> вводит новые формы мировой
взаимозависимости, [что, однако] создает новые риски, одновременно
формируя далеко идущие возможности глобальной безопасности. Является
ли модернити исключительно западной с точки зрения данных
глобализирующих тенденций? Нет. Этого не может быть, коль скоро мы
говорим о возникающих формах мировой взаимозависимости и планетарного
сознания. Способы рассмотрения и решения этих проблем будут с
неизбежностью затрагивать концепции и стратегии, происходящие из незападных источников. Ибо ни радикализация современности, ни
глобализация общественной жизни не являются процессами, которые в
каком-либо смысле завершены. Культура может по-разному реагировать на
распространение новых институтов, принимая во внимание мировое
культурное разнообразие в целом. Движение «за пределы» модернити
происходит в глобальной системе, которая отличается большим
неравенством богатства и мощи и не может не подвергаться их воздействию.
Модернити универсализируется не только в плане ее глобального
воздействия, но и в плане рефлексивного знания, фундаментального для ее
динамического характера. Является ли модернити исключительно западным
понятием в этом отношении? На этот вопрос следует ответить
утвердительно, хотя и с определенными оговорками. Кардинальный отход от
традиции, свойственный рефлексивности модернити, приводит к разрыву не
только с предшествующими эпохами, но и с другими культурами. Поскольку
разум оказался неспособен обеспечить себе окончательное самооправдание,
то нет оснований делать вид, что данный разрыв не покоится на культурных
убеждениях (и силе). Однако сила не обязательно решает проблемы,
возникающие как результат распространения рефлексивности модерности,
особенно в той мере, в какой методы аргументации, вырабатываемой в ходе
дискуссии, становятся широко распространенными и общепринятыми. Такая
аргументация, включая ту, что составляет основу естественных наук,
содержит критерии, отвергающие культурные различия. В этом ничего нет
«западного», коль скоро уже ощутима приверженность к подобного рода
аргументации как средству разрешения споров. Кто может сказать, тем не
менее, каковы пределы распространения этой приверженности? Ведь
радикализация сомнения часто сама является объектом сомнения и,
следовательно, представляет собой принцип, вызывающий упорное
сопротивление.
Сегодня прежде всего в индустриальных обществах, но до некоторой степени
и в мире в целом, наступил период высшей модернити, порывающей с
традицией и с тем, что в течение долгого времени было «командной
высотой» — влиянием Запада. <...>
Модернити по самой своей сути имеет глобализирующий характер, и
тревожные последствия данного феномена соединяются с логически
круговым характером ее рефлексивности для создания универсума событий,
где риск и случайность приобретают новый характер. Глобализирующие
тенденции модернити одновременно экстенсиональны и интенсиональны —
они связывают индивидов с системами больших масштабов и на локальном,
и на глобальном уровнях. Многие явления, часто называемые
постмодернити, фактически касаются опыта жизни в мире, где присутствие и
отсутствие связаны исторически непривычными способами. Прогресс
становится лишенным содержания, поскольку сохраняется логически
круговой характер модернити, и на горизонтальном уровне поток ежедневно
притекающей информации, вовлеченной в жизнь «одного из мирово, может
когда-нибудь стать непреодолимым. Однако это не есть выражение
культурной фрагментации или растворения субъекта в «мире знаков», не
имеющем центра. Это процесс одновременного преобразования
субъективности и глобальной социальной организации на тревожном фоне
риска далеко идущих последствий.
Модернити ориентирована в будущее, так что будущее имеет статус
контрфактического моделирования. Хотя имеются и иные причины, но это
один из факторов, на которых я основываю понятие утопического реализма.
Предвосхищение будущего становится частью настоящего, тем самым влияя
на то, как будущее фактически развивается; утопический реализм соединяет
«открытие окон» в будущее с анализом нынешних институциональных
тенденций, посредством чего политическое будущее является имманентным
настоящему. Здесь мы возвращаемся к проблеме времени. Чему может быть
подобен мир постмодернити — с учетом факторов, лежащих в основе
динамической природы модернити? Если бы современные институты в
какой-то момент значительно изменились, то это повлекло бы за собой
коренное изменение и самих этих факторов. <...>
Сценарии утопического реализма противоположны как рефлексивности
модернити, так и ее темпоральное™. Утопические прогнозы или ожидания
составляют основу для будущей ситуации, ставящей предел бесконечно
открытому характеру модернити. В мире постмодернити взаимоотношения
пространства и времени уже не будут упорядочены историчностью. Может
ли это означать возрож- дение религии в той или иной форме, сказать трудно,
но можно предположить, что в таком случае оказались бы зафиксированы
некоторые аспекты жизни, что напоминало бы некоторые свойства традиции.
Такая фиксация, в свою очередь, обеспечила бы основание для чувства
онтологической безопасности, подкрепленного знанием о социальном
универсуме, подвластном человеческому контролю. Это не был бы мир,
который «распадается изнутри» на децентрализованные организации, — в
нем, без сомнения, сложно связывалось бы локальное и глобальное. Будет ли
такой мир подразумевать радикальную реорганизацию пространства и
времени? Это представляется вероятным. Но подобными рассуждениями, тем
не менее, мы начинаем разрушать связь между утопической спекуляцией и
реализмом. И от того, что выходит за пределы исследований данного типа,
следует отказаться.
* - Weizsaecker E., van, Lovins A.B., Lovins L.H. Factor Four. Doubling Wealth
— Halving Resource Use. L., Earthscan Publications Ltd., 1997. Copyright —
Weizsaecker E., von, Lovins А. В., Lovins L.H. 1997. Текст воспроизводится с
согласия Э. фон Вайцзеккера.
1 - См.: Meadows D.H., Meadows D.L, Randers J. Behrens III, W.W. The Limits
to Growth. N.Y., 1972.
2 - Мы называем так эту модель потому, что существовали также модели
World 1 и World 2. World 1 была первоначальной версией, разработанной
профессором Массачусетсского технологического института Дж.Форестером
в рамках проводившегося Римским клубом исследования взаимозависимости
между глобальными тенденциями и глобальными проблемами. World 2
является окончательной документированной моделью, представленной
профессором Дж.Форестером в книге: Forester J. World Dynamics. N.Y., 1971.
Модель World 3 была создана на базе World 2, в первую очередь как
следствие изменения ее структуры и расширения количественной базы
данных. Мы должны отметить, что профессор Дж.Форестер является
безусловным вдохновителем данной модели и автором используемых в ней
методов.
3 - См.: Meadows D.H., Meadows D.L., Renders J. Behrens III, W.W. The Limits
to Growth. P. 24.
Оглавление
Новая постиндустриальная волна на Западе
Оглавление
Фрэнсис Фукуяма. Доверие. Социальные
благосостояния
добродетели
и
созидание
Фрэнсис Фукуяма родился 27 октября 1952 года в Чикаго. Окончил
Корнеллский университет в 1974 году, степень доктора политических наук
получил в Гарварде в 1977. Его карьера началась в Управлении
политологических исследований РЭНД-корпорации, где он работал с 1979 по
1980, а затем с 1983 по 1989 и с 1995 по 1996 год. В 1981—1982 и 1989 году
входил в состав группы по политическому планированию Государственного
департамента США, а затем был назначен заместителем директора отдела,
специализировавшегося на проблемах Ближнего Востока и бывшего
Советского Союза. С 1996 года по настоящее время Ф. Фукуяма является
профессором по-литологии в Университете Дж.Мэйсона в городе Фэрфаксе,
штат Вирджиния.
Как яркий публицист и блестящий политический аналитик Ф.Фу-куяма стал
известен после публикации в 1989 году его статьи «Конец истории?» в
журнале «National Interest». Она была перепечатана пе- риодическими
изданиями более чем тридцати стран мира (в СССР была опубликована в
журнале «США: экономика, политика, идеология»). Он является автором
двух книг— «Конец истории и последний человек» [1992] и «Доверие.
Социальные добродетели и созидание благосостояния» [1995],— и каждая из
них стала международным бестселлером (обе были изданы более чем в
двадцати странах). Первая была признана национальным бестселлером не
только в США, но и во Франции, Японии и Чили; вторая названа журналом
European лучшей книгой по теории бизнеса в 1995 году и включена
журналом «Newsweek» в список десяти лучших книг о проблемах
предпринимательства. Новая книга профессора Фукуямы — «Великое
крушение» (The Great Disruption) — готовится к выходу в конце 1998 года. Ф.
Фукуяма женат, у него трое детей. Он живет в Фэрфаксе, штат Вирджиния.
Книга «Доверие. Социальные добродетели и созидание благосостояния»
является, на наш взгляд, одной из наиболее глубоких работ по проблемам
современного социального развития, вышедших на Западе в 90-е годы. Она
состоит из пяти частей, посвященных методологическому обоснованию
выдвинутой
автором
концепции;
типизации
обществ
согласно
предложенному им принципу; оценке с этих позиций современного
состояния американского общества и, наконец, перспективам развития
индустриального мира в наступающем столетии.
В отличие от многих современных футурологов, Ф.Фукуяма предпочитает
начинать свой анализ с рассмотрения его методологических основ, трактуя
общество как систему, которая может быть адекватно понята только при
постижении природы и характерных качеств составляющих его личностей.
Начиная с ряда положений, сформулированных им ранее, автор использует
метод, в большей мере соответствующий классической политической
экономии, чем Экономиксу, видя свою задачу в противостоянии идее
экономического детерминизма, особенно распространившейся после победы
западных стран в «холодной войне».
В таком контексте понятие trust, которое является центральным в книге,
можно достаточно точно перевести как «доверие». Профессор Фукуяма
подчеркивает, что эта характеристика формируется в результате длительной
эволюции того или иного общества и что уровень доверия служит
фундаментальным залогом стабильности социальной структуры. Он
отмечает, что недостаток доверия может быть лишь смягчен, но не
компенсирован государственным вмешательством в хозяйственную жизнь, и
что в обществах с низким уровнем доверия государственная регламентация
способна поддерживать хозяйственную эффективность, но не в состоянии
привести к позитивным переменам в социальном целом.
Книга содержит оригинальную классификацию обществ, основанием для
которой служит распространенность доверия. Последовательно выступая
против противопоставления «западной» и «азиатской» моделей цивилизации,
Ф.Фукуяма относит к группе «обществ с высоким уровнем доверия» такие
внешне весьма разнородные страны, как Япония, США и Германия, в то
время как не менее различающиеся Франция и Италия, Мексика и Бразилия,
Китай и Тайвань, не говоря о странах Восточной Европы и бывшего СССР,
определяются как «общества с низким уровнем доверия». Экономические
успехи стран первой группы бы.ш, по его мнению, достигнуты в условиях,
когда действия государства лишь дополнлчи и координировали развитие
общества, основывавшееся на принципе доверия, а не пытались искусственно
создать таковое. Напротив, общества с низким уровнем доверия отмечены
внутренней «десоциализацией», иногда на первый взгляд незаметной; они
несут на себе печать семейной, клановой или групповой замкнутости и в
меньшей мере способны к стабильному и естественному развитию.
Создавая свою модель, автор стремится прежде всего показать значение той
социальной преемственности, роль которой объективно принижена в эпоху
бурных общественных преобразований и масштабных технологических
изменений. Профессор Фукуяма говорит об экономическом прогрессе как
своего рода вознаграждении обществу за его внутреннюю гармонию,
отсутствие
которой
есть
важнейший
фактор,
препятствующий
хозяйственному процветанию. Оценивая с этих позиций перемены,
происходящие в государствах Восточной Европы и бывшего СССР, автор
выдвигает более взвешенные, но в то же время менее оптимистичные
предположения, нежели те, что содержались в более ранних его работах.
Выбор отрывков, которые дали бы читателю адекватное представление о
книге Ф.Фукуямы, был очень непрост. Мы остановились на части г.швы 1 «О
человеческой ситуации и конце истории», главе 3 «Масштаб и доверие»,
введении к части III, отрывке из главы 19 «Ве-бер и Тейлор», начале и
заключительном пассаже части IV, главе 31 «Одухотворение экономической
жизни» (эти фрагменты соответствуют стр. 3-4, 6-7, 10-11, 24-32, 62-65, 149153, 227-229, 273, 280-281, 308—309, 355-362 в издании Free Press). Такая
подборка была одобрена профессором Фукуямой в ходе нашей личной
встречи в Фэр-факсе в марте 1998 года. Более подробные оценки основных
положений книги «Доверие» и ее значения были даны в специальной
рецензии (см.: Иноземцев В. Доверяясь доверию // Свободная мысль 1998 No
I С. 125-127). ' ДОВЕРИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ДОБРОДЕТЕЛИ И СОЗИДАНИЕ
БЛАГОСОСТОЯНИЯ* ИДЕЯ ДОВЕРИЯ
На пороге XXI века происходит примечательная конвергенция политических
и экономических институтов. На протяжении нынешнего столетия
общественные системы характеризовались глубокими идеологическими
различиями. Монархия, фашизм, либеральная демократия и коммунизм
жестоко воевали друг с другом за политическое превосходство, а разные
страны избирали для себя различные пути экономического развития,
отмеченные протекционизмом или корпоративизмом, предпочитали
свободный рынок, а иногда — социалистическое централизованное
планирование. Сегодня, однако, практически все развитые страны внедрили
или пытаются внедрить у себя либерально-демократические политические
институты, а многие [другие] делают шаги в на- правлении перехода к
рыночной
экономике
и
интеграции
в
глобальную
систему
капиталистического разделения труда.
Как показано в другой моей работе, это движение означает «конец истории»
в марксистско-гегельянском понимании Истории как широкой эволюции
человеческих обществ в направлении к конечной цели. Раскрывая все новые
и новые возможности, современная техника соответствующим образом
влияет на экономики различных стран, неразрывно связывая их в единый
глобальный механизм. В то же время повышение степени сложности и
информационной насыщенности современной жизни крайне затрудняет
централизованное хозяйственное планирование. Высокий уровень
благосостояния, достигнутый капитализмом благодаря развитию техники, в
свою очередь, служит условием для культивации либерального режима
[основанного на принципе] всеобщего равноправия как высшей цели борьбы
за человеческое достоинство. Многие страны испытывали трудности в
создании демократических институтов и рыночной экономики, некоторые
другие, особенно в отдельных частях бывшего коммунистического лагеря,
скатились назад к фашизму или анархии, но для развитых стран не
существует модели политической и экономической организации, к которым
они могли бы стремиться, кроме демократического капитализма. <...>
Пожалуй, экономика — это важнейшая область современной жизни, в рамках
которой культура оказывает прямое влияние на благосостояние населения...
Хотя хозяйственная деятельность неразрывно связана с социальной и
политической жизнью, существует ошибочная тенденция (поощряемая
современными экономистами-теоретиками) рассматривать экономику как
одну из граней жизни, которая имеет собственные законы и существует
отдельно от остального общества. Если принять эту точку зрения,
получается, что экономика — это особая область деятельности, в которой
отдельные личности взаимодействуют лишь в целях удовлетворения
своекорыстных потребностей и желаний, а потом снова возвращаются в свою
«реальную» социальную жизнь. Но в любом современном обществе
экономика представляет собой одну из наиболее фундаментальных и
динамичных форм общения людей (of human sociability). Трудно назвать
какой-либо вид экономической деятельности — от организации работы
химчистки до производства сложных микросхем, — где не возникало бы
социального взаимодействия. И хотя люди трудятся на предприятиях и в
органи- зациях ради удовлетворения своих индивидуальных потребностей,
эта деятельность также выводит их из скорлупы личной жизни и связывает с
большим миром жизни общественной. Подобная связь есть не просто
средство обретения жизненных благ, но и сама по себе является
немаловажной целью человеческой жизни. Хотя люди и эгоистичны, важная
потребность личности воплощена в жажде быть частью того или иного
сообщества. Люди ощущают острое беспокойство — которое Э.Дюркгейм
называл аномией (anomie) — в отсутствие норм и правил, связывающих их с
им подобными, и современное рабочее место помогает снизить и побороть
это беспокойство1 .
Чувство удовлетворения, которое мы испытываем от ощущения
соединенности с коллегами на работе, коренится в фундаментальном
стремлении людей к обретению признания. Как я отмечал в книге «Конец
истории и последний человек», каждый стремится к тому, чтобы его
достоинство было признано (то есть оценено надлежащим образом) другими
людьми. Эта потребность, безусловно, столь глубока и фундаментальна, что
является одной из главных движущих сил всего исторического процесса. В
ранние периоды истории она реализовывалась на военном поприще, где
короли и принцы бились за превосходство не на жизнь, а на смерть. В
современную эпоху борьба за признание перешла из военной сферы в
экономическую, где она оказывает благотворное влияние на общество в
целом, приводя к созданию, а не уничтожению материальных благ. За
пределами
обеспечения
прожиточного
минимума
экономическая
деятельность нередко предпринимается именно ради признания, а не просто
в качестве средства удовлетворения естественных материальных
потребностей. Ведь потребности эти, как указывал Адам Смит,
немногочисленны и насыщаются относительно легко. Работа и деньги имеют
гораздо большее значение как символы личного успеха, статуса, достоинства
— кто-то создал межнациональную газетную империю, кого-то на- значили
бригадиром. Такого типа признания невозможно достичь в одиночестве; оно
существует только в общественном контексте. <...>
Таким образом, экономическая деятельность представляет собой важнейшую
часть социальной жизни и скрепляется разнообразными нормами, правилами,
нравственными обязательствами и другими обычаями, которые в
совокупности и формируют общество. Как явствует из данной книги, один из
важнейших уроков экономической жизни заключен в том, что благополучие
нации, как и ее способность к конкуренции, обусловлено единственной
всепроникающей культурной характеристикой — уровнем доверия,
присущим данному обществу. <...>
Понятие «человеческий капитал», принятое и широко употребляемое
экономистами, основывается на предпосылке о том, что в современных
условиях капиталом является не столько земля, заводы, инструменты и
станки, сколько знания и квалификация людей, причем значение указанных
факторов постоянно растет. Помимо квалификации и знаний, человеческий
капитал — это в определенной степени и способность людей общаться друг с
другом, что имеет важнейшее значение не только для хозяйственной
активности, но буквально для всех аспектов общественной жизни.
Способность к общению, к коллективным действиям, в свою очередь,
зависит от того, в какой степени те или иные сообщества придерживаются
схожих норм и ценностей и могут подчинять индивидуальные интересы
отдельных личностей интересам больших групп. На основе таких общих
ценностей возникает доверие, которое, как будет показано ниже, имеет
большую и вполне конкретную экономическую ценность.
С точки зрения способности к созданию добровольных сообществ
Соединенные Штаты обнаруживают больше общего с Японией и Германией,
чем любое из этих трех государств имеет, с одной стороны, с китайскими
обществами, такии, как Гонконг и Тайвань, а с другой стороны — с Италией
и Францией. Подобно Японии и Германии, США традиционно являются
обществом с высоким уровнем доверия, ориентированным на коллективные
интересы, .несмотря на то что американцы считают себя закоренелыми
индивидуалистами.
Но на протяжении жизни последних двух-трех поколений США радикально
изменились в своем отношении к искусству общения.
Во многих аспектах американское общество становится индивидуалистским,
то есть именно таким, какими американцы всегда себя и считали; тенденция
либерализма, основанного на защите прав личности, в направлении
расширения и преумножения этих прав <...> практически <„.> доведена до
логического завершения. Снижение уровня доверия и степени
социализированное™ (sociability) в США проявляется в любых изменениях,
происходящих в американском обществе: росте числа насильственных
преступлений и гражданских судебных процессов; развале семьи; увядании
самых разнообразных промежуточных (intermediate) общественных структур
— объединений по месту жительства, церковных приходов, профсоюзов,
клубов,
благотворительных
организаций;
распространении
среди
американцев ощущения отсутствия единых ценностей и наличия общности с
окружающими.
Упадок социализированное™ имеет существенные последствия для
американской демократии и, пожалуй, еще более важные — для экономики.
Уже сейчас США расходуют на содержание полиции значительно больше,
чем другие промышленно развитые государства, а количество заключенных в
тюрьмах составляет более одного процента населения страны. И на юристов,
обеспечивающих гражданам возможность судиться друг с другом, в США
тратят значительно больше, чем в странах Европы и в Японии. Обе эти
статьи расходов, составляющие значительную часть валового внутреннего
продукта, представляют собой как бы прямой налог, возникающий из-за
нарушения доверия в обществе. В перспективе экономические последствия
могут стать еще более глубокими; способность американцев создавать новые
организации и работать в них, возможно, начнет уменьшаться, так как само
разнообразие таких организаций будет приводить к снижению уровня
доверия и создавать новые барьеры на пути взаимодействия. Помимо
материального капитала США расходуют и запас капитала общественного.
Норма сбережений давно уже недостаточна для обеспечения обновления
промышленных мощностей и объектов инфраструктуры, и темпы
пополнения общественного капитала в последние годы также стали
замедляться. Накопление его — сложный и во многом загадочный
культурный процесс. Правительства зачастую осуществляют политику,
приводящую к истощению общественного капитала, но при этом они с
трудом понимают, каким образом можно обеспечить его восстановление.
Поэтому либеральная демократия, возникающая в «конце истории», не
является «современной» (modem) в полном смысле. Чтобы институты
демократии и капитализма могли действовать эффективно, они должны
сосуществовать
с
определенными
до-современными
(рге-modem)
культурными
устоями,
которые
и
обеспечат
их
надлежащее
функционирование. Закон, договор, экономическая целесообразность
необходимы, но не достаточны в качестве основы стабильности и
благополучия постиндустриальных обществ; к ним следует добавить такие
понятия, как принципы взаимности, моральные обязательства, долг перед
обществом и доверие, которые основаны на традициях и обычаях, а не на
рациональном расчете. Все эти понятия в условиях современного общества
— не анахронизмы, а необходимые условия его успешного развития. <...>
Информационные технологии активно способствовали децентрализации и
демократизации в течение всей жизни нынешнего поколения. Многие
отмечают, что именно электронные средства массовой информации и связи в
определенной степени предопределили падение деспотических режимов,
включая диктатуру Map-коса на Филиппинах и коммунистические
правительства в Восточной Германии и бывшем Советском Союзе. Но
теоретики эпохи информатизации утверждают, что техника губительна для
любых форм иерархии, в том числе и для гигантских корпораций, в которых
работает большая часть американцев. В 80-е годы компанию «IBM», прежде
занимавшую доминирующие позиции в производстве компьютеров,
потеснили на рынке такие новички, как «Сан Майкросистемз» и «Компак»,
что нередко представляют как нравоучительный пример того, как малые,
гибкие и новаторские фирмы могут конкурировать с крупными,
централизованными
и
бюрократизированными
традиционными
предприятиями, добиваясь при этом больших успехов. Многие авторы
утверждают, что в результате революции в области телекоммуникаций все
мы рано или поздно будем работать в объединенных в единую сеть
небольших «виртуальных» корпорациях. Это означает, что фирмы начнут
безжалостно сжиматься, сохраняя лишь свою «основную специализацию», а
для остальных видов работ, включая заказы на поставки сырья и материалов,
оказание бухгалтерских услуг и организацию сбыта продукции, будут
подряжать другие мелкие фирмы, размещая заказы через волоконнооптические линии свя- зи2. Некоторые утверждают, что именно сети мелких
фирм, а не крупные иерархические структуры и стихийные рынки, станут в
будущем под влиянием неумолимого наступления электроники
магистральным путем развития. Добровольное объединение — а не хаос и
анархия — возникнет только при условии освобождения общества от
централизованной власти крупных компаний и ведомств, начиная с
федерального правительства и кончая гигантскими корпорациями «IBM» и
«AT&T». С развитием мощных средств связи надежная и точная информация
вытеснит ненадежную, честные и трудолюбивые работники перестанут
связываться с мошенниками и нахлебниками, и возникнет добровольное
единение людей во имя общего блага.
Очевидно, что революция в информационной сфере приведет к глубоким
преобразованиям, но эпоха крупных корпораций с иерархической структурой
еще отнюдь не завершилась. Многие футурологи информационного века
делают слишком широкие обобщения на основе опыта компьютеризации,
когда стремительное развитие техники дает реальные преимущества мелким
и гибким фирмам. Однако во многих других сферах экономической жизни —
от самолетостроения и автомобильной промышленности до изготовления
кремниевых пластин — требуются все большие и большие объемы
капиталовложений, техники и людских ресурсов. Даже в области
телекоммуникаций волоконно-оптическая техника более удобна при ее
эксплуатации
единой
гигантской
компанией,
обеспечивающей
междугородную и международную связь, и не случайно к 1995 году число
работников компании «AT&T» вновь достигло показателя 1984 года, когда
85% фирмы были превращены в местные телефонные компании.
Информационные технологии помогут некоторым мелким фирмам более
эффективно решать масштабные задачи, но не устранят потребности в
концентрации ресурсов.
И, что еще более важно, когда наиболее восторженные адепты
информационной эры выражают радость по поводу крушения иерархий и
власти крупных структур, они забывают о таком важнейшем факторе, как
доверие и общепринятые этические нормы, на которых оно основано.
Человеческие сообщества зависят от взаимного доверия и не могут
спонтанно возникать в условиях его отсутствия.
Иерархия необходима, так как нельзя рассчитывать, что все без исключения
люди в рамках сообщества будут добровольно подчиняться одним только
общепринятым этическим правилам. Возможно, некоторые займут активно
антиобщественные позиции, стремясь подорвать коллектив, воспользоваться
им в мошеннических целях либо просто в силу любви к интригам. Гораздо
больше найдется халтурщиков, которые будут стремиться получить
максимальные выгоды от участия в коллективе, вкладывая при этом в общее
дело как можно меньше. Иерархическая организация необходима, так как
невозможно рассчитывать на то, что все члены коллектива всегда будут
действовать в соответствии с принятыми этическими правилами и честно
выполнять свою часть общей работы. И если кто-то не выполняет данных
требований, их следует заставлять делать это при помощи четких правил и
санкций. Это относится и к экономике, и к жизни общества в целом: крупные
корпорации возникли из-за того, что очень уж накладно заключать договоры
на поставку товаров и оказание услуг с людьми, которых не знаешь
достаточно хорошо или которым не доверяешь. В результате фирмы сочли,
что более рационально и выгодно включить сторонних подрядчиков в
собственную структуру и распространить на них непосредственный
контроль.
Доверие не воплощено в компьютерных сетях и волоконно-оп-тических
линиях связи. Хотя оно и предполагает обмен информацией, оно отнюдь не
сводится к информации. «Виртуальная» фирма может иметь самые
обширные сведения обо всех своих поставщиках и подрядчиках, но если все
они — мошенники, работать с ними будет тяжело, придется заключать
множество контрактов и тратить время на их принудительное исполнение. В
условиях отсутствия доверия всегда будет иметься соблазн включить эти
функции в структуру компании и тем самым вернуться к прежней
иерархической системе организации.
Таким образом, вовсе не очевидно, что информационная революция ведет к
отмиранию крупных организаций с иерархической структурой и
становлению замещающего их добровольного сообщества людей. Поскольку
объединение связано с доверием, а доверие, в свою очередь, определяется
культурными факторами, в условиях разных культур добровольные
сообщества будут распространяться в различной степени. Способность
компаний к переходу от крупной иерархической структуры к гибкой сети
мелких фирм, иначе говоря, будет зависеть от степени доверия и наличия
общественного капитала в социуме в целом. Общества с высоким уровнем
доверия (например, Япония) создали такие сети задолго до того, как набрала
темп информационная революция; между тем общество с низким уровнем
доверия, возможно, никогда не сможет воспользоваться преимуществами,
открываемыми информационной технологией.
Доверие есть возникающее в рамках определенного сообщества ожидание
того, что члены данного сообщества будут вести себя нормально и честно,
проявляя готовность к взаимопомощи в соответствии с общепризнанными
нормами. Последние могут относиться к сфере «фундаментальных
ценностей» — о природе Господа или справедливости, но они охватывают и
вполне светские понятия, такие, как профессиональные стандарты и кодексы
поведения. Так, мы вправе рассчитывать, что врач умышленно не причинит
нам вреда, так как предполагается, что он обязан соблюдать клятву
Гиппократа и определенные профессиональные нормы.
Общественный капитал — это возможности, возникающие из наличия
доверия в обществе или его частях. Он может существовать в мельчайшей и
основной социальной ячейке, в семье, или же на уровне предельно большого
коллектива — всего народа, равно как и в рамках какой-либо из
промежуточных групп. Общественный капитал отличается от других форм
человеческого капитала постольку, поскольку он обычно создается и
передается посредством культурных механизмов — через религию, традиции
и исторические обычаи. Экономисты нередко утверждают, что создание
социальных групп можно объяснить как результат добровольного договора
между отдельными личностями, которые на основе разумного расчета
пришли к выводу о том, что сотрудничество отвечает их долгосрочным
интересам. В таком случае для сотрудничества и взаимодействия доверие
кажется вовсе необязательным: просвещенный корыстный интерес в
сочетании с такими правовыми механизмами, как договоры и контракты,
может компенсировать его отсутствие, позволив незнакомым людям создать
организацию, которая будет действовать ради достижения общей цели.
Группы могут создаваться в любой момент времени на основе эгоистических
интересов, и, таким образом, процесс их формирования не связан с
культурой.
Однако, хотя договор и эгоистический интерес являются важными основами
ассоциации, наиболее действенные организации включают в себя
коллективы, члены которых разделяют общие этические ценности. В таких
сообществах не требуется широкого договорного и правового регулирования
отношений, поскольку между их членами существует предварительный
морально-нравственный консенсус как основа для взаимного доверия.
Общественный капитал, требующийся для создания такой моральной
общности, невозможно получить путем выработки и реализации
рациональных инвестиционных решений, подобно другим формам
человеческого капитала. Человек может принять решение «инвестировать»
определенные ресурсы в обычный человеческий капитал, например,
окончить институт или прослушать курс обучения и стать механиком или
программистом; для этого достаточно пойти учиться в соответствующее
учебное заведение. Приобретение общественного капитала, в отличие от
этого, требует адаптации к моральным нормам определенного сообщества и
усвоения в его рамках таких добродетелей, как преданность, честность и
надежность. Прежде чем доверие в рамках группы станет всеобщим, она
должна принять и усвоить некоторые общие для ее членов нормы. Иными
словами, общественный капитал не может стать результатом
индивидуальных действий. Общественный капитал предполагает приоритет
общественных добродетелей, а не индивидуальных. Склонность к
социализации приобрести гораздо труднее, чем другие формы человеческого
капитала, но поскольку в ее основе лежат морально-этические устои, эту
склонность также труднее изменить или уничтожить.
Еще один термин, которым я буду широко пользоваться, — это естественная
склонность к объединению (spontaneous sociability), являющаяся составной
частью общественного капитала. В любом современном социуме
организации постоянно создаются, упраздняются или изменяются. И
наиболее полезный общественный капитал зачастую состоит не в
способности действовать под властью того или иного традиционного
сообщества или коллектива, а в способности к созданию новых объединений
и к взаимодействию в рамках установленных в них правил и условий.
Объединения такого типа, которые возникают в рамках сложной системы
разделения труда, существующей в индустриальном обществе, но в то же
время строятся на основе общих ценностей, а не на договор- ных
отношениях, относятся к категории, обозначенной Дюркгей-мом в качестве
«органичной солидарности». Стихийная склонность к социализации
относится к самым разнообразным промежуточным формам общности,
отличным от семьи и форм объединений, создаваемых целенаправленными
действиями государства. Там, где отсутствует такая склонность, государству
приходится вмешиваться и содействовать образованию сообществ. Но его
вмешательство связано с очевидным риском, так как оно может легко
подорвать стихийные объединения, сформировавшиеся в гражданском
обществе.
Общественный капитал оказывает важнейшее влияние на природу
индустриального строя, которое только может оказать общество. Если люди,
которым приходится работать на одном предприятии, доверяют друг другу,
ибо действуют в рамках общего комплекса этических норм, затраты на
организацию совместного труда будут меньше. Подобное общество имеет
бблыцие возможности по внедрению новых форм организации, так как
высокий уровень доверия открывает путь более разнообразным
общественным отношениям. Поэтому именно американцы, с их большой
склонностью к общественному поведению, стали первопроходцами в
создании современных корпораций в конце XIX и в начале XX века, а
японцы — в изучении возможностей сетей фирм уже в XX столетии.
И наоборот, люди, не испытывающие доверия друг к другу, смогут
взаимодействовать лишь в рамках системы формальных правил и положений,
которые нужно постоянно вырабатывать, согласовывать, отстаивать в суде, а
потом обеспечивать их соблюдение, в том числе и с помощью мер
принуждения. Все эти правовые приемы, заменяющие доверие, приводят к
росту того, что экономисты называют «трансакционными издержками».
Иначе говоря, преобладание недоверия в обществе равносильно введению
дополнительного налога на все формы экономической деятельности, от
которого избавлены общества с высоким уровнем доверия.
Общественный капитал не распределен равномерно между различными
обществами. В некоторых из них склонность к объединению выражена явно
сильнее, но общества различаются также и в смысле предпочтения тех или
иных форм ассоциаций. В одних основными инструментами объединения
считаются семья и родство; в других гораздо более крепкими являются
добровольные ассоциации, служащие .для того, чтобы увести людей из
системы семейных уз. В США, например, люди, обращенные в иную веру,
нередко оставляют семью и живут по зову новой религиозной секты, или, во
всяком случае, им приходится выполнять обязанности, которые нередко
приходят в противоречие с их долгом перед семьей. В Китае, наоборот,
буддистским священникам не очень-то удается увести детей из лона семьи, а
когда удается, их нередко за это наказывают. В течение времени общество
способно как накапливать общественный капитал, так и терять его. В конце
средних веков во Франции существовала разветвленная система гражданских
объединений, но начиная с XVI—XVII столетий способность французов к
стихийному объединению была практически уничтожена победившим
централизованным монархическим режимом.
Принято считать, что Германия и Япония — это общества коллективистской
ориентации. В этих обществах традиционно поощряется повиновение власти,
они практикуют систему, которую Лес-тер Туроу назвал «коммунитарным
капитализмом»3. В литературе последнего десятилетия по вопросам
конкурентоспособности формулируется аналогичное допущение: Япония —
это общество «коллективистской ориентации»; на другом полюсе находятся
США как воплощение общества индивидуалистического, в котором люди не
имеют безусловной готовности взаимодействовать друг с другом или
оказывать поддержку ближнему. По мнению япониста Рональда Дора, все
общества можно разместить в той или иной части непрерывного спектра, на
одном краю которого окажутся индивидуалистические англосаксонские
страны — США, Великобритания, а на другом — Япония с ее
коллективистской ориентацией4.
Однако такое противопоставление очевидно искажает реальное
распределение общественного капитала по странам мира и отражает
глубокое непонимание как японского, так и американского общества. В
самом деле, существуют поистине индивидуалистические социумы, мало
приспособленные к объединению в коллективы. В таких обществах слабыми
являются и семья, и добровольные объединения; нередко наиболее крепкими
сообществами ока- зываются преступные группировки. В качестве примеров
можно назвать Россию и некоторые другие бывшие коммунистические
страны, а также отдельные районы некоторых крупных городов США.
По сравнению с нынешней Россией более высокую способность к
объединению обнаруживают общества фамилистические, в которых
основной (и нередко единственной) формой ассоциации является семья и
более широкие формы родственных союзов — роды и племена. В таких
случаях добровольные объединения нередко слабы, так как люди, не
связанные кровным родством, не имеют оснований доверять друг другу.
Примерами являются китайские общества — Тайвань, Гонконг и сама
Китайская Народная Республика; суть конфуцианства заключена в
возвышении семейных уз над всеми другими социальными отношениями. Но
такие же устои существуют во Франции и в некоторых районах Италии. И
хотя в этих странах фамилизм выражен не так ярко, как в Китае, все равно
наблюдается дефицит доверия между людьми, не связанными родственными
узами, а значит, и слабость добровольных объединений.
От фамилистских обществ резко отличаются те, в которых существует
высокая степень обезличенного общественного доверия и, следовательно,
большая предрасположенность к стихийному общественному поведению. К
этой категории определенно относятся Япония и Германия. Что же касается
Соединенных Штатов, то с самого момента основания эта страна никогда не
была индивидуалистическим обществом, каковым ее считают многие
американцы; напротив, в ней всегда существовала обширная сеть
добровольных объединений и структур, которым отдельные личности
подчиняли и подчиняют свои узкие интересы. Вполне справедливо то, что
традиционно американцы относятся к государству более негативно, чем
немцы или японцы, однако сильная общественная ориентация может
возникать и в отсутствие мощного государства.
Общественный капитал и склонность к добровольному общественному
поведению имеют прямое отношение к экономике. Если сравнить масштабы
крупнейших фирм определенных категорий (исключая те, которые находятся
в собственности, либо щедро субсидируются государством или зарубежными
многонациональными компаниями) по ряду стран, можно получить довольно
интересные результаты5. Если брать Европу и Северную Америку, частные
предприятия в США и Германии намното крупнее по своим масштабам, чем
в Италии и Франции. В Азии различия еще более резки между Японией и
Кореей, где созданы крупные фирмы и отмечается высокая концентрация
промышленного производства, с одной стороны, и Тайванем и Гонконгом,
чьи фирмы значительно меньше по своим масштабам, — с другой.
Можно предположить, что способность к созданию крупных фирм связана
просто с абсолютными масштабами экономики той или иной страны. По
понятным причинам Андорра или Лихтенштейн вряд ли смогут породить
гигантские многонациональные концерны, такие, как «Шелл»> или
«Дженерал Моторз». Но с другой стороны, во многих промышленно
развитых странах не всегда прослеживается связь между абсолютной
величиной валового внутреннего продукта и наличием крупных корпораций.
Три самые маленькие европейские экономики — Голландия, Швеция и
Швейцария — имеют на своей территории гигантские частные корпорации;
почти по всем показателям Голландия имеет самый высокий в мире уровень
концентрации промышленного производства. Что касается Азии, то, хотя
Тайвань и Южная Корея сохраняли более или менее одинаковые масштабы
экономики на протяжении жизни нынешнего поколения, в Корее
предприятия гораздо более крупные, чем на Тайване.
Хотя имеются и другие факторы, влияющие на масштаб компа- ний, и в их
числе — налоговая политика, антитрестовское и иное регулирующее
законодательство, — отмечается связь между уровнем доверия и величиной
общественного капитала (а впереди по этим показателям стоят Германия,
Япония и США) и способностью к созданию крупных частных коммерческих
организаций. Эти три общества были первыми — и по абсолютной шкале
времени, и относительно этапов их собственной истории, — кто создал
крупные современные корпорации с иерархической организационной
структурой и системой профессионального управления. Что касается стран с
относительно низким уровнем общественного доверия, таких, как Тайвань,
Гонконг, Франция и Италия, то в них, наоборот, традиционно широкое
распространение имеют семейные предприятия. Там нежелание не связанных
родственными узами людей доверять друг другу задержало, а в некоторых
случаях даже вообще не позволило создать, современные управляемые
профессионалами корпорации.
Если в условиях общества с низким уровнем доверия, ориентированного на
семейные узы, возникает потребность в создании крупных предприятий,
государство должно оказать в этом содействие путем предоставления
субсидий, координации деятельности или выступая в качестве
непосредственного владельца. В результате возникнет седлообразная
структура, где на одном краю шкалы окажется большое количество
относительно мелких семейных фирм, на другом — небольшое число
крупных государственных предприятий, а в средней части — почти ничего.
Благодаря поддержке государства таким странам, как Франция, удалось
создать крупное капиталоемкое промышленное производство, но не
обошлось и без издержек: в государственных компаниях эффективность
работы и управления всегда ниже, чем на предприятиях частного сектора.
Широкое распространение доверия не просто содействует росту крупных
организаций. Если возможно преобразование крупных иерархических систем
в сети мелких компаний при помощи современных информационных
технологий, оно может оказать содействие такому переходу. Общества с
достаточным общественным капиталом по мере развития технологии и
рынков способны скорее принять новые организационные формы, нежели те,
которые ощущают его недостаток.
Во всяком случае, на раннем этапе экономического развития размеры и
масштабы фирм, похоже, не слишком сильно влияют на воз- можности роста
и процветания общества. Хотя отсутствие доверия может способствовать
развитию малых предприятий и тем самым формированию дополнительного
«налога» на экономическую деятельность, эти недостатки с лихвой
компенсируются преимуществами, которые малые предприятия нередко
имеют перед крупными. Их легче создавать, они обладают большей степенью
гибкости и быстрее приспосабливаются к изменениям рыночной ситуации,
чем крупные корпорации. Страны, где преобладают компании малых
масштабов, — Италия в Европейском сообществе, Тайвань и Корея в Азии —
в последние годы развивались более высокими темпами, чем соседние
страны, где доминируют более крупные фирмы.
Но масштабы компаний все же оказывают влияние на то, в каких секторах
мировой экономики страна может принимать участие, что в конечном итоге
влияет на общее состояние ее конкурентоспособности. Малые фирмы
связаны
с
производством
относительно
трудоемких
изделий,
предназначенных для стремительно меняющихся рынков, поделенных на
мелкие сегменты, таких, как рынок одежды, текстильных изделий, пластмасс,
деталей электронной техники и мебели. Крупные фирмы играют ведущую
роль в сложных производствах, связанных с крупными затратами капитала,
таких,
как
аэрокосмическая
промышленность,
производство
полупроводниковых материалов и автомобилей. Они также незаменимы при
создании организаций по сбыту продукции знаменитых фирм, и не случайно
самые известные товарные знаки — «Кодак», «Форд», «Сименс», «AEG»,
«Мицубиси», «Хитачи» — появились в странах, где действуют многие
крупные компании. И наоборот, трудно представить появление знаменитых
товарных знаков у мелких фирм, например, Китая.
В контексте классической либеральной теории торговли всемирное
разделение труда определяется относительными преимуществами, которые
обычно связаны с наличием капитала, трудовых и природных ресурсов у тех
или иных стран. В данной книге приводятся свидетельства того, что и
общественный капитал должен учитываться среди основных ресурсов нации.
Его наличие или отсутствие может оказывать большое воздействие на
формирование системы международного разделения труда. Например,
природа китайского конфуцианства не позволит Китаю двигаться по пути
Японии, и он по-прежнему будет участвовать в других секторах
хозяйственной деятельности.
В какой степени неспособность к созданию крупных организаций будет
влиять на экономический рост в будущем, зависит от неизвестных еще
факторов, таких, как направления в развитии техники и рынков. Но при
определенных обстоятельствах это ограничение может приобрести большое
значение и нанести большой ущерб долгосрочным перспективам роста таких
стран, как Китай и Италия.
Кроме того, способность к стихийному общественному поведению дает и
другие преимущества, некоторые из которых не имеют отношения к
экономике. Общество с высоким уровнем доверия позволяет организовать
работу людей в более гибком режиме и на коллективных началах путем
передачи значительной части ответственности на низовой уровень.
Напротив, общество с низким уровнем доверия должно огораживать
трудящихся многочисленными бюрократическими правилами. Работники,
как правило, испытывают более глубокое удовлетворение от своего труда,
если на работе к ним относятся как ко взрослым людям, способным вносить
свою лепту в общее дело, а не как к «винтикам» в промышленной машине,
разработанной кем-то другим. Система производственных технологий
компании «Тойота», явившаяся результатом систематизации коммунально
организованных рабочих мест, привела к стремительному росту
производительности труда, показав, что общинность и эффективность вполне
совместимы. Урок состоит в том, что современный капитализм,
формирующийся под влиянием технического прогресса, не навязывает
какую-то определенную форму промышленной организации, которой
надлежит придерживаться всем без исключения. Руководителям предприятий
предоставлена значительная свобода в организации работы компаний с
учетом общественных аспектов человеческой личности. Иными словами,
социализированное поведение не обязательно наносит ущерб эффективности;
те, кто уделяет внимание общественным интересам, возможно, достигнут ее
наивысших показателей. <...>
Существуют три основных пути социализации: первый основан на семейных
и родственных узах, второй — на добровольном объединении, не зависящем
от родства (он представлен учебными за- ведениями, клубами,
профессиональными организациями); третий путь — это государство.
Имеются и три соответствующие им формы организации экономической
деятельности: семейное предприятие, корпорация с профессиональной
системой управления и компания, находящаяся в собственности или под
опекой государства. Первый и третий пути, как выясняется, тесно связаны
друг с другом: культуры, в которых главный путь к объединению — это семейно-родственные связи, с большим трудом создают крупные и прочные
экономические структуры и поэтому нуждаются в инициативе и поддержке
правительства. С другой стороны, социумы, в которых имеются условия для
создания добровольных объединений, могут создавать большие
экономические организации стихийно и не нуждаются для этого в помощи
государства. <...>
Практически все фирмы основываются как семейные предприятия, то есть
ими владеют и управляют родственники. Таким образом, базовая единица
общества служит и базовым элементом предпринимательства: труд
распределяется между супругами, детьми и (в зависимости от культурных
традиций и устоев) более отдаленными родственниками. Семейные
предприятия в форме крестьянских хозяйств существовали повсюду как в
доиндустриальных аграрных обществах, так и в обществах более
современных, где они послужили основой для первых промышленных
революций в Англии и США.
В странах с развитой экономикой новые фирмы тоже создаются как
небольшие семейные предприятия и лишь впоследствии обретают более
обезличенную корпоративную структуру. Поскольку их сплоченность
базируется на моральных и эмоциональных связях ранее сложившейся
общности
людей,
семейные
предприятия
способны
успешно
функционировать даже в отсутствие системы коммерческого права или
стабильной структуры прав собственности.
Но семейные предприятия являются лишь начальной точкой развития
экономических организаций. В некоторых обществах уже на ранних этапах
наблюдается выход за пределы семейного типа социализации...
По мере роста предприятия темпы и масштабы развития требуют участия
более широкого круга людей, чем может обеспечить семья. Прежде всего
начинает давать сбои система управления предприятием: даже в большой
семье, члены которой — способные, образованные люди, число
компетентных родственников — сыновей, дочерей, супругов, братьев и
сестер — ограничено, и рано или поздно возникнет нехватка родственных
кадров для управления стремительно разрастающейся компанией. Семейная
система владения нередко сохраняется в течение длительного периода, но и
здесь по мере роста предприятия возникает потребность в капитале, которую
одна семья удовлетворить не в силах. Семейные права контроля и
управления частично подрываются при использовании банковских займов,
что предоставляет кредиторам определенные возможности участия в
управлении предприятием, и еще более — открытой подпиской на акции.
Нередко получается, что семья, основавшая то или иное предприятие,
постепенно выходит из дела или вытесняется из него, а само предприятие
выкупают сторонние инвесторы. Порой происходит развал самих семей из-за
ревности, ссор и некомпетентности; именно такая судьба постигла
многочисленных владельцев ирландских баров, итальянских ресторанов и
китайских прачечных.
На данном этапе своего развития семейные предприятия должны решить
важнейший вопрос: удерживать ли права контроля в рамках семьи, что
нередко означает сохранение малых масштабов предприятия, или уступить
их и стать фактически пассивными акционерами. Если выбирается второй
вариант, семейное предприятие превращается в современную корпорацию с
соответствующей структурой. Владельцев-основателей фирмы сменяют
менеджеры-профессионалы, отбираемые не по признаку родства, а по
критериям компетентности в тех или иных аспектах управления.
Предприятие становится институциональным субъектом, начинает жить
своей жизнью, независимо от решений или действий того или иного
отдельного лица. Принятие управленческих решений по мере необходимости
уступает место формальной организационной структуре, в которой четко
обозначена сфера компетенции каждого начальника и руководителя. На
место непосредственного подчинения хозяину фирмы приходит
иерархическая структура начальников и руководителей среднего звена,
ограждающая высшее руководство от потоков поступающей снизу
информации. Наконец, управление крупным предприятием требует создания
децентрализованного механизма принятия решений по подразделениям
компании, которые высшее руководство рассматривает как самостоятельные
отделения со своими балансами.
Следует ли вообще обращаться к такой черте культурного уклада, как
способность к социализации, при объяснении возникновения крупных
корпораций в экономике отдельных стран и в более широком плане — для
обоснования уровня благосостояния? Разве современная система
контрактного и торгового права не создана как раз для того, чтобы избавить
коммерческих партнеров от необходимости доверять друг другу, как
родным? В развитых промышленных странах действуют всеобъемлющие
юридические механизмы, регулирующие деятельность экономических
организаций, равно как и разнообразных форм предприятий — от
индивидуальных компаний, принадлежащих одному владельцу, до огромных
межнациональных корпораций, акции которых продаются и покупаются на
биржах. Разве бизнес, основанный на крепких семейных узах и
подразумеваемых моральных обязательствах, не обречен на вырождение,
ведущее к семейственности, кумовству и нерациональным коммерческим
решениям? И вообще, разве сущность современной экономической жизни не
в замене неформальных моральных норм четкими юридическими
обязательствами?6
На все эти вопросы можно ответить, что хотя права собственности и другие
экономические институты действительно были необходимы для создания
современных предприятий и компаний, мы зачастую не учитываем того, что
последние зиждутся на фундаменте общественных и культурных устоев,
которые воспринимаются всеми как нечто привычное и незыблемое.
Современные институты являются необходимым, но не достаточным
условием благосостояния и благополучия современных обществ; они могут
эффективно функционировать лишь в сочетании с определенными
традиционными общественными и этическими нормами. Договоры и
контракты позволяют незнакомым людям, не имеющим оснований для
взаимного доверия, работать друг с другом, но эта работа будет гораздо
более эффективной, если такое доверие есть. Юридические формы, такие, как
акционерные общества, обеспечивают возможность сотрудничества между
людьми, не связанными родственными узами, но насколько слаженным будет
такое сотрудничество, зависит от способности конкретных работников ко
взаимодействию с чужими им людьми.
Вопрос о наличии стихийной, естественной способности к общению и
объединению имеет особое значение, поскольку подобные традиционные
этические устои и обычаи не могут быть приняты как некая данность.
Богатое и развитое гражданское общество не обязательно возникает из
логики успешной индустриализации. Наоборот, Япония, Германия и США
стали ведущими мировыми промышленными державами во многом
благодаря тому, что имели в достаточном количестве общественный капитал
и естественную способность к общественному поведению, а не наоборот.
Такие либеральные общества, как США, имеют тенденцию к
индивидуализму и потенциально губительной социальной разобщенности.
Имеются признаки того, что в США доверие и общественные устои,
обеспечившие величие и ведущее положение страны как индустриальной
державы, за последние полвека значительно ослабли; <...> бывает, что с
течением времени социум теряет общественный капитал. Во Франции, где
когда-то существовало развитое гражданское общество, оно было
впоследствии погублено чрезмерно централизованной государственной
системой.
Страны, о которых здесь идет речь, характеризуются высоким уровнем
доверия и естественной склонностью к общественному поведению; в них
имеется широкая сеть промежуточных форм объединений. В Японии,
Германии и США мощные и сплоченные крупные компании и организации
сложились на основе прежде всего частного сектора. Хотя время от времени
государство
оказывало
поддержку
неэффективным
отраслям
промышленности, способствовало развитию технического прогресса и
организовывало работу крупнейших предприятий — телефонных компаний и
почты, степень такого вмешательства была относительно невысока. В
отличие от седлообразного распределения типов предприятий, где на одном
полюсе находятся семейные фирмы, а на другом — государственные (как в
Китае, Франции и Италии), в этих странах имеются достаточно сильные
структуры и в средней части спектра. Кроме того, указанные нации с самого
начала индустриализации, как правило, занимали ведущие позиции в
мировой экономике и сегодня являются наиболее обеспеченными
обществами в мире.
С точки зрения структуры промышленности и состояния гражданского
общества рассматриваемые государства в большей степени похожи друг на
друга, нежели на преимущественно фамилисти-ческие общества — Тайвань,
Италию, Францию. В каждом отдельном случае склонность к социализации
имеет разные исторические корни. Например, в Японии она связана со
структурой семьи и природой японского феодализма; в Германии — с
сохранением традиционных форм организации, например, гильдий, которые
существовали даже в XX веке; в США склонность к общественному
поведению явилась продуктом религиозного наследия протестантских сект...
Более общинный характер этих социумов проявляется как на микро-, так и на
макроуровне, в отношениях, складывающихся на низовом уровне между
рабочими и у рабочих с бригадирами и начальниками. <...>
Мы зачастую считаем, что минимальный уровень доверия и честности
существует всегда, и не задумываемся о том, что эти качества суть
неотъемлемые компоненты повседневной хозяйственной жизни, без которых
экономика не сможет нормально функционировать. Например, почему в
США люди редко покидают рестораны или такси, не уплатив по счету, и не
отказываются прибавить к стоимости обеда пятнадцать процентов чаевых?
Человек, не оплативший счет, совершает противозаконное действие, и
конечно, в некоторых случаях люди опасаются так поступать под страхом
наказания. Но если бы они преследовали только одну цель, как утверждают
экономисты, — обеспечить максимальный рост собственных доходов,
невзирая на неэкономические факторы (приличия и моральные
соображения), тогда каждый раз, заходя в ресторан или садясь в такси, они
должны были бы оценивать возможность ускользнуть, не заплатив
официанту или таксисту. Если издержки обмана (стыд или даже правовая
ответственность) превышают возможную выгоду (дармовой обед), тогда
человек будет поступать честно; в противном случае он попытается сбежать,
не заплатив. Если такой обман получит широкое распространение, хозяевам
придется нести дополнительные затраты: например, поставить у выхода
швейцара, чтобы не выпускал клиентов, не оплативших обед, или требовать
предоплату. И если в большинстве они не делают это, значит, в обществе
существует определенный уровень честности, поддерживаемый в силу
определенных сложившихся устоев и обычаев, а не только лишь на основе
рационального расчета.
Пожалуй, экономическую ценность доверия легче понять, если представить,
каким был бы мир в его отсутствие. Например, если при заключении любого
контракта нам приходилось бы предполагать, что партнеры не упустят
малейшего шанса обмануть нас, мы тратили бы массу времени на выработку
абсолютно безопасных формулировок и положений, исключающих любые
юридические лазейки, дающие им возможность нас провести. Договоры
стали бы огромными, в них пришлось бы подробно перечислять все
мыслимые и немыслимые условия и обстоятельства, а также все
обязательства сторон. Со своей стороны, мы никогда не стали бы предлагать
больше, чем положено в соответствии с юридическими обязательствами,
опасаясь, что партнер получит за наш счет неоправданные преимущества, и
настороженно относились бы к любым предлагаемым им новшествам, считая
их махинациями, направленными в ущерб нашим интересам. Кроме того, мы
всегда предполагали бы, что, несмотря на все усилия при выработке
договора, некоторые контрагенты все равно смогут нас обмануть и уйти от
выполнения своих обязательств. Воспользоваться услугами арбитража мы не
сможем, так как мы не вполне доверяем сторонним арбитрам. Все споры
придется решать в судебном порядке, с использованием громоздкой
процедуры, и, возможно, даже обращаться в уголовный суд.
Исследователи промышленного развития в XX веке нередко задаются
вопросом: является ли тейлоризм неизбежным следствием развития техники,
как, несомненно, утверждал бы сам Тейлор, или существовали
альтернативные формы организации фабричного производства, которые дали
бы рабочим большие возможности для инициативы и самостоятельности?
Представители одной крупной американской школы социологии считают,
что со временем все развитые общества придут к тейлоровской системе
отношений между рабочими и администрацией предприятий7. Это мнение
разделяли многие критики современного индустриального общест- ва — от
Карла Маркса до Чарли Чаплина, — которые считали подобное разделение
труда неизбежным следствием капиталистической формы индустриализации.
В рамках этой системы человек обречен на отчуждение: машины, созданные
во имя его собственных интересов, стали хозяевами над людьми, а сам
человек оказался винтиком в системе массового производства. Снижение
уровня квалификации работников будет сопровождаться падением доверия в
социуме в целом; люди начнут общаться друг с другом через правовую
систему, а не как члены естественных сообществ. Чувство гордости за свою
квалификацию и качество труда, существовавшее в эпоху ремесленного
производства, исчезнет, как исчезнут уникальные и разнообразные изделия,
производившиеся ремесленниками. При появлении каждого новшества
неизбежно возникали опасения, что именно оно окажет особенно
разрушительное воздействие на характер труда. Например, когда в 60-х годах
появились станки с числовым программным управлением, многим
показалось, что квалифицированные станочники больше не потребуются.
Перспектива отчуждения, связанная с переходом от ремесленного
производства к массовому, делает актуальным еще один фундаментальный
вопрос о природе экономической деятельности. Зачем и почему люди
работают? Ради заработка или потому что получают удовольствие от труда, в
котором реализуют себя? Неоклассические экономисты отвечают на этот
вопрос вполне определенно. Обычно считается, что труд — это нечто
неприятное, что человек выполняет против своей воли. Люди работают не
ради самого труда, а ради денег, которые они получают за свой труд и
расходуют в свободное от работы время. То есть в конечном итоге любой
труд выполняется ради отдыха. Такое представление о труде как о
неприятной необходимости уходит своими корнями в иудейскохристианскую традицию. Ведь Адам и Ева в раю не работали; лишь после
того, как был совершен первородный грех, господь в наказание заставил их
трудиться, чтобы добывать себе пропитание. Смерть в христианской
традиции рассматривается как отдохновение от трудов, сопровождающих
человека в течение жизни; поэтому на могильных плитах принято писать
«Здесь покоится в мире...» (то есть «отдыхает»). С учетом такого
представления о труде переход от ремесленного производства к массовому,
казалось бы, не должен иметь особого значения при условии роста реальных
доходов работников, который он, в принципе, и обеспечивал.
Есть, правда, еще одна традиция, которая более тесно связана с Марксом: [в
ее рамках] люди считаются и производителями, и потребителями и получают
удовлетворение, посредством труда овладевая природой и изменяя ее. Таким
образом, труд сам по себе имеет определенную полезность, независимо от
получаемого вознаграждения. В этом случае, однако, большое значение
имеет вид труда. Ремесленникам чувство удовлетворения давали
самостоятельность их деятельности, их мастерство, творчество и ум, которые
требовались при изготовлении изделия. Поэтому в связи с переходом к
массовому производству и падением квалификации рабочей силы рабочие
потеряли нечто очень важное, что не может быть компенсировано ростом
заработков. Однако по мере индустриализации стало очевидно, что
тейлоризм — не единственная ее модель, что квалификация и мастерство
никуда не исчезли, а доверительные отношения по-прежнему востребованы
на современном рабочем месте. <...>
Индивидуализм имеет глубокие корни в политической доктрине о правах
человека, лежащей в основе Декларации независимости и Конституции
США, поэтому неудивительно, что американцы привыкли считать себя
индивидуалистами. Эта конституционно-правовая структура представляет
собой, если пользоваться словами Фердинанда Тенниса, Gesellschaft
(«общество») американской цивилизации. Но в США существует и столь же
древняя коммунальная традиция, связанная в религиозными и культурными
корнями страны и составляющая основу ее как Gemeinschaft («общности»).
Если индивидуалистическая традиция во многих смысла, играла
доминирующую роль, традиция общинное™ выступала в качестве
сдерживающего и смягчающего фактора, препятствовавшего импульсам
индивидуализма достигать своего логического завершения. Успехи
американской демократии и американской экономики нельзя относить на
счет только индивидуализма или только общинное™, они объясняются
взаимодействием этих противоположных тенденций. <...>
Аналогичным образом присущее американцам стремление уйти из компании,
где они работают, и открыть собственное дело часто считается признаком
американского индивидуализма. И действительно, по сравнению с японской
системой, где люди всю жизнь работают на одном предприятии, эта
тенденция имеет черты индивидуализма. Но человек, открывший
собственное дело, очень редко действует в одиночку; зачастую люди
покидают прежнее место работы целыми группами, а в новой компании
быстро формируется иерархическая организационная структура со своей
системой подчиненности и ответственности. Эти новые организации требуют
того же уровня взаимодействия и дисциплины, что и прежние, и, если им
удается достичь экономического успеха, они могут вырасти до гигантских
размеров и существовать в течение долгого времени. Классический пример
такой компании — «Майкрософт» Билла Гейтса. Нередко получается так, что
человек, превращающий малое предприятие в крупную фирму, — совсем не
тот предприниматель, который основал дело; чтобы эффективно выполнять
свои функции, первый должен быть в большей степени коллективистом, а
второй — индивидуалистом. Но в общекультурном облике американцев
присутствуют оба эти типа. <...>
Если представить себе абсолютно индивидуалистическое общество в
качестве «идеального варианта», оно будет состоять из совокупности
абсолютно разобщенных личностей, взаимодействующих друг с другом
только исходя из рационального расчета и эгоистических интересов и не
имеющих никаких связей с другими людьми и обязательств перед ними,
кроме тех, что возникают на основе такого расчета. То, что в США обычно
называют индивидуализмом, — это, конечно, не индивидуализм в указанном
понимании, а действия индивидуумов, которые имеют определенные связи,
.хотя бы на уровне семьи и других родственников. Большинство американцев
трудятся не просто ради достижения своих узкоэгоистичес-ких целей, они
также борются и жертвуют многим ради своих родных и близких. Есть,
конечно, и совсем отделенные от общества индивидуумы, например,
затворник-миллионер, не имеющий ни жены, ни детей, престарелый
пенсионер, живущий один на свою пенсию, или бездомный в приюте.
Но хота большинство американцев имеют глубокие родственные корни,
Америка никогда не была фамилистическим обществом в том смысле, в
каком являются им Китай и Италия. Несмотря на утверждения феминисток,
патриархальная семья никогда не пользовалась в США особой
идеологической поддержкой, как, скажем, в некоторых католических
странах. В США родственные связи нередко подчинены интересам более
крупных общественных объединений. За исключением некоторых
этнических сообществ они играют довольно малозначительную роль в
формировании общественного поведения, так как имеется множество других
каналов выхода на широкие формы ассоциации. Детей постоянно
привлекают ко внесемейному общению в рамках религиозных сект или
церковных приходов, в школах и университетах, в вооруженных силах и в
коммерческих фирмах. По сравнению с Китаем, где каждая семья действует
как автономная единица, на протяжении почти всей истории Америки
широкие сообщества пользовались большим авторитетом.
С момента основания и на протяжении всей эпохи возвышения до статуса
ведущей мировой промышленной державы к периоду первой мировой войны
США никак нельзя было назвать индивидуалистическим социумом. В
сущности, это было общество с большой склонностью к естественной
социализации, с высоким уровнем доверия его членов друг к другу, где
поэтому имелись широкие возможности по созданию крупных
экономических структур, в которых люди, не связанные родственными
узами, легко и успешно взаимодействовали ради достижения общих
экономических целей. Какие существовали в обществе объединяющие узы,
позволившие
противодействовать
врожденному
индивидуализму
американцев и сделавшие возможными все эти достижения? В отличие от
Японии и Германии страна не имела феодального прошлого, как не имела и
определенных культурных традиций, которые могли быть перенесены в
новую индустриальную эпоху. Однако у нее были религиозные традиции,
причем такие, каких не существовало практически ни в одной стране
Европы. <...>
Американцы столь привыкли гордиться своим индивидуализмом и
разнообразием индивидуальностей, что порой забывают, как важно не
переборщить. Американские демократия и бизнес добились больших успехов
именно благодаря тому, что развивались на основе индивидуализма и
общинное™ одновременно. Все эти предприниматели иностранного
происхождения никогда не добились бы успеха, если бы их единственным
талантом, помимо технической гениальности, была способность не
подчиняться власти и авторитетам. Кроме этого они должны были уметь
организовать работу, общаться и ладить с людьми, создавать крупные
компании и заинтересовать всех работников в результатах труда. Но при
нали- чии значительного разнообразия индивидуальностей может возникнуть
ситуация, когда члены общества ничем не связаны друг с другом, кроме
правовой системы, — не имеют общих ценностей, а значит, и основы для
доверия, не могут найти общего языка, не могут общаться.
Соотношение между индивидуализмом и общинностью в США за последние
полвека сильно изменилось. Сообщества, основанные на моральнонравственных ценностях, из которых состояло американское гражданское
общество в середине века — семья, объединения общественности по месту
жительства, церковный приход, место работы, — подверглись суровым
испытаниям, и, судя по некоторым признакам, общий уровень социализации
понизился.
Наиболее явным признаком разрушения общинной жизни является распад
семьи, сопровождающийся неуклонным ростом процента разводов и
количества неполных семей начиная с конца 60-х годов. Эта тенденция имеет
очевидные экономические последствия: резкий рост доли малообеспеченных
граждан за счет увеличения численности матерей-одиночек. Строго говоря,
семья отличается от общности (community); как мы уже видели, слишком
прочные семейные узы могут приводить к ослаблению неродственных связей
и препятствовать возникновению объединений, не основанных на родстве.
Американская семья всегда была во многих отношениях слабее, чем
китайская или итальянская, и с экономической точки зрения это было скорее
преимуществом, а не недостатком. Но сегодня американская семья слабеет не
в связи с укреплением других форм объединений. Все эти формы ослабевают
одновременно, и значение семьи скорее возрастает по мере ослабления
других форм общинности, потому что она остается единственной формой
существования какой-либо морально-нравственной общности.
Данные, собранные Робертом Патнэмом, указывают на резкое снижение
степени социализации в США. С 50-х годов сокращается количество членов
добровольных объединений. И хотя уровень религиозности в Америке
гораздо выше, чем в других промышленно развитых странах, число людей,
посещающих церковь, уменьшилось приблизительно на одну шестую; доля
членов профсоюзов снизилась с 32,5% до 15,8% от общего числа
работающих; число членов школьных родительских комитетов за период с
1964 года упало с 12 миллионов до 7 миллионов; за последние двадцать лет
такие братства, клубы и ордена, как «Львы», орден Лосей, масонские
организации, клуб молодых предпринимателей «Джейсиз», — потеряли от
одной восьмой до половины своих членов. Аналогичные сокращения
отмечаются и в других ассоциациях - от бойскаутов до Американского
Красного Креста8.
С другой стороны, в Америке широко распространяются самые
разнообразные объединения по интересам во всех сферах общественной
жизни: лоббистские организации, профессиональные ассоциации, отраслевые
союзы предпринимателей и т. п., призванные защитить экономические
интересы определенных групп на политической арене. Хотя многие из этих
организаций <...> являются достаточно многочисленными, их члены
практически не общаются друг с другом; их обязанности ограничены
уплатой взносов, а права — получением информационных бюллетеней.
Конечно, американцы всегда имеют возможность создать организации на
основе договоров, законов и бюрократической иерархии. Но объединения на
основе общих ценностей, члены которых готовы подчинить свои частные
интересы целям сообщества, встречаются все реже. Между тем именно они
приводят к возникновению общественного доверия, столь необходимого для
эффективности организаций. <...>
Общественный капитал имеет огромное значение как для процветания, так и
для того, что принято называть конкурентоспособностью, но, пожалуй, он
более важен не столько для экономической жизни, сколько для социальной и
политической. Склонность к социализации имеет следствия, которые сложно
отразить в статистике доходов. Люди — это одновременно и узкие эгоисты, и
созда- ния, исполненные социального начала, стремящиеся избежать
изолированности и получающие удовлетворение от поддержки и признания
со стороны себе подобных. Есть, конечно, и такие, которым нравится
работать в условиях Тейлорового фабричного производства с его низким
уровнем доверия, потому здесь четко обозначен объем работы, которую они
должны выполнить, чтобы получить свой заработок, и других особых
требований к ним никто не предъявляет. Но в целом рабочим не нравится
быть винтиками в производственной машине, трудиться в одиночку, не
контактируя с начальством и с коллегами, не имея возможности гордиться
собственной квалификацией и своим предприятием и действуя в рамках
узкого круга полномочий и возможностей ради одного только физического
выживания. Многочисленные эмпирические исследования, начиная с работ
Э.Мэйо, неизменно указывают на то, что рабочие с большим удовольствием
трудятся в организациях, действующих на принципах коллективизма, а не
индивидуализма. Таким образом, даже при равной производительности на
предприятиях и учреждениях с низким и высоким уровнем доверия людям
приятнее работать в компаниях, где уровень доверия выше.
Здоровая капиталистическая экономика является крайне важным фактором,
поддерживающим стабильную либеральную демократию. Конечно, она
может сосуществовать и с авторитарным политическим режимом, как это
происходит сегодня в КНР, а ранее отмечалось в Германии, Японии, Южной
Корее, на Тайване и в Испании. Но в конечном итоге сам процесс
индустриализации требует более высокого уровня образования населения и
более сложной системы разделения труда, а оба эти явления, как правило,
содействуют развитию демократических политических институтов. В
результате сегодня практически нет богатых капиталистических стран,
которые одновременно не являются стабильными либеральными
демократиями. Одной из основных проблем Польши, Венгрии, России,
Украины и других бывших коммунистических стран является то, что они
попытались создать демократические политические институты, не обладая
преимуществами
функционирующей
капиталистической
экономики.
Отсутствие частного предпринимательства, рынков и конкуренции не только
приводит к усугублению бедности, но и препятствует формированию крайне
необходимых форм общественной поддержки для надлежащего
функционирования демократических институтов.
Существует мнение, что сам рынок является школой общественного
поведения, т. к. он дает людям возможности и стимулы к сотрудничеству и
взаимодействию во имя взаимного обогащения. Но хотя рынок
действительно способствует введению определенной дисциплины в смысле
общественного поведения, общая идея данной книги как раз заключается в
том, что рост социализации не происходит автоматически по мере
сокращения роли государства. Способность к взаимодействию в рамках
общества зависит от ранее сложившихся обычаев, традиций и норм, которые
и влияют на формирование рынка. Поэтому успешное развитие рыночной
экономики не является причиной стабильной демократии, а, скорее, само
определяется наличием ранее сложившегося общественного капитала. Если
общественный капитал имеется в изобилии, успешно будут развиваться и
рынки, и демократическая политическая система, и тогда рынок
действительно сможет выполнять роль школы общественного поведения,
способствующей укреплению демократических институтов. Это особенно
относится к новым индустриальным странам с авторитарной формой
правления, где люди имеют возможность освоить новые формы
социализации в пределах фирмы до того, как они будут применены в
политической сфере.
Понятие «общественный капитал» помогает уяснить тесную связь между
капитализмом и демократией. В условиях здоровой капиталистической
экономики в обществе имеется достаточный общественный капитал, который
обеспечивает возможности саморегулирования и самоорганизации
предприятий, корпораций, систем коммерческих фирм и прочих
объединений. В отсутствие такового государство может принимать меры по
оказанию помощи ключевым фирмам и секторам, но почти всегда рынки
действуют более эффективно, ибо решения в таком случае принимаются
самими хозяйствующими субъектами.
Именно эта способность к самоорганизации необходима для обеспечения
эффективности демократических политических институтов. Закон,
основанный на суверенитете народа, преобразует систему свободы в систему
упорядоченной свободы. Но последняя не может возникнуть из
бесформенной массы неорганизованных, разобщенных индивидуумов,
способных выражать свои мнения и пристрастия только во время выборов.
Их слабость не позволит им адекватно выражать свои взгляды, даже если это
взгляды большинства, и создаст все возможности для формирования
деспотических режимов и расцвета демагогии. В условиях действенной
демократии интересы и чаяния различных членов общества выражают и
представляют политические партии и другие организованные политические
силы. Стабильная же партийная организация может возникнуть только при
условии, что люди, имеющие общие интересы, способны действовать сообща
ради достижения общих целей, — а сама эта способность в конечном итоге
зависит именно от наличия общественного капитала.
Та же самая склонность к естественной социализации, которая имеет
ключевое значение для создания прочных коммерческих фирм, необходима и
для формирования действенных политических организаций. В отсутствие
настоящих политических партий политические группировки создаются по
признаку преданности отдельным сменяющимся личностям либо на основе
отношений хозяев с клиентами; они легко раскалываются и не в состоянии
организовать совместные действия даже при наличии сильной мотивации к
таковым. Можно предположить, что в странах, где преобладают мелкие и
слабые частные фирмы, и партийные системы характеризуются
раздробленностью и нестабильностью. Это подтверждает сравнение
ситуации в США и Германии с положением во Франции и Италии. В
посткоммунистических странах, в частности в России и на Украине, частные
компании, как и политические партии, либо очень слабы, либо вообще
отсутствуют, а в период выборов обозначаются лишь крайние, взаимно
противоположные позиции, связанные с личностями, а не четкими
политическими программами. В России «демократы»» верят в демократию и
рыночную экономику на интеллектуальном уровне, но не имеют при этом
навыков, необходимых для создания единой политической организации.
Либеральное государство в любом случае является ограниченным
государством, где пределы полномочий правительства четко определены
сферой свободы личности. Для того, чтобы такое общество не превратилось в
анархию или иную неуправляемую структуру, должны существовать
возможности самоуправления на всех его уровнях. Такая система в конечном
итоге зависит не только от правового регулирования, но и от
самоограничения отдельных личностей. Если они не способны проявлять
терпимость и уважение друг к другу или не соблюдают ими же
установленные законы, возникает нужда в сильном государстве,
заставляющем их держать- ся в определенных рамках. Если они не могут
объединиться и действовать сообща ради достижения общих целей,
необходимо активное вмешательство государства для выполнения
организующих функций, на которые сами они не способны. И наоборот,
«отмирание государства», о котором писал Карл Маркс, возможно разве что
в обществе с чрезвычайно большой способностью к добровольному
объединению, где самоограничение и поведение в рамках установленных
норм возникают внутри общества, а не навязываются извне. Страна с
небольшим общественным капиталом не только будет иметь мелкие, слабые
и нерентабельные компании, она будет страдать от широкого
распространения коррупции среди правительственных чиновников и
неэффективности системы государственного управления. Признаки
подобного положения наблюдаются в Италии, где видна прямая связь между
раздробленностью общества и коррупцией, особенно по мере продвижения
из северной и центральной частей страны в южные регионы.
Наличие динамичной и процветающей капиталистической экономики имеет
огромное значение для стабильности демократической системы и еще с
одной точки зрения, относящейся к фундаментальным целям (ends)
человеческой деятельности. В книге «Конец истории и последний человек» я
указывал, что историю человечества можно понять как взаимодействие двух
больших сил. Первая сила — разумное желание, в котором люди пытаются
удовлетворить свои потребности путем накопления материальных благ.
Вторая, не менее важная движущая сила исторического процесса — то, что
Гегель называл «борьбой за признание», то есть стремление всех людей к
тому, чтобы их сущность как свободных и нравственных людей была
признана другими людьми.
Разумное желание более или менее соответствует максимизации полезности,
с которой оперирует неоклассическая экономическая теория: бесконечному
накоплению материальных благ ради удовлетворения постоянно растущих
нужд. Стремление к признанию, в свою очередь, не имеет материальной
цели, а добивается лишь справедливой оценки человека в сознании других
людей. Любой человек считает, что имеет некую врожденную ценность или
достоинство. Если эта ценность не получает достаточного признания со
стороны других, он испытывает гнев; если он не оправдывает высокой
оценки со стороны окружающих, ему стыдно; когда он считает себя
оцененным по достоинству, он испытывает гордость.
Стремление к признанию — чрезвычайно мощный элемент психики; такие
чувства, как гнев, гордость и стыд, служат основой для политических
страстей и создают мотивацию многих процессов политической жизни. Оно
может проявляться в самых различных условиях и ситуациях: в гневе
работницы, уходящей из компании, потому что она считает, что ее работа не
получает должного признания; в негодовании националиста, желающего,
чтобы его страна имела равный с другими статус; в ярости активного
противника абортов, полагающего, что жизнь невинного младенца должна
быть защищена; в чувствах феминистки или борца за права
гомосексуалистов, требующих уважения со стороны общества. Страсти,
возникающие на основе стремления к признанию, нередко вступают в
противоречие со стремлением к разумному накоплению, когда человек
рискует собственной свободой и имуществом, чтобы отомстить тому, кто
несправедливо обошелся с ним, или когда страна вступает в войну во имя
зашиты национального достоин ства.
В предыдущей книге я объяснял, что то, что обычно кажется экономической
мотивацией, нередко связано не с разумным желанием, а является
результатом стремления к признанию. Естественные нужды и потребности
немногочисленны, и удовлетворить их довольно легко, особенно в условиях
современного индустриального хозяйства. Наша трудовая мотивация и
стремление к зарабатыванию денег гораздо более тесно связаны с
признанием, которое приносит нам такая деятельность, а деньги становятся
символом не материальных благ, а социального статуса и признания. В своей
книге «Теория нравственных чувств» Адам Смит объясняет: «Нас интересует
тщеславие, а не безбедное существование или удовольствие»9. Рабочий,
бастующий под лозунгом повышения заработной платы, поступает так не
потому, что он желает получить все возможные материальные блага; нет, он
добивается экономической справедливости, в условиях которой его труд
получал бы справедливое вознаграждение по сравнению с другими видами
деятельности, иными словами, чтобы его значение признавалось в полном
объеме. Точно так же и предприниматели, создающие коммерческие
империи, не стремятся потратить сотни миллионов долларов, которые эти
корпорации смогут им прине- сти; они хотят быть признаны создателями
новых технологий или услуг.
Итак, если осознать, что в основе экономической деятельности лежит не
только стремление к накоплению возможно большего количества
материальных благ, но и стремление к признанию, становится более ясной
важнейшая взаимозависимость между капитализмом и либеральной
демократией. До того, как возникла современная демократия, борьбу за
признание вели амбициозные князья, стремившиеся к завоеванию господства
над другими военными средствами. И даже теория Гегеля об истории
человечества начинается с рассказа об исконной «кровавой битве», в которой
два воина пытаются добиться друг от друга признания своих заслуг и в
результате один из них превращает другого в раба. Конфликты, в основе
которых лежат националистические или религиозные чувства, становятся
гораздо более понятными, если рассматривать их как проявления жажды к
признанию, а не разумных желаний «максимизации полезностей».
Современная либеральная демократия пытается удовлетворить это
стремление, строя политический порядок на основе принципа всеобщих и
равных возможностей. Однако на практике она оказывается эффективной
потому, что борьба за признание, прежде осуществлявшаяся на уровне
военных, религиозных или националистических интересов, сегодня ведется в
экономической сфере. Раньше князья пытались разбить друг друга, рискуя
собственной жизнью в кровавых сражениях; теперь они рискуют своим
капиталом, пытаясь создавать промышленные империи. В основе этих
процессов лежит все та же психологическая потребность, однако стремление
к признанию удовлетворяется путем создания материальных благ, а не их
уничтожения. <...>
Похоже, что в современном мире мы наблюдаем не только обур-жуазивание
прежней культуры воителей и замену страстей интересами, но и растущую
«одухотворенность» (spiritualization) экономической деятельности, наделение
ее той соревновательной энергией, которая прежде питала жизнь
политическую. Зачастую люди поступают не в соответствии с интересами
разумного увеличения полезности в ее узком понимании, но вкладывают в
хозяйственную
деятельность
морально-нравственные
ценности,
присутствующие в общественной жизни. В Японии это произошло, когда
самураи — представители класса воинов — разбогатели в обмен на утра- ту
своего социального статуса и занялись коммерческой деятельностью, но и в
ней строго соблюдали бусидо — самурайский кодекс чести. Этот процесс
можно наблюдать практически во всех про-мышленно развитых странах, где
предпринимательская деятельность открыла возможности для применения
энергии многих честолюбивых людей, которые в прежние эпохи могли
добиться признания, лишь развязав войну или революцию.
Новые примеры того, как капиталистическая экономика направляет борьбу за
признание в мирное русло и тем самым играет важную роль в укреплении
демократии, дают посткоммунистические страны Восточной Европы. Планы
тоталитаризма предусматривали уничтожение независимого гражданского
общества и создание новой социалистической общности, в центре которой
должно было находиться государство. После падения этого в высшей
степени искусственного образования не осталось практически никаких форм
объединений, кроме семьи и национальности, да еще преступных сообществ
и группировок. В отсутствие добровольных ассоциаций люди страстно
потянулись к объединениям по формальным признакам. Самой простой из
них, позволявшей людям избежать чувства разобщенности, слабости и
беззащитности перед лицом более мощных исторических сил, бушевавших
вокруг, стали объединения по этническим признакам. В условиях развитого
капитализма, где крепки позиции гражданского общества, наоборот, сама
экономика является средоточием значительной части общественной жизни.
Люди, работающие в таких фирмах, как «Моторола», «Сименс», «Тойота»,
или даже в небольшой семейной химчистке, ощущают себя частью
морально-нравственной системы, поглощающей немалую долю их энергии и
тщеславия. Страны Восточной Европы, имеющие, пожалуй, наилучшие
шансы стать поистине демократическими, — это Венгрия, Польша, Чехия, т.
е. те, которые сохранили элементы гражданского общества на протяжении
всего коммунистического периода и сравнительно быстро создали частный
сектор в экономике. Однако и в этих странах существуют межэтнические
конфликты, связанные, например, со спорами Польши и Литвы в отношении
Вильнюса или с территориальными претензиями Венгрии к соседним
странам. Но эти конфликты пока не переросли в войны, потому что
экономика дает достаточные альтернативные возможности для социального
самоутверждения и объединения.
Взаимозависимость экономики и политики не ограничивается бывшими
коммунистическими странами, идущими по пути демократизации. В
определенном смысле утрата части общественного капитала в США более
непосредственно влияет на американскую демократию, чем на экономику.
Эффективность политических институтов зависит от наличия доверия не в
меньшей степени, чем прибыльность коммерческих предприятий, и
снижение его уровня требует более активного вмешательства государства,
которому придется разрабатывать и внедрять определенные правила для
регулирования общественных отношений.
Многие рассмотренные примеры служат предостережением против
чрезмерной централизации политической власти. Не только бывшие
коммунистические страны страдают от слабого или ущербного характера их
гражданского общества. Фамилистические социумы с низким уровнем
доверия, сложившиеся в Китае, во Франции и на юге Италии, являются
плодом централизованных монархических режимов прошлых эпох (а во
Франции и политики республиканских правительств), которые в своем
стремлении к безраздельной власти подорвали самостоятельность и
автономию промежуточных общественных институтов. И наоборот,
общества, в которых наблюдается относительно высокий уровень доверия,
такие, как Япония и Германия, на протяжении значительного периода своей
прежней истории жили в условиях относительно децентрализованной
политической власти. В США ослабление авторитета общественных
объединений связано с укреплением государства через систему судов и
исполнительной власти. Общественный капитал — что храповой механизм, в
одну сторону поворачивается легко, а в обратную — никак; правительство
может без труда растратить этот капитал, восстановить же его гораздо
сложнее. Однако именно проблемам сохранения и накопления
общественного капитала будет уделяться главное внимание в ближайшем
будущем.
* - Weizsaecker E., van, Lovins A.B., Lovins L.H. Factor Four. Doubling Wealth
— Halving Resource Use. L., Earthscan Publications Ltd., 1997. Copyright —
Weizsaecker E., von, Lovins А. В., Lovins L.H. 1997. Текст воспроизводится с
согласия Э. фон Вайцзеккера.
1 - См.: Meadows D.H., Meadows D.L, Randers J. Behrens III, W.W. The Limits
to Growth. N.Y., 1972.
2 - Мы называем так эту модель потому, что существовали также модели
World 1 и World 2. World 1 была первоначальной версией, разработанной
профессором Массачусетсского технологического института Дж.Форестером
в рамках проводившегося Римским клубом исследования взаимозависимости
между глобальными тенденциями и глобальными проблемами. World 2
является окончательной документированной моделью, представленной
профессором Дж.Форестером в книге: Forester J. World Dynamics. N.Y., 1971.
Модель World 3 была создана на базе World 2, в первую очередь как
следствие изменения ее структуры и расширения количественной базы
данных. Мы должны отметить, что профессор Дж.Форестер является
безусловным вдохновителем данной модели и автором используемых в ней
методов.
3 - См.: Meadows D.H., Meadows D.L., Renders J. Behrens III, W.W. The Limits
to Growth. P. 24.
4 - Vargish Th. Why the Person Sitting Next to You Hates Limits to Growth //
Technological Forecasting and Social Change. Vol. 16. 1980. P. 187-188.
5 - См.: Pipes D. In the Path of God: Islam and Political Power. N.Y., 1983. P.
102-103, 169-173.
6 - [Автор приводит слова византийской принцессы Анны Комнин].
Цитируется по кн.: Armstrong К. Holy War: The Crusades and Their Impact on
Today's World. N.Y., 1991. P. 3-4, и Toynbee A. Study of History. Vol. VIII. L,
1954. P. 390.
7 - Buzan B.G. New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century //
International Affairs. No 67. July 1991. P. 448-449.
8 - Lewis В. The Roots of Muslim Rage: Why So Many Muslims Deeply Resent
the West and Why Their Bitterness Will Not Be Easily Mollified // Atlantic
Monthly. No 266. September 1990. P. 60.
9 - Mohamed Sid-Ahmed. Cybernetic Colonialism and the Moral Search // New
Perspectives Quarterly. No. 11. Spring 1994. P. 19; [мнение индийского
политического деятеля М.Дж.Акбара цитируется no) Time. 1992. June 15. Р.
24; [позиция тунисского правоведаАбдельвахаба Бёльваля представлена в]
Time. 1992. June 15. Р. 26.
Оглавление
Новая постиндустриальная волна на Западе
Оглавление
Чарльз Хэнди. Алчущий дух. За гранью капитализма: поиск цели в
современном мире
Чарльз Брайан Хэнди родился в 1932 году в Дублине (Ирландия). Высшее
образование получил в Ориэл колледже в Оксфорде и Школе менеджмента
имени А.Слоуна при Массачусетсском технологическом институте в
Кембридже (штат Массачусетс, США). После окончания Оксфордского
университета работал в отделе маркетинга компании «Шелл», а также в
Англо-американской корпорации в лондонском Сити в должности главного
экономиста. В 1967 году стал руководителем программы по исследованию
психологии управления в Лондонской школе бизнеса, в 1972 году—
профессором той же школы, а в 1974 году—ее директором. С 1977 года
является руководителем St. George House — главного центра подготовки
кадров для служителей англиканской церкви. Ч.Хэнди состоит также в
должности председателя английского Королевского общества искусств.
Профессор Хэнди получил широкую известность в Великобритании и за ее
пределами как автор ряда новаторских книг по психологии менеджмента,
анализу трудовых процессов и систем производственной мотивации. Среди
более чем двадцати изданных им книг следует особо отметить «Боги
менеджмента» [1979], «Будущее труда» [1984], «Понимая организации»
[1986], «Эра неопределенности» [1989], «Внутри организации» [1990],
«Форма без содержания: обнаружение смысла грядущего» [1991], «За
пределами определенности: изменяющийся мир организаций» [1994],
«Алчущий дух. За гранью капитализма: поиск цели в современном мире»
[1997]. Суммарный тираж его публикаций превышает миллион экземпляров.
Ч.Хэнди известен также как радиокомментатор и телевизионный ведущий, в
том числе как создатель передачи «Своевременные мысли» на первом
телевизионном канале ВВС. Профессор Хэнди женат; живет периодически в
Лондоне, Норфолке и Тоскане (Италия),
Книга «Алчущий дух. За гранью капитализма: поиск цели в современном
мире» стала в Великобритании одной из наиболее раскупаемых книг по
социологической проблематике, вышедших в прошлом году. Автору удалось
построить ее таким образом, что оказался обеспечен интерес широкой
публики. На двухстах с небольшим страницах подняты многие вопросы,
определяющие направления развития корпораций в наступающем столетии.
Ч.Хэнди начинает с методологических проблем, отмечая в первую очередь
ограниченность возможностей, предоставляемых рыночным хозяйством,
несовершенство чисто рыночной системы и условность традиционного
понятия эффективности. Результатом такого анализа является определение
им основных черт капитализма, отталкиваясь от которых, он предпринимает
попытку
обосновать
неизбежность
формирования
и
развития
посткапиталистического типа общества.
В отличие от сугубо экономического подхода к данной проблеме, широко
распространенного сегодня на Западе, профессор Хэнди на протяжении
второй и третьей частей книги акцентирует основное внимание на проблемах
личности, в том числе на вопросах субъективного восприятия человеком
своего места в мире и осмысления разделяемой им системы ценностей. В его
трактовке значения индивидуализма, его соотношения с коллективизмом в
современных условиях можно заметить некоторое сходство с подходом ряда
других исследователей, в частности Ф.Фукуямы.
Особое внимание Ч.Хэнди уделяет в своей книге проблеме
интерперсонального взаимодействия в рамках современной корпорации.
Можно даже с определенной уверенностью утверждать, что сама идея
посткапиталистического общества основана у него на противопоставлении
традиционной индустриальной компании и новой организации, важнейшей
задачей которой, наряду с удовлетворением нужд потребителей, становится
развитие
и
совершенствование
ее
работников.
Преодоление
капиталистического общества связывается автором с формированием нового
типа отношений внутри коллективов — от отдельной компании до
государства, — когда руководство любой организации, включая и
правительство, становится не распорядителем судеб своих подчиненных, а их
слугой.
Работа профессора Хэнди представляет значительный интерес и как
популярное изложение основных проблем, встающих сегодня перед
традиционной организацией, и как пример весьма нетрадиционного подхода
к исследованию движущих сил и перспектив развития постиндустриального
общества. Сегодня, в эпоху резкого возрастания самостоятельности
работников и значения их интеллектуального и творческого потенциала для
судеб отдельных корпораций и целых государств, эта книга кажется нам
весьма актуальной.
Подбирая для нашего сборника выдержки из книги Ч.Хэнди, мы обращали
особое внимание на сформулированные им в первой части методологические
вопросы,
а
также
на
освещение
проблемы
соотношения
индивидуалистического и коллективистского типов поведения (эти
фрагменты соответствуют стр. 13—14, 15—27, 32—34, 47—48, 52, 59-61, 89,
99-103 в издании Hutchinson). АЛЧУЩИЙ ДУХ ЗА ГРАНЬЮ
КАПИТАЛИЗМА: ПОИСК ЦЕЛИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ*
В Африке говорят, что есть голод малый и есть голод большой. Мучимый
малым голодом человек стремится получить необходимые для жизни товары
и услуги, а также деньги, чтобы заплатить за них; деньги, правда, нужны
всем. Голод большой заставляет человека искать ответ на вопрос «зачем мы
живем?», «в чем смысл жизни?».
До сих пор в капиталистическом обществе бытовало мнение, что лучший
способ утолить духовный голод людей — это удовлетворить их насущные
потребности. Ведь удобно думать, что если дать людям чуть больше хлеба да
немного масла, то все и будут счастливы, коль скоро правительства и
предприниматели смогут это обеспечить совместными усилиями. Подобный
образ мысли привел к тому, что деньги в конечном счете стали всеобщим
мерилом, как о том и предупреждал Карл Маркс, а рынок — их верным
слугой. Чем более конкурентоспособными будут товары, чем лучше станут
вещи, которые можно купить за меньшие деньги, тем богаче будем мы все, а
следовательно, и счастливее. Мы можем измерить нашу жизнь в фунтах,
марках или долларах, а затем сравнить итог. <...> Деньги не только служат
удовлетворению наших материальных потребностей, они в большинстве
случаев являются мерилом социального успеха. Такой порядок был одобрен
еще Адамом Смитом, выдвинувшим удобный постулат, согласно которому
следование своекорыстным интересам благодаря некоей «невидимой руке»
неминуемо ведет к общему благу.
Разумеется, в этом есть и положительный момент. Все мы, включая даже
беднейших членов общества, в материальном отношении живем гораздо
лучше наших предков. Деньги стимулируют творческое начало. Они также
несут в себе выбор, своего рода свободу. Заработать в наши дни может
любой, кто достаточно умен и энергичен. <...>
Между тем деньги, конечно, играют роль, но — исключая меньшинство рода
человеческого и тех, у кого их попросту нет, — роль не решающую. Учителя
[как правило] идут учить детей не потому, что это занятие приносит им
золотые горы, хотя это не означает, что они довольны своими весьма
скромными доходами и не считают, что их ответственный труд заслуживает
большего вознаграждения. Однако деньги, сколь бы они ни были
необходимыми, не являются для них мерилом успеха.
Однажды мне довелось вести занятия в смешанной по составу группе, куда
входили бизнесмены, госслужащие, учителя и медсестры; все они хотели
познакомиться с некоторыми пусть сомнительными, но модными теориями
управления. Я дал им задание провести несколько дней в самых разных
организациях, где работали их товарищи по группе. Бизнесмены обычно
возвращались изумленными. «С такой мотивацией к труду мы никогда не
сталкивались в наших собственных компаниях — эти люди работают за
копейки», — говорили они. Странно. Неужели эти люди никогда раньше не
встречали актеров, художников, учителей и медсестер? Видимо, нет.
Я полагаю, что большинство из нас знает о существовании вещей, которые
важнее денег. Как давным-давно заметил еще Аристотель, «богатство —
отнюдь не то благо, которое мы ищем, оно лишь средство достижения чегото еще. И коль скоро это так, удовольствия, добродетель или почести с
большим основанием могут рассматриваться как благо, поскольку их жаждут
ради них самих».
Мы можем согласиться с Аристотелем, у которого была скучная привычка
подчеркивать очевидное, однако немалая часть мира, в котором мы живем,
говорит на языке денег. Нынче даже в школах и добровольных организациях
подводят финансовые итоги. Сегодня приоритетная задача — уложиться в
бюджет. Без денег мы чувствуем себя беспомощными. Нам кажется, что
денег всегда не хватает и не мешало бы иметь их побольше — чтобы
потратить, отложить или отдать ближним. В нашем обществе деньги стали
общим знаменателем, а повышение благосостояния — наипервейшей
задачей, о которой объявляет любое правительство, приходя к власти.
Деньги, кроме того, остаются единственным критерием, принимаемым в
расчет в ВВП — этой своеобразной табели о рангах для государств. Если
какой-либо продукт или вид деятельности не имеют денежного выражения,
они и не учитываются в нем. За неимением лучшего средство превратилось в
цель, и в конце концов деньги заслонили все прочее. Отчасти мы сами так
считаем, отчасти политики полагают, что мы так думаем, убеждая нас, что,
если мы отдадим за них свой голос, количество фунтовых или долларовых
купюр в наших кошельках увеличится. Однако в западном мире все сильнее
ощущается, что такие представления не соответствуют действительности.
Мы стали пленниками собственной риторики, сложенного нами мифа о
деньгах.
Однако не исключено, что голод большой никак не связан с голодом малым,
а представляет собой нечто совсем иное. Деньги, скорее всего, необходимое,
но не достаточное условие счастья, а если так, то большее их количество не
сделает вашу жизнь счастливее, если вы уже достаточно обеспечены
материально. Если в вашем доме и так тепло, то от повышения температуры
уютнее вам все равно не станет, хотя определенное количество тепла
необходимо всем живущим в холодном климате.
Такой подход может оказаться неприятной неожиданностью для
правительств и экономистов, поскольку означает, что у роста существуют
пределы — на этот раз не физические или экологические, а психологические
и философские, справляться с которыми куда труднее. Как понравиться
народу, если обещания дать больше хлеба по меньшей цене увлекают не
всех? Между тем экономический рост возможен лишь при условии, что
большинство людей постоянно требует хлеба, и только хлеба. Хуже того,
философия рынка, который обеспечивает высокое качество хлеба при низкой
цене и является основным принципом капитализма, уже подает тревожные
сигналы.
Ни Адам Смит, ни (за редким исключением) его последователи не считали,
что задачи государства следует полностью отдать на откуп рынку. Начать с
того, что функционирование рыночной системы регламентировано законами
и механизмами, проводящими их в жизнь. Никто ведь всерьез не считает, что
полицией и судами должны руководить частные коммерческие предприятия.
Тем не менее, мода на приватизацию предполагает, что рыночная философия
должна быть внедрена во все без исключения сферы жизни. В этом подходе
скрыта опасность извращения наших целей.
Коммерческие предприятия живут и умирают по воле рынка. Это отличный
механизм, автоматически подающий сигнал о том, где наметилась нехватка, а
где есть ненужные излишки. Он, со всеми присущими ему побудительными и
сдерживающими факторами, является стимулом изобретательности и
отражением стремления к совершенствованию, хотя многие не выдерживают
этой гонки. Срок жизни даже крупных корпораций редко превышает сорок
лет, а многие компании начинают деградировать намного раньше. В то же
время школы, больницы и социальные учреждения нельзя закрыть, даже если
они работают неэффективно, поскольку заменить их бывает нечем. В
отличие от успешно действующих компаний, лучшие школы не могут
расширяться до бесконечности, ибо в таком случае качество преподавания в
них почти наверняка снизится. Следовательно, если поместить такие
организации в рыночные условия, то лучшие из них станут средними, а
худшие окажутся еще хуже.
Теперь оставим организации и подумаем об индивидууме. Рынок не
заинтересован в продуктах, затраты на производство которых больше
получаемых от них доходов, или в клиентах, расходы на обслуживание
которых превышают выручку. Если бы общество жило, руководствуясь
строгой рыночной логикой, следовало бы увольнять людей, не имеющих
знаний и умения, чтобы своим трудом произвести добавленную стоимость,
достаточную для покрытия своего прожиточного минимума. И что тогда,
вывозить их из страны? Казнить? Принцип страхования, в соответствии с
которым гражданам всех демократических государств прямо и косвенно
гарантируется медицинское обслуживание, не должен был бы, если
следовать чисто рыночной логике, распространяться на людей, страдающих
тяжелыми болезнями, требующими дорогостоящего лечения. Однако разве
нужно поэтому отказывать в помощи больным СПИДом или лечить стариков
в последнюю очередь? Если бы общественный транспорт не был сферой
государственного регулирования, поезда и автобусы не стали бы ходить в
отдаленные уголки либо проезд туда стоил бы слишком дорого. Рыночные
принципы не срабатывают там, где слишком большими оказываются
альтернативные социальные издержки.
Я не отрицаю важной роли товарных отношений в любом развитом
обществе. Возведение принципов действия городского рынка до уровня
ключевой экономической концепции — одно из самых продуктивных
достижений в истории цивилизации. Однако мы не должны быть
идолопоклонниками. У рынка есть свои пределы, свои непредвиденные
последствия. Он представляет собой лишь механизм, а не философию.
Рыночные законы срабатывают не везде. В частности, они не действуют там,
где результат не имеет денежного выражения, где предложение ограничено
или действует распределительная система.
Неясно, например, как оценивать работу тюрем, отчасти потому, что мы еще
не решили — является ли их задачей наказание, превентивная функция или
реабилитация заключенных. До тех пор пока мы не определим цель, нельзя
оценить и итог. Без четкого определения искомых результатов любая
рыночная стратегия в управлении исправительными учреждениями будет
сосредоточена на том, что поддается измерению: расходах на содержание
заключенных. Но конкуренция, основанная на критерии меньших затрат, не
гарантирует наилучших результатов. Тот же аргумент применим к
большинству социальных институтов. Когда нельзя измерить результат,
конкуренция идет по линии уменьшения расходов, однако самая дешевая
школа или больница еще не обязательно лучшая.
Популярный, но дефицитный товар создает монопольную ситуацию, о
которой мечтают поставщики и от которой страдают покупатели. При этом
существование некоторых монополий является неизбежным, поскольку
дублирование таких объектов, как трубопровод, линия электропередачи или
занимающаяся исследованиями клиника, привело бы к неоправданным
расходам. Стоимость привлекаемых дополнительных ресурсов перевесила бы
потенциальную выгоду от наличия конкуренции. В таких ситуациях главную
роль играет регулирующий орган, призванный обеспечить, чтобы данный
объект был доступен всем желающим по разумной цене. Ничем не
ограниченный рынок здесь не сработает. Однако регулирующие органы не
всеведущи и не всезнающи. Принадлежащая им самим монополия на власть
и так не всегда используется честно.
Трудность состоит в том, что необходимо определиться, где можно дать
свободу действий рыночным отношениям, а где они могут нанести ущерб.
Здесь требуется трезвый анализ, а не слепое поклонение. <...>
На заре горбачевской перестройки, когда первые советские менеджеры
приезжали на стажировку в Лондонскую школу бизнеса, кое-кто шутил, что
русские слышали о затратах и ценах, но не знают, что эти два понятия
связаны между собой. Позднее я понял, то же самое можно сказать о наших
собственных
государственных
службах
—
больницах,
школах,
коммунальном хозяйстве и т.д.
Рынок хорош тем, что увязывает цену с затратами, но он срабатывает лишь
тогда, когда покупатель знает цены и имеет возможность выбора. Переведя
государственные учреждения на рыночные рельсы, мы будем иметь частные
монополии до тех пор, пока не появится альтернативное предложение, а
государственное регулирование, сколь бы решительно и умно его ни
проводили, не может заменить потребителю свободу выбора.
Другая крайность — предлагать пользователю бесплатные услуги, как,
например, делает это Британская национальная служба здравоохранения, но
при этом поощрять конкуренцию врачей и больниц на искусственно
созданном внутреннем рынке. В таком случае свободный выбор подменяется
решением бюрократа. Любой бизнес, ставящий собственные интересы выше
интересов клиента, ущербен. Рынок — великое изобретение, но работает он
лишь тогда, когда дает покупателю информацию о ценах и предоставляет
ему возможность выбора. Уберите одну из этих двух составляющих, и в
конце концов вы будете обслуживать бюрократа, а не клиента. <...>
Рынок работает на покупателя, однако тот не всегда желает и получает
лучшее, даже при одинаковой цене.
Когда на английском телевидении появятся 230 каналов вместо 5 нынешних
и между ними начнется конкуренция, качество программ неминуемо
ухудшится, поскольку большее количество телекомпаний начнет оспаривать
прежнюю сумму рекламных денег.
В Великобритании дипломы вузов подразделяются на степени: первую,
вторую и третью. Предполагается, что система проверок поддерживает
общий критерий качества образования, однако вузы борются за студентов, и
соблазн применять менее строгие критерии и выдавать большее количество
дипломов первой степени для того, чтобы привлечь большее число лучших
студентов, силен, и, по общему мнению, далеко не всем удается его
избежать.
В 1967 году в Соединенном Королевстве было два курса, присваивавших
степень магистра в области управления бизнесом. Тридцать лет спустя их
стало уже сто двадцать. Ясно, что качество подготовки различается, а
степень присваивается одна и та же. В этой области существует два рынка.
Первичный — потенциальные студенты, которые хотят, чтобы курс был как
можно короче, лишь бы печать в дипломе была соответствующей. Субъекты
вторичного рынка — работодатели — не всегда могут сделать правильный
выбор, ориентируясь в первую очередь на репутацию заведения. Существует
искушение сократить и уплотнить курс, чтобы сделать его более
привлекательным для потенциальных студентов, не нарушая при этом
интересов конечных потребителей их знаний. <...>
В теории рынок все приводит к общей норме. В конечном счете все
стремится к тому, чтобы сравняться с лучшим или самым дешевым. Однако в
действительности дело обстоит иначе: рынки некоторых продуктов —
компьютерных программ, фильмов, юридических услуг — сегодня
расширились настолько, что «победитель получает все», по меткому
выражению Роберта Фрэнка и Филипа Кука, озаглавивших так свою книгу.
Как отмечают эти авторы, высококлассные профессионалы, будь то
теннисисты, юристы или писатели, могут зарабатывать во много раз больше,
чем люди этой же профессии, лишь немного уступающие им или не столь
широко разрекламированные Похоже, что чем шире рынок, тем выше
вознаграждение удачливых игроков, будь то отдельные лица или
корпорации.
Организация бизнес-семинаров стала сегодня международным делом. И где
бы они ни проводились — в Катаре, Сиднее или Фениксе, — организаторы
хотят видеть в качестве лекторов одних и тех же известных личностей. Без
них, считают они, мероприятие не будет иметь международного значения и
не привлечет желаемую аудиторию. Эти знаменитости могут назначать свою
цену, хотя во многих случаях лекции, которые они читают, ни по
содержанию, ни по стилю не лучше тех, что могли бы прочитать многие из
менее известных специалистов.
Умение рекламировать свое имя становится не менее важным, чем
профессиональные качества, однако любая рекламная кампания обходится
дорого. Тем временем затраты, а следовательно, и стоимость участия в
мероприятиях продолжают расти. В теории, повышение расценок
способствует появлению новичков, которые предлагают более низкие цены,
но рынок профессионалов ориентируется в первую очередь на престиж,
который тем выше, чем выше стоимость оказываемых услуг, поэтому
сбивание цен не приветствуется. В результате мы имеем рынок столь же
нереальный, сколь и нечестный.
Бизнес-семинары могут в один прекрасный день стать настолько дорогими,
что их попросту перестанут организовывать, однако это не коснется других
высокооплачиваемых профессий. Когда на карту поставлена жизнь или
свобода, кто не заплатит максимально возможную цену за услуги лучшего
адвоката в округе? Но как узнать, кто лучший? Гонорар — один из надежных
показателей. В этом случае старое уравнение, увязывающее цену с качеством
поставляемого товара, не действует. Даже если мы, заплатив втрое дороже,
получаем лишь на десять процентов больше товаров или услуг, мы выберем
самый дорогой вариант, какой сможем себе позволить, поскольку хотим
получить эти дополнительные десять процентов, сколько бы это ни стоило.
Однако сверхзаработки для немногих и гроши для остальных — отнюдь не
то, что призван обеспечить рынок, даже если потребитель готов нести
неимоверные расходы.
Рынком игнорируется все, что не имеет стоимостного выражения. Самый
яркий пример — окружающая среда. Воздух не имеет цены, мы пользуемся
им бесплатно и загрязняем его в большинстве случаев безнаказанно. Так же
мы относимся и к водным ресурсам. То, что никому не принадлежит, не
имеет стоимостного выражения и не может быть включено ни в один расчет.
Выход, очевидно, состоит в том, чтобы определить цену природных ресурсов
путем установления налога на их использование или как минимум на
нанесение им ущерба, но на практике такую политику осуществить сложно.
Некоторые вещи не бесплатны, но поскольку цена за их ежедневное
использование не установлена, они кажутся бесплатными. Одним из
примеров могут служить дороги. В Британии пользование ими в основном
бесплатно, за исключением нескольких мостов, за проезд по которым
взимается сбор. Разумеется, содержание дорог финансируется за счет
множества налогов на транспортные средства и горючее, но непосредственно
за пользование ими мы не платим и поэтому не знаем, во сколько обходится
стране, да и нам самим, каждая поездка. Путешествие по железной дороге,
где за каждую лишнюю милю нужно платить, кажется дороже, чем поездка
на то же расстояние на автомобиле, хотя если учесть все косвенные расходы,
то зачастую более дорогостоящей оказывается автомобильная поездка.
Однако средний гражданин не может сравнить цены, в результате чего рынок
не срабатывает. Многие люди стали бы реже пользоваться автомобилями,
если бы знали, во сколько им это обходится на самом деле. Чтобы решить эту
проблему, необходимо поставить автомобильные и железные дороги в
равные условия, или сделав и те, и другие бесплатными, или оплачивая
каждую милю поездки.
Неоплачиваемая работа по дому является еще одним ярким примером того,
что рынок игнорирует не имеющий цены товар. Поскольку за домашнюю
работу не полагается денежного вознаграждения, родители испытывают
соблазн предложить свои услуги на оплачиваемом рынке труда и нанять
прислугу для выполнения работы, которую им пришлось бы делать
бесплатно. Возможно, что на обычной работе получаешь большее
удовлетворение, но я подозреваю, что, если бы был найден способ платить
родителям за работу по дому, многие из них решили бы уделять ей больше
времени.
Правда, лично я не хотел бы, чтобы мне платили за воспитание моих детей.
Это обесценило бы время и любовь, которые я им дарю. Точно так же я не
хочу, чтобы мне платили за работу в добровольных организациях: часто
большее удовольствие доставляет отдавать, а не получать. С другой стороны,
если живешь в условиях рынка, всегда подвергаешься искушению следовать
его законам. Вещи, не имеющие стоимости, либо не поддаются оценке, как,
например, забота о собственных детях, либо ничего не стоят, потому что
никто не хочет платить за них. Поэтому неудивительно, что чаще всего
благотворительной деятельностью занимаются те, у кого есть оплачиваемая
работа, а не безработные, пенсионеры и домохозяйки, как логично бы было
предположить. Если чья-либо работа ничего не стоит на рынке
оплачиваемого труда, то бессмысленно предлагать ее в качестве подарка на
рынке труда бесплатного.
Мы не можем организовать любую работу на рыночной основе. Даже если
бы я хотел получать деньги за воспитание детей, кто станет мне за это
платить? Что мы могли бы сделать, так это шире признать, что
безвозмездный труд жизненно важен для общества. Нет никаких значимых
причин, по которым нельзя было бы включить его оценочную стоимость в
статистику ВВП, коль скоро это действительно валовой внутренний продукт.
То, что не просчитано, в расчет не принимается, однако рыночная цена не
должна быть единственным количественно оцениваемым параметром.
Игнорируя то, что по определению не поддается оценке, рынок может
извратить наши ценности. <...>
Если бы вы оказались один на необитаемом острове, вам не нужны были бы
деньги и рынки, вы бы не ощущали и их отсутствия. Однако жить в
одиночестве, не имея рядом никого, с кем можно себя сравнить, очень
трудно. Именно из этого и происходит конкуренция. Она дает основу для
сравнения, позволяя нам узнать, что значит быть умным, надежным, хорошо
готовить или быстро бегать. Смысл этих слов выявляется только благодаря
сравнению. Конкуренция, таким образом, является важнейшей частью любой
[социальной] системы, и действие ее не измеряется в денежных знаках. <...>
Побывав в Венгрии в те времена, когда она еще была государством с
централизованно планируемой экономикой, я спросил, зачем в сравнительно
небольшой стране необходимо иметь два завода по производству удобрений,
если в этой отрасли промышленности крупные предприятия обладают
серьезными преимуществами. «Все очень просто, — ответили мне, — если
бы у нас был только один завод, мы должны были бы устанавливать
стандарты централизованно, а мы не знаем, сколько стоят удобрения.
Поэтому было построено два завода, которые, конкурируя друг с другом,
сами определяют для себя нормы и стандарты».
Конкуренция генерирует энергию, награждает победителей и наказывает
проигравших. Поэтому она служит горючим для экономики. В 1992 году
Билл Клинтон обещал, что основанная на конкуренции экономика обеспечит
«хорошую работу за хорошую зарплату». С тех пор американская экономика
стала гораздо более конкурентоспособной, хотя до этого проигрывала
Японии. Растет экс- порт, прибыли достигли небывалых высот. Было создано
множество новых рабочих мест — гораздо больше, чем во всех европейских
странах вместе взятых. К сожалению, лишь половина из них может быть
названа «хорошими» во всех смыслах этого слова. Конкуренция
предполагает, что Америка становится богаче, но при этом некоторые
американцы становятся гораздо богаче других, а кое-кто и беднеет.
Производительность не всем приносит одинаковые блага.
Отчасти по этой причине Европа не так агрессивно стремилась к
конкуренции, как Америка, и не смогла создать новые рабочие места. Из
каждых 100 рабочих мест, существовавших в Европе в 1975 году, сейчас
осталось только 96. В Америке на каждые 100 рабочих мест, существовавших
в 1975 году, сегодня приходится 156. С другой стороны, разрыв между
десятью процентами самых богатых и самых бедных семей в Америке вдвое
выше, чем в Европе. <...>
Мы не можем с уверенностью сказать, что плоды конкуренции —
экономический рост и богатство — делают людей довольными и
счастливыми. В Японии, на Тайване и в городах Америки темп жизни очень
напряженный; пешеходы там движутся быстро, тогда как медленнее всего
ходят индонезийцы. В странах с быстро растущей экономикой выше процент
самоубийств, а автомобилисты ведут'себя на дорогах более агрессивно. Я
помню, как мой первый преподаватель экономики, работающий сейчас в
Америке выходец из Центральной Европы, Нобелевский лауреат, задумчиво
говорил, что всегда предпочитал жить в странах, где экономика на спаде,
потому что обеденный перерыв там гораздо длиннее. Только вот в таких
странах не было спроса на его работу. <...>
Можно оспаривать значение, которое придается в капиталистической
системе деньгам и рынкам, но вряд ли кто-либо станет подвергать сомнению
один из основных результатов развития рыночной экономики —
экономически эффективное общество. Экономическая эффективность не есть
худшая цель в мире. Оставим в стороне вопрос о том, кому достаются
деньги. Когда система работает исправно, в выигрыше оказываются все.
Возможно, политикам следовало бы придавать этой идее большее значение в
своих программах.
Россия еще не стала таким обществом, поэтому трудно жить в этой стране. В
гостинице в Санкт-Петербурге я попросил портье дать мне телефонную
книгу, чтобы узнать нужный номер. Девушка ответила, что телефонной
книги не существует. «В городе семь миллионов населения, — сказала она,
— разве можно напечатать все телефоны?» Через год-два окажется, что
очень даже можно.
Экономическая эффективность и ее результаты — наиболее очевидные
плоды капитализма, конкуренции и рынка. Обилие товаров, высокое
качество услуг, низкие цены и большая надежность делают жизнь удобной и
легкой. Эти плоды должны были бы с лихвой компенсировать любой перекос
в системе. Чаще всего так и бывает, но есть реальная опасность того, что
наше стремление к экономической эффективности само создаст перекосы.
Мы можем так увлечься рационализацией производства, что забудем о
первоначальной цели предприятия. Рентабельность не всегда есть синоним
разумности.
Электронная и голосовая почта — замечательные помощники делового
человека, позволяющие быстро и легко установить сообщение между
людьми. В самом деле, они действуют настолько эффективно, что глава
одной крупной консалтинговой фирмы как-то пожаловался, что ее
сотрудники тратят массу времени на прослушивание, чтение и ответы на
поступающие сообщения и совсем перестали думать. Эффективно? Да.
Разумно? Не уверен.
Недавно я обнаружил, что нажатием кнопок на телефонном аппарате можно
забронировать билет в кино, выбрать нужную дату, сеанс, место и цену,
оставить свой номер телефона и все реквизиты банковских карточек,
получить через голосовое устройство компьютера подтверждение этих
данных, а потом пойти в кино, вставить карточку в машину, получить билет
— и все это без участия человека. На меня произвел впечатление уровень
автоматизации этого процесса, вот только кнопки пришлось нажимать долго,
а звонок оказался междугородным. Эффективно с точки зрения кинотеатра,
но не очень удобно для меня самого.
Правда, в конце концов я получил то, что хотел. А ведь часто, когда я звоню
в больницу или на какую-нибудь фирму и меня просят нажать на ту или
иную кнопку, я или не получаю ответа на свой вопрос, или слышу
автоответчик. Могу представить, что в один прекрасный день, придя на
прием к врачу, мы будем общаться с заменившим его компьютером. Может
быть, и рационально уменьшить количество визитов на биржу труда, которое
нужно совершить молодому безработному, чтобы получать пособие, но при
отсутствии личных контактов уже ничто не будет стимулировать его к более
энергичному поиску работы. Наше общение было бы более эффективно, будь
оно менее рационализировано.
Теоретически рыночные механизмы или хороший менеджмент со временем
исправят эти изъяны, но если весь мир пойдет одной дорогой и будет
преследовать лишь одну цель — повышение рентабельности, то у
потребителя просто не окажется выбора, а следовательно, и права голоса.
Однако это лишь слегка нервирует общество, где компьютерные программы
и телефоны дешевле, надежнее и менее хлопотны, чем люди. Есть и более
серьезные последствия нашего увлечения экономической эффективностью.
<...>
Английский экономист Фред Хирш считал, что экономический рост в
конечном итоге самоограничен, поскольку он будет все более обеспечиваться
за счет «престижных товаров», вещей, которые выделяют нас из среды
соседей: дач в живописных местах, членства в элитных клубах, редкого
антиквариата. Количество этих товаров по определению ограниченно,
поскольку, если бы они были у всех, они потеряли бы свою исключительную
ценность. Он, возможно, недооценил нашу способность придумывать новые
модные увлечения и причуды, однако, повторяю, общество, основная
движущая сила которого — зависть к соседям, вероятно, не то общество, за
которое стоило бы бороться, и не то, в котором многие из нас хотели бы
жить, потому что личному соперничеству и чувству вечной
неудовлетворенности не будет конца и края. Хозяйственный рост,
движителем которого является стремление к экономической эффективности,
не может быть бесконечным, сколь бы странным ни казалось это сегодня. С
другой стороны, если бы мы отказались от принципа эффективности,
общество перестало бы нормально функционировать.
Приходится признать, что эффективность может иметь решающее значение
для существования общества, но в итоге ни она, ни экономическая модель, к
которой она принадлежит, не могут удовлетворить духовный голод
человечества, ответить на вопрос о смысле жизни. Возможно, нам придется
больше времени и сил отдавать деятельности вне экономической сферы,
активности, мотивиро- ванной не стремлением к эффективности, а желанием
обрести внутреннее удовлетворение и достоинство. В такой системе
ценностей деньги и рынок отойдут на второй план. <...>
Рынок и экономическая эффективность имеют свои изъяны, но следует
соблюдать осторожность, чтобы не выплеснуть ребенка — капитализм —
вместе с грязной водой непредусмотренных результатов. До сих пор мы мало
говорили о достоинствах рынка и экономической эффективности.
Необходимо восстановить равновесие. <...>
Капитализм должен вновь обрести свою истинную роль — роль философии,
призванной обеспечить средства для жизни, но не ее цель. Такое
переосмысление этого понятия позволило бы избежать распространенной
критики в адрес капитализма, заключающейся в том, что у коммунизма была
всеобщая цель — искоренение бедности, гарантированная работа и крыша
над головой для каждого, — но не было механизма ее достижения, тогда как
у капитализма есть механизм, но нет общей цели. Такое переосмысление
понятия высветило бы, что капитализм есть лишь механизм, который
позволяет каждому индивиду самому ставить себе цели. Убеждение, что
деньги есть средство, а не цель, послужило бы не ограничению, а
освобождению личности.
Все это предвидел Кейнс, обратившийся в своем эссе 1930 года
«Экономические возможности для наших внуков» от экономики к
философии и писавший: «Мы больны новым недугом, названия которого,
возможно, еще не слышали некоторые читатели, но о котором они не раз
услышат в ближайшие годы, а именно — технологической безработицей. Это
безработица, возникающая в результате того, что изобретение новых
способов экономии труда опережает появление новых областей применения
рабочей силы... Последнее означает, что в будущем экономические проблемы
перестанут быть вечным спутником человечества».
Кейнс считает, что, когда будет решен экономический вопрос, человечество
утратит традиционную цель и перед ним встанет реальная проблема: как
жить мирно, разумно и счастливо. По мнению Кейнса, не все воспримут это с
радостью: «Я полагаю, — отмечал он, — что нет ни одной страны и ни
одного народа, которые могли бы без страха ждать наступления эры
изобилия». Однако в конце концов, «когда накопление богатств не будет
более иметь решающего значения, в системе нравственных ценностей
произойдут серьезные изменения... мы сможем понять истинную роль
денежной мотивации».
С тех пор ничего не изменилось. Капитализм, каких бы успехов он ни достиг,
никогда сам по себе не сможет дать исчерпывающего ответа на вопрос
«зачем мы живем?». Мы можем искать выход либо в разработке более
совершенных теорий управления, которые принимают в расчет как пределы
возможностей человечества, так и его потенциал, либо в создании новой
экономики, которая учитывает реальную ценность предмета, а не только его
стоимость. Однако эти преобразования могут быть проведены (если это
вообще возможно) лишь в том случае, если мы поймем, чего хотим от жизни
для себя и для других. В конечном счете нам необходимо новое понимание
жизни, отдающее деньгам должное, но не более того.
Правительствам не под силу справиться со стихией капитализма. Только мы
сами можем поставить ее под контроль. Чтобы рынок стал нашим слугой, а
не хозяином, понадобится коллективная воля большинства. Для этого людям
надо четко понять, кто они, зачем живут и чего ждут от жизни. К сожалению,
это легче сказать, чем сделать, но это необходимо, если мы хотим управлять
своей собственной жизнью и нашим обществом.
Адам Смит считал, что даже добродетельные мужчины и женщины сами по
себе ничего изменить не могут, пока не изменится вся система. Однако его
собственный пример уже много десятков лет служит доказательством того,
что хорошие идеи, появившиеся в нужное время, с помощью добродетельных
людей могут изменить сложившийся порядок. Хорошие идеи обычно не
новы, а представляют собой старые идеи, возвращенные к жизни в нужное
время. Быть может, пришло время возродить и некоторые философские
учения прошлого о жизни и обществе.
Вацлав Гавел, драматург, диссидент, бывший заключенный и нынешний
президент Чешской Республики, так сформулировал этот вызов: «Спасение
нашего мира — лишь в сердце, умении думать, смирении и ответственности
человека. Без глобального переворота в человеческом сознании ничто не
изменится к лучшему, и катастрофа, к которой стремится этот мир, станет
неизбежной». <...>
Путь к познанию самого себя долог и труден. <...> Похоже, что существует
некая необходимая последовательность, через которую мы должны пройти.
Фрэнсис Кинсмен в книге «Тысячелетие: навстречу обществу завтрашнего
дня», написанной в конце материалистических восьмидесятых и в то время
оставшейся почти незамеченной, использовал для описания своего видения
мира три психологических типа человека, разработанных Стэнфордским
исследовательским институтом. Вот эти три типа:
«Движимые поиском средств к существованию»;
«Ориентированные на внешний мир»;
«Ориентированные на внутренний мир».
Эти слова, настолько неуклюжие, что сначала я неправильно их понял,
выражают важные истины.. В моем понимании «ориентированные на
внешний мир» значило «заботящиеся о других людях». В действительности
же, как мы сейчас увидим, это означает, что индивид интересуется тем, что
думают и делают другие люди, их ценностями и заботами.
«Ориентированность на внутренний мир» — это то, что Юнг назвал бы
«индивидуализацией», а я называю «разумным эгоизмом», т.е. способностью
вырабатывать собственные ценности и ставить себе цели. Специальные
термины, если вы их понимаете, хороши тем, что не окрашены
эмоционально. Для моего собственного удобства и каждодневного
использования я дал стэнфордским категориям свои названия: «Выживание»,
«Достижение» и «Самовыражение», — но этим терминам не хватает
точности стэнфордских. Последние определяются следующим образом:
Движимые поиском средств к существованию
Основная цель людей, которыми движет поиск средств к существованию, —
безопасность, как финансовая, так и социальная. Одни из них бедны и/или не
имеют работы, другие живут в достатке, но крепко держатся за то, что
имеют. Эти люди склонны к клановости, закоснелы и противятся переменам.
Они — «остаточный продукт философии сельскохозяйственной эпохи —
верхушка, середина и основание феодальной пирамиды».
Ориентированные на внешний мир
Люди, ориентированные на внешний мир, многого добиваются. Они жаждут
уважения и социального статуса в качестве внешних символов своего успеха.
Поэтому в жизни им нужно иметь все са- мое лучшее или, по крайней мере,
чтобы все было «как надо». Обычно они умны, хорошо образованны и
честолюбивы. Они материалисты, за исключением тех кругов, где модно не
быть материалистом. Они являются движущей силой экономически
преуспевающих обществ.
Ориентированные на внутренний мир
Побудительный мотив этих людей — проявить свои таланты и убеждения.
Это не означает, что они замкнуты и отчужденны или что у них нет
честолюбия, но они в меньшей степени материалистичны, чем две другие
группы, больше заняты этическими проблемами, постижением механизма
управления обществом. В систему их ценностей входят развитие личности,
самореализация, обостренность восприятия и качество жизни их самих и
других людей. Одни называют их «чудаками», другие считают их опасными.
«Как научиться распознавать таких людей — и как искоренить эту напасть?»
— спросил один менеджер, придерживавшийся авторитарных методов
руководства.
Для Кинсмена эти категории необходимы, чтобы нарисовать картину
общества, которое может возникнуть в новом тысячелетии. Пользуясь
данными международных обзоров, он отмечает постепенный поворот от
озабоченности поиском средств существования к ориентации на внешний, а
затем и на внутренний мир, хотя процесс этот различается по странам весьма
значительно. В 1989 году люди, ориентированные на внутренний мир,
составляли 36% британцев и 42% голландцев. Среди немцев
ориентированных на внешний мир было больше, чем в любой другой стране,
тогда как в Италии и Франции, где в некоторых районах все еще сильна
аграрная культура, в большинстве оказались озабоченные поиском средств к
существованию. Британцы, на мой взгляд, все больше интересуются
самовыражением, поиском смысла жизни.
Но данные категории можно использовать и в качестве мерила нашего
развития как личностей. Маслоу, американский психолог, настаивал на том,
что они соотносятся друг с другом по принципу матрешки. Мы никогда не
принадлежим полностью к одной из них, всегда представляя собой их смесь,
изменяющуюся по своей композиции на протяжении всей жизни. Я
прекрасно помню периоды, когда мной во многом руководил поиск средств к
существованию, а на заре карьеры я попросту боролся за выживание. Потом
насту- пил период, когда меня заботило самоутверждение. Я все еще ловлю
себя на том, что бросаю завистливые взгляды на красивые дома, объявления
о продаже которых печатают в журналах с глянцевыми обложками, так что у
меня отнюдь не выработался иммунитет к символам успеха, столь
привлекательным для ориентированных на внешний мир. Однако мне
хочется верить, что теперь, будучи уже весьма пожилым человеком, я твердо
придерживаюсь ценностей группы, ориентированной на внутренний мир, и
ищу путей проявить мою истинную сущность и оставить свой след в жизни.
Сказать так — значит признать, что развитие личности идет по
поступательной от поиска средств к существованию, через ориентацию на
внешний мир к ориентации на мир внутренний. Это соответствует теории
Маслоу и других ученых, занимающихся психологией развития, и
подтверждается опытом жизни значительной части человечества. Если мы
хотим управлять своей судьбой, а я утверждаю, что это — единственный наш
выбор, было бы глупо подчинять свои желания моде, продиктованной
другими, а именно это и движет первыми двумя категориями людей. Нам
следует как можно быстрее настроиться на восприятие жизни, которое в
основном определялось бы ориентацией на внутренний мир.
Я признаю, тем не менее, что такой выбор слишком обременителен для
людей, никогда не знавших вкуса свободы, которую ощущают те, для кого
превыше всего их самоутверждение. Я знаю, что прелесть жизни,
ориентированной на внутренний мир, нелегко понять, не вкусивши радостей
мира внешнего. Между тем утверждать, как это делают некоторые, что
стремление к самовыражению и к тому, чтобы быть хозяином собственной
жизни, свойственно яишь представителям среднего класса, среднего возраста
и среднего достатка, — это до смешного грешить снобизмом. Для молодых и
бедных этот путь нелегок, но автоматически причислять их к рядам ищущих
средств к существованию — значит предположить, что у них нет желания
отвечать за свое будущее, сколь бы трудным это ни казалось.
Так кто же эти люди, ориентированные на внутренний мир? <...> Быть
может, их голос звучит тише, чем голоса тех, кто ориентируется на внешний
мир, и потому им уделяют меньше внимания. В шуме публичных диспутов
не слышно простодушных, не решающихся высказать вслух свое мнение.
Вспомним слова Эдмунда Бер-ка, сказанные им двести лет назад: «Лишь
потому, что полдюжины кузнечиков под кустом папоротника наполняют
поле несносным стрекотанием, тогда как тысячи коров, отдыхающих в тени
британского дуба, жуют жвачку и молчат, прошу вас, не думайте, что те, кто
шумит, — единственные обитатели поля и что их очень много; в конце
концов, они не более чем маленькие, жалкие, тощие, скачущие, пусть
крикливые и назойливые, но всего лишь насекомые-однодневки».
Запутавшись в риторике материальной эпохи, мы, возможно, слышим только
кузнечиков, хотя следовало бы внимательнее прислушиваться к более тихим
звукам.
* - Weizsaecker E., van, Lovins A.B., Lovins L.H. Factor Four. Doubling Wealth
— Halving Resource Use. L., Earthscan Publications Ltd., 1997. Copyright —
Weizsaecker E., von, Lovins А. В., Lovins L.H. 1997. Текст воспроизводится с
согласия Э. фон Вайцзеккера.
Оглавление
Новая постиндустриальная волна на Западе
Оглавление
Лестер Туроу. Будущее капитализма. Как экономика сегодняшнего дня
формирует мир завтрашний
Jlecmep Карл Туроу родился 7 мая 1938 года в городе Ливингстон, штат
Монтана, США. Окончил Уиллиамс-колледж в I960 году, Оксфордский
университет (Великобритания) в 1962 году и получил докторскую степень в
области экономики в Гарвардском университете в 1964 году. С 1966 по 1968
год работал в группе экономических советников при президенте Л.Джонсоне.
С 1965 по 1968 год— ассистент в Гарвардском университете, с 1970 года по
настоящее время— профессор менеджмента и экономики в Массачусетсском
технологическом институте (Кембридж, шт. Массачусетс). С 1987 по 1993
год являлся директором Школы менеджмента имени А.Слоуна при том же
институте. Живет в Бостоне, штат Массачусетс.
Научная деятельность профессора Туроу принесла ему широкую известность
в США и за границей. На протяжении последних тридцати лет он
опубликовал 10 книг (наиболее известные— «Инвестиции в человеческий
капитал» [1970], «Порождая неравенство: механизмы распределения в
экономике США» [1975], ^Общество с нулевой отдачей» [1980], «Схватка:
грядущая экономическая битва между Японией, Европой и Америкой»
[1992]) и более 100 статей в академических изданиях. Он работал членом
редакционных коллегий газеты «Нью-Йорк таимо в 1979—1981 годах и
журнала «Ньюсуик» в 1981—1983 годах, постоянно публикуется в таких
изданиях, как «Boston Globe», «USA Today», «Nikkei Business»(2noHUH),
«Basler Zeitung» (Швейцария) и ряде других. Его работы отмечены восемью
престижными премиями, он является почетным профессором 12
университетов в разных странах мира. Книги Л, Туроу переведены на все
западноевропейские языки, а также издавались в Латинской Америке,
Японии, Китае и странах Юго-Восточной Азии. Профессор Туроу избран
действительным членом Американской академии наук и искусств, в 1993
году он был вице-президентом Американской экономической ассоциации.
Книга «Будущее капитализма. Как экономика сегодняшнего дня формирует
мир завтрашний (The Future of Capitalism. How Today's Economic Forces Shape
Tomorrow's World)» принесла Л. Туроу наибольшую известность. Она вышла
в свет в 1996 году и с тех пор переведена на 9 языков; в Англии и США
выпущено шесть дополнительных тиражей ее английского издания. Более
всего читателя привлекает широкий междисциплинарный характер книги,
который отчасти объясняется тем, что она была написана на основе
переработанного курса, который автор прочел в 1995/1996 году в качестве
приглашенного лектора по проблемам этики, политики и экономики в
Йельском университете. Задачей курса было исследование моральных и
этических основ современного общества. Поэтому и в самой книге автор в
контексте глобальных перемен рассматривает современные проблемы, с
которыми столкнулись как развитые, так и развивающиеся страны.
Книга содержит 15 глав. Основная ее часть посвящена проблеме
формирования современного мира, на которое, по мнению автора, оказали
значительное воздействие четыре фундаментальных процесса. Это крушение
коммунистических режимов в конце 80-х — начале 90-х годов;
формирование в развитых странах экономики, основанной на информации и
знаниях; демографические изменения, среди которых особенно отмечается
старение населения; глобализация хозяйственных процессов. Л. Туроу
отмечает, что сегодня нет возможности говорить о современном мире как
примере торжества западной модели развития; скорее, он может быть
представлен как многополюсная система, в которой не существует
доминирующего центра силы. Такой подход позволяет автору рассмотреть
современный мир не столько в качестве легко моделируемой и управляемой
конструкции, сколько как систему, характеризующуюся состоянием
точечного (стохастического) равновесия (punctuated equilibrium).
Нынешняя эпоха отмечена, по мнению Л. Туроу, такими трансформациями
традиционного капитализма, в результате которых изменяются трудовые
отношения, устраняется традиционная капиталистическая частная
собственность, информация становится доминирующим производственным
ресурсом, меняются роль и значение рыночной инфраструктуры, а горизонты
производственных и коммерческих решений становятся все уже. Именно это,
подчеркивает автор, и актуализирует интерес современных исследователей к
будущему.
Учитывая внимание, уделенное в книге морально-этическим и
социологическим вопросам, мы предлагаем читателям ряд отрывков, в той
или иной мере касающихся проблемы формирования современного
массового общества. В первую очередь, это размышления о соотношении
демократии и рыночного хозяйства и роли правительства (глава 13), анализ
сегодняшнего положения среднего класса и перспектив его эволюции (глава
2), а также оценка автором религиозного и этнического фундаментализма как
важных проблем современного мира (глава 12). Завершается подборка
фрагментом, посвященным формированию системы ценностей массового
общества, противоречий и опасностей, неизбежно возникающих в ходе этого
процесса (глава 4). Все эти вопросы весьма актуальны сегодня для России,
переживающей трудный период реформирования, в ходе которого, как
показывает опыт, политические, этнические и религиозные проблемы
нередко чреваты более опасными, деструктивными последствиями, чем
реформирование хозяйственной системы (предлагаемые вниманию читателей
отрывки соответствуют стр. 31-34, 82-87, 232-247, 271-277 в издании Nicholas
Brealey Publishing).
Ввиду того, что эти фрагменты не в полной мере отражают основные
положения книги, мы обратились к автору за его согласием на публикацию
именно этих частей его работы. Такое согласие было получено в ходе личной
встречи с ним в Кембридже в марте 1998 года. Лестер Туроу БУДУЩЕЕ
КАПИТАЛИЗМА
КАК
ЭКОНОМИКА
СЕГОДНЯШНЕГО
ДНЯ
ФОРМИРУЕТ МИР ЗАВТРАШНИЙ*
Демократия и капитализм по-разному понимают, как должна быть
распределена власть. Демократия подразумевает абсолютное равенство
политических прав — «один человек, один голос», тогда как капитализм
исходит из того, что экономически сильный должен вытеснить слабого и
довести его до хозяйственного краха. «Выживание сильнейших» и
неравенство покупательной способности составляют суть экономической
эффективности при капитализме. Люди и фирмы стремятся достичь
эффективности ради обогащения. В крайних своих проявлениях он
сопоставим с рабством, которое существовало на американском Юге больше
двухсот лет. Демократия же несовместима с рабством.
В экономике, где стремительно углубляется неравенство, разногласия во
взглядах на разделение власти обостряются до предела. В демократическом
капиталистическом обществе существуют два источника власти — богатство
и положение в политической иерархии. В течение последних двух столетий
действовали два фактора, позволявшие сосуществовать этим двум системам,
основанным на противоположных принципах распределения власти. Вопервых, всегда было можно превратить экономическую власть в
политическую и наоборот — политическую власть в экономическую.
Владевшие одной чаще всего обретали и другую. Во-вторых, правительство
активно использовалось в целях регулирования деятельности рынка и более
равномерного распределения доходов. Тот, кто чувствовал себя обделенным
рыночной экономикой, видел в правительстве позитивную силу,
позволявшую ему пользоваться экономическими плодами капитализма. Без
взаимодействия этих двух факторов давно уже образовалась бы зияющая
пропасть между демократическим и капиталистическим принципом
распределения власти.
В том, что касается распределения, капитализм с равным успехом
приспосабливается как к чисто эгалитарному распределению покупательной
способности (все имеют одинаковый доход), так и к абсолютно неравному
распределению (один человек получает доход, значительно превышающий
тот, который необходим для существования всего остального населения).
Капитализм просто начинает производить разные наборы товаров для
удовлетворения разных видов потребностей.
Тем не менее в сфере производства капитализм создает громадное
неравенство доходов и богатства. Изыскание экономических возможностей
заработать большие деньги становится движущей силой эффективности
производства. Некоторые такие возможности находят, другие — нет.
Вытеснить с рынка этих последних, свести их доходы к нулю — завладеть их
возможностями делать деньги — в этом и есть существо конкуренции. С
ростом богатства растут и возможности, поскольку накопленное богатство
создает возможности делать деньги, недоступные тем, у кого его нет.
Равномерное распределение человеческих способностей создает основу для
предположения, что рыночная экономика сама по себе приведет к такому же
равномерному и совместимому с демократией распределению доходов и
богатств. Одна из загадок экономического анализа заключается в том, что
рыночная экономика приводит к гораздо более широкому спектру
распределения доходов, чем поддающееся оценкам различие человеческих
способностей и талантов. Разница между коэффициентом умственного
развития людей, к примеру, гораздо меньше, чем разница между их доходами
и богатством. На один процент населения, владеющий 40% богатства, вовсе
не приходится 40% общего коэффициента умственного развития. Людей с
таким коэффициентом, в тысячи раз превышающим средний, просто не
существует (чтобы попасть в этот один процент, ваш интеллектуальный
коэффициент должен быть на 36% выше среднего)1.
Даже начав с уравнительного распределения покупательной способности,
рыночная экономика быстро превращает равенство в неравенство. Какое
распределение товаров и услуг ни было бы установлено, рабочие получат
неодинаковое вознаграждение. Людям платят по-разному, потому что у них
разные способности, потому что они потратили неодинаковое количество
денег и усилий на приобретение профессионального мастерства, потому что
они расходуют различное количество времени и сил на то, чтобы заработать
деньги, потому что они начинают с разных исходных позиций (богатства или
бедности), потому что у них неравные возможности (чернокожие или белые,
люди со связями или без таковых) и, пожалуй, самое важное, потому что
одним везет, а другим нет.
Процесс образования дохода не подчиняется правилам простого сложения,
при котором пятипроцентное преимущество человека в отношении каждого
из двух аспектов его способностей зарабатывать деньги приводит к
десятипроцентному увеличению дохода. Зависимость гораздо сложнее.
Человек, чьи способности на 10% превышают средний уровень, от которого
зависит величина его дохода, зарабатывает в четыре раза больше (десять раз
по десять составят совокупный доход в размере ста), чем тот, чьи
способности превышают средние на 5% (пять раз по пять дадут совокупный
доход в размере двадцати пяти).
Такое же нелинейное соотношение существует между талантом и оплатой,
что лучше всего видно на примере гонораров в спорте. Заработок человека,
талант которого не позволяет ему войти в число профессионалов
Национальной баскетбольной ассоциации, равняется нулю. Определенный
уровень способностей дает минимальный доход в 150 тыс. долларов. Если
измерить разницу между талантом звезд и способностями рядовых игроков
(скорость, высота прыжка, процент точных попаданий), она окажется очень
небольшой, но разрыв в заработках — колоссальный. И эта незначительная
разница в уровне таланта позволяет звездам господствовать в игре.
Хотя разница в заработке может быть громадной, он по своей природе
конечен, поскольку человек в силу природных факторов может посвятить
работе ограниченное количество времени. Однако богатство не знает таких
ограничений; для него не существует верхней планки. Богатство производит
богатство, и этот процесс не имеет предела, задаваемого личным временем
человека. Для умножения богатства нанимаются другие. Преимущества
множатся. На нерегулируемых рынках неравенство доходов со временем
растет. Тот, кто заработал деньги, располагает деньгами и связями для новых
капиталовложений и получения еще больших доходов.
Большое богатство не создается благодаря бережливости и вложению
средств под описанный в учебниках экономики процент <...>. Билл Гейтс,
самый богатый американец, имеющий 15 млрд. долларов, разбогател отнюдь
не накопительством. В основе его состояния лежит соединение удачи и
таланта. Как и любой другой богатый человек в американской истории, он
воспользовался ситуацией, или ему выпала удача ей воспользоваться, когда
рынок был готов капитализировать его текущую прибыль с высочайшей
кратностью. Компании «Майкрософт» выпал случай приобрести
операционную систему для персональных компьютеров у другой компании,
обанкротившейся как раз в тот момент, когда IBM потребовалась такая
система для ее новых машин. Последняя купила у «Майкрософта» на
неэксклюзивных правах операционную систему, известную ныне как MSDOS, вместо того, чтобы создать собственную, что задержало бы выход на
рынок ее компьютеров на несколько месяцев, но надолго сохранило бы за
ней рынок и позволило бы избежать крупнейшего просчета в истории
компьютерной индустрии. Гейтсу повезло: он оказался в нужном месте с
нужным продуктом, но надо также сказать, что он обладал талантом и в
полной мере воспользовался подвернувшейся ему возможностью. Большое
богатство немыслимо без того и другого.
Капиталистическая экономика по сути похожа на Алису в Стране чудес:
нужно очень быстро бежать, чтобы оставаться на месте, — требуются
постоянные усилия, чтобы не дать неравенству расти. Поскольку рыночная
экономика не создала достаточного для демократии экономического
равенства, в ходе истории все демократические режимы считали
необходимым «вмешиваться» в дела рынка, осуществляя множество
программ, призванных остановить рост неравенства.
В XIX веке за обязательным бесплатным начальным и средним образованием
последовала безвозмездная передача земель сельскохозяйственным
университетам. По закону о гомстедах американцы, готовые переселиться на
Запад, бесплатно получили в собствен- ность участки земли. Деятельность
железных дорог регулировалась, чтобы не дать их владельцам
воспользоваться своим монопольным правом и тем самым снизить доходы
своих клиентов из среднего класса общества. Позднее было введено
антимонопольное законодательство, не дававшее другим монополиям
воспользоваться своими преимуществами на рынке. И те, и другие были
капиталистами, действовавшими по принципу «выживает достойнейший», и
правительство намеренно их усмирило. В XX веке был введен
прогрессивный подоходный налог — богатые должны в большей степени
участвовать в правительственных расходах; страхование в случае потери
работы должно было обеспечить тех, кого уволили, социальное страхование
— тех, кто слишком стар, чтобы работать, финансовая помощь — вдов и
сирот. После второй мировой войны был принят «Солдатский билль о
правах», обеспечивший бесплатное образование целому поколению молодых
американцев. В 1960-е годы последовали законы о гражданских правах,
война с бедностью, программа позитивных действий в пользу меньшинств. В
1970-е появилась система медицинского страхования для пожилых
(«Мэдикэр») и для бедных («Мэдикэйд»). Но, несмотря на все эти усилия, в
Соединенных Штатах по-прежнему сохраняется очень большое неравенство
в распределении доходов и богатства, хотя и более равное распределение
покупательной способности, чем это было бы без введения перечисленных
мер.
С исторической точки зрения средний класс был создан демократическими
правительствами, а не рынком. Такие программы, как «Солдатский билль» и
«Мэдикэр», наглядно показывали тем, кто потерпел неудачу в условиях
рыночной конкуренции, что, как бы плохо ни обращался с ними капитализм,
демократия на их стороне. Демократические правительства обеспокоены
неравенством капиталистической экономики и делают все, чтобы свести его
к минимуму. Тактика сработала. Потенциальный конфликт между властью
капиталистов и властью демократии не привел к социальному взрыву.
Если со времени возникновения капиталистической системы и бывали эпохи,
когда неравенство возрастало, о них мало что известно, потому что
исследования в те времена не проводились, и этот факт, по крайней мере,
может быть поставлен под сомнение. С тех пор, как начали собирать точные
данные, периодов сильно возраставшего неравенства не наблюдалось.
Поэтому одновременное существование двух различных систем власти
никогда не подвергалось испытанию в периоды, когда быстрый рост
экономического неравенства становился достоянием гласности, а
правительство сидело при этом сложа руки, как имеет место сейчас.
Использование политической власти для снижения неравенства в условиях
рыночной экономики сродни хождению по проволоке под куполом цирка.
Если слишком большая часть дохода посредством налогов изымается у тех,
кто достиг его по законам капиталистического общества, и передается
другим, получающим доход на иной основе, нежели за свой труд,
экономические стимулы капитализма перестают работать. Когда разрыв
между тем, что они платят и что получают, становится слишком большим,
компании просто переносят свою деятельность в то место на земном шаре,
где им не придется оплачивать высокие социальные расходы. Что касается
отдельных рабочих, то они просто исчезают в теневой экономике, где налоги
вообще не платятся. В обоих случаях налоговые платежи, необходимые для
оплаты социальных расходов, не поступают. Консерваторы правы, когда
доказывают, что государственные траты на социальное страхование
представляют собой прививку, противопоказанную для корневой системы
капитализма. Неудивительно, что политические партии правого крыла скрепя
сердце принимают государство всеобщего благосостояния, исходя лишь из
того, что социализм еще хуже.
Ключевой вопрос, разумеется, в том, в какой степени государство может
предотвратить неравенство, не переходя роковую черту. В какой-то мере это
зависит от видов используемых налогов и осуществляемых расходов. Больше
налогов можно собрать, если облагать потребление, а не доход, поскольку
это
освобождает
от
налогообложения
инвестирование,
основу
капиталистической деятельности. Точно так же больше налогов может быть
собрано на финансирование программ профессиональной переподготовки, не
наносящих ущерба стимулам капиталистического производства, чем на
оплату прямого перераспределения доходов, поскольку человек, прошедший
бесплатную переподготовку, должен работать, чтобы использовать
преимущества своей новообретенной квалификации. В отличие от этого
перераспределение дохода подталкивает некоторых просто устраниться от
процесса капиталистического производства. Он получает, но ничего не
вкладывает.
Эмпирическим путем большая часть доходов была перераспределена в таких
странах, как Швеция, пока не возникли проблемы с капиталистической
мотивацией. Быть может, государство всеобщего благосостояния могло бы
благополучно существовать долгие годы во многих странах, если бы не
проблема стариков и «среднего поколения». Эти проблемы стали
реальностью, и государство всеобщего благосостояния терпит поражение. В
будущем оно уже не сможет быть посредником между капитализмом и
демократией. По мере того как расширяется пропасть между высокими и
низкими доходами, а средние — сокращаются, демократические
правительства будут иметь дело со все более серьезными проблемами,
пытаясь совладать с возникшей в результате социально-экономической
структурой, основанной на неравенстве2.
Демократия, если под ней понимается всенародное избирательное право, еще
очень молодая социальная система, и пока не доказано, что это лучшая
политическая форма. Концепция демократии родилась давным-давно, в
древних Афинах, но использовалась с ограничениями до возникновения
Соединенных Штатов. В Афинах демократия не распространялась на
женщин и на рабов, составлявших значительную часть — скорее всего,
большинство — мужского населения. Афины были тем, что мы сегодня
назвали бы уравнительной аристократией. Это совсем не то, что мы
вкладываем в понятие демократии сегодня.
Очевидно, что даже в Америке отцы-основатели не собирались
предоставлять право голоса всем. Рабы и женщины не голосовали, и
предполагалось, что штаты введут имущественный ценз, чего они
фактически так и не сделали. Всеобщей демократии потребовалась
гражданская война, чтобы покончить с рабством и принять поправку к
конституции, дающую женщинам право голоса. Французская революция
произошла почти одновременно с американской, но в большинстве
европейских стран, где земля представляла огромную ценность и рождала
политическую власть, демократия возникла много позднее, зачастую не
раньше конца XIX века, а всеобщее избирательное право — вообще совсем
недавнее завоевание.
Исторически правительство играло важную роль в условиях капитализма,
пытаясь помочь тем, кто оказался за бортом жизни. Как [мы постараемся
показать], его роль должна быть ключевой — но совсем не такой, как при
социализме или в государстве всеобщего благосостояния. Оно должно
сделать экономику способной поднять реальную заработную плату для
большинства граждан в эпоху вы-сокоинтеллектуальных технологий.
Капитализм, однако, с трудом находит для государства соответствующую
роль. Споры о роли государства, о том, должно ли оно что-то делать, чтобы
скорректировать
результаты
рыночной
экономики,
присущи
капиталистической эпохе, поскольку во всех прежних системах
хозяйствования не было различия между государственным и частным. В
древнем Египте или Риме никто бы не понял, что имеется в виду, если бы
речь зашла о сфере полномочий правительства. То, что мы называем
государственным или частным, было настолько переплетено, что разделять
их было бессмысленно. Точно так же в эпоху феодализма феодальные
бароны обеспечивали и все то, что мы называем функциями государства
(оборону, закон, порядок), и то, что мы назвали бы работой по частному
найму. Их приказы распространялись на все, что происходило внутри их
владений. Только при капитализме появляются частный сектор экономики,
где господствует капитализм, и общественный, государственный сектор,
имеющий дело с неэкономическими проблемами, где действуют другие
силы3. Неудивительно в связи с этим, что капитализм стремится
максимально ограничить роль общественного
необходимого для его собственного выживания.
сектора
до
уровня,
Если государство не должно быть социалистическим собственником средств
производства и гарантом социальных льгот, то в чем же его функция?
Теоретический ответ капитализма на этот вопрос состоит в том, что в
правительстве почти нет нужды, так же, как и в других формах
государственной деятельности. Капиталистические рынки способны
эффективно обеспечить людей необходимыми им товарами и услугами, за
исключением того малого, что именуется чисто общественными благами.
Последние обладают тремя специфическими характеристиками, которые
важнее экономической эффективности, но эти три характеристики настолько
специфичны, что, пожалуй, можно говорить лишь об одном чисто
общественном благе — национальной обороне, да и это может быть
поставлено под сомнение. Первое свойство общественного блага состоит в
том, что его потребление, каким бы широким оно ни было, не уменьшает его
количества, доступного для потребления другими. Люди не вступают в
конкуренцию, потребляя эти блага. Если человек пользуется благами
национальной обороны, это никак не отражается на использовании этого
блага другими людьми. Другое дело обычные экономические блага: если
человек ест морковку, ту же самую морковку больше никто съесть не может.
Поскольку чисто общественные блага не предназначены для личного
потребления, могут ли они быть предметом купли-продажи при рыночной
экономике? Обычные товары покупаются именно для того, чтобы
предоставить покупателю монопольное право их потребления.
Второе свойство общественного блага состоит в том, что нельзя запретить
другим потребителям пользоваться им. Если бы система противоракетной
обороны президента Рейгана была бы создана, она защищала бы всех или
никого. Невозможно продать на частных рынках то, за что потенциальные
покупатели не станут платить, потому что они бесплатно пользуются тем или
иным благом, если оно, конечно, существует.
Третье свойство проистекает из двух первых. Раз все могут пользоваться
данным благом одновременно и никому этого нельзя запретить, у всех
возникает
побуждение
скрыть
свою
реальную
экономическую
заинтересованность в этом благе и не нести за него свою долю расходов.
Люди не показывают свою заинтересованность, поскольку, притворившись,
что они не заинтересованы (и не имеют потребности) в национальной
обороне, они рассчитывают, что кто-то другой заплатит за программу типа
«Звездных войн», хотя она и представляет для них ценность. Когда речь идет
об обычных товарах, люди проявляют свои предпочтения, покупая их. Делая
это, они открыто демонстрируют, что эти товары представляют для них
ценность, по крайней мере при их рыночной цене. Если они скроют свою
заинтересованность, они останутся без того, что им нужно.
Учитывая эти характеристики, необходимо использовать государство и
имеющиеся в его распоряжении средства для сбора при- нудительных
налогов и обеспечения средств, идущих на созидание общественных благ, в
которых люди действительно заинтересованы. По сравнению с рынком
реальных потребностей и нужд свободный рынок предлагает слишком мало
общественных благ. Но если приглядеться к деятельности современных
правительств, становится ясно, что и она за редким исключением не отвечает
потребностям людей в чисто общественных благах. Этим требованиям не
отвечает даже оборона (кто-то может создать оборонительную систему
«Звездных войн» для части, а не для всей страны).
Образование и здравоохранение, конечно, не входят в категорию
общественных благ. Ими нельзя поделиться с другими, и те, кто не платит за
образование и здравоохранение, могут остаться без них. Частный рынок
способен с успехом организовать и то, и другое. Тоже относится и к
общественной безопасности. Полицейские или пожарники кого-то
защищают, а кого-то нет. Частная полиция фактически заменяет
общественную. Правосудие может быть приватизировано, и так оно подчас и
происходит.
Некоторые виды деятельности в дополнение к чисто общественным благам
обладают свойствами, которые экономисты называют положительными или
отрицательными «внешними факторами». Образование может стать
положительным внешним фактором, который повысит производительность
моего труда при работе с образованными людьми. Поэтому я заинтересован в
финансировании
их
образования.
Напротив,
аэропорт
является
отрицательным внешним фактором, поскольку те, кто живет с ним рядом,
должны терпеть производимый им шум. Но в обоих случаях правильное
решение заключается в системе общественных субсидий или общественных
налогов, которые будут поддерживать или не поддерживать ту или иную
деятельность. Правильное решение заключается в том, чтобы общественное
обеспечение или субсидии ни в коем случае не покрывали бы полную
стоимость того или иного мероприятия. Большая часть благ достается
образованным — даже если что-нибудь остается на долю других.
Возьмите, например, почтовую службу. Когда таковая была введена
Франклином еще в колониальной Америке, она стала главным средством
связи, объединившим тринадцать разных колоний. Если Америке суждено
было стать Америкой, а жителям тринадцати колоний — американцами, они
должны были поддерживать связь Друг с другом, и роль правительства
состояла в том, чтобы удеше- вить эту связь, сделать ее доступной для всех, а
не ждать появления частной почтовой службы, которая могла возникнуть в
новой стране. Но сегодня ситуация изменилась. Существуют частные
почтовые службы, которые действуют эффективнее государственных, а
объединяют нас частные средства массовой информации, но не возможность
отправить друг другу письмо первого класса по единому тарифу в 32 цента.
«Юнайтед парсел» или «Федерал экспресс» были бы рады взять на себя
функцию почтовой связи. Точно так же частные компании готовы были бы
построить и эксплуатировать платные дороги. Установив штрих-коды на
машинах и сенсорные устройства на улицах, мы могли бы сделать все
дороги, в том числе и городские улицы, платными. Социальное страхование
могло бы уступить место частным пенсионным программам.
При капитализме, основанном на принципе выживания сильнейшего, роль
правительства сводится к минимуму. Когда в «Контракте с Америкой»
говорится о всеобщей приватизации, то речь идет об отступлении
государственного сектора. По мере такого отступления правительство
начинает терять авторитет и возрастает вероятность ускорения этого
процесса.
В
политических
спорах
государственное
фактически
противопоставляется частному, а не рассматривается как фактор,
необходимый для существования процветающего частного сектора.
С этой точки зрения экономическая стабильность и рост оказываются
предоставленными самим себе. Экономическая и социальная справедливость
не признается как цель. Любая попытка собрать налоги, особенно по
прогрессивной шкале, или распределить доход иначе, нежели в соответствии
с рыночными показателями, нарушает принцип стимулирования труда и
эффективности
рынка
и
приводит
к
нелучшим
результатам.
Перераспределение дохода — главная функция всех современных
правительств — объявляется незаконной. Люди должны иметь возможность
сохранить то, что они заработали. Все прочее делает рынок менее
эффективным, чем он может быть. Правительства существуют для охраны
частной собственности, а не для ее изъятия.
Чтобы играть в капиталистическую игру, экономика должна начать с некоего
первоначального распределения покупательной способности. Каким оно
должно быть? Здесь и только здесь может проявиться роль правительства.
Когда первоначальные стартовые позиции определены, рынок сам
обеспечивает оптимальное рас- пределение покупательной способности для
следующего витка экономической деятельности. Игра в разгаре, и
существующие в условиях рынка различия в доходах справедливы, так как
они «естественны» и являются результатом «честной» игры. Эта знакомая
для капитализма проблема сегодня возникает в бывших коммунистических
странах.
Чтобы
перейти
от
коммунистической
экономики
к
капиталистической, должно быть введено право частной собственности на
то, что раньше принадлежало государству. Хотя капитализм не выдвинул
теории, доказывающей, что одна форма распределения лучше или хуже
других, какое-то распределение прав собственности все же должно быть
установлено. В «старом» капиталистическом мире эта стартовая линия была
пройдена очень давно.
Помимо обеспечения чисто общественных благ и субсидирования либо
налогообложения видов деятельности, имеющих положительные или
отрицательные внешние факторы, у правительств есть еще одна роль.
Капитализм не может действовать в обществе, где царствует воровство. Ему
нужна правовая база, гарантирующая неприкосновенность частной
собственности и обеспечение выполнения контрактов. Но как отмечали
консервативные экономисты вроде Гэри Бекера, капитализм, которому для
функционирования нужна неприкосновенность частной собственности,
может обойтись без государственных прокуроров или государственных
полицейских4. Контракты и право частной собственности могут быть
обеспечены правом каждого судиться друг с другом для осуществления
своих законных прав. Что касается правовой системы, капитализму в какомто виде она необходима, но может быть элементарной, во всяком случае
гораздо меньшей по масштабу, чем та, которая существует сегодня в
государственном секторе.
Этот аргумент, однако, имеет слабые стороны. Возьмите, к примеру,
проблему воровства. Можно защитить право частной собственности с
помощью замков, сигнализации и частных охранников. Но это стоит дорого.
Гораздо эффективнее привить людям такие социальные ценности, которые не
позволяют им воровать. При наличии таких ценностей защита частной
собственности не стоит ничего. Склонная к агрессии личность приручается
социально, а не сдер- живается физически. Общества не могут нормально
функционировать, пока большинство их членов не начинают добровольно
вести себя подобающим образом5. Но кому решать, какие ценности следует
прививать молодежи? У капитализма на этот вопрос нет ответа. Ценности —
это всего лишь личностные предпочтения. Они не занимают
главенствующего положения. При капитализме цель системы состоит в
максимальном удовлетворении личных потребностей посредством
предоставления человеку права личного выбора. Люди — лучшие судьи
своих действий и их последствий, и они лучше других могут решить, что
способно поднять их благосостояние. Они принимают наивыгоднейшее
решение, совершается свободный обмен, рынок подводит баланс, и места для
социального выбора почти не остается. Речь о социальных идеалах, таких,
как равенство или честность, вообще не идет.
В итоге с точки зрения капитализма правительство скорее могло бы своим
вторжением навредить экономике, чем ей содействовать. Поэтому в нем
чаще видят то, что мешает развитию экономики, чем нечто содействующее ее
успешному функционированию. Согласно консервативному взгляду на
правительство, люди представляются склонными к насильственным
действиям и подчиняющимися центральной власти в обмен на безопасность
и стабильность. Хаос, отсутствие права частной собственности вызывает
потребность в правительстве. Но исторически все было не так.
Капиталистическая концепция правительства может быть точнее всего
определена как запоздалая. Группы появились раньше личностей. Только
социальная поддержка и социальное давление и делают человека человеком.
Ни одна большая группа человеческих существ никогда не жила как
сообщество индивидуумов. Никогда дикари-индивидуумы не собирались
вместе, чтобы сформировать правительство в своих собственных интересах.
Правительство или социальная организация существуют так же давно, как и
человечество. Личность не существовала до возникновения государства, а
социальный порядок не был результатом ее сознательного подчинения.
Личность — непосредственный продукт общества. С течением времени она
постепенно обрела социальные права, а отнюдь не уступила их обществу в
об- мен на блага с его стороны. Социальные ценности сформировали
индивидуальные, а не наоборот. Личность — это продукт общества, а не то,
что приносится ему в жертву.
В этом негативном взгляде на правительство отсутствует понимание того,
что свободный рынок нуждается в поддержке физической, социальной,
психологической, образовательной и организационной инфраструктуры.
Более того, чтобы личности не враждовали беспрестанно друг с другом,
рынку требуется некая цементирующая основа.
С биологической точки зрения некоторые виды — животные-одиночки,
живущие порознь, пока не наступает время спаривания. Другие виды —
животные стадные и групповые. Человек явно относится ко второму виду.
Любое процветающее общество должно признать эту реальность, но
капитализм не желает этого делать. Общества должны поддерживать баланс
между двумя свойствами человеческой натуры. Да, человек стремится к
удовлетворению личных интересов, и в то же время не только они волнуют
его. Да, правительственные чиновники иногда заботятся не об общественном
благе, а преследуют личные цели, однако это не всегда так. Проблема не в
противопоставлении личного выбора общественным обязательствам, а в
поиске оптимального сочетания личного и общественного, что дает
возможность обществу жить и процветать.
У капитализма нет доказательств того, что он достигнет некой главной цели
— максимального роста производства или наивысших доходов населения. Он
лишь претендует на то, чтобы быть системой, максимально обеспечивающей
удовлетворение индивидуальных человеческих потребностей. Но он не
выработал теорию, объясняющую, как формировались эти потребности в
прошлом, как формируются они сейчас и что с ними произойдет в будущем.
Он удовлетворяет извращенные саморазрушительные потребности так же
успешно, как и потребности альтруистические и гуманитарные. Откуда бы
эти запросы ни появились и как бы ни сформировались, капитализм
существует ради их удовлетворения. Поэтому суть капитализма не во
внушении понятия честности с целью удешевления системы. Сущность его в
том, чтобы все максимально реализовали свою полезность путем
осуществления индивидуальных личностных потребностей. В связи с этим
желание стать преступником столь же законно, как и желание стать
священником.
Можно утверждать, что наше общество в прошлом было эффективнее и
человечнее и может стать более эффективным и человечным в будущем, если
молодежи привить правильные социальные ценности. Это утверждение,
может быть, и верно, но никто не знает, как этого добиться. Что такое
правильнее ценности и как мы сможем прийти к единому мнению? У
христианских фундамента-листов своя система ценностей, тогда как Другая
часть населения их не разделяет. Если бы даже удалось договориться о
ценностях, то где граница между законным и незаконным особами их
насаждения? Если все же удастся прийти к согласию в вопросах о целях и
методах, то как противостоять фундаментальным тектоническим сдвигам
экономических пластов? Ценности не внушаются сегодня и не будут
внушаться завтра ни семьей, ни Церковью, ни прочими общественными
институтами. Они внушаются и будут навязываться телевидением и другими
электронными средствами массовой информации.
Последние делают деньги, продавая человеку острые ощущения. Людям
нравится смотреть, как нарушаются существующие социальные нормы. Ктото даже станет говорит что показ правонарушений нужно разнообразить,
иначе приедаются даже самые яркие зрелища. Кража машины и
преследование полицией вызывают острые ощущения в первый и, может
быть, в сотый раз, но в конце концов это перестает волновать, и зритель
требует демонстрации более серьезных преступлений. Острые Ощущения
продаются. Соблюдение существующих или новых социальных норм не
вызывает острых ощущений — это не продается. Противостояние желанию
украсть автомобиль никогда не будет волновать зрителя. Такова логика
жизни.
По мере того, как товары дорожают, отдельные люди начинают покупать
меньше. Дети и семьи не составляют исключения. Семейные структуры
распадаются во всем мире. Только Японии удается совладать с тенденцией
увеличения количества разводов и числа детей, рожденных вне брака6.
Повсюду становится больше неза- мужних матерей; их число в возрасте от
двадцати до двадцати четырех лет почти удвоилось в мире с 1960 по 1992
год, а в возрасте от пятнадцати до девятнадцати лет — выросло в четыре
раза. В этом отношении Соединенные Штаты не являются лидером, занимая
шестое место7. Количество разводов растет как в развитых, так и в
развивающихся странах, равно как и количество семей, где глава —
женщина. В Пекине разводы выросли с 12 до 24% всего за четыре года — с
1990 по 19948. Семьи, где глава — женщина или где женщина обеспечивает
половину и более дохода семьи, повсеместно становятся нормой.
По мере того, как мужчины перестают быть основным кормильцем,
образование детей дорожает и занимает больше времени, а у молодежи
становится все меньше возможностей поддерживать семью сезонными или
побочными заработками (что было нормой, когда большие семьи жили на
фермах), расходы на содержание семьи растут одновременно со снижением
возможностей заработка. С точки зрения экономического анализа дети — это
дорогой потребительский товар, стоимость которого к тому же стремительно
растет.
В Америке 32% мужчин в возрасте от 25 до 34 лет зарабатывают меньше, чем
требуется для того, чтобы семья из четырех человек жила выше уровня
бедности. Если семья хочет иметь приемлемый жизненный уровень, мать
тоже вынуждена работать. Перед женщинами ставится двойная задача: идите
работать, чтобы поддерживать семью, но оставайтесь дома и занимайтесь
воспитанием детей. Она идет работать и вливается в ряды рабочей силы для
поддержания экономического положения семьи и при этом выполняет дома
вдвое больше работы, чем ее муж; она все время находится в состоянии
стресса.
Не одна только экономика в ответе за такое положение вещей. Как показали
опросы общественного мнения, самореализация личности ныне ценится
выше, чем семья9. «Конкурентоспособная личность» развивается за счет
«сплоченности семьи». Потребительская культура «Я» вытесняет
инвестиционную культуру «Мы».
Естественный ответ — создавать меньше семей и иметь меньше детей. В
Соединенных Штатах процент семей с находящимися на иждивении детьми
упал с 47% в 1950 году до 34% в 1992 году. Если в семье все-таки есть дети,
то родители проводят с ними меньше времени — на 40% меньше, чем
тридцать лет назад. Если мать работает, то более двух миллионов детей
остаются без присмотра взрослых как до, так и после школы. Фактически
ими вообще никто не занимается, потому что ежедневная плата за заботу о
них поглотила бы большую часть того, что зарабатывает мать, и не было бы
смысла работать.
Сельская семья трудилась как единое целое, дети с раннего возраста имели
реальную экономическую ценность, особенно в период сева и сбора урожая.
Старшее поколение могло заботиться о детях и немного работать. Большая
семья заменяла систему социального обеспечения в случае болезни,
нетрудоспособности или преклонного возраста. Человек поддерживал семью
и покидал ее неохотно, потому что без нее было трудно прожить.
Сегодня члены семьи поддерживают ее в меньшей степени, потому что это
не столь необходимо для их благополучного экономического выживания.
Люди больше не трудятся всей семьей. Зачастую они редко видят друг друга,
потому что часы их работы или учебы не совпадают. Повзрослев и иногда
живя за тысячи миль друг от друга, они теряют друг друга из вида.
Раздельное проживание разрушает расширенную семью- Она перестала
служить средством социального обеспечения. Эти функции переняло
государство, и семья не возьмет их на себя вновь, даже если государство
откажется от своих обязанностей. На языке капитализма дети перестали быть
«центрами прибыли» и превратились в «центры издержек». Дети попрежнему нуждаются в родителях, но родителям дети не нужны.
Дело кончается тем, что у мужчин возникает сильное побуждение избавиться
от семьи и семейных обязанностей. Когда мужчины уходят из семьи, их
реальный жизненный уровень повышается на 73%, тогда как уровень жизни
брошенной семьи падает на 42%10. В 25% семей с детьми на иждивении нет
мужчины. Мужчины покидают семью по разным причинам: либо не желая
отцовства, либо в результате развода, чтобы уклониться от уплаты
алиментов, либо будучи рабочим-мигрантом из страны «третьего мира»,
который вскоре перестает посылать деньги домой. Современному обществу
не удается сделать из мужчин отцов. Свое благополучие они видят только
вне семьи11 . Но где же моральное давление социальных ценностей,
призывающих жертвовать собственными интересами ради семьи? В
современном обществе ценится свобода выбора, а не узы. Матерей создает
природа, а отцов должно создавать общество.
С другой стороны, женщины в Соединенных Штатах получают пособие,
только если в доме нет мужчины. Уровень жизни детей в государственных
воспитательных учреждениях зачастую выше, чем в распадающихся семьях.
Матерей-одиночек можно заставить работать, но эта работа обходится
государству дороже, чем выплата пособия. Чтобы работа была экономически
обоснованна, им нужно предоставить оборудование, руководство,
профессиональную поддержку. Заработная плата при этом должна быть
такой, чтобы она покрывала ежедневный уход за детьми и транспортные
расходы. Производительность труда женщин в настоящее время не
оправдывает их заработок, который должен покрывать связанные с работой
расходы, а платить столько, сколько нужно, чтобы сделать эту работу
экономически оправданной, государство просто не хочет.
Исторически родитель-одиночка никогда и нигде не был нормой, но
существование по законам патриархата с экономической точки зрения
изжило себя. На семейные ценности ведется атака — не государственными
программами, отваживающими от создания семьи (хотя есть и такие
программы), не телевизионными и радиопередачами, принижающими ее
значение (хотя есть и такие), но самой экономической системой. Она просто
не дает семьям жить по старинке — с отцом, приносящим большую часть
дохода, и матерью, берущей на себя большую часть домашних забот. Семья
среднего класса с одним кормильцем исчезла.
Устройство семьи не определяется экономикой... но оно должно
соответствовать экономическим реалиям. Устройство традиционной семьи
им не отвечает. В результате семья — это институт, находящийся все время в
движении и под давлением. Дело не в «закалке характера», а в жестком
экономическом эгоизме или, точнее говоря, в нежелании подчинить личные
интересы интересам семьи. Экономическая реальность заставляет обсуждать
кардинальные вопро- сы, касающиеся ее организации. Изменения внутри
капиталистической системы во все большей степени делают семью и рынок
несовместимыми.
Поскольку низкооплачиваемые рабочие никогда не получали пенсий от
частного сектора или медицинской страховки, они не рискуют их потерять.
Поскольку они никогда не ждали повышения по работе и никогда не верили,
что их заработная плата будет возрастать на протяжении их жизни, их
надежды не могут рухнуть. Люмпен-пролетариат не играет никакой роли в
политической жизни. От него нельзя ждать революции, он инертен. Бедные в
Соединенных Штатах даже не ходят голосовать.
Особое значение имеют ожидания среднего класса. Его рухнувшие надежды
могут стать причиной революции, поэтому среднему классу теперь
внушается мысль, что его прежние идеалы несовременны12. Все меньше
представителей этого класса смогут обзавестись собственными домами. Им
придется жить в мире, где растет неравенство и где у большинства падает
реальная заработная плата. Эпоха ежегодных прибавок к зарплате осталась
позади; людям не приходится ждать повышения уровня жизни даже для
своих детей.
Средний класс напуган, и напуган недаром. У него нет унаследованных
состояний, в поисках экономической стабильности он вынужден полагаться
на общество, но именно здесь ему не на что рассчитывать. Правительство
отказывается от политики обеспечения экономической стабильности, а
корпорации относятся к ним как к «наемникам», которым положено все
меньше и меньше дополнительных льгот, гарантирующих благополучие.
Богатые оплачивают частных охранников, а среднему классу приходится
жить на небезопасных улицах, учить детей в плохих школах, созерцать
неубранный мусор и разрушение системы общественного транспорта. Как
удачно выразился консервативный аналитик Кевин Филлипс, «средний класс
— это, скорее, социальное мировоззрение, нежели определенный уровень
материаль- ного комфорта», но все меньше людей будет иметь такое
мировоззрение, ибо в конечном счете оно должно основываться на реальной
жизни13.
Реальность постепенно просачивается в сферу представлений и меняет их. В
1964 году только 29% населения говорили, что управление страной ведется в
пользу богатых, но в 1992 году таких уже было 80%. И, судя по
экономическим результатам последних двадцати лет, с ними трудно не
согласиться.
На наших глазах религиозный фундаментализм поднимается, словно лава из
жерла проснувшегося вулкана. Связь этого грозного социального явления с
экономикой очевидна. В нем находят убежище те, кто проигрывает в
хозяйственном отношении или не в состоянии выдержать экономическую
неопределенность, не зная, что необходимо для достижения успеха в новой,
грядущей эпохе. Когда нарушается равновесие, перестают действовать
прежние типы человеческого поведения, а новые ценности, в которых
ощущается необходимость и которые рано или поздно появятся, становятся
угрозой старым, привычным моделям. Когда нарушается равновесие, растет
неопределенность. Никто не знает точно, что должен делать человек, чтобы
добиться успеха... никто не может дать общее определение тому, что такое
успех, и даже тому, что морально, а что аморально.
Несмотря на то, что люди — особенно американцы — часто говорят : «Мы
любим перемены», — они терпеть их не могут. Не нужно быть циником,
чтобы признать: утверждая, что они любят перемены, американцы
предпочитают смотреть, как меняются другие, чем меняться самим.
Китайское проклятие «Желаю тебе жить в интересные времена» (примерно
равнозначное западному «Да гореть тебе в аду») весьма точно отражает
реальные человеческие воззрения. Интересные времена — это период
перемен, когда человеческое поведение должно меняться. Сказать человеку,
что он дол- жен измениться, если хочет выжить, равнозначно пожеланию,
чтобы он горел в адском пламени.
Исторические периоды неопределенности всегда характеризовались
подъемом
религиозного
фундаментализма.
Люди
не
терпят
неопределенности, и многие ищут спасения в вере, когда неусто-чивость
физического бытия становится непереносимой. Так было в средние века, так
происходит и сегодня. Люди спасаются от экономической неопределенности
окружающего их реального мира в мире религии, который гарантирует им
спасение, если они будут следовать предписанным правилам.
В эпоху раннего средневековья было немало христианских религиозных
фанатиков, и папы всячески стремились избавиться от них. Самобичевание
(стремление обеспечить себе место в раю путем умерщвления плоти) —
наиболее известная средневековая фундамента-листская практика, хотя в те
времена существовало много других обрядов, которые практиковали
последователи культа Пресвятой Девы Марии, бегинии, некроманты.
Современные боснийские мусульмане некогда принадлежали к одной из
многочисленных сект, существовавших в эпоху средневековья (неоманихейская секта бо-гомилов, которые морили себя голодом, отстаивая
более простой и чистый монотеизм и выступая против изощренных ритуалов,
дорогих церковных одежд и порочной торговли индульгенциями). В период
владычества на Балканах Оттоманской империи они перешли в
мусульманство; чтобы избежать преследований со стороны своих римскокатолических и греко-православных соседей, принадлежавших к
религиозному истеблишменту.
Религиозный фундаментализм (индуистский, мусульманский, иудейский,
христианский, буддистский) набирает силу повсюду. Фундаменталисты
проповедуют, что те, кто будет идти по строго предписанному пути, обретут
спасение; те же, кто не будет следовать предписаниям, понесут наказание. В
их мире все предельно ясно.
Исламский фундаментализм в Алжире — это от 30 до 40 тысяч убитых
гражданских лиц и объявленная война против всех иностранцев (в том числе
лиц французского происхождения, пусть даже и родившихся в Алжире)14. В
Израиле юноши-фундаменталисты обвязываются бомбами и взрывают себя
вместе с людьми на автобус - ных остановках в центре Тель-Авива. За это
они прямиком вознесутся на небо и будут предаваться радостям любви со
множеством прекраснейших дев. Награда сродни той, что была обещана
«асса-синам» в средневековой Персии. Американский еврей-фундаменталист поливает автоматным огнем мечеть в Хевроне и убивает двадцать
девять молящихся мусульман. Его могила превращается в место
паломничества его религиозных единомышленников. Израильский раввин
выносит смертный приговор лидеру своей страны в соответствии с
доктриной
религиозного
преследования.
В
Индии
индуистские
Фундаменталисты разрушают мусульманскую мечеть, простоявшую четыре
столетия, и громят мусульманские кварталы в Бомбее. В Кашмире и
Пенджабе бушуют религиозные войны, которым не видно конца...
В Соединенных Штатах христианские Фундаменталисты убивают врачей,
делающих аборты, пускают под откос поезда, требуют введения молитв в
школах для детей своих соседей независимо от их религиозных убеждений
(во имя нравственности я обязан контролировать поведение ближних),
взрывают федеральное здание в Оклахома-Сити, в развалинах которого
погибли 167 человек, в том числе 19 детей. Пресвитерианский священник,
убивающий врача, делающего аборты, знает, что «поступает правильно»15.
Бог обязал его убивать и обрек на мученичество.
Когда произошел взрыв в Оклахома-Сити, американцы сразу же приписали
его «мусульманским фундаменталистам», даже не зная еще, чьих рук это
дело, но они очень неохотно употребляли выражение «христианские
Фундаменталисты», узнав, кто это сделал. Арестованные были связаны с
мичиганским вооруженным формированием самообороны, организованным
двумя христианскими священниками (один из них — владелец оружейного
магазина), и называли себя «Армией Бога», объявившей войну федеральному
правительству из-за преследования другой христианской фундаменталистской секты, «Ветви Давидовой», [созданной] в [городе] Вако, штат
Техас. Еще одна группа называется «Завет, меч и рука Бога». Примечательно,
что христианская «Армия Бога» и шиитская мусульманская группа в Иране
пользуются одинаковой терминологией и сражаются с одним и тем же
врагом — правительством США, «великим Сатаной» и воплощением зла.
Подобные группы организуют «курсы выживания» — проводят учебные
стрельбы и учат жить среди дикой природы. Предсказывая гражданские
войны и расовые бунты, они утверждают, что Америке грозит опасность
иностранной интервенции со стороны войск ООН, но проповедуют, что «Бог
поможет некоторым (их членам) выжить и увидеть более совершенный мир».
В одном из их полевых уставов говорится даже, что «Иисус не возражал бы
против применения смертоносного оружия». Здесь очевидны параллели с
исламскими, индуистскими и буддистскими фундаменталистами, даже если
американцы не хотят этого признать.
Американцы не желают называть такие группы христианскими
фундаменталистами под тем предлогом, что «истинные христиане» никогда
бы не сделали того, что эти группы совершили. Поэтому христиане говорят о
них как об отдельных фанатиках, а не как об организованном христианском
фундаменталистском движении. Но правоверные мусульмане, евреи, индусы
и буддисты скажут то же самое о своих фундаменталистах. «Истинные»
мусульмане, евреи, индусы и буддисты тоже никогда бы так не поступили!
Все фундаменталисты, как и фундаменталисты-католики во времена
инквизиции, стремятся установить свою диктатуру в обществе.
Американский телевизионный проповедник-фундаменталист Пэт Робертсон
в своей книге 1991 года «Новый мировой порядок» утверждает, что
неопределенность мирской жизни в настоящее время есть «не что иное, как
новый мировой порядок для человеческой расы, где господствует Люцифер и
его свита»16. В своем «Контракте с американской семьей» он пишет, что
сорок миллионов американских избирателей-фундаменталистов должны
«сосредоточить усилия на искоренении морального разложения и
социального распада, вызванных тридцатилетней войной левых радикалов
против традиционной семьи и американского религиозного наследия»17. Это
отнюдь не проповедь демократического компромисса, а отражение взглядов
тех, кто верит, что ведет безжалостную войну с самим дьяволом. Если
человек победит в единоборстве с дьяволом, он должен вогнать кол в его
сердце.
Как и в случае «Контракта с Америкой», каждый из пунктов «Контракта с
американской семьей», навязываемого всему населению, прошел обкатку при
опросах общественного мнения, что дает возможность формулировать его
так, чтобы от 60 до 90% людей с ним согласились18. Другой вопрос, захотят
ли 60—90% американцев жить по этим правилам, когда они будут им
навязаны. С радикальными мерами против порнографии будут согласны все
до тех пор, пока не узнают, что подразумевается под порнографией.
Прежние правительства в Иране и Афганистане свергнуты, им на смену
пришли новые фундаменталисты. Многообещающий мирный процесс на
Ближнем Востоке замедлился. В Индии религиозные войны способствовали
центробежным тенденциям, способным расколоть вторую по численности
населения страну мира. В Турции возникает угроза существованию светского
государства, когда турки-мусульмане видят по телевизору, как в Боснии и
Чечне убивают их единоверцев, а христианский мир при этом бездействует,
— число фундаменталистов растет.
Тектонические сдвиги в экономике приводят к глубокому социальному
расколу между теми, кто хочет вернуться к старинным добродетелям, теми,
кто хочет наслаждаться новыми свободами, и теми, кто понимает, что
вчерашние ценности не могут стать истиной завтрашнего дня. Когда
равновесие нарушено, никто не может знать, какая модель социального
поведения обеспечит людям выживание и процветание. Но поскольку старые
модели, по всей видимости, не работают, необходимо опробовать новые,
экспериментальные модели.
Моральные ценности, если им еще суждено существовать, должны
способствовать успешному выживанию цивилизации. Истинные моральные
ценности (благодаря которым человечество смогло так долго существовать),
касающиеся, например, сексуального добрачного воздержания молодых
людей, не могут не измениться после изобретения противозачаточных
таблеток. Однако экспериментирование с новыми формами семьи, многие из
которых
окажутся
непригодными,
пугает
фундаменталистов,
предпочитающих верить в определенность и вечные истины. Но как найти
новые моральные ценности, которые помогут выживанию человечества, без
тревожащих многих экспериментов?
Электронные средства массовой информации преувеличивают серьезность
проблем при изображении нового образа жизни. Телепередачи интересно
смотреть именно по той причине, что они дают зрителю возможность думать
и мысленно экспериментировать с новыми стилями поведения, не рискуя
применить их на практике первыми и, возможно, сломать собственную
жизнь. По сути своей электронная пресса фактически не левая и не правая,
она за свободу выбора. Средства массовой информации проповедуют
доктрину, согласно которой людям должно быть позволено делать то, что
они хотят, без оглядки на социальные условности.
Однако, с точки зрения фундаменталистов, эти видео-стили жизни нужно
искоренить, поскольку то, что они демонстрируют, противоречит старым
моральным ценностям... В. душе фундамента -листы — социальные
диктаторы. Поскольку им известна верная дорога на небо, они считают своим
долгом заставить других следовать по ней. А раз это «правильно», то о
диктаторстве не может быть и речи. Поборники свободы личности, средства
массовой информации хотят, чтобы люди не вмешивались в дела своих
ближних; религиозные фундаменталисты считают своим долгом заставить
соседей «вести себя» подобающим образом.
В Соединенных Штатах христианские фундаменталисты представляют одну
из двух групп (вторая — белые мужчины со средним образованием), чьи
голоса обеспечили на выборах 1994 года абсолютную победу
республиканцев. В значительной мере эти две группы совпадают, и
неудивительно, что именно на долю белых мужчин со средним образованием
пришлось самое крупное сокращение заработной платы и именно они
лишились перспектив на будущее. Трое из каждых четырех
фундаменталистов голосовали в 1994 году за республиканцев, и в целом они
обеспечили им 29 процентов голосов19. Ни у кого не вызывает сомнений, что
выдвижение следующего республиканского кандидата в президенты во
многом будет зависеть от голосов христианских фундаменталистов.
Проявления политической напряженности в США, связанные с
фундаментализмом, наиболее отчетливо видны на примере республиканской
партии — партии, за которую голосует и большинство ревнителей свободы
личности, и большинство христианских фундаменталистов. Их союз
держится на неприязни к демократам, но если речь идет о регулировании
социального поведения, то трудно найти две более антагонистические
группы.
Люди вряд ли примут концепцию неограниченной свободы и
вседозволенности. Подобные ценности для них неприемлемы. Тем не менее
религиозные установки в их нынешнем виде также для них не подходят.
Только социальное экспериментирование способно определить, что нужно
людям, и именно оно более всего ненавистно фундаменталистам. Поэтому
нам придется еще не раз столкнуться с их террористическими актами.
Этнический сепаратизм, как и религиозный фундаментализм, характерен для
периодов экономической неопределенности. Если по данным статистики
валовой внутренний продукт в пересчете на душу населения растет, то жизнь
представляется беспроигрышной лотереей, где каждый может рассчитывать
на успех; но если у 80% работающих реальная заработная плата снижается,
как это происходит в Соединенных Штатах, то среднему человеку так не
кажется. Он [и подобные ему] все чаще встречают вокруг себя проигравших,
а не победителей. Мест с хорошей зарплатой на всех не хватает, у
большинства его соотечественников доходы падают, и он пребывает в
состоянии перманентной борьбы с ними за экономическое выживание.
Неудивительно, что многие люди, одновременно нуждаясь как в союзниках,
которые могли бы помочь им в этой борьбе, так и в противниках, у которых
можно отнять их хорошую работу, в период нарушенного равновесия
начинают симпатизировать этническим сепаратистам.
Те из нас, кто достиг совершеннолетия в годы «холодной войны», склонны
забывать, что периоды изменения национальных границ случаются гораздо
чаще, чем периоды их неизменности. С наступлением новой эпохи вернулось
и более естественное состояние границ. После падения Берлинской стены
образовались двадцать новых государств, а две страны — Восточная и
Западная Германия — стали единым целым. То, что в это время происходило
с границами, есть не конечный этап приспособления к краху коммунизма, а
лишь первые ростки новой национальной географии. Если где-то в мире
происходит изменение границ, это делает законным предположение о том,
что они могут измениться и в других местах.
Нации объединяет либо внешняя угроза, либо мощная внутренняя идеология,
какой и был коммунизм. При нем заставили жить вместе — и если не
любить, то хотя бы терпеть друг друга — такие народности, которые прежде
никогда вместе мирно не жили. Стоит, пожалуй, вспомнить, что в
послереволюционной России Сталин был народным комиссаром по делам
национальностей, подавлявшим этнические группы с помощью идеологии и
силы. «Коммунистический манифест» прямо отвергал идею национального
государства. Сегодня правители России и других [постсоветских] стран не
имеют в своем распоряжении ни силы, ни идеологии.
Коммунизм представлял собой мощную внешнюю угрозу, которая
удерживала этнические силы под контролем и в других странах. Если
региональные группы вступали в схватку друг с другом, дело кончалось тем,
что они становились добычей коммунистов. Северная лига — партия,
призывающая к разделу Италии на два государства (путем отделения, с их
точки зрения, богатой, экономически эффективной и честной северной части
полуострова от бедной, экономически неэффективной и бесчестной южной),
— не могла существовать в стране в годы «холодной войны», поскольку
голосовать за нее было равносильно победе коммунистов. Сегодня северяне
могут свободно говорить южанам, что они о них думают, а единство Италии
уже больше не цементируется «холодной войной».
Иногда, как в Югославии, коммунизм был и внутренней идеологией, и
внешней угрозой. Тито использовал как коммунистическую идеологию, так и
угрозу поглощения страны империей Кремля для убеждения воюющих ныне
этнических групп в том, что им следует держаться вместе, если они не хотят
погибнуть по отдельности. Когда коммунистические надежды внутри страны
угасли, а внешняя угроза поглощения Советами перестала существовать, эти
группы оказались вольны уничтожать друг друга — и они принялись это
делать, хотя со стороны продолжали казаться одним народом. Важно также
понять, что межэтническая рознь отнюдь не равнозначна религиозным
войнам XXI века, как это считает Самюэль Хантингтон. Национальное
государство — это явление XIX или XX столетий, и в большинстве случаев
трудно найти общее объясне- ние того, почему сегодня существуют те или
иные нации. Какой принцип разделения ни предложи, всегда найдется
контраргумент. Арабский мир, к примеру, разделен на множество стран,
несмотря на общий язык, близкие этнические корни и единую религию.
Сегодня имеют место не религиозные войны, а этническое и религиозное
расщепление, при этом этнические и религиозные расхождения настолько
незначительны, что нередко незаметны постороннему, даже если ему на них
указывают. Родство и общность — в сознании, а не в территории20. Вопрос
не в том, «кто мы», а в этом «мы», которое неизвестно почему существует.
Каталонцы и баски не хотят, чтобы ими управляли из Мадрида. Баски
подкладывают бомбы. А ведь все испанцы принадлежат к римскокатолической церкви. Канадская проблема коренится в языковых различиях,
а не в религиозных, хотя каждый здравомыслящий житель Квебека знает, что
он живет в англоязычной Северной Америке, где без английского не
сделаешь приличной карьеры, даже отделившись от Канады. Во Франции
бретонцы говорят о расширении местного самоуправления. Корсиканцы
склонны к более решительным действиям: в 1994 году они взорвали
четыреста бомб и убили сорок человек. Лейбористская партия предполагает
предоставить Уэльсу и Шотландии местную автономию, когда придет к
власти. Все это не религиозные проблемы.
Там, где однородные этнические группы живут в разных частях одной
страны, большие государства раскалываются или им угрожает раскол.
Пример тому Канада или Индия. В этнически однородных государствах,
таких, как Германия, иммиграция разрешается только по этническому
признаку, когда приходится доказывать, что ваша бабушка была немкой, а не
[то, что вы пользуетесь] законным правом беженца. Этнические государства
(Словения, Израиль, Иран, Армения, Словакия, Республика Чехия,
Афганистан, Македония) растут как грибы после дождя. Там, где не удается
их создать, вспыхивают войны (Босния, Хорватия, Грузия, Нагорный
Карабах, Руанда). Ненавистный сосед при этом часто исповедует ту же
религию. Там, где этническая однородность географически не существует,
раздаются требования этнической чистки, даже если этого термина пытаются
избегать (страны Балтии, бывшая Югославия, мусульманские и христианские
республики бывшего СССР, в числе последних — Грузия и Армения).
В Соединенных Штатах те же требования проявляются не как
территориальный сепаратизм, а как требование специальных этнических квот
и привилегий. Теперь каждый может требовать признания себя членом
какого-либо меньшинства и, соответственно, особого к себе отношения.
Узкие группы (защитники окружающей среды, инвалиды) ныне доминируют
в политическом процессе. Глухая Мисс Америка критикуется другими
глухими американцами за то, что она говорит, а не пользуется языком знаков,
который делал бы ее физический недостаток очевидным. Все хотят
отличаться от белого мужского большинства и получить гарантированный и
законный статус «меньшинства». В ответ белое мужское «большинство»
стремится покончить в стране со всеми специальными привилегиями.
Не видно, чтобы в Соединенных Штатах продолжал действовать старый
плавильный тигель или что люди хотели бы, чтобы он действовал. Белые
граждане Калифорнии проводят референдумы о преследовании небелых
иммигрантов, независимо от того, легальные они или нет. Групповое
самосознание теперь часто определяется тем, кого вы хотите выслать из
страны и отправить домой21.
Все это происходит в мире, где, казалось бы, глобальные средства
коммуникации должны сближать народы по мере того, как все овладевают
общей электронной культурой, и где многие готовы пожертвовать частью
национального суверенитета ради приобщения к крупным региональным
экономическим и торговым группам, вроде Европейского сообщества.
Однако без идеологической подпитки и в отсутствие внешней угрозы
совместная жизнь становится все более трудной.
Без внешнего врага, без господствующей идеологии, которую надлежит
пропагандировать или защищать, национальные государства, как учит
история, скатываются к конфронтации с соседями. Существующие границы
оспаривались, оспариваются и будут оспариваться. Война между Боснией и
старой Югославией в самом разгаре. Отголоски межэтнических конфликтов
слышны в Чехословакии, Чечне, Армении, Азербайджане и Грузии.
Возможно, они ошу- щались и во многих других местах (Уэльс, Квебек,
Каталония, Корсика) и еще проявятся в последующие годы (Африка, Индия).
Мировая общественность не станет вмешиваться, чтобы остановить эти
конфликты. Людям в других странах неприятно видеть подобные события на
телеэкране, но еще меньше они хотят смотреть на то, как гибнут их солдаты.
Политики давно поняли, что временной диапазон общественного внимания
очень краток. Люди хотят, чтобы каждая новая проблема была как-то
решена, но волнует их это в течение весьма недолгого времени.
Если нет ни сильной внутренней идеологии, ни непосредственной внешней
угрозы, нации распадаются на противоборствующие этнические, расовые или
классовые группы. Люди говорят о возрождении фашизма не потому, что
где-то собираются прийти к власти фашистские правительства, но потому,
что он был крайним проявлением доктрины этнического превосходства и
практики этнических «чисток». Гитлер потому и ненавидел Америку, что она
представляла собой плавильный тигель без чистых расовых характеристик.
Термиты этнической однородности подтачивают здание общества почти
повсеместно.
Почему бы не разбиться на племенные этнические группы и положить конец
этой проблеме? Такие чувства получили право на существование благодаря
современной мировой экономике. Все теперь понимают: не обязательно быть
крупной хозяйственной системой с обширным внутренним рынком, чтобы
преуспеть. Города-государства, вроде Гонконга и Сингапура, процветают.
Это раньше полагали, что раскол государства на мелкие составные части
влечет снижение уровня жизни, теперь же все знают, что это не так: можно
жить в одиночку и не кооперироваться с другими этническими группами и
иметь высокий жизненный уровень. С осознанием этого исчезла одна из
издавна существовавших преград на пути этнической вражды.
Одни и те же новые технологии создают мир, где ценности и экономика,
многократно взаимодействуя между собой, производят нечто совершенно
новое. Впервые культура формируется электронными средствами массовой
информации, ориентированными на максимальные прибыли. Никогда
прежде общество не допускало, чтобы коммерческий рынок практически
полностью определял их ценности и ролевые модели. В связи с тем, что
число зрителей увеличивается и они проводят все больше времени у экранов,
телевидение становится всепроникающей культурной силой, которой
никогда не существовало раньше. Кино — это современная форма искусства.
Глава эстрадной группы «Бостон Попе» уходит со сцены, чтобы писать и
исполнять музыкальное сопровождение для кинофильмов, потому что
считает, что именно там — массовая аудитория.
Телевидение и кино заменили семью в деле формирования ценностей.
Средний американский подросток смотрит телевизор двадцать один час в
неделю, проводя пять минут в неделю наедине с отцом и двадцать минут — с
матерью. К тому времени, как ребенок становится подростком, он (или она)
уже видел на экране 18 тыс. убийств. Средний американец старше
восемнадцати лет смотрит телевизор не меньше подростка — восемнадцать
часов в неделю — и, по-видимому, в той же степени находится под его
влиянием. Можно спорить по поводу того, насколько насилие на экране
приводит к насилию в жизни и что происходит, когда количество
телевизионных убийств в час удваивается, но одно не вызывает сомнений —
наши ценности находятся под огромным влиянием того, что мы видим на
экране. Пожалуй, не приходится удивляться, что общее число убийств
уменьшается, тогда как среди молодежи оно растет.
Когда в начале 1995 года мы со старшим сыном были на сафари в
Саудовской Аравии, мы наткнулись в пустыне на палаточный лагерь
бедуинов и стадо верблюдов. Бедуины находились за много миль от
ближайшей дороги и линий электропередачи, но у них была спутниковая
антенна и электрогенератор. Они смотрели по телевидению то, что смотрим
мы с вами. Таков современный мир.
Мир письменных средств связи, существовавший со времен распространения
грамотности, базируется на линейных логических аргументах, которые
следуют один за другим, причем последующий исходит из предыдущего.
Эмоциональное воздействие письменного слова гораздо слабее, чем
воздействие телеэкрана. Телевидение во многих отношениях отбрасывает нас
назад, в мир неграмотности. Ценится визуальное воздействие на эмоции и
страхи, а не привлекательность строгой логики мысли.
Логическое воздействие возможно и с помощью электронных СМИ, но они
гораздо больше подходят для пробуждения эмоций, чем для передачи
логической информации. Человеку приходится учиться читать. Это требует
труда, времени и расходов. Учиться смотреть телевизор не нужно. Это не
требует усилий. Разница очень велика. Словарный запас тех, кто выступает
по телевидению, все время сужается, и одновременно сужается лексикон тех,
кто его смотрит. Отход от письменного слова изменяет сам способ нашего
мышления и принятия решений. Сегодня немыслимы знаменитые ораторы и
речи древней Греции и Рима. То же можно сказать о выдающихся
американских ораторах и знаменитых речах. Великие дебаты о рабстве
между Кэлхауном и Уэбстером или геттисбергская речь Линкольна ныне
просто невозможны.
Письмо медленно сменяло риторику, поскольку распространение
письменного слова требовало всеобщей грамотности, и происходило это
постепенно на протяжении тысяч лет после изобретения письма.
Электронные СМИ будут обладать той же силой воздействия, что и письмо,
но произойдет это гораздо стремительнее, так как никому не придет в голову
«учиться» смотреть кино или телевизор. Новое средство более вербально и
эмоционально, но оно отличается от непосредственного контакта в условиях
неграмотной деревни. Это словесный и эмоциональный контакт,
контролируемый не старейшинами деревни или семьями, но лишь теми, кто
хочет делать деньги, а это нечто совсем иное.
Негативная политическая реклама в Соединенных Штатах четко
иллюстрирует конфликт между рациональной мыслью и эмоциями. Зрителям
не нравится такая реклама. Они считают, что она искажает политический
процесс и прививает циничное отношение ко всем политикам вообще. Тем не
менее негативная политическая реклама действует — с ее помощью
выигрываются выборы. То, что публика отвергает логически, она принимает
эмоционально. Неудивительно, что политики используют средство,
способное повлиять на голосование, и не слушают то, что говорят об этом
люди. И то, и другое реально. Негативная реклама действует, но
одновременно превращает граждан в циников, верящих, что все политики
продажны и нечисты на руку.
Телевизионные камеры показывают Горбачева, а перед глазами людей во
всем мире по-прежнему стоит площадь Тяньаньмэнь. Недоступные для
телевизионного репортажа ужасы Камбоджи и Бир- мы как бы не
существовали, пока их не показали в кино — «Поля смерти» и «По ту
сторону от Рангуна». Мировые лидеры не могут игнорировать Боснию,
потому что по телевизору все время показывают репортажи из этой страны.
Для понимания и предвидения человеческих поступков то, что в
телевизионной культуре считается правдой, часто гораздо важнее реальной
правды. Приведем такой пример: в последние годы количество убийств в
американских городах стало снижаться (в некоторых городах даже очень
резко, как, например, в Нью-Йорке), а в таком городе, как Бостон, вообще
упало до уровня тридцатилетней давности, но телерепортажи убедили почти
всех, что число убийств резко растет. Ощущение того, что криминальная
волна нарастает, заставило людей требовать от властей принятия конкретных
мер. На референдуме в Калифорнии в 1994 году была одобрена реформа
тюремных наказаний. Показываемая на экране преступность стала более
реальной, чем сама действительность. Эта нереальная «реальность» вызвала
такую озабоченность населения, что бюджеты калифорнийских
университетов сократились, а тюремные разбухли. Но если взглянуть на
ситуацию трезво, то никакой волны уличных преступлений, совершаемых
людьми старшего возраста, не наблюдалось. Этот закон — своего рода
пенсионная система для пожилых правонарушителей. Число студентов
сокращается, число обитателей тюрем растет. К 1995 году тюремные
бюджеты в Калифорнии вдвое превысили университетские, а расходы штата
на одного заключенного в четыре раза выше, чем на одного студента.
В кинофильмах, подобных «Джефферсону в Париже» или «Па-кахонтас»,
люди теряют нить — что исторически реально, а что вымысел. Была ли у
Джефферсона чернокожая любовница? Сколько лет было Пакахонтасу? Были
ли американские индейцы прирожденными защитниками окружающей
среды? Поскольку все знают, что показанное в этих фильмах будет
восприниматься как историческая правда, даже если она таковой не является,
и даже если создатели этих фильмов не претендуют на отражение фактов,
картины эти можно назвать по меньшей мере противоречивыми.
Средства массовой информации становятся светской религией, в
значительной мере заменяющей общую историю, национальную культуру,
истинную религию, семью и друзей в качестве главной силы, создающей
наше представление о действительности. Но средства массовой информации
— это не Распутин с тайными или от- крытыми политическими целями. Они
не занимают левые или правые позиции, не имеют всеобъемлющей
идеологии или программы. Их можно отвергать, как [делал]
республиканский кандидат в президенты Боб Доул («Мы достигли такой
точки, когда наша массовая культура грозит подорвать наш национальный
характер, [плодя] кошмары разврата»), но обличения бессмысленны,
поскольку средства массовой информации не контролируются какой-либо
личностью или группой людей. Они просто предоставляют то, что
покупается — и приносит максимальный доход. Если ведущий ток-шоу
правой ориентации имеет высокий рейтинг, он получит эфир. Если ведущий
левой ориентации достигнет более высокого рейтинга, первого снимут с
эфира.
Продается скорость и моментальное удовольствие — телепрограмма должна
уложиться в тридцать минут, кинофильм — в два часа, и то, и другое должно
быть динамичным в переходе от эпизода к эпизоду. Личное потребление
превозносится в качестве главной задачи, а самореализация — как
единственная законная цель. Для телегероя не существует смерти и любых
реальных границ, не существует долга или самопожертвования, у него нет
роли в обществе, нет общепринятого понятия о добре; любые его действия
объявляются
законными,
чувства,
а
не
поступки,
должны
продемонстрировать ценности. Чувствуй, не думай. Общайся, но не связывай
себя обязательствами. Будь циничным, потому что все герои в конечном
счете выглядят дураками. «Свобода от» не подразумевает «обязательств
перед». Любые общественные организации, правительство в том числе, не
обязательны и существуют только для того, чтобы обеспечить личности
средства достижения ее личных целей. Если зрителю это не нравится (что бы
ни подразумевалось под словом «это»), средства массовой информации
советуют ему (ей) уйти из кинозала или выключить телевизор. В [этом
иллюзорном] мире никто не работает, не считая полицейских и торговцев
наркотиками. Это мир потребления без производства. Ничего не нужно было
производить раньше, чтобы потреблять теперь, ничего не надо производить
теперь, чтобы обеспечить потребление в будущем. Капиталовложений просто
не делается. А ведь экономике для выживания требуются инвестиции в
будущее.
Капиталистическая культура и телевизионная культура идеально подходят
друг другу, потому что и та, и другая заняты деланием денег. Но их ценности
не гармоничны. Одна должна быть устремле- на в будущее, другая не видит
его таким, ради которого стоило бы приносить жертвы сегодня. Изменить
содержание средств массовой информации можно, лишь убедив граждан, что
воспринимаемое ныне как нечто скучное на самом деле интересно, но
сделать это очень сложно. Трудно даже представить, как можно сделать
захватывающий телефильм о человеке, терпеливо во многом себе
отказывающем ради будущего. В середине века писались книги о том, как
средства коммуникации приведут к тоталитарному контролю над мыслями,
но в действительности все произошло наоборот, Современные электронные
технологии содействуют радикальному индивидуализму, а массовая культура
контролирует национальных лидеров в гораздо большей степени, чем
национальные лидеры управляют ею. Электронные средства массовой
информации изменяют систему ценностей, а они в свою очередь изменят
природу нашего общества.
* - Weizsaecker E., van, Lovins A.B., Lovins L.H. Factor Four. Doubling Wealth
— Halving Resource Use. L., Earthscan Publications Ltd., 1997. Copyright —
Weizsaecker E., von, Lovins А. В., Lovins L.H. 1997. Текст воспроизводится с
согласия Э. фон Вайцзеккера.
1 - См.: Meadows D.H., Meadows D.L, Randers J. Behrens III, W.W. The Limits
to Growth. N.Y., 1972.
2 - Мы называем так эту модель потому, что существовали также модели
World 1 и World 2. World 1 была первоначальной версией, разработанной
профессором Массачусетсского технологического института Дж.Форестером
в рамках проводившегося Римским клубом исследования взаимозависимости
между глобальными тенденциями и глобальными проблемами. World 2
является окончательной документированной моделью, представленной
профессором Дж.Форестером в книге: Forester J. World Dynamics. N.Y., 1971.
Модель World 3 была создана на базе World 2, в первую очередь как
следствие изменения ее структуры и расширения количественной базы
данных. Мы должны отметить, что профессор Дж.Форестер является
безусловным вдохновителем данной модели и автором используемых в ней
методов.
3 - См.: Meadows D.H., Meadows D.L., Renders J. Behrens III, W.W. The Limits
to Growth. P. 24.
4 - Vargish Th. Why the Person Sitting Next to You Hates Limits to Growth //
Technological Forecasting and Social Change. Vol. 16. 1980. P. 187-188.
5 - См.: Pipes D. In the Path of God: Islam and Political Power. N.Y., 1983. P.
102-103, 169-173.
6 - [Автор приводит слова византийской принцессы Анны Комнин].
Цитируется по кн.: Armstrong К. Holy War: The Crusades and Their Impact on
Today's World. N.Y., 1991. P. 3-4, и Toynbee A. Study of History. Vol. VIII. L,
1954. P. 390.
7 - Buzan B.G. New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century //
International Affairs. No 67. July 1991. P. 448-449.
8 - Lewis В. The Roots of Muslim Rage: Why So Many Muslims Deeply Resent
the West and Why Their Bitterness Will Not Be Easily Mollified // Atlantic
Monthly. No 266. September 1990. P. 60.
9 - Mohamed Sid-Ahmed. Cybernetic Colonialism and the Moral Search // New
Perspectives Quarterly. No. 11. Spring 1994. P. 19; [мнение индийского
политического деятеля М.Дж.Акбара цитируется no) Time. 1992. June 15. Р.
24; [позиция тунисского правоведаАбдельвахаба Бёльваля представлена в]
Time. 1992. June 15. Р. 26.
10 - McNeil W.H. Epilogue: Fundamentalism and the World of 1990's; Marty
M.E., Scott Appleby R. (Eds.) Fundamentalisms and Society; Reclaiming the
Sciences, the Family, and Education. Chicago, 1992. P. 569.
11 - Mernissi F. Islam and Democracy: Fear of the Modem World. Reading (MA),
1992. P. 3, 8, 9, 43-44, 146-147.
12 - Подборка подобных высказываний приведена в журнале «Economist».
1992. August 1. Р. 34-35.
13 - См.: International Herald Tribune. 1994. May 10. Р. 1, 4.
14 - Ayatollah Ruhollah Khomeini. Islam and Revolution. Berkeley (CA), 1981. P.
305.
15 - Economist. 1991. November 23. Р. 15.
16 - Keynes J.M. The General Theory of Employment, Interest, and Money. P. 42.
<%page 425>
17 - Сейчас луддитами стали называть всех, кто выступает против
технического прогресса, в то время как изначально луддиты (названные так
по имени выдуманного ими мифического предводителя, короля Лудда из
Шервудского леса) разрушили текстильные станки в знак протеста как
против низкой заработной платы и тяжелых условий труда, так и против
технических нововведений.
18 - См.: Somban W. Der modeme Kapitalismus. Muenchen und Leipzig, 1924. S.
23, 40, 91, 180, 319.
19 - См., напр.: Dopsch A. Naturalwirtschaft und Geldwirtschaft in der
Weltgeschiehte. Wien, 1930. S. 1-23.
20 - См.: Veblen Th. The Theory of Business Enterprise. N.Y., 1994.
21 - Сен-СимонА., де. Катехизис промышленников. С. 153.
Оглавление
Новая постиндустриальная волна на Западе
Оглавление
Джон К.Гэлбрейт. Справедливое общество. Гуманистический взгляд
Джон Кеннет Гэлбрейт родился 15 октября 1908 года в поселке Айона
Стэйшя в канадской провинции Онтарио. С 1927 по 1936 год он учился
последовательно в университетах Торонто, Беркли (где получил докторскую
степень в 1934 году) и Кембриджа (Великобритания). Большая часть жизни
профессора Гэлбрейта связана с Гарвардским университетом, в котором он
работал более шестидесяти лет — с 1934 года по 1939, с 1949 по 1961 и с
1963 года по сей день, занимая должности от стажера до почетного
профессора.
Научная карьера Дж. К. Гэлбрейта сочеталась с активной административной
и политической деятельностью. С 1941 по 1943 год он занимал пост
заместителя председателя Комиссии по регулированию цен, после окончания
второй мировой войны был назначен директором отдела экономической
безопасности Государственного департамента США, был личным
советником президента Дж. Ф.Кеннеди и послом в Индии с 1961 по 1963 год,
в 1'967—1968 годах избирался председателем национального Объединения в
защиту демократии, в 1971 году — президентом Американской
экономической ассоциации, а с 1984 по 1987 год являлся председателем
Совета Американской академии наук и искусств. Он кавалер
многочисленных американских и зарубежных наград, почетный профессор
более тридцати университетов, командор Ордена Почетного Легиона.
Перу Дж. К.Гэлбрейта принадлежат более сорока книг, изданных в 50
странах мира. Большинство из них посвящены экономическим и
социологическим проблемам и пользуются огромным успехом в первую
очередь в силу их междисциплинарного характера и стиля изложения,
позволяющего даже неподготовленному читателю адекватно воспринять
авторскую концепцию. Среди наиболее известных его экономических работ
следует выделить «Американский капитализм» [1952], «Великий крах»
[1955], «Общество изобилия» [1958], «Новое индустриальное общество»
[1967], «Эпоха неопределенности» [1976], «История экономической науки:
прошлое как настоящее» [1987], «Культура удовлетворенности» [1992],
«Справедливое общество» [1996]. Им также написаны три романа, книга
«Записки посла» [1969], автобиографическая работа «Жизнь в наше время»
[1981] и ряд глав в коллективной монографии «Индийская живопись» [1969].
Профессор Гэлбрейт женат и имеет троих сыновей. Он живет в Кембридже,
штат Массачусетс.
Книга «Справедливое общество» (1996) вряд ли может быть названа
экономическим исследованием в собственном смысле этого слова. В ней
нашли отражение скорее политические и социальные идеалы автора, нежели
конкретные результаты анализа хозяйственных реалий. Книга, состоящая из
восемнадцати глав, написана в отчасти публицистической манере и
представляет читателю взгляд автора на реформированное общество эпохи
постиндустриализма. Он пишет здесь о судьбах государственного
регулирования экономики и методах борьбы с инфляцией, о допустимом
социальном и имущественном неравенстве. Дж. К.Гэлбрейт касается
широкого спектра социальных и политических проблем, среди которых
особо выделяются меняющаяся роль личности в современном мире,
расслоение общества по образовательному признаку, взаимоотношения
развитых постиндустриальных стран с государствами третьего мира,
экологическая опасность и так далее.
Эта книга представляет значительную ценность в первую очередь как
достаточно комплексное и вместе с тем сжатое изложение со- циального
кредо, присущего тому поколению современных американских социологов,
которое стояло у истоков постиндустриальной концепции. Заслуживает
особого внимания то обстоятельство, что в книге профессора Гэлбрейта
отсутствует элемент надрыва, столь характерный для многих
социологических исследований 70-х и 80-х годов. Несмотря на
многочисленные критические замечания в адрес существующей сегодня
хозяйственной и политической системы, автор убежден в достижимости
описываемого им идеального состояния, в том, что именно к нему
естественным образом подводят современные тенденции экономического
прогресса. Хотя сформулированные в книге положения и не могут быть
названы примером непосредственного исследования хозяйственных
процессов, они основываются на результатах анализа, проведенного автором
в целом ряде более ранних работ.
Будучи не в состоянии дать российскому читателю представление о каждой
из глав, мы остановили наш выбор на главах 3 («Эпоха практицизма») и 5
(«Распределение доходов и власти»). В ходе нашей личной встречи в
Кембридже в марте 1998 года профессор Гэлбрейт предложил также
включить в публикуемый в России сборник заключительную часть главы 10
(«Основные принципы социального регулирования»), что мы с
удовольствием делаем (эти отрывки соответствуют стр. 14—22, 59—67 и
77—81 в издании Houghton Mifflin). СПРАВЕДЛИВОЕ ОБЩЕСТВО
ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД*
С древних времен и по сей день к экономике подходят с позиций идеологии.
Любое экономическое явление снабжается идеологическим ярлыком. Мы
говорим о либерализме, социализме или капитализме; называем того или
иного деятеля либералом, социалистом или приверженцем системы
свободного предпринимательства. Одни выступают за государственную
собственность, другие, как это модно в последние годы, — за приватизацию.
Таковы идеологические категории, определяющие нашу жизнь.
Однако сегодня наиболее жаркие споры ведутся вокруг величайшего
заблуждения. В условиях современной экономической и политической
системы определение понятий с идеологических позиций представляет собой
попытку ухода от необходимости осмысливать то или иное явление, подмену
конкретного решения в конкретной ситуации расплывчатыми, расхожими
фразами. Чтобы доказать это, достаточно обратиться к самым простым
примерам, взятым из реальной жизни.
Цели и задачи справедливого общества очевидны — обеспечивать
эффективное производство товаров и оказание услуг, а также распоряжаться
полученными от их реализации доходами в соответствии с социально
приемлемыми и экономически целесообразными критериями. Не подлежит
сомнению, что современная рыночная экономика обеспечивает производство
потребительских товаров и услуг высокого качества и даже в чрезмерных
объемах. Она не только в изобилии создает самые разнообразные товары —
продукты питания, одежду, мебель, автомобили, развлечения, но и формирует потребность в них. Одна из самых заветных идей традиционной
экономической науки — суверенитет потребителя, и этот суверенитет в
немалой степени страдает сегодня от тех, кто призван обслуживать
потребителя. Самое убедительное доказательство справедливости этого
утверждения — современная система рекламы и сбыта товаров. Экономисты,
которые способны стойко придерживаться традиционных взглядов, просто не
смотрят телевизор.
Производство потребительских товаров и услуг расширяется и процветает, и
совершенно не имеет смысла в какой бы то ни было форме передавать
соответствуюущую функцию государству. Ведь именно информация о
изобилии и разнообразии материальных благ в странах Запада, дошедшая до
жителей стран Восточной Европы и бывшего Советского Союза благодаря
телевидению и другим современным средствам связи, в немалой степени
способствовала разрушению коммунистических режимов в этих
государствах. Неспособность социалистических экономик обеспечить своих
граждан необходимым количеством товаров и услуг, быстро реагировать на
изменения в потребительских предпочтениях сыграли немалую роль в
крушении этих систем. Высказываться в пользу государственной
собственности в условиях изобилия потребительских товаров — нелепая
блажь; столь же нелепо пытаться убедить в достоинствах социализма
производителей техники и оборудования — средств производства, —
которые обеспечивают это изобилие.
Однако больший интерес для общественности представлял аргумент,
который традиционно приводился в пользу социализма. Этому аргументу,
связанному с вопросом о власти, и по сей день придают важное значение на
периферии общественной мысли. Частная собственность на капитал, на
средства производства; занятость рабочих на частных предприятиях и
возможность таким образом управлять ими; личное состояние, возникающее
на этой основе; тесная связь с государством — когда-то это, вне всякого
сомнения, действительно открывало доступ к огромной власти. В
«Манифесте коммунистической партии» Маркс и Энгельс утверждали (и это
не было большим преувеличением), что «исполнительная власть
современного государства есть не более чем комитет по управлению делами
буржуазии».
Никто не оспаривает того, что власть по-прежнему находится у
собственников капитала. Но в современных условиях, когда возникли
огромные по масштабам коммерческие предприятия, соб- ственник, как
правило,
не
занимается
управлением
и
контролем.
Великие
предприниматели, одновременно владевшие капиталом и управлявшие им,
— американцы Вандербильт, Рокфеллер, Морган, Гарриман и их собратья в
других странах — остались в прошлом. Вместо них появилась огромная и
зачастую косная армия корпоративных чиновников, а наряду с ней — масса
акционеров, имеющих финансовую заинтересованность в деятельности
компаний, но лишенных возможности влиять на принятие решений. Власть
монополий — эксплуатация потребителя посредством цен, не сдерживаемых
конкуренцией, ставшая когда-то объектом антимонопольных законов в
США, — отошла на второй план под давлением международной
конкуренции и стремительного развития техники. То, что сегодня
обеспечивает ведущие позиции и экономическое влияние, уже завтра
устареет. Если еще не так давно нередко высказывалась озабоченность по
поводу могущества крупных компаний, то сегодня многие обеспокоены
состоянием застоя и некомпетентностью их руководства. Часть энергии,
которую управляющие прежде тратили на эксплуатацию рабочих и
потребителей, сегодня направляется на завоевание, сохранение или
совершенствование собственного положения в компании или, точнее сказать,
на обеспечение личных доходов. Стремление к их увеличению —
общепризнанная мотивация к труду — распространяется и на успешно
работающих руководителей корпораций.
Все это не означает, что капитал утратил политическую власть, то есть
возможность оказывать влияние на государство и на общество в целом.
Коммерческие фирмы — как крупные, так и малые, как по отдельности, так и
совместно в масштабах целых отраслей — достаточно решительно и
эффективно выражают свои экономические интересы в рамках современной
системы государственного устройства. Но сегодня они представляют лишь
часть широкого сообщества субъектов, имеющих политический голос и
влияние, сообщества, которое возникло благодаря экономическому
прогрессу.
Когда-то помимо класса капиталистов существовали лишь пролетариат,
крестьянство и помещики. Эти классы, за исключением землевладельцев,
занимали подчиненное положение и безропотно молчали. Сегодня есть еще
ученые, студенты, журналисты, телевизионные ведущие, юристы и врачи, а
также многие другие профессиональные группы. Все они претендуют на
определенное влияние, и поэтому сегодня голос предпринимателей — лишь
один из многих. Те, кто хотел бы выделить этот голос для того, чтобы
доказать преимущества системы государственной собственности, давно
стали достоянием истории. Да и реальный опыт тех стран, в которых
государственная собственность господствовала на протяжении восьмидесяти
лет, — СССР, стран Восточной Европы, Китая — вовсе не дает оснований
полагать, что такая система способствует расширению гражданских свобод.
Скорее наоборот. Таким образом, главный аргумент в пользу социализма
растаял, и этот факт получил широкое признание. Социалистические партии
по-прежнему существуют, но ни одна из них не выступает за установление
системы государственной собственности в традиционном и полном смысле
этого понятия. Четвертый пункт программы лейбористской партии
Великобритании, в котором выражалась поддержка подобной политики, и
раньше считался неким романтическим отголоском прошлого, а теперь его и
вовсе вычеркнули из программы.
Итак, социализм уже нельзя признать образцовой моделью не только
справедливого общества, но даже общества просто привлекательного, — но и
капитализм в его классическом виде такой не является. Главное значение
имеет тот факт, что с развитием и ростом современной экономики на
государство возлагается ответственность за выполнение все большего числа
функций и обязанностей. Прежде всего, существуют некоторые виды услуг,
которые частная экономика — просто в силу своей природы — не может
предоставить и которые, по мере хозяйственного прогресса, приводят к
постоянно растущей и все более уродливой диспропорции между
стандартами качества жизни, принятыми в частном и общественном
секторах. На производство телепередач тратятся огромные частные средства,
но эти передачи смотрят дети, которые учатся в плохих государственных
школах. В респектабельных районах города можно увидеть красивые дома,
которые содержатся в чистоте и порядке, а перед ними — грязные тротуары.
В магазинах продается огромное количество книг, а в публичных
библиотеках на полках пусто.
В то же время для обеспечения эффективного функционирования частного
сектора хозяйства требуется выполнение целого ряда разнообразных
государственных функций. С ростом экономики эти функции приобретают
все большее значение. Развитие торговых операций требует строительства
новых автомобильных дорог; рост мас- штабов потребления требует
активизации деятельности по удалению отходов; для расширения объемов
авиаперевозок требуется строительство новых аэропортов, оснащенных
современным оборудованием и укомплектованных соответствующим
персоналом для обеспечения безопасности полетов.
С повышением уровня экономической активности особое значение
приобретают вопросы более эффективной защиты граждан и коммерческих
предприятий. Пока не появились шоссейные дороги и автотранспорт, не
было необходимости в дорожной полиции. Питание населения становится
все более разнообразным, и людей начинает беспокоить избыток калорий в
продуктах, ведущий к ожирению. В наши дни появилась необходимость
указывать на упаковке подробный состав ее содержимого, регулировать
применение пищевых добавок и принимать меры по предотвращению
возможного заражения продуктов питания. Повышение жизненного уровня и
возможность более полно ощущать радость жизни приводит к тому, что
люди стремятся оградить свое здоровье и саму жизнь от некоторых опасных
явлений, связанных с существованием человека, которые прежде
воспринимались как нормальные и вполне допустимые. С развитием
экономики социальные меры и государственное регулирование становятся
все более важными, несмотря на то что социализм в классическом
понимании утрачивает свое значение.
Следует добавить, что без вмешательства государства современная
экономика не может функционировать нормально и стабильно. Пагубные
последствия для нее имеют чрезмерная спекулятивная активность, тяжелые и
длительные кризисы и депрессии. По поводу того, какие именно действия
необходимо предпринимать, чтобы управлять этими процессами, ведутся
горячие споры, но мало кто сомневается в том, что это — задача государства.
Любой президент и премьер-министр знает, что во время выборов с него со
всей строгостью спросят за состояние экономики, и не всем удается
выдержать этот экзамен.
После того как идея всеобъемлющего социализма утратила свое значение в
качестве приемлемого и действенного идеологического учения, возникла
противоположная доктрина, правда, не имеющая столь широкого
распространения. Речь идет о приватизации — возврате государственных
предприятий и функций в руки частных владельцев и предпринимателей — и
переходе к рыночной эконо- мике. В качестве общего правила всеобщая
приватизация сегодня так же неприемлема, как и социализм. Существует
огромная область хозяйственной деятельности, в которой роль рыночных
механизмов не подлежит сомнению и не должна оспариваться; но есть и не
менее обширная, постоянно разрастающаяся по мере повышения уровня
экономического благосостояния, область, где услуги и функции государства
или жестко необходимы, или представляются весьма целесообразными с
социальной точки зрения. Поэтому приватизация в качестве основного
направления государственной политики ничуть не лучше социализма. И в
том, и в другом случае главная цель идеологии — дать возможность уйти от
необходимости думать. В справедливом обществе при решении подобных
вопросов действует одно главное правило: в каждом конкретном случае
решение должно приниматься с учетом конкретных социальных и
экономических условий. Мы живем не в эпоху доктрин, а в эпоху
практических решений.
В развитии современной социальной и хозяйственной систем существуют
тенденции, влияющие на государственную политику и необходимость
принятия тех или иных мер со стороны государства. Рыночная экономика,
столь
эффективно
обеспечивающая
производство
необходимых
потребительских товаров и услуг, ориентируется на относительно быстрое
получение прибыли; эта прибыль и является мерилом ее успеха. В
долгосрочные проекты капиталы инвестируются неохотно, а то и вовсе не
вкладываются. Недостаточно средств выделяется для предотвращения
неблагоприятных социальных последствий, связанных с производством или с
производимой продукцией, например предприниматели не стремятся брать
на себя ответственность за экологический ущерб.
Имеется и множество других примеров государственных инвестиций в
проекты, выходящие за временные рамки деятельности частных фирм.
Современная реактивная авиационная техника является в значительной
степени продуктом научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ в области обороны. Немало открытий в области медицины сделано в
результате исследований, проводившихся при поддержке государства; в
условиях ограничений по времени и затратам, в которых действуют частные
фирмы и исследователи, осуществить такие разработки просто невозможно.
В современную эпоху наиболее впечатляющий рост производительности
труда достигнут в сельском хозяйстве. Он также стал возможен во многом
благодаря участию государства — так, в США существует система
сельскохозяйственных колледжей, поддерживаемых государством за счет
доходов от специально выделенных для этих целей земель; широко развита
сеть экспериментальных станций, находящихся в ведении федерального
правительства или властей штатов; фермеры получают помощь
квалифицированных агротехников через специальную службу министерства
сельского хозяйства.
Бурный экономический рост в Японии после окончания второй мировой
войны во многом обусловлен исследовательской и инвестиционной
деятельностью, осуществляемой при широкой поддержке государства, и это
воспринимается как совершенно нормальное явление. Да и в любой стране
развитие экономики зависит от государственного финансирования
шоссейных дорог, аэропортов, почтовой службы и разнообразных объектов
городской инфраструктуры.
Из сказанного можно сделать следующий вывод: в справедливом и разумном
обществе стратегия и действия не подчинены идеологическим доктринам.
Действия должны основываться на анализе преобладающих фактов и
обстоятельств
каждого
конкретного
случая.
Приятно,
конечно,
демонстрировать с чувством глубокого удовлетворения свое экономическое
и политическое кредо: «я являюсь твердым приверженцем системы
свободного предпринимательства», или «я всецело поддерживаю
социальную роль государства», — однако, повторяю, подобные
высказывания означают уход от необходимости серьезно размышлять над
этими проблемами в область пустых разглагольствований.
Все эти соображения являются особенно актуальными в последние годы.
Республиканское большинство, пришедшее к власти в Конгрессе США по
итогам выборов 1994 года, сплошь состояло из стойких приверженцев
чрезвычайно жесткой доктрины, известной под названием «Контракт с
Америкой», которая стала современным эквивалентом «Манифеста
коммунистической партии» — если не по содержанию, то, во всяком случае,
по духу. Итак, возобладала идеология, направленная в первую очередь
против государства, но оставлявшая в его ведении ряд функций — оборону,
социальное обеспечение, содержание исправительных учреждений,
сохранение многочисленных льгот для компаний. Однако вскоре пришло
время задуматься о некоторых частностях — о том, что ряд услуг и функций,
обеспечиваемых государством, которые предлагалось упразд- нить или
сократить, все же нужны и даже жизненно необходимы. И теперь, в момент
написания данной книги, наблюдается отход от господствующей доктрины,
появляется возможность выработки практических суждений. И это
правильно. Только так обеспечивается сохранение социальной пристойности
и сострадания, а также, пожалуй, и самой демократии.
Справедливое общество не стремится к равенству в распределении доходов.
Равенство не соответствует ни человеческой натуре, ни характеру и системе
экономической мотивации. Всем известно, что люди сильно различаются по
тому, насколько они хотят и умеют делать деньги. При этом источником той
энергии и инициативы, которые служат движущей силой современной
экономики, отчасти является не просто стремление иметь деньги, а желание
превзойти других в процессе их зарабатывания. Это желание представляет
собой критерий наивысших социальных достижений и важнейший источник
общественного престижа.
Одно из влиятельных направлений общественной мысли выдвигало
положение о том, что более высокий уровень мотивации обеспечивается или
может быть обеспечен за счет уравнительной системы вознаграждения — «от
каждого по способностям, каждому—по потребностям». Эту надежду питали
многие, отнюдь не один Маркс, но история и весь опыт человечества
показали ее несостоятельность. Хорошо это или плохо, но люди не способны
подняться до таких высот. Осознание этой истины разочаровало и опечалило
не одно поколение социалистов <...>. Ясно главное: справедливое общество
должно принять людей такими, какие они есть. Однако это не уменьшает
потребности в четком понимании сил, контролирующих распределение
доходов, и факторов, способствующих формированию отношения людей к
соответствующим вопросам. Не устраняется также и потребность в
понимании того, каким образом, с чисто практической точки зрения, следует
вырабатывать стратегию в вопросе распределения доходов.
Во-первых, никуда не уйти от того факта, что современная рыночная
экономика (согласно устоявшейся в настоящее время терминологии)
распределяет материальные блага и доходы в высшей степени неравномерно,
что не только вызывает негативные социальные последствия, но и мешает ее
собственному нормальному функционированию. В США, которые в
настоящее время представляют собой наиболее яркий пример среди
промышленно развитых стран, согласно данным такого надежного
источника, как Федеральная резервная система, приведенным в газете «НьюЙорк Тайме», 40% национального достояния страны в 1989 году
принадлежало богатейшим семьям, которые составляли один процент
населения; совокупная доля 20% самых богатых американцев составляла
80%. На 20% наименее обеспеченных граждан США приходилось лишь 5,7%
совокупного дохода после уплаты налогов; доля 20% наиболее обеспеченных
составляла 55%. К 1992 году в распоряжении верхних 5% населения
находилось приблизительно 18% совокупного дохода, и в последние годы эта
доля значительно возросла на фоне сокращения доли наименее обеспеченных
американцев. С таким положением справедливое общество мириться не
может. В интеллектуальном плане не может оно согласиться и с доводами, а
точнее, с измышлениями, в защиту подобного неравенства, хотя такого рода
сочинениями экономическая наука занимается весьма усердно. При этом,
однако, никто особо не скрывает тот факт, что соответствующая
экономическая и социальная доктрина подчинена корыстным целям и служит
интересам денежных мешков.
В частности, утверждается, что существует некое моральное право, которое
позволяет тем или иным лицам получать заработанное, вернее, получать то,
что они получают. Это право отстаивают с особым жаром, порой в резкой
форме и нередко с праведным возмущением. Однако оно сталкивается с
противодействием, как в исторической ретроспективе, так и в современной
реальной жизни.
Немалая часть доходов и богатства достается людям без достаточного или
вообще безо всякого социального обоснования, ни за что или почти ни за что
с точки зрения вклада в экономику. Очевидный пример — получение
наследства. Другие примеры аналогичного порядка — различные
пожертвования, случайные успехи и манипуляции в финансовой сфере. Сюда
же относятся вознаграждения, которыми щедро наделяют сами себя
руководители современных компаний, пользуясь предоставленными им
полномочиями. Как указывалось выше, руководство корпораций видит свою
главную цель (в соответствии со всеми традиционными экономическими
учениями) в получении максимальной прибыли. Будучи свободным и от
какого бы то ни было контроля или ограничений со стороны акционеров, его
представители активно пытаются увеличить собственные доходы. При
молчаливом попустительстве советов директоров, члены которых
подбираются самими руководителями, они фактически определяют размеры
собственных окладов, предоставляют самим себе льготные возможности по
приобретению акций и устанавливают для себя огромные размеры выходного
пособия на случай увольнения. Мало кто станет спорить с тем, что все эти
выплаты и льготы не имеют отношения к выполнению каких-либо
экономических и социальных функций, за которые они предоставляются. И
хотя нередко приходится слышать утверждения — порой весьма страстные
— о большом вкладе и важной роли руководителей компаний, это не более
чем легенда, в которую невозможно поверить.
Богатые люди с неохотой говорят о том, что их богатство и большие доходы
— это некое общественное, моральное или данное Богом право, так что
единственно возможное для них обоснование богатства — рассуждения о
функциональной целесообразности. Незыблемый принцип неравного
распределения доходов рассматривается как стимул к труду и новаторству,
что приносит пользу всему обществу. Само это неравное распределение
содействует росту сбережений и инвестиций, что также выгодно всему
обществу. Богатые и обеспеченные люди никогда не говорят, что им повезло;
они рассуждают о своем скромном труде ради всеобщего блага. Некоторые
даже испытывают смущение по поводу получаемого ими вознаграждения за
свой скромный труд, но стойко переносят это испытание, опять же ради
всеобщего блага. Социальные и экономические цели и задачи
корректируются в соответствии с соображениями личного удобства.
Очевидность этого станет общепризнанной в справедливом обществе.
Своеобразная классовая структура американского общества также
обеспечивает защиту интересов состоятельных и богатых слоев населения. В
любых солидных публикациях на эту тему неизменно подчеркивается роль и
место среднего класса. Правда, существуют еще высший и низший слои, но
они всегда остаются в тени. Хотя такое определение формулируется
довольно редко, можно говорить о том, что практически у нас сложилась
трехклассовая система, со- стоящая из одного класса, — такое вот
арифметическое новшество. И средний класс, играющий в этой системе
доминирующую роль, обеспечивает защиту и прикрытие для обеспеченных
слоев общества. Налоговые льготы, вводимые в интересах среднего класса,
распространяются и на некоторых очень богатых людей. В подобном
контексте и при принятии подобных решений высший класс никогда не
упоминается, словно он и не существует как отдельная категория. Такова
общая политическая установка, дающая значительный эффект с точки зрения
механизма функционирования экономики.
Что касается распределения доходов в пользу обеспеченных слоев общества,
повторим, что здесь действует механизм, который на языке экономистов
называется «предпочтение ликвидности», т.е. выбор между использованием
денег на цели потребления или вложением их в реальный капитал, с одной
стороны, и пассивным хранением денежных средств в той или иной форме —
с другой. Отдельные граждане и семьи со скромными доходами не имеют
возможности сделать такой выбор в отношении возможных вариантов
использования доходов. Перед ними стоит совсем иная задача —
удовлетворить насущные потребности; таким образом, они неизбежно
расходуют получаемые ими денежные средства. Соответственно, более
широкое и равномерное распределение доходов является более
целесообразным с точки зрения развития экономики, т.к. обеспечивается
более стабильный суммарный спрос. И поэтому есть все основания полагать,
что чем более неравномерно распределяются доходы, тем меньшую
функциональную нагрузку они несут.
Так где же решение проблемы распределения доходов? Нет и не может быть
никаких жестких правил и общеприемлемых коэффициентов, касающихся
соотношения доходов состоятельных и малообеспеченных слоев населения, а
также соотношений между окладами руководителей компаний и рядовых
работников. Это связано с сущностным характером самой системы, которая
не подчиняется произвольно устанавливаемым правилам. Требуются
решительные действия по совершенствованию системы, отражающие
внутренне присущее ей и неблагоприятное для нее неравенство, но ведущие
при этом к его сглаживанию.
Во-первых, существует система поддержки малообеспеченных слоев
населения. Наступление на неравенство следует начинать с мероприятий по
улучшению условий жизни низших слоев. Необходимость принятия таких
мер уже отмечалась выше.
Во-вторых, как указывалось ранее, следует навести порядок в финансовой
сфере. Заключение сделок с использованием конфиденциальной
информации, распространение ложных сведений для стимулирования
капиталовложений, махинации с инвестициями, подобные тем, что привели к
банкротству ссудно-сберегательных ассоциаций, поглощение и слияние
компаний, периодические вспышки спекулятивного ажиотажа — все это
негативно влияет на распределение доходов. Меры, гарантирующие
элементарную честность при осуществлении финансовых сделок и
позволяющие глубже разобраться в сущности тех или иных спекуляций,
дают полезный «выравнивающий^» эффект.
В-третьих, акционерам и информированной общественности следует
критически подходить к стремлению руководителей компаний максимально
повысить свои личные доходы. В отсутствие какого-либо сдерживания со
стороны акционеров и общественности доходы высших менеджеров, как
отмечалось выше, становятся одним из основных факторов социально
неблагоприятного распределения материальных благ. Единственно
возможное решение проблемы видится в совместных действиях акционеров,
чьи интересы оказались ущемленными. Приходится, правда, признать, что
вероятность принятия таких действий невелика. Владельцы современных
компаний, как правило, занимают пассивную позицию, когда речь идет об их
собственных интересах.
Остаются еще два направления позитивных действий государства в целях
достижения более равномерного распределения доходов, и одно из этих
направлений имеет решающее значение.
В первую очередь правительство должно отменить действующие налоговые
льготы, в частности, в отношении расходов, для обеспеченных граждан. В
последнее время такие льготы стали называть «социальным пособием для
корпораций». Сюда входят различные субсидии и налоговые скидки для
коммерческих
предприятий,
поддержка
производителей
сельскохозяйственной продукции, которые и без того получают высокие
доходы (особенно характерно в этом смысле щедрое дотирование сахарной
монополии и субсидирование производства табака), экспортные субсидии, в
том числе финансирование экспорта оружия, и, что самое важное, огромные
средства, выделяемые на поддержание очередного увеличения производства
вооружений.
Однако самым эффективным средством достижения более равномерного
распределения доходов остается прогрессивная шкала подоходного налога.
Именно она играет важнейшую роль в обеспечении разумного и, можно
сказать, цивилизованного распределения доходов. Здесь следует добавить,
что против прогрессивного налогообложения будут направлены
мотивированные и абсолютно предсказуемые нападки. Хотя для
справедливого общества этот механизм является важнейшей целью, не
трудно предугадать решительное, ясно выраженное и даже красноречивое
возражение со стороны тех, кто платит налоги по прогрессивной шкале. Эти
господа будут особенно упирать на то, что подобное налогообложение
пагубно отразится на стимулах к труду. Как указывалось выше, возможны и
противоположные утверждения (столь же неправдоподобные), что введение
крутой прогрессивной шкалы подоходного налога заставит людей с
высокими доходами работать еще больше и более творчески, чтобы
сохранить на прежнем уровне свои доходы после уплаты налогов. Ссылаясь
на исторический опыт, можно напомнить, что темпы роста американской
экономики, показатели занятости, а также положительное сальдо бюджета
отдельных лет были наивысшими в период после окончания второй мировой
войны, когда предельные ставки подоходного налога достигали рекордных
уровней.
Однако важнее всего — признать, что в справедливом обществе более
равномерное распределение доходов должно стать основным принципом
современной государственной политики, и главную роль в этом должно
сыграть прогрессивное налогообложение.
В условиях современной экономики распределение доходов в конечном
итоге определяется распределением власти. Последнее, в свою очередь,
представляет собой и причину, и следствие системы перераспределения
доходов. Власть позволяет получить доходы; большие доходы дают власть
над распределением денежного вознаграждения других людей. Справедливое
общество признает наличие этого традиционно замкнутого круга и пытается
вырваться из него.
Решением этой проблемы стало бы наделение полномочиями и обеспечение
защиты со стороны государства тех, кто не облечен властью. В условиях
рыночной экономики власть естественным образом сосредоточена в руках
работодателя — как правило, коммерческой фирмы. Поэтому право рабочих
отстаивать свою власть в противовес власти работодателей должно быть
признано в качестве основного принципа. Работники, объединяющиеся для
того, чтобы добиться повышения своих доходов и улучшения условий труда,
должны иметь такую же широкую поддержку государства, какой пользуются
лица и организации, объединяющиеся в корпорации для осуществления
инвестиций.
В наши дни повсюду в мире, особенно в Соединенных Штатах, наблюдается
ослабление влияния рабочих. Резко сократилось число членов профсоюзов
по отношению к общей численности работающих — отчасти в результате
общего сокращения масштабов массового производства и массовой
занятости, отчасти в связи со старческой немощью самого профсоюзного
движения. Справедливое общество стремится по возможности возродить
прежнее влияние профсоюзов, поскольку в условиях современной
экономической жизни организации рабочих остаются одним из важнейших
цивилизующих факторов.
Однако для большого числа рабочих членство в профсоюзе не является
практическим решением всех проблем. Особенно это относится к сфере
обслуживания, где степень рассредоточенности рабочей силы очень высока.
Так же как раньше требовались специальные государственные меры по
обеспечению занятости женщин и детей, так и сегодня необходимо прямое
участие государства в защите интересов работников, не являющихся членами
профсоюзов, включающее меры по обеспечению медицинского страхования
и выплату пособий по безработице, а также, что в настоящее время имеет
первостепенное
значение,
гарантирование
социально
адекватного
минимального уровня заработной платы. Для справедливого общества
последнее требование является абсолютно необходимым. Столь популярные
среди его противников доводы о том, что это приведет к сокращению
возможностей по обеспечению занятости, можно отвергнуть без какого-либо
обсуждения, так как это любимая отговорка тех, кто не желает платить
зарплату работникам, к тому же эти аргументы не подтверждаются
практикой. Наряду с созданием своего рода «страховочной сетки» —
разнообразных социальных и медицинских пособий для населения —
справедливое общество обязано защищать заработки малоимущих.
Когда-то экономический механизм был источником простых, неизменных в
своей основе материальных предметов первой необходимости — пищи,
одежды, жилищ, топлива, транспорта и т.д. В такой ситуации установление
монополистического контроля за про- изводством любого из них становилось
причиной лишений и страданий. Этот фактор и стал основанием для
появления антитрестовского законодательства и других проектов защиты
зачастую бедствующего потребителя от произвола промышленников.
Хозяйственные перемены и рост жизненных стандартов в современном
обществе одновременно и сократили, и повысили необходимость в
регулировании производства и контроле за производителями. Глобализация
экономической жизни, если использовать этот ныне столь модный термин,
уменьшила угрозу монополизма и связанной с ним сверхэксплуатации.
Вместо прежней олигополии — трех американских автомобильных
корпораций — появились многочисленные конкурирующие компании, как в
самих США, так и за рубежом. Компьютеры и программное обеспечение
производятся теперь не только IBM, но и многими другими фирмами. То же
самое имеет место во многих странах.
Обобщая, можно сказать, что в экономике, характеризующейся растущим
уровнем самоорганизации, сама ее природа обеспечивает множество
различных вариантов выбора, причем каждый из них утрачивает свой
судьбоносный характер. Каждому позволительно ошибиться в выборе между
«кадиллаком» и «мерседесом», равно как и между двумя менее роскошными
машинами, или джинсами разных модельеров, или различными типами
готовых завтраков. В своем поведении современные потребители обращают
основное внимание на сравнительную полезность конкурирующих благ,
каждый из которых обладает более или менее одинаковыми достоинствами и
разница между которыми, если таковая и имеется, невелика. Монопольная
власть единственного производителя преодолена.
Это обстоятельство имеет, однако, и обратную сторону. Изобилие как
понижает потребность в регулировании, так и увеличивает ее. До появления
автомобилей не возникало проблемы дорожной безопасности. Не было
нужды и в регулировании скорости, организации городского движения и
борьбе с нетрезвыми водителями. Не требовался также контроль за
загрязнением окружающей среды... То же самое можно сказать и о многих
других товарах, от игрушек до асбеста. Современные электронные средства
связи также потребовали введения целого комплекса новых форм
регулирования. Существует все более обостряющаяся проблема защиты
потребителя от необоснованных (по злому умыслу или неосознанно)
обещаний производителя, что особенно актуально в сфере здравоохранения и
фармацевтики. Потребители, по мере удовлетворения потребностей в
различных товарах, услугах и развлечениях, становятся все более
изобретательными в поисках того, что может улучшить или продлить жизнь;
производители же готовы немедленно удовлетворить эти ожидания.
Регулирование в этих условиях становится хорошо осознанной
необходимостью. Поэтому должна быть создана защита против
нежелательного медицинского вмешательства или лекарств, способных
принести лишь вред.
Наиболее нужная и при этом встречающая наибольшие возражения форма
регулирования в наибольшей степени затрагивает функционирование всего
экономического механизма. Неосторожные действия здесь могут принести
огромный вред; следует, однако, принимать во внимание, что даже если
таковой очевиден, попытки ограничить его могут вызвать решительное
неприятие.
Экономическая система функционирует эффективно только в рамках
жестких правил поведения. Первым из них является всеобщая честность —
правда должна в полном объеме доводиться до сведения вкладчиков,
общественности и, как уже подчеркивалось, потребителя. В области
финансов, однако, где утаивание одновременно и хорошо вознаграждается, и
может принести вред репутации, имеется большая вероятность того, что
данное правило не будет выполняться. Регулирование должно,
соответственно, поставить заслон попыткам фальсифицировать отчетность
при ведении финансовых операций, а также стремлению исказить
перспективы инвестирования. Существует множество приемов для введения
в заблуждение недостаточно информированного или не очень дотошного
потребителя. Особой и признанной потребностью является регулирование
сделок в узком кругу, при использовании инсайдер-ской информации.
Предметом широкого обсуждения должны стать также попытки одной
компании прибрать к рукам другую, особенно если при этом последней
навязываются непосильные долги или спекуляции с ценными бумагами с их
неизбежными и экономически неблагоприятными последствиями. Следует
отдать себе отчет в том, что немногие ошибки оказались столь пагубными и
болезненными для современного общества, как злоупотребления и недочеты
того, что сейчас называют финансовым сообществом, хотя таковое в свое
время и являлось наиболее заметной частью высших финансовых сфер.
Некоторое сращивание финансовой и информационной сфер предлагалось
уже не раз. Однако применительно к финансовому миру справедливое
общество не может ожидать слишком многого, в особенности если иметь в
виду, что каждое новое поколение с энтузиазмом повторяет упущения и
глупости предыдущего.
Все это, вместе с защитой окружающей среды, представляет собой
сущностную основу государственного регулирования в справедливом
обществе. Следует заметить еще раз, что не существует универсального
правила, приветствующего или отвергающего регулирование как таковое.
При осмыслении этого вопроса нельзя уходить в идеологию; каждый
конкретный случай должен рассматриваться в соответствующем контексте. В
самой основе системы заложено то, что экономическая деятельность и ее
продукты могут иметь вредные социальные последствия. В ней могут
присутствовать явления, невидимые или сознательно игнорируемые, которые
в будущем окажутся катастрофическими. И если потребность в
регулировании представляется не столь уж актуальной в условиях
современного изобилия и возможностей выбора, она ими же и
стимулируется. Активное регулирование является исключительно важным
для эффективного функционирования экономической системы. И хотя никто
не может приветствовать регулирование как таковое, никто не в состоянии
занять и противоположную позицию. Если и существует какое-то правило,
так только то, что, когда некоторая форма регулирования ставится на
повестку дня, следует присмотреться внимательнее, не являются ли
эгоистические интересы главным мотивом ее применения.
* - Weizsaecker E., van, Lovins A.B., Lovins L.H. Factor Four. Doubling Wealth
— Halving Resource Use. L., Earthscan Publications Ltd., 1997. Copyright —
Weizsaecker E., von, Lovins А. В., Lovins L.H. 1997. Текст воспроизводится с
согласия Э. фон Вайцзеккера.
Оглавление
Новая постиндустриальная волна на Западе
Оглавление
Рональд Инглегарт. Культурный сдвиг в зрелом индустриальном обществе
Рональд Ингяегарт— один из лидеров современной прикладной социологии.
Он окончил социологическое отделение Принстонского университета и
подучил там степень доктора социологии. Сегодня Р.Ингле-гарт —
профессор политических наук и директор исследовательских программ в
Университете Мичигана. Он женат, у него четверо детей. Живет в городе
Анн Арбор, штат Мичиган.
Научная деятельность Р.Инглегарта началась в конце 60-х годов. Одна из
первых его статей, «Мобилизация познания и европейская самобытностью
(Cognitive Mobilisation and European Identity), опубликованная в журнале
«Comparative Politics» в 1970 году, содержала основные идеи будущей книги
«Молчаливая революция: изменение системы ценностей и политического
стиля в западном обществе» (The Silent Revolution: Changing Values and
Political Styles Among Western Public) [1977] и имела большой успех. В 70-е и
80-е годы вышло более ста статей Р.Инглегарта в престижных американских
и европейских социологических журна- лах, в том числе таких, как
«American Political Science Review», «British Journal of Political Science»,
«International Journal of Public Opinion Research», «Koelner Zeitschrift fuer
Soyologie und Soyalpsychologie». Все эти работы были обобщены им в книге
«Культурный сдвиг в зрелом индустриальном обществе» [1990], которая
стала значительным явлением в социологической науке начала 90-х годов.
Развитие концепции, осуществленное автором в последние годы, воплощено
в его новой работе, выпущенной в прошлом году в издательстве
Принстонского университета— «Модернизация и постмодернизация:
культурные, экономические и политические изменения в 43 обществах»
[I997J.
Работы Р.Инглегарта на первый взгляд кажутся весьма специальными и
сложными для восприятия. Они основаны на детальном социологическом
анализе ценностей и предпочтений современного человека, проводившегося
группами прикладных социологов во многих странах мира. Как в
«Культурном сдвиге в зрелом индустриальном обществе», так и в
«Модернизации
и
постмодернизации»
использованы
материалы,
предоставленные многими десятками исследователей; полученные
результаты проиллюстрированы сотнями таблиц, графиков и схем.
Представляя обе книги российскому читателю, мы стремились остановиться
прежде всего на методологии исследования, на основных подходах к оценке
современного общества и на изложенных автором принципиальных выводах
и прогнозах.
Первая из этих работ— «Культурный сдвиг в зрелом индустриальном
обществе» (1990) — стала результатом обобщения материала, собранного с
1970 по 1986 год в рамках монументального исследовательского проекта
Комиссии европейских сообществ под руководством Ж.-Р.Рабье. Книга
состоит из 13 глав, в которых автор скрупулезно излагает результаты
осмысления полученных данных. Его теоретические построения базируются
на исследовании дихотомиии материалистических и постматериалистических
ценностей. Р.Инглегарт дает четко разработанную методику определения
того типа ценностей, который в наибольшей мере определяет поведение
человека как субъекта производства и субъекта потребления. Основным
выводом служит положение о резком расширении с середины 70-х годов
круга нематериалистически мотивированных членов общества; при этом
особое внимание автор уделяет тому обстоятельству, что развитие
постматериалистической мотивации (которое, как мы полагаем, является
важнейшей составляющей процесса формирования постэкономического
общества) есть сложное явление, имеющее в большей мере социопсихологическую, нежели экономическую, природу. Особого внимания
заслуживают такие утверждения автора, как вывод о том, что быстрый рост
материального благосостояния мало сказывается в течение жизни чйювека на
его мотивациднных ориентирах, закладывающихся еще в раннем возрасте, и
положение, согласно которому существует исютчительно высокая
корреляция между распространением постматериалистической мотивации и
интергенерационными подвижками. И то, и другое показывает, что
экспансия нематериалистических ценностей не может происходить очень
быстро, что это явление связано со сменой поколений и обусловлено
постепенным изменением мотивации, повышением материального
благосостояния и ростом образовательного уровня людей, Учитывя, что
именно развитие постматериалистических ценностей во многом
обусловливает хозяйственный и культурный прогресс западных стран в
последние годы, можно серьезно усомниться в реальности вступления
России в круг постиндустриальных держав, избавиться от существующих на
этот счет лиюзий.
Представляя российскому читате.чю эту работу профессора Инг-легарта, мы
выбрали наиболее интересные методологические пассажи из введения к
книге, а также глав 1,2, 5 и 6 (эти фрагменты соответствуют стр. 3-4, 5, 15,
16-17,18-19, 66, 103, 161, 162, 177-179 и 179-181 в издании Princeton
University Press).
Вторая книга— «Модернизация и постмодернизация: культурные,
экономические и политические изменения в 43 обществах» (1997) —
обогащает и развивает подходы, предложенные автором в его прежних
работах. Здесь он в более жесткой и решительной форме утверждает, что
переход от материалистических к постматериалистическим ценностям
представляет собой наиболее значимое социальное изменение последней
трети XX века, и данный процесс не может в рамках постиндустриальных
стран изменить свое направление. Однако главное внимание уделено двум
другим обстоятельствам.
С одной стороны, Р.Инглегарт придает своей концепции большую
теоретичность, встраивая ее в современную социологическую доктрину,
оперирующую терминами модернизации и постмодернизации и
акцентирующую внимание на взаимодействии и взаимозависимости
экономических, политических, социальных, психологических, этических и
иных факторов развития общества. Поэтому существенной новизной
отличаются те главы, в которых автор теоретизирует по поводу этих
взаимосвязей и анализирует обусловленность социального прогресса
совершенствованием составляющих общество личностей. С другой стороны,
он обращается уже не только к анализу ситуации в развитых индустриальных
странах, но и к проблемам развития стран «третьего мира» и бывшего
социалистического лагеря. В этом контексте весьма интересна его оценка
современных преобразований в России и некоторых других странах
советского блока; мягко говоря, эта оценка весьма далека от положительной.
Подходя к исследованию происходящих здесь процессов с точки зрения
ценностных ориентации населения, автор отмечает, что с разрушением
чувства социальной и экономической защищенности, бывшей у граждан этих
государств очень сильным, фактически устранены стиль поведения и система
мотивации, которые были присущи населению социалистических стран и
вполне соответствовали современным требованиям. Формирование сугубо
экономической, материалистической системы ценностей, происходящее в
последние годы, делает подчас социальную обстановку в этих странах
гораздо более далекой от современных стандартов, нежели в менее развитых
в хозяйственном аспекте отсталых регионах планеты.
В своей последней работе Р.Инглегарт уделяет много внимания проблеме
связи между хозяйственными процессами и политическими событиями,
анализирует возможности формирования стабильных демократических
систем в странах, еще не прошедших стадию зрелого индустриального
общества. Эта книга особенно интересна еще и потому, что автор сумел
придать своей гипотезе о роли и значении ценностной ориентации личности
в современном обществе характер весьма глобальной социологической
концепции, которая в том или ином аспекте может быть применена к
исследованию самых различных социальных систем.
Представляя российскому читателю новую книгу профессора Инг-легарта,
мы выбрали отрывки из главы 1 «Системы ценностей: субъективные аспекты
политики и экономики», главы 2 «Изменения на индивидуальном и
социальном уровне», главы 5 «Сдвиг в направлении постматериалистических
ценностей, 1970-1994 годы», главы 6 «Экономическое развитие,
политическая культура и демократия» и главы 7 «Воздействие культуры на
экономический рост» (эти фрагменты соответствуют стр. 7-10, 10-11, 11-16,
16-19, 52-55, 143-144, 205-206, 206-208, 209, 216-217, 218-219, 234-235, 236 в
издании Princeton University Press). КУЛЬТУРНЫЙ СДВИГ В ЗРЕЛОМ
ИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ* Представители различных обществ
являются носителями разных культур, они отличаются друг от друга своим
мировоззрением, ценностями, навыками и предпочтениями. Перемены,
происшедшие в последние десятилетия в экономической, технической и
социально-политической сферах, обусловили серьезные сдвиги в культурных
основах современного индустриального общества. Изменилось все: стимулы,
побуждающие человека к работе, противоречия, становящиеся причинами
политических конфликтов, религиозные убеждения людей, их отношение к
разводам, абортам, гомосексуализму, значение, которое человек придает
обзаведению семьей и детьми. Можно пойти еще дальше и позволить себе
утверждение, что за время существования современного индустриального
общества изменилось даже то, чего люди хотят от жизни.
Все эти перемены происходят постепенно, в свою очередь, отражая
изменения в процессе формирования человека, определяющие лицо
различных поколений. Так, среди старших членов общества по-прежнему
широко распространены традиционные ценности и нормы, тогда как группы
молодежи все больше становятся привержены новым ориентациям. По мере
того, как более молодое поколение взрослеет и постепенно вытесняет
старшее, происходит и трансформация мировоззрения, превалирующего в
обществе.
Но почему культуры подвержены изменениям? Скорее всего, потому, что
каждая культура представляет стратегию адаптации ее народа. В
долгосрочной перспективе такие стратегии, как правило, являются реакцией
на преобразования экономического, технического и политического характера
и, как таковые, не могут долго оставаться неизменными. При этом, хотя
перемены в сфере культуры являются реакцией на развитие социальноэкономической, политической и технической среды, они сами, в свою
очередь, формируют эту последнюю. Серьезные изменения в сфере культуры
содействовали расцвету промышленной революции на Западе, а сама она
породила радикальное изменение западной культуры. Культурные движения
и сегодня меняют русло развития общества, в результате чего экономический
рост перестает выступать в качестве доминирующего социального
ориентира, а значение экономических критериев как стандарта
рационального поведения снижается. На ранних этапах индустриализации
экономические факторы играли столь важную роль, что оказалась в
определенной степени возможной интерпретация общества и культуры в
целом на основе моделей экономического детерминизма. Когда же настала
пора современного общества, экономические факторы достигли такой точки,
после которой их значение стало снижаться, и сегодня детерминистские
модели, подобные классическому марксистскому мировоззрению, теряют
свою действенность.
У граждан западных стран стали меняться ценностные ориентации —
преобладающее внимание к материальному благосостоянию и физической
безопасности уступило место заботе о качестве жизни. Причины и
последствия такого культурного сдвига носят сложный характер, однако его
основной принцип можно изложить весьма доходчиво: людям свойственно
высказывать обеспокоенность в связи с непосредственными нуждами или
грозящими опасностями, а не в отношении вещей, которые кажутся далекими
или не имеющими к ним непосредственного отношения. Например,
стремление к красоте носит более или менее универсальный характер, однако
голодный человек будет занят поиском скорее пищи, нежели эстетического
удовлетворения. Между тем беспрецедентно большая часть населения
западных стран выросла в условиях исключительной экономической
безопасности; в результате таковая по-прежнему рассматривается как
ценность позитивного характера, однако ее относительное значение сегодня
не столь велико, как в прошлом.
Неполноценность игнорирующих культурные факторы моделей становится
все более очевидной. В католических странах, от Латинской Америки до
Польши, церковь играет весьма важную роль, несмотря на то, что
сторонники экономического детерминизма уже не раз ее хоронили. В
исламском мире фундаментализм стал таким политическим фактором,
который не могут игнорировать ни Восток, ни Запад. Регион Восточной
Азии, где распространено конфуцианство и который по объективным
условиям хозяйства относится к наиболее проблемным регионам мира,
подуровню экономической динамики сегодня превосходит все другие части
планеты; без учета культурных факторов объяснить эти явления невозможно.
Даже в современных индустриальных обществах религиозное сознание не
только перевешивает роль классового с точки зрения влияния на поведение
электората, но и, судя по всему, в настоящее время все увеличивается: если
за последние десятилетия влияние классового фактора на действия
избирателей резко снизилось, то значение религиозного остается на
удивление стабильным.
Воздействие на политические процессы экономических факторов не
вызывает сомнений, однако ими одними дело не ограничивается. Различным
обществам в различной степени характерна специфическая совокупность
проявлений культурно-политического мировоззрения, причем это культурное
своеобразие носит относительно стойкий, но отнюдь не незыблемый,
характер. При этом оно может иметь серьезные политические последствия,
одно из которых обусловлено их тесной взаимосвязью с жизнеспособностью
демократических институтов.
При анализе долгосрочных взаимосвязей между политикой и экономикой
политическая культура выступает в качестве важнейшей переменной
величины. Стабильная демократия не обязательно является следствием
высокой степени экономического развития: последнее может стимулировать,
но не способно гарантировать становление демократических институтов и
политической культуры, благоприятствующей их расцвету. Следует иметь в
виду, что культурные изменения в значительной мере отражают
социализацию стойких привычек и воззрений. Однажды установившись, эти
ориентации обладают значительным запасом прочности и способны
оказывать самостоятельное воздействие на политику и экономику на
протяжении долгого времени после событий, благодаря которым они
сформировались. Поэтому в долгосрочной перспективе взаимосвязь между
экономикой и политикой носит комплексный характер; тем не менее, можно
говорить о четкой эмпирической связи экономического развития с
возникновением демократии, когда рациональный выбор и политическая
культура выступают не как антиподы, а как взаимодополняющие факторы.
Культура представляет собой систему воззрений, ценностей и знаний,
широко распространенных в обществе и передающихся из поколения в
поколение. Если многие черты человека имеют врожденный и неизменный
характер, то культура является предметом усвоения и в разных обществах
может оказываться различной. Наиболее ключевые, рано усвоенные ее
аспекты мало подвержены переменам: во-первых, в силу того, что для
изменения центральных элементов когнитивной организации взрослого
человека необходимо массированное воздействие, и, во-вторых, потому, что
самые сокровенные ценности становятся для человека самоцелью и
отречение от них порождает неосознанные страхи и утрату уверенности в
себе. Конечно, в условиях серьезных и постоянных сдвигов социетарного
характера преобразованиям могут подвергнуться даже ключевые элементы
культуры, однако их изменение, скорее, будет происходить с вытеснением
одного поколения другим, чем путем перестройки сознания взрослых людей,
чья социализация уже состоялась.
Межгенерационный процесс смены ценностей обусловливает постепенную
модификацию
политических
и
культурных
норм
современного
индустриального общества. Такой переход, [который мы называем сдвигом]
от материалистических ценностных приоритетов к постматериалистическим,
выводит на авансцену новые политические проблемы и во многом служит
импульсом для новых политических движений. Он ведет к расколу
традиционных партий и к появлению новых, меняя при этом сами критерии,
которыми пользуется человек при оценке субъективного восприятия того,
что он считает благосостоянием [и социальным признанием]. Более того,
становление постматериалистических ориентации представляется отдельным
аспектом более широкого процесса культурных изменений, в ходе которых
переосмысливаются религиозные ориентации, представления о роли полов,
сексуальные и культурные нормы западного общества. Такой сдвиг сам по
себе является элементом более широкой совокупности межгенерационных
культурных перемен, в результате которых рост внимания к качеству жизни
и самовыражению сопровождается все меньшим акцентом на традиционные
политические, религиозные, моральные и социальные нормы.
Причиной межгенерационного перехода от материалистических ценностей к
постматериалистическим послужила беспрецедентная экономическая и
физическая безопасность, характеризовавшая послевоенный период. На
постматериалистических ценностях молодежь делает гораздо больший
акцент, чем люди старшего поколения, и когортный анализ свидетельствует о
том, что это в гораздо большей степени является результатом смены
поколений, чем простым следствием взросления и старения человека.
Американцы и западноевропейцы сделали важные шаги в сторону
постматериализма между 1970 и 1988 годами, и есть основания предполагать,
что этот процесс будет продолжаться. Между тем его темпы,
обусловливаемые заменой одного поколения другим, остаются относительно
медленными, поскольку в современных индустриальных обществах с их
относительно низким уровнем смертности межгенерационное замещение
замедлено, а снижение уровней рождаемости, наблюдающееся с середины
60-х годов, еще больше тормозит эту тенденцию. Тем не менее, по нашим
расчетам, всего за 29 лет, с конца 1970 и до начала 2000 года, сменится почти
половина (49,8%) взрослого населения Западной Европы.
С учетом постепенного характера замены одного поколения другим,
представляется вероятным, что даже к 2000 году материалистов будет
насчитываться не меньше, чем постматериалистов. Общая доля последних
станет примерно в два раза больше, чем она была в начале 70-х, когда из
десяти западноевропейцев постматериалистом был только один. Однако
подобные сдвиги делают соотношение между материалистами и
постматериалистами ключевым фактором сравнительного социологического
анализа. В период проведения наших первых обследований, в 1970—1971
годы, материалисты имели подавляющее большинство по сравнению с
постматериалистами: соотношение между ними составляло примерно 4 к 1.
Оно резко изменилось уже к 1988 году, когда на 4 материалистов
приходилось 3 постматериалиста. Такие показатели несколько выходят за
рамки долгосрочных тенденций, поскольку они отражают сочетание
межгенерационных перемен с периодическими эффектами, которые к 1988
году обрели благоприятный характер. Но даже без учета этого последнего
показателя оценки, основывающиеся только на факторе замены одного
поколения другим, говорят о том, что к 2000 году число материалистов будет
превышать число постматериалистов очень незначительно. Последнее может
послужить поворотным моментом в соотношении между двумя типами
различных ценностных ориентации: постматериалисты имеют более высокий
уровень образования, отличаются большей целеуст- стресса и ниже в
условиях безопасности. Разъять свой мир на части, а затем вновь сложить его
воедино — это ведет к психологическому стрессу в любом случае. Однако
люди с относительно высоким уровнем защищенности, подобные
постматериалистам, с большей готовностью способны воспринять отход от
знакомых им схем, нежели те, кто с обеспокоенностью воспринимает задачу
обеспечения их основополагающих экзистенциальных потребностей. Из
этого следует, что от постматериалистов следует ожидать большей
готовности к восприятию культурных преобразований.
Вторая причина заключается в том, что социальные и религиозные нормы,
как правило, имеют (по крайней мере, изначально) определенную
функциональную основу. Такие базовые заповеди, как «Не убий», несут
очевидную социетарную функцию. Чтобы общество имело возможность
выжить, ему требовалось ограничить рамки насилия и сделать его
прогнозируемым. Без подобных норм социуму грозила бы катастрофа.
Многие религиозные установления, такие, как «Не прелюбодействуй» или
«Чти отца своего и мать», имеют целью сохранение семейной ячейки. Эта
конкретная функция сегодня имеет меньшее значение, чем ранее, что
способно открыть путь к постепенному размыванию соответствующих норм.
Несмотря на то, что семья некогда была основной экономической единицей,
в развитом индустриальном обществе трудовая жизнь человека в своем
подавляющем большинстве протекает вне стен его дома; основную долю
образования он также получает вне семьи; ему не грозит смерть от голода,
поскольку ответственность за чисто биологическое сохранение его жизни
берет на себя государственная структура социального обеспечения. Было
время, когда дети выживали или, напротив, умирали в зависимости от того,
насколько родители обеспечивали их существование; эта зависимость
возобновлялась, но уже с обратным знаком, когда наступала старость.
Несмотря на то, что семья сохраняет важное значение, характерный для
семейной функции экстремум «жизнь — смерть» уже потерял свою остроту
благодаря развитию структур социального обеспечения. Сегодня новое
поколение имеет возможность выжить не только в случае распада семьи, но
даже при отсутствии обоих родителей. Неполные семьи и бездетные старики
в современных условиях защищены гораздо больше, чем когда-либо ранее.
Функциональная основа нормы, обеспечивающей сохранение традиционной
семьи, постепенно сходит на нет. Означает ли это, что общество переходит
от одних ценностей к другим? Не обязательно. Как правило, культурные
нормы твердо усваиваются в раннем возрасте, получая поддержку и
подтверждение на дорацио-нальном уровне. Если люди противятся разводу,
нельзя сводить это к простому рациональному расчету, исходящему из того,
что семья является важной экономической единицей и поэтому необходимо
сохранять брак; напротив, тенденция такова, что развод начинает относиться
к вопросам, рассматриваемым в категориях добра и зла. Нормы,
ограничивающие поведение людей даже в тех случаях, когда они хотели бы
поступить как-то иначе, относятся к числу таких, которые усваиваются в
качестве абсолютных правил и пускают свои корни так глубоко, что при их
нарушении человека начинает мучить совесть. Подобные социетарные
установления имеют большой запас прочности. Ослабление или даже
исчезновение функции той или иной культурной парадигмы еще не означает,
что исчезает соответствующая норма, хотя очевидно, что если изначальная
причина, которая некогда дала жизнь этой парадигме, устраняется, то это
открывает путь к ее постепенному ослаблению.
Установления, связанные с сохранением семьи с двумя родителями разного
пола, ослабевают по целому ряду причин, начиная от развития структур
социального обеспечения и кончая резким падением уровня детской
смертности. Следует предположить, что в обществе, характеризуемом
такими условиями, процесс пойдет по пути своего рода эксперимента:
постепенно поведение, отклоняющееся от традиционных норм, будет
становиться все более и более приемлемым, а контингент, в наибольшей
степени готовый согласиться с новыми нормами поведения, скорее будет
относиться к младшему, нежели старшему поколению, а также к числу
представителей основательно защищенных, нежели более уязвимых, слоев
населения.
Третья причина отхода от традиционного мировоззрения связана с вопросами
когнитивной гармонии. Стремление к внутренней гармонии свойственно
человеку, и поэтому его мировоззрение проявляет тенденцию к соответствию
его повседневному опыту, а последний в настоящее время коренным образом
отличается от того, в рамках которого формировалась иудейскохристианская традиция. Ветхий завет появился в пастушеском обществе, и
его символы («добрый пастырь, накорми Моего агнца» и так далее)
отражают пасторальное мировоззрение. Ко времени написания Нового завета
среди иудеев уже было больше земледельцев, нежели пастухов, и он
отражает реалии аграрного общества с иными нормами и мировоззрением.
Но сегодня мы живем в условиях развитого индустриального строя, и в быту
приметой нашего времени является отнюдь не агнец, а скорее компьютер.
Поэтому между традиционной нормативной системой и тем миром, который
непосредственно знаком большинству людей, возникают когнитивные
ножницы, и уже не только социальные нормы, но и символика и
мировоззрение ставших традиционными религий теряют ту доказательность
и убедительность, которой они отличались в среде, где изначально возникли.
В аграрных обществах человечеству во многом приходилось уповать на
милость необузданной стихии. Понимание законов природы было весьма
смутным, и поэтому люди, что бы ни происходило, были склонны объяснять
это волей антропоморфических духов, божеств и богов. Источником
пропитания служило сельское хозяйство, которое во многом зависело от
того, что приходило с неба, от солнца и дождя. Молились обо всем — о
ниспослании хорошей погоды, об исцелении от болезни, о спасении от
нашествия саранчи.
В индустриальном обществе производство все больше стало втягиваться в
стены и под крышу, в антропогенную среду. Уже не нужно стало ждать
восхода солнца или прихода соответствующего времени года; теперь
достаточно включить свет и отопление. Во многом исчезла и нужда в
молитве о хорошем урожае, поскольку производство зависит от станков,
которые разрабатывает и эксплуатирует человеческий гений. А с открытием
микробов и антибиотиков и болезни перестали казаться промыслом Божьим,
а все больше стали восприниматься как одна из проблем, решение которых
находится во власти человека.
Вполне естественно, что столь далеко идущие изменения в повседневном
восприятии характера функционирования окружающего человека мира
должны привести к соответствующим изменениям в созданной людьми
космологии. В индустриальном обществе, где вся производственная
деятельность концентрировалась вокруг фабрики, вполне естественным
представлялся механистический взгляд на Вселенную. Первоначально это
способствовало становлению представления о Боге как о Великом
Часовщике, который некогда создал Вселенную и, однажды запустив ее,
позволил ей вращаться самостоятельно. Однако по мере того, как человек
получал все больше и больше возможностей контролировать среду обитания,
роль, приписываемая им Богу, становилась все более скромной. Появились
идеологии материалистического толка, предлагавшие небожественное
толкование истории, наряду с антирелигиозными утопиями, создать которые
предполагалось с помощью одной лишь инженерной мысли.
Представляется, что становление постиндустриального общества способно
активизировать дальнейшую эволюцию космологических представлений,
однако в несколько ином направлении, чем на ранних этапах
индустриализации. В Соединенных Штатах, Канаде и Западной Европе
значительная часть работников трудится сегодня вне фабричных стен.
Большинство людей уже не живет в механистической среде, а проводит
большинство своего производственного времени в общении с людьми и
символами. Усилия человека все меньше оказываются сегодня
сосредоточенными на производстве материальных товаров, вместо этого
акцент делается на коммуникации и на обработке информации, причем в
качестве важнейшей продукции выступают инновации и знания.
Нам представляется, что такое развитие событий должно благоприятствовать
формированию менее механистического мировоззрения, в рамках которого
во главу утла будет возведено понимание цели и смысла человеческого
существования. Холокост и Хиросима со всей очевидностью
продемонстрировали, что техника представляет собой благо далеко не
однозначное, а экологические проблемы привели к тому, что былое уважение
к природе оказалось в определенной степени восстановленным. Поскольку
постиндустриальное общество отнюдь не является возвращением к
аграрному, более вероятным, чем воссоздание традиционной религии,
представляется рост внимания к духовным ценностям.
Хотя этот процесс пока что находится на своих ранних стадиях, духовность
является неотъемлемым качеством человека. В «Краткой истории времени»
физик-теоретик Стивен Хоукинг рассказывает о своих попытках примирить
общую теорию относительности с квантовой механикой в стремлении
понять, как же действует Вселенная. Эта книга, в которой нашел свое
отражение один из наиболее ярких интеллектов двадцатого столетия,
завершается следующим выводом: «Если мы создадим ту или иную
всеобъемлющую теорию, со временем она станет понятной всем и каждому,
а не толь- ко горстке избранных. Тогда мы все, философы, ученые и самые
обычные люди, сможем принять участие в обсуждении вопроса о том,
почему же существует Вселенная, а вместе с ней и мы сами. Если мы найдем
ответ на этот вопрос, это станет конечным триумфом человеческого разума,
ибо тогда мы поймем склад ума Бога»1.
Стремление постичь смысл жизни, осмыслить Вселенную не утратило своей
актуальности. У Хоукинга упоминание о Боге не имеет иронического
подтекста и не является случайным; вся его книга пронизана идеей о том, что
современная наука представляет собой духовный поиск. Автор, конечно же,
представляет Бога совсем иначе, нежели его видели в пасторальном
обществе, создавшем Библию, однако поиск смысла жизни является, как и
ранее, неотъемлемой чертой человеческой природы. Традиционные модели
устарели, и причем весьма серьезно, в целом ряде аспектов:
соответствующие им представления в большинстве своем не согласуются с
теми, которые большинство людей усваивает сегодня как посредством
формального образования, так и на основе своего повседневного опыта,
однако основополагающие вопросы, составляющие краеугольный камень
великих религиозных традиций и касающиеся целей и смысла жизни,
остаются и останутся неизменными.
* - Weizsaecker E., van, Lovins A.B., Lovins L.H. Factor Four. Doubling Wealth
— Halving Resource Use. L., Earthscan Publications Ltd., 1997. Copyright —
Weizsaecker E., von, Lovins А. В., Lovins L.H. 1997. Текст воспроизводится с
согласия Э. фон Вайцзеккера.
1 - См.: Meadows D.H., Meadows D.L, Randers J. Behrens III, W.W. The Limits
to Growth. N.Y., 1972.
Оглавление
Новая постиндустриальная волна на Западе
Оглавление
Рональд Инглегарт. Модернизация и постмодернизация<##*>
Экономические, культурные и политические преобразования настолько
связаны друг с другом в своем развитии, что эта взаимосвязь позволяет
прогнозировать характер их воздействия на общество.
Так звучит главный тезис теории модернизации в устах ее сторонников, от
Карла Маркса и Макса Вебера до Даниела Белла. Чуть ли не два века вокруг
этого тезиса идут горячие споры. В целом он верен: пусть мы не в силах
точно предсказать, что именно произойдет в данном обществе в данное
время, некоторые основные тенденции поддаются общему прогнозу. <..,>
Идея о том, что социальные и экономические преобразования имеют
логическую взаимосвязь, казалась интересной и одновременно спорной с
того момента, как была впервые высказана К. Марксом. Она привлекает к
себе умы не только потому, что способствует разъяснению характера
экономических, социальных и политических преобразований, но и потому,
что может обеспечить определенную степень их прогнозируемости. На
сегодняшний день все попытки предсказать пути, по которым человечество
пойдет в своем развитии, лишь тешили гордыню предсказателей:
общеизвестно, что многие прогнозы Маркса оказались ошибочными.
Поведение человека столь многогранно и подвержено влиянию со стороны
столь многих факторов, действующих на самых различных уровнях, что
любой попытке выступить с точным прогнозом, не допускающим вариантов,
грозит неудача.
Мы на такой прогноз не претендуем, ибо невозможно предсказать точный
путь социальных преобразований. Однако определенные совокупности
экономических, политических и культурных трансформаций развиваются
логически взаимосвязанным образом, причем одни направления такого
развития представляются более вероятными, чем другие. Когда конкретные
общественные процессы набирают темп, то в долгосрочном плане возникает
вероятность определенных серьезных по своему значению изменений.
Например, индустриализация порождает тенденцию к урбанизации, росту
профессиональной специализации и повышению уровней формального
образования в любом обществе, которое пошло по такому пути. Все эти
элементы представляют собой ключевые аспекты того направления развития,
которое в целом принято называть «модернизацией».
Модернизация порождает в свою очередь тенденцию к проявлению менее
очевидных, но также серьезных последствий, таких, например, как
повышение уровня политической активности масс. И пусть мы не в
состоянии прогнозировать действия конкретных руководителей в тех или
иных странах, мы можем говорить о том, что (в данный исторический
момент) активное участие населения в политической жизни с большей
вероятностью сыграет решающую роль в Швеции или Японии, чем в
Албании или Бирме. В более конкретном плане мы можем также определить,
какие именно вопросы с наибольшей остротой будут вставать в
политической жизни того или иного конкретного общества, причем
вероятность, что этот прогноз окажется верен, будет далеко выходить за
рамки случайности.
Модернизация связана с широким кругом преобразований культурного
характера. Определенные культурные ценности благоприятствуют
повышению склонности населения к сбережениям и инвестициям, открывая
тем самым путь к индустриализации, а резкие различия в роли, отводимой
мужчинам и женщинам в любом доиндустриальном обществе, в зрелом
индустриальном обществе практически стираются.
Однако социальные преобразования не носят линейного характера. То, что
переход от аграрного общества к индустриальному порождает возможность
ряда перемен, не означает, будто какая-либо тенденция может продолжаться
в одном и том же направлении до бесконечности. Достигнув в своем
развитии какой-то точки, она начинает идти на убыль. Не служит
исключением и модернизация. В последние десятилетия зрелые
индустриальные общества вышли в своем развитии на поворотную точку и
стали двигаться в новом
«постмодернизацией».
направлении,
которое
можно
назвать
С началом постмодернизации тот взгляд на мир, который преобладал в
индустриальных обществах со времени промышленной революции,
постепенно вытесняется новым мировоззрением. В нем находят свое
отражение ожидания людей, желающих определенных перемен.
Постмодернизация меняет характер базовых норм политической, трудовой,
религиозной, семейной, половой жизни. Таким образом, процесс
хозяйственного развития приводит к тому, что движение в направлении
модернизации сменяется затем курсом на постмодернизацию. Оба они самым
тесным образом связаны с процессами в хозяйственной сфере, однако
постмодернизация представляет собой более позднюю стадию развития,
которая характеризуется совсем иным комплексом убеждений и верований,
нежели модернизация. Этот комплекс не просто является следствиями
экономических или социальных преобразований; он в свою очередь
формирует социально-экономические условия, испытывая затем их
воздействие.
Изучение модернизации играло ведущую роль в общественных науках в
конце 1950-х и в начале 1960-х годов. Впоследствии, начиная с 70-х,
концепция модернизации была подвергнута серьезной критике и во многом
признана несостоятельной. Со своей стороны, мы также хотели бы
представить новые эмпирические обобщения и предложить новое толкование
механизма модернизации.
Основной тезис теории модернизации заключается в том, что
индустриализация связана с конкретными социально-политическими
преобразованиями, которые осуществляются повсеместно: если между
доиндустриальными обществами имелись огромные различия, то есть все
основания
говорить
о
единой
модели
«современного»,
или
«индустриального», социума, к которой придет любое общество, вставшее на
путь индустриализации. Экономическое развитие связано с комплексом
перемен, охватывающих, помимо индустриализации, урбанизацию, массовое
образование, профессиональную специализацию, создание бюрократических
структур, развитие коммуникаций, что, в свою очередь, порождает
культурные, социальные и политические преобразования еще более
широкого характера.
Одна из причин, вызвавших столь большой интерес к теории модернизации,
заключалась в тех перспективах, которые она открывала с точки зрения
социального прогнозирования; согласно этой теории, в обществе, вставшем
на путь индустриализации, с определенной вероятностью осуществляются
конкретные преобразования культурного и политического характера, начиная
со снижения рождаемости и увеличения продолжительности жизни и кончая
усилением роли правительства, возрастанием политической активности масс
и даже установлением демократии. Некоторые критиковали теорию
модернизации за то, что она якобы утверждает, будто экономическое
развитие должно автоматически и безболезненно привести к становлению
либеральных демократий, отвергали этот тезис как наивный и
этноцентристский. Однако фактически прогнозы большинства сторонников
этой теории были гораздо более осторожными; если же оставить за скобками
необоснованное предположение о безболезненном и автоматическом
характере модернизации, даже этот тезис не представляется сегодня
совершенно невероятным.
Теория модернизации развивалась на протяжении более чем целого столетия.
Широкий круг специалистов по социальным теориям в своих утверждениях
сходился на том, что трансформации технологического и экономического
характера логически связаны с предсказуемыми преобразованиями в сфере
культуры и политики. Однако не утихали споры относительно характера их
причинно- следственных связей: экономические преобразования влияют на
изменения в культуре и политике или наоборот?
Маркс возводил во главу угла экономический детерминизм, утверждая, что
технический уровень развития общества формирует его экономическую
систему, которая, в свою очередь, определяет его культурные и политические
характеристики: технологический уровень ветряной мельницы таков, что в
основе общества будет лежать натуральное сельское хозяйство, а масса
обездоленных крестьян будет находиться в подчинении у поместного
дворянства; паровой двигатель влечет за собой появление индустриального
общества, в котором доминирующей элитой становится буржуазия,
эксплуатирующая и угнетающая городской пролетариат.
Вебер, со своей стороны, подчеркивал влияние культуры: ее не следует
сводить к вторичному явлению в рамках экономической системы, напротив,
она представляет собой важный фактор, имеющий самостоятельное
значение; культура способна формировать экономическое поведение, равно
как и испытывать его воздействие, Например, становление протестантской
этики способствовало расцвету капитализма, что благоприятствовало как
промышленной, так и демократической революции; согласно этому взгляду,
системы убеждений и верований влияют на экономическую и политическую
жизнь, а также сами подвергаются ее влиянию.
Некоторые из последователей Маркса переносили акцент с экономического
детерминизма
(который
предполагает
спонтанное
возникновение
революционной утопии) на роль идеологии и культуры, уделяя им большее
внимание. Например, Ленин утверждал, что рабочий класс сам по себе
никогда не выйдет на такой уровень классового сознания, который
необходим для успешного осуществления революции; необходимо, чтобы во
главе
пролетариата
встал
идеологически
профессиональных революционеров.
стойкий
авангард
Мао Цзэдун уделил еще большее внимание роли революционного мышления.
Порвав с ортодоксальным марксизмом, он провозгласил, что в Китае не
обязательно ждать процессов урбанизации и индустриализации, чтобы
изменить лицо страны; если идеологически подкованные кадры сумеют
пробудить достаточный энтузиазм у масс, коммунистическая революция
способна победить даже в аграрном обществе. Казалось, что вера Мао
Цзэдуна в могущество идеологической убежденности, способной
восторжествовать над материальными препятствиями, нашла свое
подтверждение в победе китайских коммунистов в 1949 году над
противником, имевшим в своем распоряжении неизмеримо большие
финансовые и людские ресурсы. Однако же тот факт, что идеологический
детерминизм имеет свои пределы, был продемонстрирован в 1959 году
позорным провалом «большого скачка»: оказалось, что для развития
современного общества необходимы не только сознательные массы, но и
знающие специалисты. Для осушения болот или строительства прокатного
стана есть правильные методы и есть неправильные методы, вне зависимости
от идеологической перспективы.
Обеспечивает ли модернизация становление демократии? Реформы Хрущева
конца 1950-х годов породили надежды на то, что коммунистический блок
пойдет по пути демократизации. Эти надежды укрепились в результате
распада колониальной системы и появления множества молодых
независимых государств в 60-е годы. Однако весь оптимизм рухнул, когда в
1964 году коммунистическая верхушка отстранила Хрущева от власти, в
Советском Союзе воцарился брежневский авторитарный режим, которому,
казалось, не будет конца, и одновременно авторитаризм восторжествовал в
большинстве постколониальных наций. Утверждают, что экономическое
развитие изначально благоприятствует демократизации, однако сегодня
большинство социологов скептически воспринимает эту концепцию.
Авторитарные режимы стали казаться неотъемлемой чертой современного
мира, даже (если не в особенности) в тех коммунистических странах,
которые добились внушительного экономического роста. Индустриализация,
оказалось, способна вести как к демократии, так и к диктатуре.
Мы предлагаем новый взгляд на теорию модернизации. Мы согласны с ее
сторонниками в отношении самого главного их тезиса: экономическое
развитие, культурные преобразования и изменения политического характера
логическим образом связаны друг с другом и в определенной степени даже
предсказуемы. Одни направления преобразований более вероятны, чем иные,
поскольку определенные системы ценностей и верований, наряду с
политическими и экономическими институтами, оказываются взаимно
благоприятными, тогда как в отношении других дело так не обстоит. Таким
образом, зная один компонент общества, можно прогнозировать судьбу
других компонентов, причем с вероятностью, выходящей за рамки простой
случайности.
Однако, соглашаясь с Марксом, Вебером и их последователями в том, что
направления преобразований имеют не случайные, а, напротив,
прогнозируемые характеристики, мы расходимся с большинством
сторонников теории модернизации по следующим четырем важным
моментам:
1. Социальные преобразования не имеют линейного характера. Они отнюдь
не следуют одному направлению вплоть до конца истории. Напротив, рано
или поздно они достигают поворотной точки и в последние десятилетия идут
в совершенно новом направлении.
2. Предыдущие варианты теории модернизации носили детерминистский
характер: марксизм делал упор на экономический детерминизм, а теория
Вебера склонялась к детерминизму культурному. Мы считаем, что
взаимосвязи между экономикой, с одной стороны, и культурой и политикой,
с другой, носят взаимодополняющий характер, как это происходит в
отношении различных систем биологического организма. Бессмысленна
была бы постановка вопроса о том, что определяет деятельность
человеческого организма: мускульная система, система кровообращения,
нервная система или система дыхательных путей; каждая из них играет свою
важную роль, и вся жизнедеятельность прекращается при отказе любой из
них. Аналогичным образом, политические системы, равно как и
экономические, требуют поддержки со стороны культурной системы, в
противном случае им пришлось бы опираться на откровенное принуждение,
которое нельзя признать эффективным. И напротив, культурная система,
несовместимая с экономикой, вряд ли окажется жизнеспособной.
Экономический детерминизм, культурный детерминизм, политический
детерминизм — все они представляют собой не что иное, как упрощенный
подход к данной проблеме; причины и следствия определены здесь чересчур
жестко. Если эти системы не будут поддерживать друг друга на взаимной
основе, им грозит отмирание.
3. Мы не согласны с этноцентристской позицией тех, кто приравнивает
модернизацию к «вестернизации». В какой-то исторический момент
модернизация действительно была чисто западным явлением, однако сегодня
вполне очевидно, что этот процесс обрел глобальный характер и что в
определенном смысле его возглавили сегодня страны Восточной Азии. В
соответствии с этой точкой зрения мы предлагаем модифицировать
интерпретацию тезиса Вебера, сформулированного им в 1904—1905 годах и
касающего- ся роли протестантской этики в экономическом развитии. Вебер
совершенно правильно расценивал подъем протестантства как важнейшее
событие в ходе модернизации Европы. Однако нельзя утверждать, что такое
влияние присуще только протестантству; в то время оно в основном
объяснялось тем обстоятельством, что рационализм и холодная
расчетливость пришли на смену целому комплексу религиозных норм,
характерных для большинства доиндуст-риальных обществ и сдерживающих
экономическое развитие. Протестантство действительно является феноменом
чисто западным, однако этого нельзя сказать о холодном расчете и
рационализме, Несмотря на то, что индустриализация началась на Западе, ее
подъем представляет собой всего лишь один из вариантов модернизации.
4. Демократия отнюдь не является феноменом, имманентно присущим фазе
модернизации, как считает ряд сторонников этой теории. Возможны и
альтернативные последствия, причем наиболее ярким их примером служат
фашизм и коммунизм. Однако демократия действительно оказывается все
более вероятным явлением по мере перехода от стадии модернизации к
постмодернизации. На этой второй стадии осуществляется совершенно
особый комплекс преобразований, которые до такой степени повышают
вероятность утверждения демократии, что в конечном счете приходится
дорого платить за то, чтобы ее избежать.
За последнюю четверть нашего столетия произошла смена главного
направления развития, и этот сдвиг носит столь отчетливый характер, что
теперь вместо дальнейшего использования термина «модернизация» мы
предпочитаем
говорить
о
«постмодернизации».
В
термин
«постмодернистский» вкладывается множество различных значений, причем
некоторые из них ассоциируются с культурным релятивизмом столь
экстремального толка, что он становится неотличим от культурного
детерминизма: утверждается, что культура чуть ли не в полной мере
определяет опыт человека, не ограничиваясь никакой внешней реальностью.
И тем не менее этот термин имеет важное значение, поскольку в нем заложен
определенный концептуальный смысл, согласно которому процесс,
называющийся модернизацией, уже не является самым последним событием
в современной истории человечества и социальные преобразования
развиваются сегодня совершенно в ином направлении. Кроме того, в
литературе по постмодернизации назван ряд специфических при- знаков
этого процесса: постмодернизация предусматривает отказ от акцента на
экономическую эффективность, бюрократические структуры власти и
научный рационализм, которые были характерны для модернизации, и
знаменует переход к более гуманному обществу, где самостоятельности,
многообразию и самовыражению личности предоставляется больший
простор.
К сожалению, термин «постмодернистский" оказался нагружен столь
многими значениями, что ему грозит опасность означать все подряд и
одновременно ничего не означать. Термин «постмодернизм» имеет четкое
значение в архитектуре, означая стиль, резко отличающийся от голого
функционализма архитектуры времен модернизма, выхолощенной и
эстетически убогой. Первая стеклянная коробка произвела сильнейшее
впечатление, однако с появлением сотой такой коробки вся новизна пропала.
Архитектура постмодернизма вернула себе человеческое измерение,
практикуя элементы декора и ретроспективизм, однако на основе новой
технологии. Аналогичным образом на стадии постмодернизации общество
отходит от стандартного функционализма, от увлечения наукой и
экономическим ростом, которое было столь распространено в
индустриальном обществе на протяжении всей «эпохи дефицита», и делает
больший акцент на эстетических и человеческих моментах, вводя элементы
прошлого в контекст современности.
Мы не можем согласиться с тем, что концепция постмодернизации в какойто степени связана с культурным детерминизмом. Вне всякого сомнения,
авторы, пишущие на темы постмодернизации, имеют все основания считать,
что любое восприятие реальности происходит через некие культурные
фильтры. Более того, эти культурные факторы неуклонно становятся все
более и более важным компонентом повседневного опыта по мере нашего
перехода от «общества дефицита», где экономическая необходимость
втискивает поведение человека в довольно узкие рамки, к миру, в котором
человеческий фактор будет играть все более и более заметную роль по
сравнению с внешней средой, открывая расширенный спектр возможностей
для индивидуального выбора; это одна из основных причин все большей
поддержки постмодернизации.
Однако мы не согласны, что культурная парадигма является единственным
фактором, формирующим людской опыт. Помимо нее существует и
объективная реальность, причем это относится как к сфере социальных
отношений, так и к области естественных наук. Внешние реалии обретают
решающую роль в тех случаях, когда дело доходит до насилия — последнего
прибежища политики: расстрелянный человек умирает вне зависимости от
того, верит он в баллистику или нет. Аналогичным образом, несмотря на
широкие возможности архитектора в плане выбора и воображения, если он
пренебрежет объективными принципами, лежащими в основе строительства,
все здание может рухнуть. Отчасти именно поэтому архитектура сохранила
должное уважение к реальности. В качестве другого примера можно
отметить, что у физиков и астрономов культурные пристрастия играют
минимальную роль. Люди, не имеющие отношения к науке, иной раз
искажают принцип неопределенности, сформулированный Гейзенбергом,
однако ученые, работающие в сфере естественных наук и изучающие
реальность, существующую за пределами людских предубеждений,
единодушны: та или иная теория в конечном счете побеждает или отмирает в
зависимости от того, насколько правильно она моделирует и прогнозирует
эту реальность, пусть даже она идет вразрез с убеждениями, которые успели
прочно сложиться. <...>
Одних объективных тестов недостаточно, чтобы научная парадигма была
незамедлительно
отвергнута;
по
мере
накопления
наблюдений
доминирующая доктрина все чаще подвергается сомнению, однако новая
парадигма, как правило, получает признание в результате смены одного
поколения ученых другим поколением, а не благодаря изменению взглядов
более старших представителей научного сообщества, что случается довольно
редко. <...> В любой исторический момент естественные науки отражают
кросскультур-ный консенсус, который в конечном счете зависит от того,
насколько эффективно имеющиеся интерпретации моделируют и
прогнозируют внешнюю реальность. Искусство в этом отношении
представляет собой полную противоположность. Эстетические предпочтения
в большинстве своем действительно являются вопросом культурных
установок.
Общественные явления занимают промежуточное положение между этими
крайними точками. Поведение человека испытывает сильное влияние со
стороны культуры, в которой осуществляется его социализация. Однако
объективные факторы также устанавливают свои пределы; недавним
примером может служить крах и дискредитация централизованной
экономики в странах от Чехослова- кии до Китая: в сфере управления
экономикой всегда существуют правильные и неправильные методы. <...>
Экономические, культурные и политические процессы развиваются в
логической взаимосвязи друг с другом. Этот тезис не вызывал разногласий у
двух наиболее авторитетных сторонников теории модернизации — Маркса и
Вебера. Они принципиальным образом расходились друг с другом в вопросе
о том, почему экономические, культурные и политические преобразования
сопровождают друг друга. По мнению Маркса и его последователей, они
взаимосвязаны постольку, поскольку экономические и технологические
преобразования определяют изменения политического и культурного
характера. По мнению Вебера и его последователей, они взаимосвязаны
потому, что культура формирует лицо экономической и политической жизни.
Надо отдать должное глубокой проницательности как Маркса, так и Вебера.
Мы считаем, что и экономика определяет культуру и политику, и наоборот.
Причинно-следственные связи имеют взаимный характер. Политические,
экономические и культурные преобразования взаимообусловлены в силу
того, что не может быть жизнеспособным общество, не располагающее
политическими,
экономическими
и
культурными
системами,
поддерживающими друг друга на взаимной основе: в долгосрочной
перспективе соответствующие компоненты либо приспосабливаются друг к
другу, либо система рушится. Общественные системы действительно не
вечны: большинство из них, просуществовав на протяжении определенного
периода, исчезли с лица Земли.
Культура представляет собой систему воззрений, ценностей и знаний,
которые широко распространены в обществе и передаются из поколения в
поколение. Если человеческая природа имеет биологически врожденный и
универсальный характер, то культура является предметом усвоения и в
разных обществах оказывается различной. Наиболее ключевые, наиболее
рано усвоенные ее аспекты сопротивляются изменениям: во-первых, потому,
что для трансформации центральных элементов когнитивной организации
взрослого человека необходимо массированное воздействие, и, во-вторых,
потому, что пересмотр своих самых сокровенных убеждений порождает
страх и утрату уверенности в себе. В условиях длительных социальноэкономических преобразований изменениям могут подвергнуться даже
ключевые элементы культуры, однако их механизм скорее будет состоять в
вытеснении одного поколения другим, а не в переформировании системы
ценностей взрослых людей, чья социализация уже состоялась.
Под культурой мы понимаем субъективный аспект общественных
институтов: убеждения и верования, ценности, знания и навыки, усвоенные
представителями данного общества и дополняющие внешние системы
принуждения и коммуникаций. Таков упрощенный вариант определения
культуры, обычно им пользуются в антропологии, но он устраивает и нас,
поскольку в данном случае нашей целью является эмпирический анализ. Мы
рассмотрим, в какой степени внутренние культурные установки и внешние
общественные институты оказываются взаимосвязаны на практике, а не
будем просто полагаться на предпосылку, утверждающую их существование.
Если же пытаться в определение культуры втиснуть все, что только
возможно, такая концепция окажется бессмысленной для подобного анализа.
Любая стабильная экономическая или политическая система располагает
соответствующей культурной системой, на которую она опирается и которая
как бы узаконивает ее существование. В таком обществе усвоен комплекс
правил и норм. Если этого нет, то властям приходится добиваться
соблюдения таких правил путем одного лишь внешнего принуждения, что
является делом дорогостоящим и ненадежным. Помимо этого, для
обеспечения эффективной легитимности такого общественного устройства
культура устанавливает рамки поведения как для верхов, так и для масс,
формируя политические и экономические системы, а также формируясь, в
свою очередь, сама под их влиянием. Этот процесс лишен телеологического
характера, он действует как бы сам по себе: жизнеспособными оказываются
общества, располагающие узаконенными системами власти.
Мы считаем, что эволюционистский подход в достаточной мере отвечает
задаче анализа развития культур и институтов: определенные характеристики
сохраняются и получают распространение благодаря тому, что они
располагают функциональными преимуществами в данной среде. Ряд
критиков утверждает, что функциональная интерпретация общественных
институтов ошибочна в своей основе, поскольку «очеловечивает» такие
институты, предполагая наличие цели без движущей силы, ведущей к ее
достижению; это весьма распространенный взгляд. Однако по сути такая
критика справедлива лишь в отношении грубой, примитивной формы
функциональной интерпретации. Такое понятие часто используется
биологами, в особенности при рассмотрении вопросов, связанных с
эволюцией. Например, считается, что яркие цветы и нектар сформировались
у растений для того, чтобы привлекать пчел, дабы последние могли их
опылять. Про другие растения говорят, что ядовитые листья появились у них
для того, чтобы отпугивать животных и насекомых, которые могли бы их
съесть. Только что вылупившийся кукушонок выталкивает из гнезда другие
яйца для того, чтобы птичья пара, оказавшаяся его родителями, отдала все
силы его кормлению. А млекопитающим, которые обитают на Крайнем
Севере, белый мех служит для маскировки на снегу.
Политические институты также формируются в ходе процессов
естественного отбора. Некоторым из них уготована долгая жизнь, однако в
отношении большинства других дело обстоит совсем иначе: три четверти
ныне действующих национальных конституций увидели свет уже после 1965
года. Даже действующие институты, и те подвержены мутации. Так, в
большинстве обществ законодательные органы теперь уже редко выступают
с законодательными инициативами, вместо этого они выполняют функцию
легитимизации, Сами по себе они не обладают сознательной волей для
выполнения этой функции, однако тот факт, что они ее осуществляют,
служит основной причиной, обеспечивающей их выживание и
распространение. Многие новые конституции появились в последнее
десятилетие, и практически каждая из них важное место отводит
законодательным органам. В этом отражается широкое осознание того факта,
что в современном мире политические системы, располагающие
законодательными органами, имеют, по сравнению с другими системами,
больше возможностей для легитимизации, выживания и процветания.
Теории модернизации принято критиковать либо за их этно-центристский
характер, либо за телеологический, либо за то и другое одновременно. В ряде
ранних работ по теории модернизации последняя действительно
примитивным образом наделялась такими понятиями, как (1) приобщение к
более высокой нравственности, (2) приближение к западной модели.
Ошибочность такого подхода вполне очевидна. Сегодня мало кто осмелится
говорить о нравственном превосходстве западного общества, а на передних
рубежах модернизации во многих отношениях сейчас находятся страны
Восточной Азии.
Однако в концепции, утверждающей, что социальные преобразования
развиваются в направлениях, логически связанных друг с другом и в целом
поддающихся прогнозу, нет ничего этноцентри-стского. В конкретной
экономической и технологической среде одни направления развития
действительно более, а другие менее вероятны; очевидно, что в ходе истории
одни многочисленные структуры социальной организации были опробованы
и отвергнуты, а другие структуры в конечном счете заняли доминирующее
положение. На заре известной нам истории люди были организованы в
многочисленные сообщества охотников и собирателей, однако в результате
появления сельского хозяйства практически все они прекратили свое
существование. Они оказались вытеснены в силу того, что по сравнению с
охотой и собирательством сельское хозяйство обладает функциональными
преимуществами. <...>
Хотя некоторые племена охотников и собирателей сохранились по сей день,
они составляют менее одной тысячной населения земного шара. Вытеснив
их, аграрные общества доминировали на протяжении многих веков, пока
промышленная революция не привела к появлению принципиально новой
социальной структуры. Переход к индустриальному обществу пока что далек
от завершения. Однако сегодня на Земле почти не осталось социумов, по
крайней мере не вступивших на путь индустриализации, и к концу
следующего столетия большая часть человечества будет, скорее всего, жить в
условиях преимущественно урбанистического индустриального общества.
Это не означает какого-то социального однообразия. Индустриальные
общества представляют множество культур и институтов. Однако не менее
примечательными оказываются их общие характеристики: практически без
исключения, они все отмечены высоким уровнем урбанизации,
индустриализации, профессиональной специализации, использования науки
и техники, бюрократизации, опоры на власть, в основе которой лежат
легитимность и рационализм, относительно высокой степенью социальной
мобильности, акцентом на достигнутый, а не унаследованный социальный
статус, высокими уровнями формального образования, уменьшением
ролевых различий по признаку пола, высокими нормами материального
благосостояния и продолжительности жизни. Охота и сельское хозяйство не
исчезнут с лица Земли, просто они перестали определять образ жизни. Они
будут формировать мировоззрение ничтожного меньшинства населения (но
ведь и жизнь остающихся охотников и земледельцев тоже изменится — в
силу того, что они будут жить в мире преимущественно урбанистическом и
индустриальном).
В утверждении о том, что общества охотников и собирателей уступили место
аграрным
обществам,
нет
ничего
ни
этноцентрист-ского,
ни
телеологического. Это исторический факт, и ничего больше.
Этноцентризмом было бы утверждать, что люди, живущие в обществе,
относящемся к какому-то одному типу, по своей сути мудрее, благороднее
или более нравственны, чем те, что живут в обществе, принадлежащем к
другому типу. Однако подобное беспричинное утверждение не имеет ничего
общего с логикой усилий, направленных на то, чтобы определить, общество
какого типа с наибольшей вероятностью сохранится и получит
распространение в данной экономической и технологической среде.
Представители индустриального общества, по сравнению с теми, кто живет в
обществе аграрном, ни в коей мере не отличаются какими-то более высокими
душевными качествами и не заслуживают какого-то антропоморфического
предпочтения со стороны истории; однако при этом действительно очевидно,
что большинство населения планеты переходит сегодня к образу жизни
индустриального общества, как некогда от охоты и собирательства оно
перешло к образу жизни общества аграрного. Это происходит в силу того,
что в данной технологической и экономической среде общество
определенного типа, по сравнению с другими, обладает функциональными
преимуществами. Но и современное индустриальное общество отнюдь не
являет собой конец истории, процесс культурной эволюции продолжается.
<...>
На протяжении многих лет утверждалось, что подход к анализу общества с
позиций культуры неизбежно носит консервативный характер. Это только
часть истины. Левые марксисты действительно усматривали реакционность в
акценте на культурных факторах, однако в последнее время левые
постмодернисты всячески заостряют внимание на той важнейшей роли,
которую играют субъективные представления и культурные ценности. С их
точки зрения, признание решающего влияния культурных факторов
считается необходимым условием социального прогресса.
Тем не менее, какая-то доля истины есть и в идее о том, что культура как
таковая оказывает на общественное развитие кон- сервативное воздействие.
Подход, основывающийся на культурных факторах, гласит: во-первых,
реакция человека на ту ситуацию, в которой он находится, определяется
субъективными ориентация-ми, отличающимися друг от друга как в
различных культурах, так и в рамках субкультур; во-вторых, эти различия
связаны с социализацией человека, причем опыт, усвоенный на ранних
этапах, имеет решающее значение и с большим трудом поддается
изменениям. Следовательно, действия человека отнюдь не являются простым
отражением внешних условий. Сохраняющиеся различия в усвоении
культурного опыта также играют важную роль в формировании образа
мышления и действий человека.
Эти постулаты имеют важные последствия для преобразований социального
характера. Теория культурных факторов подразумевает, что культура не
подвержена мгновенным изменениям. Могут меняться правители и законы,
однако требуются, как правило, многие годы, чтобы могли быть
преобразованы основополагающие аспекты культуры. Но и при этом
долгосрочные последствия революционного преобразования обычно
расходятся с революционными представлениями и сохраняют важные
компоненты прежней структуры общества. Помимо этого, когда
действительно происходят базовые культурные изменения, они в большей
степени затрагивают представителей молодого поколения (которым не
приходится преодолевать сопротивление спонтанно усвоенного раннего
опыта), нежели людей более старшего возраста, что приводит к
формированию межгенерационных различий. Факт существования такой
инертности может вызвать глубокое разочарование у тех, кто полагает, что
имеет в своем распоряжении быстродействующее средство для разрешения
глубоко укоренившихся проблем. Это обстоятельство следует учитывать при
разработке любой реалистической стратегии социальных преобразований,
чтобы в долгосрочном плане обеспечивающая их политика оказалась более
эффективной, нежели простое отрицание значения культурных факторов.
<...>
Левые марксисты считали, что культурные факторы — это опиум для народа,
нечто вроде ложного сознания, способного разве что только отвлекать массы
от реальных проблем, имеющих экономический характер. Они верили, что
хорошее промывание мозгов способно быстро вычистить все предыдущие
ориентации: если должным образом подготовленный авангард, руководимый
един- ственно верной идеологией, сможет взять власть и осуществить
правильные программы, все социальные проблемы быстро будут решены.
К несчастью, марксистские установки на скорое преобразование общества в
массовых масштабах не учитывали такой реальности, как стойкий характер
культурных факторов. В тех случаях, когда их программы не отвечали
глубоко укоренившимся ценностям и привычкам населения, добиться их
осуществления можно было лишь путем массового принуждения. Самые
грандиозные проекты быстрых социальных преобразований потребовали
принуждения в огромных масштабах и тем не менее потерпели неудачу:
сталинская насильственная коллективизация и массовые чистки, «большой
скачок» и культурная революция Мао Цзэдуна не только не привели к
созданию нового советского человека или новой китайской культуры, но и
повлекли за собой неизмеримые людские страдания и в конечном счете
оказались в огромной степени контрпродуктивными.
Левые представители постмодернизма уходят в другую крайность, придавая
порой культуре однозначно определяющее значение. Объективных пределов
или норм для них просто не существует: все зависит единственно от
культурных факторов, причем в такой степени, что любое упоминание
объективной реальности воспринимается чуть ли не как реакционность.
И та, и другая крайность искажают роль культуры. Существуют
эмпирические доказательства того, что культура действительно составляет
важнейшую часть реальности. Но только часть, и не более того.
Системы ценностей играют важную роль в обществе. Они обеспечивают
культурную основу для лояльного отношения к тому или иному
экономическому и политическому порядку. Системы ценностей
взаимодействуют также со внешними экономическими и политическими
факторами, определяя лицо социальных преобразо- ваний. Без учета этого
обстоятельства понимание социальных преобразований просто невозможно.
Культура теснейшим образом связана с проблемами политической власти. Ее
нельзя сводить к случайному набору ценностей, верований и навыков
представителей данного общества; она представляет собой стратегию
выживания. В любом социуме, сумевшем сохраниться на протяжении
длительного исторического периода, культура, как оказывается, находится с
экономической и политической системами в «отношениях взаимного
благоприятствования». Для обеспечения стабильной демократии структуры
власти должны согласовываться с культурной системой. В целом этого же
тезиса придерживается и Маркс, и различные представители теории
постмодернизации: система верований данного общества служит
оправданием его общественного строя, узаконивая право верхов на власть. В
этом заключается ее важнейшая функция.
Правительство обеспечивает в обществе принятие решений. Что же касается
граждан, то они подчиняются решениям своего правительства либо в
результате внешнего принуждения, либо благодаря усвоению комплекса
норм, обосновывающих такое подчинение. Любое общество опирается на то
или иное сочетание этих двух факторов, однако важнейшее различие состоит
в той степени, в которой оно полагается на принуждение или на
легитимность, обеспечиваемую культурой. В этом также состоит важнейшее
различие между нестабильными диктатурами и стабильными демократиями.
Сбалансированность культуры и принуждения играет в политике настолько
важную роль, что Вебер определял политическую сферу через возможность
легчтимного использования насилия, подчеркивая взаимодополняющую роль
этих двух факторов. Легитимность и насилие (или культура и принуждение)
являются двумя противоположными полюсами политического спектра.
Любая социально-общественная система, сохраняющаяся на протяжении
долгого времени, опирается на такой краеугольный камень, как
нравственный порядок. Генерал, военный диктатор может какое-то время
оставаться у власти в результате откровенных репрессий, однако дело это
рискованное. Недешево стоит держать солдата на каждом углу, проводя в
жизнь правительственные постановления при помощи штыков; недешево
стоит содержание аппарата для осуществления массовых репрессий;
недешево обходится и покупка лояльности, которая, не будучи усвоена при
помощи культуры, под- держивается при помощи подачек. В конечном счете
все доходы общества могут уйти на обеспечение благожелательности к
военной верхушке. Кроме того, отсутствие лояльности, в основе которой
лежала бы культура, означает, что режим, дабы удержаться у власти, должен
полагаться на своего рода преторианцев и поэтому вечно жить под угрозой
переворота. В подобной структуре власти номер первый всегда опасается
номера второго.
Любая верхушка, надеющаяся удержать власть в течение долгого времени,
будет стремиться к обеспечению своей легитимности, пытаясь, как правило,
соответствовать установившимся культурным нормам, а подчас и
переиначивая эти нормы таким образом, чтобы они обосновывали ее право
на власть. Соответствие нормам носит гораздо более простой характер и
требует меньшего принуждения, чем переиначивание культуры; однако когда
власть попадает в руки истинных революционеров, они способны на попытки
перекроить культурную систему таким образом, чтобы та отвечала их новой
идеологии. Подобные грандиозные замыслы обычно требуют использования
силового потенциала тоталитарного государства. В нашем мире на
принуждение полагаются в той или иной степени все режимы, однако
опираться на усвоенные ценности и нормы гораздо дешевле и безопаснее,
чем зависеть от грубой силы для того, чтобы подчинять население своей
политике. Если тоталитарные режимы, едва установившись, тяготеют к
принуждению, то демократические формы правления, опираясь на широкую
легитимность, полагаются на культуру.
Итак, одна из наиболее важных функций культуры заключается в
обеспечении легитимности политических и экономических систем общества.
Ряд авторов даже определяет политическую культуру как доминирующую
идеологию, оправдывающую подчинение институциональной системе
общества. Однако это представляет собой всего лишь одну важнейшую ее
функцию: например, в условиях демократии культура также способна
обеспечивать легитимность диссидентства на основе таких норм, как
«лояльная оппозиция». В большинстве обществ культура также включает в
себя нормы, устанавливающие пределы и обязательства для поведения
верхов, причем в долгосрочном плане такая ее роль служит укреплению
легитимности претензий верхушки на власть.
Любой политический режим, сохраняющийся в течение долгого времени,
практически всегда опирается на соответствующий нрав- ственный порядок,
который формирует политические и экономические системы, а также сам
формируется под их влиянием. В доин-дустриальных обществах он, как
правило, обретает форму религии.
Этот нравственный порядок определяет все аспекты жизни: он объединяет
общество, воздвигая запреты на пути внутреннего насилия (нечто вроде «Не
убий», что является одним из основных принципов в любом обществе), а
также устанавливая нормы, обеспечивающие защиту частной собственности
(подобно «Не укради») и поддерживая одновременно их сбалансированность
с нормами благотворительности и сопереживания, также являющихся
средствами выживания.
В традиционных обществах эти нормы выполняют важнейшую функцию.
Чтобы они были достаточно эффективными и обеспечивали покорность,
несмотря даже на сильный соблазн неподчинения, они внедряются в качестве
абсолютных ценностей, обычно в виде установок, отражающих
божественную волю. Такой подход срабатывает в относительно неизменных
аграрных обществах, однако абсолютные ценности по своей сути имеют
косный характер и в условиях быстро меняющейся среды адаптируются к
этим изменениям с трудом. Чтобы открыть путь модернизации, пришлось
пойти на ломку по крайней мере некоторых компонентов традиционной
системы ценностей. В этом заключается одна из причин, в силу которых
протестантская реформация имела столь важное значение для модернизации
Западной Европы и почему аналогичное покушение на традиционные
ценности играет столь существенную роль в других регионах мира. В Китае,
например, основные нормы конфуцианства (которое клеймит физический
труд, меркантилизм и технологическую деятельность как недостойные
утонченного схоласта-чиновника) были преодолены последовательными
волнами реформ (сначала либеральной, а затем маоистской), открыв дорогу
современному экономическому развитию. Одновременно пришлось сильно
офаничить и такую традиционную добродетель, как безоглядная помощь
своим родственникам и землякам-односельчанам: в современном
бюрократическом обществе непотизм становится одним из главных грехов.
На протяжении всей истории политические режимы приходили к власти, как
правило, путем ее завоевания, и еще в 1970 году большинство обществ в
мире управлялись военными диктатурами. Даже после недавней глобальной
волны демократизации сохраняется угроза того, что военные могут начать
играть ведущую роль в политике — от Латинской Америки и Африки до
бывшего Советского Союза, если новые демократические режимы не
удержат бразды правления. Нередко задают вопрос: «Почему военные так
часто приходят к власти?» Лучше было бы спросить: «Почему военные не
всегда приходят к власти?» Контроль за средствами принуждения имеет
важнейшее значение в политике; режим какого-то другого типа появляется
только в том случае, если культурные нормы укореняются настолько
глубоко, что способны предотвратить господство силы оружия. При
отсутствии системы глубоко усвоенных культурных норм самые простые
решения заключаются в военной диктатуре: в политической игре пики всегда
козыри.
Так что вопрос должен стоять следующим образом: «Как не позволить
военным взять власть?» Ответ простой: путем внедрения культурных норм,
поддерживающих иной режим. Особо важное значение имеет внедрение этих
норм в среду военной верхушки. В условиях монархии такие нормы ставят во
главу угла беспрекословное подчинение и лояльность королю или королеве.
В Соединенных Штатах они подчеркивают верность конституционной
иерархии, во главе которой стоит президент, облеченный полномочиями
главнокомандующего. В социалистических же государствах важнейшую роль
играл идеологический запрет «бонапартизма»: с ним был согласен даже
основатель Красной Армии Л.Троцкий, хотя это и стоило ему политической
власти, а затем и самой жизни. Подобные нормы составляют чуть ли не
религиозную заповедь: «Не свершай военные перевороты».
Поскольку принуждение и культура служат не более чем различными
аспектами политической власти, постольку элитой, имеющей наибольшие
шансы на доминирование в том или ином обществе (после военных),
являются священнослужители или другие идеологи, обеспечивающие
авторитетное толкование культурных норм общества. В Древнем Египте и
Шумерии, в средневековой Европе, в империи ацтеков служители культа
занимали ведущее положение — либо самостоятельное, либо на равных с
военной верхушкой; в Советском Союзе и в Китае эпохи Мао Цзэдуна
ведущую роль играла марксистская идеология. А в правовом государстве
властвуют юристы: выступая в качестве авторитетных толкователей мифов,
обеспечивающих легитимность американского общества, адвокаты здесь
служат функциональным эквивалентом духовенства.
Культура — это субъективный компонент жизненного потенциала общества:
речь идет о ценностях, воззрениях, верованиях, навыках, знаниях народа.
Экономические, политические и другие внешние обстоятельства имеют не
менее важное значение, однако сами по себе решающими не являются. И
когда речь заходит о людях, субъективные и объективные факторы —
культура и среда — оказываются в непрерывном взаимодействии. Процессы,
происходящие в умах людей, не менее важны, чем события, совершающиеся
вокруг. Культура, как правило, меняется медленно, однако все-таки меняется,
причем происходит это именно через взаимодействие с окружающей средой.
Культура не ограничивается одними только мифами, распространяемыми для
обоснования власти (хотя это и является ее важным компонентом). Она
отражает все историческое наследие и опыт жизни данного народа.
Некоторые сторонники теории постмодернизации свертывают непрерывное
пространство, лежащее между культурой и принуждением, по существу
сводя культуру к скрытой форме принуждения. Мы не можем с этим
согласиться. Мы полагаем, что возможна и коммуникация без принуждения,
причем в условиях зрелого индустриального общества эти возможности
расширяются.
Несмотря на то, что демократии Западной Европы и Северной Америки
возглавили переход к постматериалистическим ценностям, наша теория
гласит, что этот процесс охватит и другие нации, достигшие высокого уровня
благосостояния и создавшие современные системы социального
обеспечения. Поэтому такой переход должен осуществиться в Восточной
Азии (где ряд стран вышел сегодня на западные уровни благосостояния) и
даже в Восточной Европе. Согласно теории изменения ценностей, в любом
обществе более высокая доля постматериалистов будет встречаться среди
представителей
младшего
поколения,
добившегося
достаточного
экономического роста за последние четыре-пять десятилетий, поскольку до
наступления взрослого возраста они жили в условиях значительно большей
экономической безопасности, нежели те, кому сегодня за пятьдесят,
шестьдесят или семьдесят.
На первый взгляд маловероятно, чтобы изменение системы ценностей путем
замены одного поколения другим осуществилось в странах Восточной
Европы, поскольку там уровень благосостояния значительно ниже, чем в
Западной Европе или в США, а в настоящее время они еще и переживают
экономический спад. Одна- ко абсолютный уровень благосостояния страны
не имеет решающего значения; согласно теории изменения ценностей, вопервых, страны с высокими уровнями благосостояния должны иметь
относительно более высокие уровни постматериалистических ценностей, и,
во-вторых, страны с высокими темпами экономического роста должны иметь
значительно большие различия между ценностями младшего и старшего
поколений, отражающие то обстоятельство, что разительно отличались сами
условия их формирования.
Таким образом, от России и других стран Восточной Европы не следует
ожидать высоких абсолютных уровней постматериализма. Однако они
должны тем не менее демонстрировать значительные межгенерационные
изменения в системе ценностей, отражающие крупномасштабные различия
между условиями времен первой мировой войны, Великой депрессии и
второй мировой войны, с одной стороны, и условий, в которых
формировались поколения последующих периодов. Важнейшим фактором,
определяющим становление постматериалистических ценностей, является
наличие или отсутствие ощущения экономической и физической
безопасности в годы формирования личности. Соответственно, следует
ожидать, что последние 50 лет в Восточной Европе и в бывшем Советском
Союзе сопряжены с развитием постматериалистических ценностей. Несмотря
на то, что валовой национальный продукт на душу населения в этих странах
отстает от аналогичных показателей западных стран, он намного превышает
уровень, необходимый для обеспечения выживания (и в несколько раз
превосходит показатели таких стран, как Китай, Нигерия или Индия). Во
всем бывшем социалистическом мире представители молодого поколения в
годы своего формирования испытывали, как правило, чувство большей
безопасности, чем старшее поколение. <...>
С 1945 примерно по 1980 год большинство восточноевропейских стран
характеризовали весьма высокие темпы экономического роста; в первые
десятилетия даже казалось, что они смогут догнать и перегнать Запад.
Начиная с 1980 года их экономика стала приходить в упадок, однако нет
никаких сомнений, что средний житель Польши или России в период с 1950
по 1980 год чувствовал себя в гораздо большей экономической и физической
безопасности, чем в период с 1915 по 1945 год.
Становлению постматериалистических ценностей в Восточной Европе может
содействовать и то обстоятельство, что системы со- циального обеспечения
социалистических государств отчасти компенсировали сравнительно низкий
уровень жизни населения. Ключевым фактором в смене ценностей является
не абсолютный доход, а степень безопасности, которая характеризует годы
формирования личности. Коммунистические режимы стран Восточной
Европы обеспечивали сравнительно безопасное существование на
протяжении основной части послевоенного периода: практически
гарантирована была работа, квартирная плата оставалась низкой,
производство основных продуктов питания пользовалось субсидиями, а
медицинское обслуживание и образование предоставлялись на бесплатной
основе. Все это, правда, было низкого качества, зато распределялось на всех.
Противоположность Восточной Европе представляет Восточная Азия.
Пятьдесят лет назад уровень развития последней был очень низким; еще в
1950 году доход на душу населения в Японии был в несколько раз меньше,
чем в таких странах Восточной Европы, как Чехословакия, Польша или
Венгрия, а доход на душу населения в Китае и Южной Корее был в
несколько раз ниже, чем в Японии. Однако в последние десятилетия
Восточная Азия (включая Китай, где у власти с 1976 года стоят политики
прагматического
толка)
демонстрирует
самые
высокие
темпы
экономического роста в мире. К 1990 году доход на душу населения в
Южной Корее и на Тайване достиг уровня восточноевропейских стран, а
Япония вошла в число наиболее богатых стран мира. Даже в Китае темпы
ежегодного роста составляют около 10 процентов, благодаря чему ВНП
удваивается каждые семь лет.
Нам удалось обнаружить убедительные свидетельства того, что политическая
культура тесно связана с уровнем и стабильным характером демократии.
Однако определение причинно-следственного направления тех или иных
взаимосвязей в области социальных наук всегда сопряжено с трудностями.
Один из способов раскрытия взаимосвязей между культурой и демократией
заключается в подходе, в соответствии с которым они отражают духовное
воздействие экономического детерминизма, когда хозяйственное развитие
обеспечивает расцвет определенного вида культуры, а также
демократических институтов, причем культура не рассматривается в качестве
фактора, оказывающего свое воздействие. Однако наш анализ показывает
несостоятельность такого подхода: экономическое развитие действительно
играет важную роль, однако его по- следствия проявляются в основном через
те изменения, которые оно привносит в культуру и структуру общества.
Иной подход, способный объяснить характер наблюдаемой нами взаимосвязи
между культурой и демократией, может быть охарактеризован таким
термином, как институциональный детерминизм. Согласно этому подходу,
взаимосвязи между культурой и демократией существуют постольку,
поскольку демократические институты определяют базовую культуру.
Институты действительно влияют на политику и экономику. Однако они не
могут служить объяснением самих себя, и значение той роли, которую они
играют, во многом зависит от характера той или иной деятельности, о
влиянии на которую идет речь. Например, институты оказывают серьезное
воздействие на такое специфическое и в высшей степени формальное
поведение, как участие в выборах. Политические выборы представляют
собой действие, подразумевающее участие в нем среднего гражданина раз в
четыре-пять лет, и поддаются жесткому институционному контролю.
Например, путем простого изменения законов можно мжовенно расширить
электорат, включив в него женщин или лиц в возрасте от 18 до 20 лет. Либо
же, введя суровые санкции против тех, кто уклоняется от голосования,
можно резко увеличить долю участников. Например, в бывших
социалистических странах неизменно сообщалось, что число участвовавших
в голосовании составило 98—99%, причем Албания может считаться
рекордсменом в этой области: сообщалось, что в последних выборах Энвера
Ходжи приняло участие 99,99% избирателей. И хотя выборы проходили на
однопартийной основе, властям удалось заставить прийти в избирательный
участок практически каждого. Вопрос сводится к тому, что политической
верхушке несложно манипулировать показателями участия в голосовании:
последние совершенно не обязательно отражают реальный выбор или
глубоко укоренившиеся предпочтения со стороны народных масс.
Стабильная демократия, напротив, зависит от того, насколько глубоко в
обществе укоренилось ощущение легитимности. Нельзя просто
провозгласить недоверие народа чем-то незаконным, как и нельзя по закону
обязать каждого быть довольным своей жизнью: легитимности
правительства это не обеспечит и к появлению доверия в обществе не
приведет.
Доверие
и
легитимность
обладают
гораздо
более
сложными
характеристиками, чем процент участвующих в голосовании, и в го- раздо
меньшей
степени
поддаются
манипулированию
со
стороны
институциональных структур. Они отражают все историческое наследие
данного общества, причем его политические институты выступают в
качестве лишь одного из многих факторов. Аналогичным образом,
экономический рост не зависит только от наличия нужных институтов: есть
множество примеров, когда обществу, располагающему комплексом таких
институтов, не удается обеспечить экономический рост. И напротив, высокие
темпы экономического роста достигаются обществами, институты которых
варьируются от демократических до авторитарных, экономика — от
рыночной до централизованной, а предприятия — от небольших фирм до
огромных индустриальных конгломератов.
То же самое относится и к вопросам стабильности демократии. Если бы для
ее обеспечения было достаточно «правильных» институтов, жить в нашем
мире сегодня было бы гораздо приятнее. Достаточно было бы размножить на
ксероксе конституцию США и разослать ее всем правительствам мира. К
сожалению, реальность гораздо сложнее: то обстоятельство, что каждое
общество имеет характерную для него экономическую и социальную
структуру, а также культурное наследие, может оказать решающее
воздействие на сохранение или, напротив, гибель демократии в данном
обществе.
Например, бывший Советский Союз имел (на бумаге) одну из наиболее
демократических конституций в мире, гарантирующую высокие уровни
гражданских прав и политических свобод, вплоть до проведения
референдумов, отзыва судей и прочих просвещенных примет времени.
Великобритания, с другой стороны, вообще не имеет письменной
конституции: базовые стандарты демократии существуют только в виде
неписаных норм. Однако в Советском Союзе конституционные гарантии не
имели реального обеспечения, тогда как в Великобритании они в целом
соблюдались, в результате чего практика здесь и там отличалась, как день от
ночи. Сегодняшние споры между сторонниками институционального и
бихевиористского подходов зиждутся на ошибочной предпосылке
обособленности этих подходов. На деле все обстоит иначе. Формальные
институты и политическая культура находятся в симбиотичес-кой
взаимосвязи, причем институты становятся бихевиористской реальностью
лишь постольку, поскольку они оказываются частью политической культуры.
Интерпретация
этих
выводов,
основывающаяся
на
принципе
институционального детерминизма, гласит, что уровень межличностного
доверия в обществе определяется продолжительностью опыта жизни в
условиях демократических институтов. Мы же, напротив, считаем, что
межличностное доверие отражает все историческое наследие общества,
причем его политические институты играют роль всего лишь одного из
многих факторов. И хотя мы не располагаем достаточной по времени серией
данных для убедительного анализа, модели институционального
детерминизма оказываются несостоятельными в тех случаях, по которым мы
имеем в своем распоряжении такие серии. Например, жители Северной и
Южной Италии вот уже 125 лет, с момента объединения страны, живут в
условиях одинаковых политических институтов. Тем не менее в Северной
Италии в обществе сохраняются гораздо более высокие уровни
межличностного доверия, чем на юге страны; со всей очевидностью можно
говорить, что эти различия в уровнях доверия отражают нечто иное, чем
просто присутствие или отсутствие демократических институтов. Еще более
наглядным опровержением институционального детерминизма служит
пример Соединенных Штатов. Эта страна относится к числу старейших
демократий мира и демонстрирует относительно высокие уровни
межличностного доверия (хотя отнюдь и не самые высокие в мире). Но
действительно ли эти высокие уровни обусловлены демократическими
институтами страны? Явно нет, поскольку степень доверия к правительству
среди американской общественности за последние несколько десятилетий
резко упала: в 1958 году только 24 процента американцев выражали
недоверие национальному правительству, а в 1992 году эта цифра составила
ни много ни мало как 80 процентов. Однако этот упадок доверия к
правительству не нашел своего отражения в уменьшении межличностного
доверия, которое оставалось относительно стабильным и сократилось лишь в
незначительной мере. Оно явно следовало иному направлению развития, и
это позволяет предположить, что межличностное доверие не определялось
практическим опытом американского населения в политической сфере. <...>
Наряду с этими эмпирическими выводами существуют теоретические
предпосылки, также заставляющие сомневаться в институциональном
детерминизме. Чтобы проиллюстрировать эту мысль, обратимся к такому
другому важному фактору переменного характера, как личное
благосостояние граждан. Существуют очевидные причины, по которым
демократические режимы не в состоянии выжить без поддержки масс: если
общественность их не поддерживает, она просто голосует против них, и
такие режимы исчезают. Классическим примером является Веймарская
республика в Германии, где Гитлер в 1933 году пришел к власти; совсем
недавно аналогичная вещь произошла в Алжире, где военные взяли власть,
чтобы не дать ей попасть в руки демократически избранной партии
исламских фунда-менталистов; в 1996 году до этого чуть было не дошло дело
в России, причем там это вполне еще может случиться. Но если мы
попытаемся поменять местами причину и следствие, то окажется, что не1
очевидных причин, по которым демократические режимы обязательно
должны обеспечивать более высокие уровни личного благосостояния своих
граждан по сравнению с авторитарными. История свидетельствует, что порой
это удается, а порой и нет. В Германии Веймарской республике явно не
удалось обеспечить высокие уровни благосостояния. однако правительство в
Бонне смогло это сделать. В России личное благосостояние было выше при
авторитарном советском режиме, чем при сегодняшнем, более
демократическом. Как свидетельствуют данные обследования «World
Values», в 1990 году (за год до падения диктатуры в Советском Союзе) своей
жизнью в целом были недовольны 33 процента российских граждан. В
результате аналогичного обследования, проведенного в 1995 году,
обнаружилось, что своей жизнью в целом недоволен 51 процент, т.е.
абсолютное большинство. Жизнь граждан России в условиях демократии не
только не обеспечила субъективного благосостояния автоматическим
образом, но и по сей день связана со снижением удовлетворенности жизнью
в целом.
В отличие от тоталитарных режимов, демократия прилагает лишь скромные
усилия к изменению своей базовой культуры: сама ее суть заключается в том,
что она отражает предпочтения граждан, а не пытается такие предпочтения
навязывать. В высшей степени маловероятно, чтобы та тесная взаимосвязь,
которую мы обнаружили между культурой и демократией, объяснялась тем,
что демократические институты каким-то путем создают новую культуру. Не
исключено, что в какой-то степени они содействуют ощущению
межличностного доверия и проявляют некую тенденцию к повышению
уровня личного благосостояния, однако этот процесс, как представляется, в
основном работает в обратном направлении: массовое благосостояние и
доверие имеют важнейшее значение для жизнеспособности демократических
институтов.
Утверждение, что экономический рост испытывает частичное воздействие со
стороны культурных факторов, считалось и считается в высшей степени
спорным. Одна из причин неприятия этого тезиса заключается в том, что на
культуру часто смотрят как на универсальную и неотъемлемую черту
данного общества; поскольку же культура определяет экономический рост,
следует отказаться от надежды на экономическое развитие, так как культура
измениться не может.
Но если мы подходим к культуре как к чему-то такому, что может быть на
практике измерено в количественном плане, эта иллюзия универсальности и
неотъемлемости развеивается. Нам приходится отказаться от таких грубых
стереотипов, как «Немцы всегда склон-ны к милитаризму» или «Испанская
культура экономическому развитию не благоприятствует». Вместо этого мы
имеем возможность перейти к анализу конкретных компонентов данной
культуры в данное время. Построенные по такому принципу исследования
показывают, что с 1945 по 1975 год политическая культура Западной
Германии претерпела коренные изменения, перейдя от относительного
авторитаризма к демократии и активизации политической деятельности масс.
Мы обнаруживаем, что с 1970 по 1995 год Соединенные Штаты Америки и
ряд стран Западной Европы претерпели постепенный межгенерационный
сдвиг от доминирующих материалистических приоритетов в направлении
ценностей все более постматериалистического характера. Несмотря на то,
что эти преобразования были постепенными, они свидетельствуют, что даже
ключевые элементы культуры могут меняться и действительно меняются.
Помимо этого, эмпирические исследования способны содействовать
выявлению специфических компонентов культуры, в наибольшей степени
влияющих на экономическое развитие. Совершенно не нужно стремиться к
тому, чтобы изменить весь образ жизни общества. Последние результаты
позволяют сделать вывод, что ключевую роль в экономическом росте играет
такой специфический компонент, как мотивация к успеху. В краткосрочной
перспективе не так просто изменить даже столь узкий и четко определенный
культурный компонент, однако это представляется гораздо более простой
задачей, чем попытка изменить культуру общества в целом. Одним из шагов
в правильном направлении может оказаться простое ознакомление
родителей, школ и других организаций с соответствующими подходами в
этой области.
Как предположил Вебер более 90 лет назад, культурные факторы играют
важную роль в экономическом развитии; различия между обществами
зависят от того, в какой степени они делают акцент на бережливость,
накопительство, индивидуальный экономический успех, в отличие от
традиционных обязательств перед своим сообществом; те общества, которые
возводят во главу угла ценности, относящиеся к первой категории, будут
демонстрировать, как правило, более высокие темпы роста.
Означает ли это, что общества, которые обращают особое внимание на
традиционные ценности, обречены на постоянное отставание в развитии? Ни
в коем случае. К такому заключению может привести только устаревший,
замшелый взгляд на культуру. Мы подчеркиваем, что культура — это не
константа, а фактор переменного характера. Несмотря на то, что
промышленная революция взяла свое начало в преимущественно
протестантских странах, «протестантская этика» распространилась в
католических государствах Европы, которые сегодня характеризуются более
высокими темпами роста, чем Северная Европа. Более того, именно потому,
что они менее развиты, страны с низким уровнем дохода в конечном счете
получают преимущества перед богатыми государствами: они располагают
относительно дешевой рабочей силой, которая рано или поздно начинает
привлекать капиталовложения со стороны более богатых стран. Например, в
послевоенный период более богатые североевропейские страны начали
строить заводы в Южной Европе, а денежные переводы, поступающие от
иностранных рабочих в странах Севера, помогли экономическому подъему
южных стран. Позже это произошло в Восточной Азии, где японская рабочая
сила стала чересчур дорогостоящей по сравнению с рабочей силой соседних
стран. Японские капиталовложения потекли в другие страны Восточной
Азии, а затем и в Юго- Восточную и Южную Азию, где одновременно стало
развиваться производство отдельных компонентов для японской продукции.
Эта тенденция охвата экономическим развитием стран, располагающих более
дешевой и рентабельной рабочей силой, сопровождается и другим
процессом: культурные изменения в развитых странах в конечном счете
влекут за собой переход от экономичес- кого роста любой ценой к большему
вниманию, уделяемому охране окружающей среды. Постматериалистические
ценности могут также играть важную роль в отказе от акцента на
бережливость и накопительство, путь даже их влиянию противостоит то
обстоятельство, что они распространены в относительно богатых странах,
которые по самым различным причинам характеризуются низкими темпами
роста.
Есть очевидная логика в том, что культуры, нацеливающие на бережливость
и целеустремленность, демонстрируют, как правило, высокие темпы роста:
бережливость обусловливает возможность более высоких уровней
инвестиций. Однако, если мы попытаемся придать этой причинноследственной связи обратное направление, то увидим отсутствие очевидной
причины, по которой быстрый рост должен вести ко все большему акценту
на бережливость: совсем напротив. В данном случае следует, скорее, ожидать
высоких уровней траты средств. Пока мы не располагаем достаточными
сериями данных в области культуры, мы не вправе считать этот вопрос
решенным, однако имеющиеся свидетельства дают все основания
предположить, что определенные культурные ценности оказывают
существенное воздействие на экономический рост.
Постановка вопроса типа «Культурные или экономические факторы
обусловливают хозяйственный рост?» просто неправомерна. Культурные
факторы тесно связаны с факторами экономическими, самым наглядным
образом объясняя, почему в долгосрочной перспективе одни общества
демонстрируют гораздо более высокие темпы экономического роста, чем
другие. Теоретическая модель, учитывающая как культурные, так и
экономические факторы, обладает гораздо большей актуальностью и
объясняет гораздо больший спектр изменения различных показателей, чем
модель, опирающаяся лишь на экономику.
Оглавление
Новая постиндустриальная волна на Западе
Оглавление
Мануэль Кастельс. Могущество самобытности
Мануэль Кастельс, один из самых известных сегодня европейских
социологов, родился в 1942 году в Испании. Он окончил Мадридский
университет и получил докторскую степень в 1966 году. С 1967 по 1979 год
преподавал социологию в университете Нантерра (Франция), где получил
звание профессора в 1972 году. В 70-е, 80-е и в первой половине 90-х годов
он также преподавал и вел исследовательскую работу в университетах
Мадрида, Монреаля, Каракаса, Мехико, Женевы, Копенгагена, штата
Висконсин, Бостона, Южной Калифорнии, Гонконга, Сингапура, Тайваня,
Амстердама, Барселоны и Токио. М.Каст&гьс многократно бывал в СССР и
России, участвуя в работе исследовательских групп в Московском и
Новосибирском университетах. С 1979 по 1995 год он зани-ма/1 должность
профессора социологии и социального планирования в Калифорнийском
университете в Беркли, с 1995 года по настоящее время он является
директором Центра западноевропейских исследований того же университета.
Профессор Кастельс широко известен своими многочисленными работами по
широкому кругу социологических проблем — от теории информационного
общества до вопросов экологической опасности, от концепции перехода к
рыночному хозяйству до исследования мировой криминальной экономики.
М. Кастельс автор двадцати книг, в том числе таких широко известных, как
«Экономический кризис и американ- ское общество» [1980], «Город и
городские массы» [1983] и «Город в информационный век» [1989]. Трилогия
«Информационная эра: экономика, общество и культура» [1996—1998] стала
самой масштабной попыткой осмысления сегодняшнего состояния и путей
развития человеческой цивлшзации. Его работы отмечены многочисленными
премиями. Профессор Кастельс является также членом Высшего экспертного
совета по проблемам информационного общества при Комиссии европейских
сообществ и действительным членом Европейской академии с 1994 года.
Ниже мы приводим отрывки из второго тома указанной трилогии,
озаглавленного автором «Могущество самобытности». В третьей части
сборника мы обратимся к выдержкам из первого тома его работы —
«Становление сетевого общества».
Как всему трехтомнику, так и второй его части присущ специфический
подход, в соответствии с которым автор рассматривает формирующуюся
сегодня в глобальном масштабе социальную структуру как сетевое общество.
Его важнейшей чертой выступает даже не доминирование информации или
знания, а изменение направления их использования, в результате чего
главную роль в жизни людей обретают глобальные, «сетевые» структуры,
вытесняющие прежние формы личной и вещной зависимости.
Автор подчеркивает, что такое использование информации и знаний ведет к
совершенно особой социальной трансформации, к возникновению
«информационализма», причем значение данного перехода для истории
человечества столь велико, что он не может даже быть сопоставлен с
переходами ни от аграрного к индустриальному, ни от индустриального к
сервисному хозяйству. Такой подход выделяет М.Ка-стельса из рядов
приверженцев традиционной версии постиндустриализма, но столь жесткие
заявления остаются в работе без достаточного обоснования.
Обращаясь к анализу социальной структуры возникающего общества, что и
рассматривается им во втором томе, профессор Кастельс строит свое
исследование вокруг противопоставления социума и личности, причем
отмечает, что их взаимоотношения с наступлением информационной эры не
только не гармонизируются, но, скорее, становятся все более напряженными.
По его мнению, современные общества во все возрастающей степени
структурируются вокруг противостояния сетевых систем (Net) и личности
(Self), причем именно глобализация и реструктуризация хозяйства,
поя&гение организаци- онных сетей, распространение культуры виртуальной
реальности и развитие технологии ради лишь самого такого развития и
вызывает к жизни тот феномен, который автор рассматривает как нарастание
самобытности (the rise of identity), помогающее человеку противостоять
внешнему миру.
Мы не отрицаем возможности и плодотворности подобного подхода, однако
полагаем, что проблема самовыражения личности понимается автором
несколько односторонне. Профессор Кастельс определяет самовыражение
человека как некий самодостаточный процесс, в ходе которого субъект
осознает себя и осмысливает ценностные ориентиры своей деятельности на
основе определенного культурного подхода образом, исключающим
необходимость широкого обращения к иным социальным структурам.
С одной стороны, он трактует данное явление в весьма различных формах,
отмечая существование биологической и культурной самобытности,
указывая на продолжающуюся в современном мире борьбу идеологической и
исторической самобытности, противопоставляет в том же ключе социобиологические черты человека, как бы замыкающие его в узких сообществах,
и глобальные черты, инкорпорирующие его в новые мировые структуры, и,
наконец, доходит даже до анализа «самобытности тела», которое
рассматривается им как следствие изменившихся представлений о
содержании и роли сексуальности, и исследует роль в становлении новых
общественных отношений движений, порождаемых стремлениями к
сексуальной свободе.
С другой стороны, он выделяет три типа самосознания, каждый из которых
способен выступать реальным движителем социального прогресса. Первый,
обозначенный им как «законообразующее самосознание» (legitimizing
identity), характерен для индустриального строя и соответствует системе
ценностей, порождающей традиционное гражданское общество и
национальное государство; второй — «самосознание сопротивления»
(resistance identity, or identity for resistance) — обусловливает переход к
новому типу ценностей, формирующемуся вокруг признания значения
локальных общностей, тех, которые вслед за А.Этциони он называет
community; третий же, обозначаемый им как project identity, становится
основой формирования личности как Субъекта (sujet) в понимании А.
Турена.
Эти два уровня рассмотрения феномена самосознания приводят профессора
Кастелъса к резкой, на наш взгляд, переоценке роли социальных движений,
характеризующихся прежде всего выражением про- mecma против
существующих форм общественных структур; само наличие в них такой
направленности позволяет автору относить их в разряд значимых явлений
современного мира, несмотря на то, что порой они несут серьезный
деструктивный заряд. Характерно, что распространение криминальной
экономики исследуется М.Кастельсом в первую очередь с точки зрения
культурной самобытности криминальных структур как специфического рода
сообществ, а воспеваемая им самореализация в сопротивлении признается
уходящей корнями в самосознание тела (body identity), то есть в область
бессознательного и биологического.
Общее впечатление от работы М.Кастельса остается весьма противоречивым.
Трудно преодолеть отношение к ней как к не слишком удачной попытке
обобщить огромное количество новых фактов, характеризующих развитие
цивилизации в последние десятилетия. Автор предлагает читателю
впечатляющий массив новой информации, цифр, таблиц, схем и графиков, но
все эти сведения характеризуют те тенденции, которые не могут, на наш
взгляд, рассматриваться как определяющие базовые направления развития
постиндустриального общества. Увлекаясь различными формами выражения
культурного, социального и личностного протеста, автор движется на уровне
поверхностных явлений, в то время как попытки глубокого теоретического
анализа, если они и встречаются, мало соотносятся с большинством
изложенных в работе фактов.
Выбирая для этого сборника отрывки из второго тома, которые максимально
характеризовали бы его содержание, мы столкнулись с задачей,
показавшейся нам просто невыполнимой. Поэтому, полагая, что традиционно
авторы склонны формулировать наиболее важные теоретические положения
в качестве системы выводов, которые они делают в завершение проведенного
исследования, мы считаем возможным предложить читателям полный текст
заключения ко второму тому трилогии, названного автором «Социальные
преобразования в обществе сетевых структур» (этот текст соответствует стр.
354— 362 в издании Blackwell Publishers). Более подробно методология
исследования, применяемая М.Кастельсом, противоречия, содержащиеся в
его работе, и ее влияние на современные социальные исследования
проанализированы нами в специальной рецензии (см.: Иноземцев В.Л.
Возвращение к истокам или прорыв в будущее? // Социологические
исследования. №8. 1998. С. 140-147. ) МОГУЩЕСТВО САМОБЫТНОСТИ*
На заре информационного века кризис легитимности лишает институты
индустриальной эпохи их смысла и их функций. Современное национальное
государство, над которым начинают довлеть глобальные сети богатства,
могущества и информации, переживает значительное сужение своего
суверенитета. Прибегая к попыткам стратегического вмешательства в эти
глобальные проблемы, оно теряет возможность представлять контингента
избирателей, организованные по территориальному признаку. В мире, где
каждое явление становится неоднозначным, разрыв между нациями и
государствами, между политикой представительства и политикой
вмешательства ведет к распаду политически подотчетной единицы, на
которой строилась либеральная демократия в течение двух последних
столетий. Упадок государства всеобщего благоденствия, сняв с общества
определенную бюрократическую нагрузку, привел к ухудшению условий
жизни большинства его граждан, к разрыву исторического социального
контракта между капиталом, трудом и государством, к значительной утрате
социальной защищенности, обеспечение которой в глазах рядового человека
составляло саму суть существования правительства. Страдая от
интернационализации финансовой и производственной сферы, неспособное
адаптироваться к сетевой структуре фирм, к индивидуализации труда,
сталкиваясь с проблемой изменения пропорций занятости в результате
исчезновения разделенности работников по признаку пола, рабочее движение
перестает выступать в качестве основного фактора социальной сплоченности
и представителя интересов рабочего класса. Оно не исчезает, но становится,
главным образом, политическим агентом, одним из привычных социальных
институтов. Основные конфессии, практикующие нечто вроде светской
формы религии, зависящей либо от государства, либо от рынка, во многом
утрачивают свою способность диктовать прихожанам их действия в обмен на
спасение души и распродажу небесной недвижимости. Оспаривание роли
старшего наряду с кризисом семьи с ее иерархией нарушает упорядоченную
последовательность передачи культурных кодов от поколения к поколению и
колеблет основы личной защищенности, заставляя тем самым мужчин,
женщин и детей искать новый образ жизни. Политические доктрины,
основывающиеся на промышленных институтах и организациях, начиная от
демократического либерализма, зиждущегося на национальном государстве,
и кончая опирающимся на труд социализмом, в новых социальных условиях
оказываются лишенными своего практического смысла. В результате этого
они теряют привлекательность и, в стремлении выжить, идут по пути
бесконечных мутаций, болтаясь за спиной нового общества, как пыльные
знамена забытых войн.
В результате всех этих процессов иссякли истоки того, что я называю
легитимной самобытностью. Институты и организации гражданского
общества, которые строились вокруг демократического государства, вокруг
социального контракта между капиталом и трудом, превратились в пустые
скорлупки, все менее соотносящиеся с жизнью людей. <...> Трагедия и фарс
заключаются в том, что в тот момент, когда большинство стран мира наконец
завоевали себе доступ к институтам либерализма (которые, на мой взгляд,
являются основой любой политической демократии), эти институты
оказались столь далеки от структур и процессов, играющих сегодня
реальную роль, что большинству они представляются издевательской
усмешкой на новом лице истории. В конце тысячелетия голыми оказались и
король, и королева, и государство, и гражданское общество, а их гражданедети разбросаны ныне по самым различным приютам.
Распад единой самобытности, равнозначный распаду общества как разумной
социальной системы, вполне может оказаться приметой нашего времени.
Ничто не говорит о возникновении новых форм самобытности, о том, что
социальные движения будущего должны воссоздать цельность общества, что
появятся новые институты, обращенные в светлое завтра. На первый взгляд,
мы являемся свидетелями становления мира, который состоит из одних
рынков, сетей, индивидуумов и стратегических организаций и, на первый
взгляд, подчиняется структурам «рациональных ожиданий», за исключением
тех случаев, когда подобный «рациональный индивидуум» внезапно может
пристрелить своего соседа, изнасиловать маленькую девочку или распылить
в метро нервно-паралитический газ. Этот новый мир не испытывает
необходимости ни в какой форме самобытности: базовые инстинкты, рычаги
власти, нацеленность на свои собственные интересы, а на макросоциальном
уровне, «отчетливые черты кочевника-варвара, <...> угрожающего разрушить
все границы и делающего проблематичными международные политикоюридические и цивилизованные нормы»1. Точкой опоры этого мира могли
бы стать, как мы уже убеждаемся в ряде стран, национальное
самоутверждение на останках государственных структур, отказ от любой
претензии на легитимность, забвение истории и взятие на вооружение
принципа власти во имя самой власти, иногда задрапированного в тогу
националистической риторики. <...> Перед нами предстают зародыши
общества, Weltanschauung которого способно раздваиваться между старой
логикой Macht и новой логикой Selbstanschauung2.
Однако мы также отмечаем и становление мощной «самобытности
сопротивления», которое находит себе опору в ценностях сообщества и не
поддается напору глобальных тенденций и радикального индивидуализма.
Такая самобытность строит свое сообщество на традиционных ценностях
Бога, нации и семьи, возводя укрепления вокруг своего лагеря, созданного по
этническому и территориальному признакам. Самобытность сопротивления
не ограничивается традиционными ценностями. Она также может строиться
при
помощи (и
вокруг)
проактивных
социальных
движений,
предпочитающих утверждать свою самостоятельность именно через
общинное сопротивление, пока они не наберутся достаточных сил для того,
чтобы подняться в наступление против институтов угнетения, которым они
противостоят. В целом это справедливо в отношении женского движения,
создающего свое пространство там, где может формироваться новое
антипатриархальное сознание; именно так обстоит дело в отношении
движений за сексуальное освобождение, чьи пространства свободы, начиная
от баров и кончая соседскими кварталами, выступают в качестве основных
средств самоутверждения. Даже движение экологистов, конечный горизонт
которого уходит в космос, чаще всего начинается в малых сообществах по
всему миру, защищая сначала пространство, прежде чем вступить в схватку
со временем.
Таким образом, самобытность сопротивления получает в обществе сетевых
структур столь же повсеместное распространение, как и индивидуализм, что
является
результатом
исчезновения
некогда
существовавшей
легитимизирующей самобытности, на основе которой в промышленную
эпоху строилось гражданское общество. Однако эта самобытность только
сопротивляется, а в коммуникацию вступает крайне редко. Она не вступает в
контакт с государством, за исключением случаев борьбы и проведения
переговоров с ним по поводу защиты своих особых интересов и ценностей.
Она редко взаимодействует с другими видами самобытности, поскольку
строится на четко определенных принципах, в соответствии с которыми
понятия «свой» и «чужой» определены раз и навсегда. А поскольку свой путь
к выживанию такая самобытность видит в логике сообщества,
индивидуальные самоопределения здесь не приветствуются. Таким образом,
складывается картина, один из компонентов которой составляет
доминирующая, глобальная элита, существующая в пространстве потоков и
состоящая, как правило, из индивидуумов, обладающих менее ярко
выраженной самобытностью («граждане мира»); но на этой картине
одновременно присутствуют и люди, сопротивляющиеся лишению своих
привилегий в экономической, культурной и политической областях и
тяготеющие к самобытности сообщества.
Поэтому мы должны зафиксировать в динамике общества сетевых структур
еще один слой. Наряду с государственными аппаратами, глобальными сетями
и эгоцентричными индивидуумами в нем также существуют сообщества,
сформировавшиеся
вокруг
самобытности
сопротивления.
Однако
гармоничного сочетания всех этих элементов не происходит, их логика
является взаимоисключающей, а их сосуществование вряд ли окажется
мирным. Важную роль здесь начинает играть возникновение самобытности,
устремленной в будущее (project identity), которая в теории спо- собна
воссоздать нечто подобное новому гражданскому обществу, а в конечном
счете — и новое государство. Я не собираюсь выступать ни с какими
советами или прогнозами в этой области, а остановлюсь лишь на таком
вопросе, как предварительные результаты осуществленного мною изучения
социальных движений и политических процессов. Мой анализ не исключает
возможности того, что в создании будущего общества ведущую роль могут
сыграть социальные движения, которые сильно отличаются от тех, что
рассматриваются на этих страницах. Но на сегодняшний день, к 1996 году,
признаков существования таких движений я пока что не обнаружил.
Новая самобытность, устремленная в будущее, возникает не из былой
самобытности гражданского общества, которой характеризовалась
индустриальная эпоха, а из развития сегодняшней самобытности
сопротивления. На мой взгляд, для такой эволюции существуют основания
как теоретического, так и практического характера. Однако прежде следует
уточнить вопрос о том, каким путем самобытность, устремленная в будущее,
может возникать на основе самобытности сопротивления, о которой шла речь
выше.
То обстоятельство, что сообщество строится вокруг самобытности
сопротивления, не означает, что эта самобытность должна перерасти в
самобытность, устремленную в будущее. Задача такого сообщества может
остаться чисто оборонительной. Или, с другой стороны, оно может
превратиться в группу, имеющую общие интересы, и последовать в своем
развитии логике, которая доминирует в обществе сетевых структур в целом и
сводится к непрерывному процессу заключения тех или иных сделок. Однако
в других случаях самобытность сопротивления может послужить толчком
для самобытности, устремленной в будущее и направленной на
преобразование общества в целом с одновременным сохранением ценностей
сопротивления доминирующим интересам глобальных потоков капитала,
власти и информации.
У религиозных сообществ могут развиться фундаменталистские движения,
направленные на возрождение общественной морали наряду с вечными,
божественными ценностями и на их распространение во всем мире или уж по
крайней мере среди ближайших соседей, с тем чтобы сделать их
сообществом верующих, создав тем самым новый социум.
Что же касается национализма, то <...> его эволюция в информационный век
оказывается менее определенной. С одной сторо- ны, она может привести к
настойчивым попыткам восстановления национального государства и к
стремлению легитимизировать его, придавая при этом гораздо большее
значение национальному компоненту, чем государственному. С другой
стороны, он может подмять под себя современное государство, утверждая
над его интересами интересы нации и формируя многосторонние сети
политических институтов, отличающиеся различной конфигурацией, но
имеющие общий суверенитет.
Этнический фактор, который выступает в качестве важного компонента как
угнетения, так и освобождения, привлекается, как правило, в поддержку
других форм самобытности сообщества (религиозной, национальной,
территориальной), а сам по себе к развитию сопротивления или
устремленности в будущее не ведет.
Территориальная самобытность представляет собой главный фактор
сегодняшней общемировой активизации местных и клерикальных
правительств, которые в наибольшей степени способны адаптироваться к
бесконечному многообразию глобальных потоков. Возвращение на
историческую сцену города-государства является характерной чертой нашего
века глобализации, подобно тому, как это явление сопутствовало расцвету
торговли и становлению международной экономики на заре современной
эпохи.
Женские сообщества, утверждающие свои собственные пространства борьбы
за свободу сексуальной самобытности, в основном стремятся к подрыву
главенствующей мужской роли и к воссозданию семьи на новой, эгалитарной
основе, что влечет за собой исчезновение разделения социальных институтов
по признаку пола, то есть к исчезновению того самого разделения, которое
было характерно для капитализма и государства, где правили «патриархи».
Движения экологистов переходят от защиты своей собственной среды,
здоровья и благосостояния к экологической ориентации на интеграцию
человечества и природы на основе социально-биологической самобытности
видов, исходя из космологической миссии, возложенной на человечество.
Формы самобытности, устремленные в будущее, возникают из
сопротивления сообществ, а отнюдь не из воссоздания институтов
гражданского общества, поскольку и кризис этих институтов, и
возникновение самобытности сопротивления обусловливаются теми новыми
характеристиками общества сетевых структур, которые размывают эти
институты и ведут к появлению новой самобытности. Глобализация,
изменение структуры капитала, создание организационных сетей, культура
виртуальной реальности, уделение основного внимания технологии ради
самой технологии — все эти основные характеристики социальной
структуры информационного века и являются источниками кризиса
государства и гражданского общества в том виде, в котором они
сформировались в индустриальную эпоху. Они также выступают в качестве
тех самых сил, против которых организуется сопротивление различных
сообществ, причем это сопротивление способно дать жизнь новым формам
самобытности, устремленным в будущее. Последние выступают против
доминирующей логики общества сетевых структур, ведя оборонительные и
наступательные бои по трем направлениям новой социальной структуры:
пространство, время и технология.
Вовлеченные в движение сопротивления сообщества защищают свое
пространство, свое место от безродной логики пространства потоков,
характеризующей социальную доминанту информационного века. Они
дорожат своей исторической памятью, утверждают непреходящее значение
своих ценностей в борьбе против распада истории в условиях исчезновения
времени, против эфемерных компонентов культуры виртуальной реальности.
Они используют информационную технологию для горизонтальной
коммуникации между людьми, для проповедования ценностей сообщества,
отрицая новое идолопоклонство перед технологией и оберегая непреходящие
ценности от разрушительной логики самодовлеющих компьютерных сетей.
Экологисты стремятся к обретению контроля за использованием
пространства в интересах и людей, и природы, против внепри-родной,
абстрактной логики пространства потоков. Они утверждают космологическое
видение ледниковой эпохи, интегрируя род человеческий в его постоянно
меняющуюся среду и отрицая распад времени, обусловливаемый логикой
безвременья, которая лишает время его последовательности. При этом они
выступают в качестве сторонников использования науки и технологий в
интересах жизни, одновременно противясь'тому, чтобы жизнь подчинялась
науке и технологиям.
Феминистки и участники движений за утверждение сексуальной
самобытности стремятся обрести контроль за самым ближайшим своим
пространством, за своими телами, выступая против утери своего телесного
воплощения в пространстве потоков, зави- симом от доминирования мужчин,
где переиначенный образ женщины наряду с фетишами сексуальности
выхолащивают их человеческую суть и лишают их своей самобытности. Они
также сражаются за обретение контроля над своим временем, ибо логика
безвременья общества сетевых структур взваливает на женщину выполнение
новых задач и новых функций, не позволяя ей адаптировать свою жизнь к
новому ходу времени. Отчужденное время становится самым конкретным
выражением тяжелой повседневной ноши, возложенной на освобожденную
женщину в условиях неосвобожденной социальной организации. Женские
движения и движения за утверждение сексуальной самобытности также
направлены на использование технологий в интересах осуществления прав
женщин (например, их репродуктивных прав, а также права на контроль за
своим телом), против диктуемых мужчинами форм использования науки и
техники, которые нашли свое выражение в подчинении женщин
произвольным медицинским ритуалам и предрассудкам, а также в
наблюдавшемся одно время нежелании ряда научных учреждений бороться
против СПИДа, когда эта болезнь считалась уделом гомосексуалистов. В тот
момент, когда человечество выходит на технологические рубежи
социального контроля за биологическим воспроизводством своего вида,
развертывается имеющая важнейшее значение битва между телом как
независимой самобытностью и телом как социальным артефактом. Вот
почему политика, касающаяся самобытности, всегда начинается с
человеческого тела.
Таким образом, доминирующая логика общества сетевых структур выдвигает
свои собственные проблемы в форме самобытности сопротивления
сообщества, а также в форме самобытности, устремленной в будущее,
которая может возникнуть в таких пространствах, ни основе таких условий и
таких процессов, которые характерны для каждого конкретного
институционального и культурного контекста. Складывающаяся в результате
этого динамика противоречий составляет саму суть того исторического
процесса, на основе которого создается новая социальная структура, кровь и
плоть наших обществ. Где в этой социальной структуре находятся центры
власти? Да и что такое власть в таких исторических условиях? Как
утверждалось и, в определенной степени, доказывалось в настоящем и
первом томе этой книги, власть больше не является уделом институтов
(государства), организаций (капиталистических фирм) или носителей
символов (корпоративных средств информации и церкви). Она
распространяется по глобальным сетям богатства, власти, информации и
имиджей, которые циркулируют и видоизменяются в системе с
эволюционирующей конфигурацией, не привязанной к какому-то
определенному географическому месту. Но тем не менее власть не исчезает.
Власть по-прежнему правит обществом, определяет наши жизни и довлеет
над нами. Это объясняется не только тем, что механизмы различного рода
по-прежнему располагают возможностью приводить в подчинение тела и
заставлять умолкать умы. Такая форма власти носит одновременно и вечный,
и угасающий характер. Вечный потому, что люди были и останутся
хищниками. Однако в ее сегодняшней форме она угасает: осуществление
такого рода власти становится все более неэффективным с точки зрения тех
интересов, которым она должна служить. Государства могут применять
оружие, но поскольку облик врага и конкретный объект его притязаний
становятся все более расплывчатыми, государство может применять оружие
лишь самым беспорядочным образом, рискуя в конечном счете пристрелить
само себя.
Новая власть заключается в информационных кодах, в представительских
имиджах, на основе которых общество организует свои институты, а люди
строят свои жизни и принимают решения относительно своих поступков.
Центрами такой власти становятся умы людей. Вот почему власть в
информационный век одновременно можно идентифицировать и нельзя
уловить. Мы знаем, что она собой представляет, однако не способны уловить
ее, поскольку власть является функцией бесконечной битвы вокруг
культурных кодов и кодексов общества. Вне зависимости от того, кто выйдет
победителем в битве за умы людей, именно он будет править миром,
поскольку в обозримом будущем никакие громоздкие, неповоротливые
механизмы не смогут соперничать с умами, опирающимися на власть гибких,
многовариантных сетей. Однако победа может обрести эфемерный характер,
поскольку турбулентность информационных потоков будет держать
используемые коды в состоянии постоянного изменения. Вот почему столь
важна и, в конечном счете, столь могущественна самобытность личности в
этой постоянно меняющейся структуре власти: на основе своего опыта она
формирует интересы, ценности и планы, отказываясь уходить в небытие и
устанавливая свои связи с природой, историей, географией и куль- турой.
Самобытность становится главным центром культуры на целом ряде
участков социальной структуры, ведя отсюда свое сопротивление или свое
наступление в информационной борьбе за культурные коды и кодексы,
формируя поведение человека и, тем самым, новые институты.
Кто же в таких условиях выступает в качестве субъектов информационного
века? Мы уже знаем (или, по крайней мере, я предполагаю, что мы знаем) те
источники, на основе которых они могут возникнуть. Я бы даже добавил,
что, по моему мнению, мы знаем, из каких источников они вряд ли
возникнут. Например, представляется, что рабочее движение исторически
себя изжило. Это не значит, что оно должно полностью исчезнуть (пусть
даже во многих частях мира оно сходит на нет) и до конца потерять свою
актуальность. Ведь профсоюзы сохраняют свое политическое влияние во
многих странах, и зачастую они являются главным, если не единственным
средством, позволяющим рабочим защищать себя от покушений со стороны
капитала и государства. И тем не менее, в условиях сетевых структур и
исторических процессов, которые я попытался раскрыть в первых двух томах
этой книги, рабочее движение вряд ли способно самостоятельно возродить из
своих недр такую устремленную в будущее самобытность, которая сможет
воссоздать
социальный
контроль
и
социальные
институты
в
информационный век. Можно не сомневаться в том, что активисты рабочего
движения займут свое место в рамках нового, преображенного общества.
Однако я далеко не уверен, что так будет обстоять дело и в отношении самих
профсоюзов.
Свой потенциал в качестве самостоятельных носителей социальных перемен
исчерпали и политические партии: их сгубила логика информационной
политики, а их основные платформы, сводящиеся к институтам
национального государства, во многом утратили свою актуальность. Однако
они по-прежнему выступают в качестве важных инструментов, позволяющих
преобразовать
требования
общества
(выражаемые
социальными
движениями) в факторы национальной, международной и наднациональной
политики. И действительно, если социальным движениям приходится
разработать новые коды и кодексы, в рамках которых возможно
переосмысление и восстановление общества, то политические партии
определенного рода (не исключено, что в их новом, информационном
воплощении) по-прежнему выступают в качестве важней- ших носителей
социальных преобразований, обеспечивающих ин-ституционализацию. Они
служат не столько могущественными ин-новаторами, сколько влиятельными
брокерами.
Таким образом, социальные движения, возникающие на основе
сопротивления сообществ против глобализации, изменения структуры
капитала,
создания
организационных
сетей,
неконтролируемого
информационализма и доминирования мужчин, другими словами,
экологисты, феминистки, религиозные фундаменталисты, националисты,
местные движения — все они (в настоящее время) являются потенциальными
субъектами информационного века. Какие формы обретает их
самовыражение? Мой анализ этого вопроса неизбежно носит весьма
умозрительный характер, и тем не менее я считаю необходимым выдвинуть
определенные гипотезы, в максимально возможной степени основывая их на
тех наблюдениях, о которых рассказывалось в настоящем томе.
Те силы, которые являются выразителями устремленной в будущее
самобытности, направленной на изменение культурных кодексов и кодов,
неизбежно должны выступать в качестве носителей символов. Они должны
воздействовать на культуру виртуальной реальности, которая обеспечивает
рамки коммуникаций в обществе сетевых структур, видоизменяя ее в
интересах альтернативных ценностей и вводя новые коды и кодексы,
обусловленные такой активной самобытностью самостоятельного характера.
Я бы выделил две основные категории таких потенциальных сил. К первой
категории я отношу так называемых пророков. Это символические
персоналии, роль которых заключается не в том, чтобы выступать в качестве
харизмати-ческих лидеров или тонких стратегов, а в том, чтобы олицетворять
(при помощи своего истинного лица или маски) то недовольство, которое
имеет символическое значение; они выступают от имени недовольных.
Таким образом, лишенные голоса мятежники обретают голос, а их
самобытность получает возможность включиться в мир борьбы за символы,
имея при этом определенный шанс завоевать власть (в умах людей). Именно
так обстоит дело в отношении субкоманданте Маркоса, руководителя
мексиканских сапатистов. Но так же обстоит дело и в отношении компадре
Паленке в Ла-Пасе и Эль-Альто. И в отношении Асахары, гуру
смертоносного японского культа. С тем чтобы подчеркнуть многообразный
характер выражения таких потенциальных жрецов, приведем в качестве
примера лидера каталонских националистов Хорди Пухола, чья умеренная и
рацио- нальная позиция наряду с даром стратега нередко позволяют скрыть
его страстное стремление к тому, чтобы Каталония в качестве полноправного
члена вошла в число европейских наций; недаром он говорит от ее имени и
пытается восстановить самобытность Каталонии, восходящую к временам
Каролингов. Его можно воспринимать в качестве выразителя новой,
оригинальной, менее огосударствлен-ной разновидности национализма в
Европе информационного века. В качестве примера иного рода можно
привести движение экологис-тов, выразителем идей которого нередко
оказывается популярный рок-певец, такой, как Стинг, ведущий кампанию за
спасение Амазонии, или такая кинозвезда, как Брижит Бардо, вступившая на
путь неустанной борьбы за спасение животного мира. Примером пророка
другого типа можно назвать неолуддита Унабомбера в Америке,
сочетающего традиции анархизма с насильственными средствами защиты
первозданной природы от зол технологии. В рамках как исламских, так и
христианских движений фундаментализма ряд религиозных лидеров (не буду
называть имен) берет на себя аналогичную ведущую роль в деле толкования
священных текстов, вновь утверждая тем самым Божью истину в надежде,
что она найдет и затронет сердце и душу потенциальных верующих.
Движения за права человека также нередко зависят от наличия силы,
выступающей в качестве символа, от не идущих ни на какие компромиссы
личностей; в качестве примера можно привести традицию российского
диссидентства, исторически представленного Андреем Сахаровым, а в 1990-х
годах — Сергеем Ковалевым. Я иду на сознательное смешение понятий в
своих примерах, чтобы показать, что бывают пророки «хорошие» и
«плохие», в зависимости от предпочтений индивидуального характера,
включая мои собственные преференции. Но тем не менее все они являются
пророками в том смысле, что они провозглашают путь, утверждают
ценности, выступают в качестве распространителей символов, сами
становясь символами, так что их идеи оказываются неотторжимыми от их
носителей. Периоды крупномасштабных исторических преобразований,
зачастую осуществлявшихся в условиях гибели институтов и старения
прежних форм политической жизни, всегда были временами появления
пророков. В еще большей степени это должно проявиться при переходе к
информационному веку, другими словами, к социальной структуре,
организованной вокруг информационных потоков и манипуляции
символами.
Однако второй и основной силой, обнаруженной при изучении социальных
движений, является сетевая, децентрализованная форма организации и
вмешательства, характеризующая новые социальные движения, которая
служит отражением и противовесом доминирующей логике сетей в
информационном обществе. Именно так обстоит дело в отношении
экологистов, чье движение строится на основе национальных и
международных сетей, деятельность которых децентрализована. Но, как я
продемонстрировал, так же обстоит дело и в отношении женских движений,
в отношении тех, кто восстает против глобального порядка, в отношении
религиозных движений фунда-менталистов. Эти сети не просто
обеспечивают организацию деятельности и совместное использование
информации. Они на практике выступают в качестве создателей и
распространителей культурных кодов и кодексов, причем не только в рамках
Единой сети, но и во множестве форм взаимообменов и взаимодействий. Их
влияние на общество редко бывает обусловлено единой стратегией,
управляемой из единого центра. Их наиболее успешные кампании, наиболее
яркие инициативы нередко оказываются результатом «турбуленций»,
случающихся в интерактивной сети многоуровневой коммуникации; так
обстоит дело в отношении создания «зеленой культуры», образованной
всеобщим форумом, где одновременно слился воедино опыт сохранения
природы и капитализма. В качестве примера можно привести и упадок
доминирования мужчин, который является результатом обмена опытом
между женщинами в женских группах, женских журналах, магазинах
женской книги, женских фильмах, женских клиниках, женских структурах по
оказанию поддержки в деле воспитания детей. Именно этот
децентрализованный, неуловимый характер сетевых структур социальных
изменений столь затрудняет восприятие и идентификацию новой
самобытности, устремленной в будущее, которая складывается сегодня.
Наше историческое зрение так привыкло к стройным колоннам, ярким
знаменам и писаным прокламациям, провозглашающим социальные
преобразования, что мы теряемся, когда сталкиваемся с подспудно
проникающими повсюду все более широкими изменениями в мире символов,
пропущенных через фильтры самых различных сетевых структур, вдали от
центров власти. Именно на этих задворках общества, будь то альтернативные
электронные сети или же самые низовые сети сопротивления сообщества, я
усматриваю зародыш нового общества, в муках рождаемый историей
благодаря могуществу самобытности.
* - Weizsaecker E., van, Lovins A.B., Lovins L.H. Factor Four. Doubling Wealth
— Halving Resource Use. L., Earthscan Publications Ltd., 1997. Copyright —
Weizsaecker E., von, Lovins А. В., Lovins L.H. 1997. Текст воспроизводится с
согласия Э. фон Вайцзеккера.
1 - См.: Meadows D.H., Meadows D.L, Randers J. Behrens III, W.W. The Limits
to Growth. N.Y., 1972.
2 - Мы называем так эту модель потому, что существовали также модели
World 1 и World 2. World 1 была первоначальной версией, разработанной
профессором Массачусетсского технологического института Дж.Форестером
в рамках проводившегося Римским клубом исследования взаимозависимости
между глобальными тенденциями и глобальными проблемами. World 2
является окончательной документированной моделью, представленной
профессором Дж.Форестером в книге: Forester J. World Dynamics. N.Y., 1971.
Модель World 3 была создана на базе World 2, в первую очередь как
следствие изменения ее структуры и расширения количественной базы
данных. Мы должны отметить, что профессор Дж.Форестер является
безусловным вдохновителем данной модели и автором используемых в ней
методов.
Оглавление
Новая постиндустриальная волна на Западе
Оглавление
Амитаи Этциони. Новое золотое правило. Сообщество и нравственность в
демократическом обществе
Амитаи Этциони родился 4 января 1929 года в Кельне (Германия). Высшее
образование он получил в Израиле (степень бакалавра социальных наук была
присвоена ему Еврейским университетом в Иерусалиме в 1954 году, степень
магистра — тем же университетом в 1956), однако большая часть его
карьеры прошла в США.
В 1958 году А.Этциони получает степень доктора философии в
Калифорнийском университете в Беркли и с 1958 по 1980 год работает в
должности лектора, профессора, а затем декана социологического факультета
Колумбийского университета. С 1978 по 1979 год он также является
сотрудником Brookings Institution в Вашингтоне, а с 1979 по 1980 год —
советником по политическим проблемам в администрации президента Дж.
Картера.
Наибольшую известность как социологу профессору Этциони принесла
разработка концепции коммунитарного общества, которой он посвятил всю
свою жизнь, причем наиболее активно эти проблемы стали исследоваться им
после перехода на должность профессора социологии Университета Дж.
Вашингтона в 1980 году, которую он занимает и поныне. В 1989 году им
было основано Общество социально-экономических исследований, в 1993
году — неправительственная организация «Комму нитарные сети»
(Communitarian Network). С 1993 года он является основателем и редактором
ежеквартального журнала «The Responsive Community».
Профессор Этциони — автор множества научных статей, редактор ряда
коллективных монографий. Его перу принадлежат четырнадцать книг,
переведенных на шестнадцать языков и изданных более чем в двадцати
странах мира. Среди наиболее известных его работ «Сравнительный анализ
сложных
организаций»
[1961],
«К
исследованию
социальных
трансформаций» [1966], «Активное общество» [1968], «Нескромные
вопросы» [1982], «Моральное измерение» [1988], «Дух сообщества» [1993],
«Новое золотое правило» [1996]'. А.Этциони— почетный профессор шести
американских и ряда зарубежных университетов; в первой половине 90-х
годов он избирался членом Совета, а в 1995 году— президентом
Американской социологической ассоциации. Он является также
действительным членом Американской академии наук и искусств.
Профессор Этциони женат вторым браком и имеет пятерых детей от первого
брака. Он живет в Вашингтоне, федеральный округ Колумбия.
Книга «Новое золотое правило: сообщество и нравственность в
демократическом обществе» (1996) продолжает то направление социальной
философии, начало которому было положено профессором Этциони в его
работах «Активное общество» и «Дух сообщества». В центре внимания
автора оказываются проблема пересмотра моральных норм в условиях
современного развитого индустриального общества и формирование новой
моральной парадигмы, соответствующей более высокой ступени социального
прогресса.
Основная его идея заключается в развитии известного морального
императива, призывающего человека поступать с другими таким же образом,
как ему хотелось бы, чтобы поступали с ним самим. А.Этциони
распространяет этот принцип на все социальное целое, отмечая, что
уважение каждого человека к неписаным нравственным устоям общества
является важнейшим условием свободного развития личности в этом
обществе. Эта концепция, иллюстрируемая и развиваемая автором на
примере США, не может не казаться актуальной именно сегодня, когда
становление информационного общества в развитых странах идет
параллельно с нарастанием индивидуалистических тенденций, а социальные
трансформации во многих других регионах мира, в том числе и в странах
бывшего СССР, протекают на фоне возрастающего недоверия к большинству
социальных институтов и утраты привычной нравственной ориентации.
Работа профессора Этциони разделена на восемь глав, в которых
рассматриваются фактически все основные аспекты его концепции в том
виде, в каком она сформировалась за последние двадцать лет. В сфере его
внимания оказываются проблемы определения основных признаков
справедливого общества, исследование базовых ценностей современного
человека, фундаментальных проявлений человеческой природы в условиях
перехода к постиндустриальному обществу. На протяжении всей работы
большинство поднимаемых в ней вопросов рассматриваются сквозь призму
изменяющегося характера взаимодействия человека и коллектива, личности
и сообщества, гражданина и государства.
Выбирая для этого сборника фрагменты из книги АЭтциони, мы принимали
во внимание, что разрабатываемая им концепция мало знакома большинству
российских обществоведов. Этим обусловливается то, что мы решили
акцентировать внимание на общеметодологических моментах, знакомящих
читателя с подходом автора; таким образом, вниманию читателя
предлагаются отрывки из введения и первой главы книги, озаглавленной
«Элементы справедливого общества» (они соответствуют стр. XIII-XV, XVIXVIII, 3—4, 10-11, 11, 12-14, 16-17, 17-19, 20, 21-25, 27, 28 в издании Harper
Collins). Выбор этих частей работы для их публикации в России был
согласован с профессором Этциони в ходе личной встречи с ним в
Вашингтоне в феврале 1998 года. НОВОЕ ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО
СООБЩЕСТВО И НРАВСТВЕННОСТЬ В ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ
ОБЩЕСТВЕ*
В 1992 году администрация Антиохского колледжа разработала длинную
подробную инструкцию и потребовала, чтобы учащиеся, преподаватели и все
сотрудники колледжа соблюдали ее самым тщательным образом.
Инструкция предусматривала следующее: каждый раз, когда кто-то за кем-то
ухаживает, он должен четко и ясно спрашивать разрешения у своего
партнера, прежде чем сделать очередной шаг, и ни в коем случае этого шага
не делать, пока не получит столь же ясного и четкого согласия. Эта
инструкция, посвященная процедуре получения согласия на сексуальные
действия (процедура эта, помимо прочего, отрабатывалась на обязательных
учебно-практических семинарах), содержала такие, к примеру, положения:
«Каждый раз, прежде чем сделать следующий шаг, спросите разрешения...
Если хотите снять с нее блузку, спросите разрешения. Если хотите
прикоснуться к ее груди, спросите разрешения...»1 <...> Все студенты
предупреждались о том, что нарушение инструкции может повлечь за собой
суровое наказание, вплоть до исключения из колледжа.
Пресса всласть поиздевалась над этим кодексом. В нем углядели «угрозу
естественности», вежливость и корректность, доведенные до абсурда, одним
словом, нечто совершенно неприемлемое. Однако, будучи социологом, я
усмотрел в нем другое: предпринятую в полном отчаянии попытку
воссоздать правила поведения в такой сфере нравственности, где царит
полная
неразбериха,
ведущая
к
постоянным
конфликтам
и
злоупотреблениям. Попытка разработки подобных принципов говорит не
только об отсутствии норм (кодифицированных ценностей), определяющих
сексуальное поведение; она говорит о необходимости восстановления
неписаных моральных норм и обязательств, а это коренным образом
отличается от составления письменных инструкций.
Принципы, разработанные в Антиохском колледже, следует рассматривать в
исторической перспективе. В 1950-х годах действовали относительно четкие
нормы, касающиеся интимных отношений. Добрачная половая жизнь
считалась неприемлемой с точки зрения морали. Инициатива отдавалась
мужчинам, а не женщинам. Предполагалось, что они должны «противиться»
половым связям, проявлять к ним меньше интереса, чем мужчины. На
юношей, которые имели любовниц (а не любовников), смотрели с
восхищением, к которому примешивалось смутное неодобрение, а девушек,
оказавшихся в таком же положении, клеймили позором. Гомосексуальные
связи были предметом однозначного табу. На практике одни из этих норм
соблюдались более, другие менее строго, однако в теории все было
установлено весьма четко. То же самое относилось и к большинству других
взаимоотношений — между расами, между государством и личностью
(высоко ценился патриотизм, особенно в форме антикоммунизма), между
старшими и младшими (первые пользовались уважением) и т.д. Вне
зависимости от того, насколько соблюдались эти моральные нормы, порядок
до какого-то момента они обеспечивали.
В 1960-х годах эти устои заколебались. К концу 80-х правила поведения,
оценки и понятия того, что хорошо, а что плохо в области сексуального
поведения (да и во многих других сферах), в значительной мере утратили
свою определенность. Многие нормы обрели растяжимый характер, их стали
подвергать сомнению, отвергать или же яростно оспаривать. Так, поведение,
которое многие мужчины считают нормальным или по крайней мере
безобидным (присвистнуть от восхищения при виде красивой девушки,
обласкать ее взглядом или, к примеру, вырезать из журнала фотографию
какой-нибудь красавицы), многие женщины расценивают как сексуальное
домогательство. Мужчины, как правило, видят в приглашении женщины в
спальню и предварительных поце- луях согласие на дальнейшие действия,
тогда как многие женщины считают, что имеют возможность остановиться в
любой момент. Много споров и неясностей существует и по целому ряду
других вопросов, например, кому платить за ужин в ресторане, кому отвечать
за все множество возможных последствий <...>. То, что сначала считалось
сексуальной эмансипацией, более высоким уровнем свободы и сексуального
равноправия, стало сегодня источником проблем и неразберихи.
Понятия сексуальной эмансипации и неуклюжая попытка Ан-тиохского
колледжа разобраться с ними заслуживают внимания именно потому, что
ставят под сомнение широко распространенную на Западе концепцию, в
соответствии с которой лучше больше свободы, чем меньше. Она не
учитывает важного социологического наблюдения: движение от высокого
уровня социального ограничения в направлении увеличения возможностей
выбора и, следовательно, расширения индивидуальных свобод в какой-то
момент становится обременительным для личности и подрывает социальный
порядок, на котором в конечном счете основываются эти свободы. Джеральд
Дворкин в своем великолепном эссе «Какой выбор лучше: большой или
малый?» приводит целый ряд доводов, обосновывающих целесообразность
определенного порядка, что предполагает ограничение выбора, имеющегося
в распоряжении личности2. Сюда входят такие факторы, как экономические
и психологические затраты, связанные с сопоставлением множества
вариантов; акцент на ответственность, возникающую в результате
игнорирования определенных альтернатив (мы отвечаем только за то, что
находится в сфере нашего влияния); опасность поддаться новым искушениям
(если в моем доме не будет спиртных напитков...); то обстоятельство, что
игнорировать какой-либо выбор значило бы заявить о своей приверженности
иным людям и иным ценностям. К этому перечню социологи также добавили
бы усугубившиеся тенденции к конфликтам, в том числе с применением
насилия, которые вспыхивают, когда людей не объединяют общие
моральные убеждения. <...>
Когда любой выбор равноценен и оправдан, когда открыты все пути, по
которым можно пойти, но ориентир при этом отсутствует, люди боятся
нравственной пустоты. Другими словами, после какого-то момента движение
в направлении еще большей свободы уже не приносит обществу пользы.
Сегодня для Запада, и для Соединенных Штатов в особенности, настало
время решения задачи укрепления коллективных ценностей и установления
новых пределов для индивидуализма.
Социологическая и историческая необходимость в обеспечении порядка
очевидна, однако о каком порядке идет речь? На чем он должен
основываться? Насколько обществу для его становления нужны новые
законы и правила, строгие наказания и укрепление органов правопорядка?
Или же можно основываться на возрождении моральных ценностей, которые
люди разделяют и воплощают в жизнь? Насколько самодостаточны такие
ценности, как терпимость, приверженность демократии, готовность к
компромиссам, добрососедство, т.е. добродетели, определяющие поведение
человека? Или же обществу необходим жесткий кодекс более существенных
обязательств? Должны ли они быть едиными для всех или следует оставить
место плюрализму добродетелей, пусть даже ограниченному рамками
основных, общих для всех ценностей? Но как тогда выявить их? Нужны ли
для этого новые формы общественной дискуссии либо же достаточно того,
что уже существовало в виде греческой агоры и городских собраний в Новой
Англии?
Принципы, разработанные в Антиохском колледже, не только служат
красноречивым свидетельством социальной необходимости какой-то
моральной парадигмы, но и ставят нелицеприятные вопросы: что же делать,
когда общество или какой-то коллектив в его рамках стремится к
восстановлению ценностей? Упомянутые принципы напоминают, что есть
дороги, по которым чем меньше ходишь, тем лучше. В основе этих
принципов лежат предпосылки, в которых составители инструкции,
возможно, до конца себе отчета не отдавали, но которые нельзя
игнорировать, когда речь идет о восстановлении общественных ценностей.
Антиохские принципы исходят из того, что основой нравственности является
согласие. (Если двое приходят к согласию, они могут заниматься всем чем
угодно.) Эти принципы основываются на осознанных, четко выраженных и,
самое главное, конкретных переговорах между двумя сторонами, а не на
совместных ценностях и установившейся традиции. Эти новые нормы
колледж вводит при помощи суровых наказаний, а не довольствуется
моральным осуждением. Критиковать подобный подход несложно, куда
труднее разработать метод, по- зволяюший избежать его недостатков и
действовать без принуждения.
Речь идет о синтезе определенных элементов традиции и современности. С
началом современной эпохи различные доктрины (зачастую оформленные в
виде религиозных заповедей) в основном были нацелены на обеспечение
легитимности существующего порядка и укоренившихся социальных
добродетелей. Древние греки заложили определенные основы для
независимости личности, однако независимость эта оставалась весьма
ограниченной и была доступна только узкому, конкретному классу, тогда как
общий социальный порядок был весьма жестким. Недаром многие
усматривают в трудах Платона идею авторитаризма, а у Аристотеля находят
стремление к сохранению порядка и предотвращению бунта. Тем не менее, с
точки зрения средневековых норм древние греки были весьма
«умеренными». Большинство религиозных доктрин, распространившихся в
средние века, превозносили единые для всех ценности и обеспечивали
легитимность установившегося иерархического социального порядка,
имевшего весьма жесткую форму.
С этой точки зрения современный подход — с его акцентом на
универсальный характер прав человека, а не сословия, на такие ценности, как
независимость и добровольный характер действий, основывающийся на
взаимном согласии, — коренным образом отличается как от принципов,
которыми руководствовалась средневековая социальная верхушка (феодалы,
монархи, церковь), так и от путей обеспечения их легитимности.
При этом, возобладав над силами традиционализма, процессы модернизации
привели к тому, что при жизни нынешнего поколения (начиная с 1960-х
годов) был осуществлен очередной прорыв, когда оказались подорваны и без
того ослабленные основы социальных ценностей и порядка и
актуализировался поиск еще большей свободы.
В результате мы становимся свидетелями того, как некоторые общества
утрачивают сбалансированность, сгибаясь под ношей антисоциальных
последствий чрезмерной свободы (понятие, которым нечасто пользуются
сторонники неограниченных свобод). Попутно отметим, что ряду
современных обществ, например в Азии и на Ближнем Востоке, грозит
опасность чрезмерного порядка, то есть нарушения сбалансированности в
ином направлении. Если это наблюдение верно, то на ближайшем этапе
потребуется поиск путей, позволяющих обеспечить сочетание традиционных
ценностей с либерализмом современности.
Еще позапрошлое поколение считало, что мир неуклонно движется от
традиционных порядков к эпохе модернити; сегодня такой взгляд многим
представляется оптимистическим до наивности. На этом фоне множится
число людей, готовых отвернуться от всей этой современности и мечтающих
о возвращении к традициям прошлого; последние активно проповедуются
религиозными фунда-менталистами из числа как исламских, так и
христианских правых, а также их нерелигиозными сторонниками,
представляющими консервативное крыло общества. Такие устремления, на
мой взгляд, направлены на поиск сочетания элементов традиции (порядок,
основывающийся на ценностях) с элементами современности (хорошо
защищенная автономия). Это, в свою очередь, влечет за собой поиск
сбалансированности между универсальным характером прав человека и
общим благом (эти два понятия часто относят к категории несовместимых),
то есть сбалансированности между личностью и обществом, которую нужно
как-то обеспечивать и поддерживать.
Старое золотое правило гласило: веди себя по отношению к другим людям
так, как они, на твой взгляд, должны вести себя по отношению к тебе. Это
правило (а вернее, даже правила, поскольку оно так или иначе было принято
в рамках разных культур) несет в себе невысказанный оттенок
напряженности между действительным поведением человека и тем, каковым
это поведение должно быть. Старое правило, помимо прочего, касается лишь
области отношений между людьми. Новое золотое правило, предлагаемое на
этих страницах, направлено на то, чтобы в значительной мере сократить
разрыв между поведением человека, которое ему диктует его «я», и
поведением добродетельным, причем сразу следует признать, что этот
разрыв, который всегда служил источником как социальных, так и личных
проблем, устранить до конца невозможно. Новое золотое правило
направлено также на поиски правильных решений на социетарном уровне, а
не только или прежде всего на уровне межличностном. Это правило, на мой
взгляд, должно иметь следующую формулировку: уважай и поддерживай
нравственный порядок в обществе, если хочешь, чтобы общество уважало и
поддерживало твою независимость.
Идущие на протяжении столетий споры о том, что такое здоровое общество,
в последние десятилетия заметно усилились. По всему миру, в том числе и на
Западе, расцветает религиозный фундамен-тализм, сторонники которого
высказывают глубокую озабоченность нравственным упадком общества,
часто связываемым ими с влиянием антиклерикальных сил. Образ мышления
этих людей не оставляет заметного места правам отдельного человека. Как
утверждают фундаменталисты, человеку хорошо тогда, когда он скрупулезно
соблюдает законы религии. Более умеренные религиозные деятели и
представители консервативного крыла общества уважают права человека в
гораздо большей степени, но, тем не менее, утрата добродетелей является
главным источником их озабоченности. Они опасаются, что варвары не
просто стоят у стен города, но уже и ворвались в него. При этом против
«рэпа» с его мрачными, зловещими песнями они выступают гораздо
решительнее, чем против случаев жестокого избиения чернокожих
американской полицией.
Одновременно сторонники неограниченной свободы и консерваторы
умеренного толка бьют во всем мире тревогу в связи с опасностями,
грозящими индивидуальным свободам в результате усиления роли
правительств, религиозных фанатиков, верхушки общества. Многие
приверженцы индивидуальных свобод отрицают само понятие «здорового
общества». Социум, утверждают они, процветает тогда, когда каждый его
представитель получает максимально возможную независимость. <...> Такие
индивидуалисты в гораздо большей степени готовы оспаривать ненужное
постановление правительства, чем пытаться разобраться в нравственных
аспектах половой жизни несовершеннолетних.
Мы уже отмечали, что эти доктрины ставят во главу угла какую-то одну
ценность: либо свободу, либо порядок. Среди тех идеологов и
интеллектуалов, которые тяготеют к социальному порядку (являющемуся для
них главной ценностью), немало людей одновременно озабочено вопросами
свобод, и напротив — среди тех, кто делает акцент на защите свободы,
немало сторонников социального порядка. И те, и другие, однако, уверены,
что оптимальный путь обеспечения ценностей, проповедуемых
противоположной стороной, заключается в укреплении своих собственных
установок. Их утверждения сводятся либо к тому, что свобода наиболее
гарантирована в условиях твердого порядка, либо к тому, что порядок в
обществе царит тогда, когда в нем существует максимальная свобода.
Я, со своей стороны, предлагаю некую коммунитарную парадигму
(communitarian paradigm), в соответствии с которой здоровым обществом
следует считать такое, где процветают как социальные добродетели, так и
права личности. Я утверждаю, что справедливому обществу требуется
тщательное соблюдение равновесия между порядком и независимостью, а не
преимущественный акцент на каком-то одном из этих двух элементов.
Любое общество, вне зависимости от своих ценностей (или же их
отсутствия), должно поддерживать определенный минимум социального
порядка, иначе оно не выживет. Под таким минимумом принято понимать
предотвращение внутренней вражды, начиная от единичных случаев насилия
и кончая гражданской войной. Однако на практике любому обществу
необходим гораздо более твердый социальный порядок, поскольку оно
неминуемо преследует какие-то общие цели, как-то: обретение родины
(Израиля евреями в период создания этого государства); стремление к
формированию современной экономики в условиях сохранения социализма
(коммунистический Китай в начале 1990-х годов) или же укрепление своей
религии (Иран в конце 1980-х годов). Поэтому неотъемлемой чертой любого
социального порядка является предъявляемое к гражданам требование
посвятить определенные время, средства, энергию и силы достижению
каких-то общих для всех целей. <...>
По сути дела, извечные споры в области идеологии и политики сводятся к
вопросу о том, насколько твердым должен быть социальный порядок.
Социологи, занимающиеся проблемой определения меры социального
порядка, в качестве первого приближения могут использовать такие
показатели, как объем взимаемых налогов (в виде доли от ВНП); число
занятых на государственной службе по сравнению в общей численностью
самодеятельного населе- ния; продолжительность времени, которое
приходится тратить, выполняя работу на благо общества (например,
деятельность в качестве присяжного заседателя или служба в вооруженных
силах) и своей общины (например, участие в добровольном патрулировании
улиц); масштаб законодательства, принимаемого в интересах обеспечения
общественного блага (например, охватывает ли это законодательство такие
вопросы личного плана, как аборты или гомосексуализм, разрешает ли оно
определенные виды частной экономической деятельности). Следует
учитывать и долю тех ценностей, которые считаются неотъемлемой частью
социального порядка (и поэтому их нарушение рассматривается как
подрывающее его), по сравнению с теми ценностями, которые члены
общества вольны избирать по своему усмотрению, на основе собственных
при-верженностей; это соотношение имеет особо важное значение в качестве
показателя, дифференцирующего различные виды обществ и их парадигм.
Тезис о том, что обеспечение твердого социального порядка является
основополагающей необходимостью, в комментариях на первый взгляд не
нуждается. Тем не менее многие сторонники индивидуальных свобод
оспаривают не только его, но и само понятие коллективной деятельности и
социетарных потребностей. <„.> Однако гораздо более важно, что многие
сторонники такого подхода озабочены самой постановкой проблемы общего
блага как центрального элемента твердого социального порядка. Они
утверждают, что человек должен сам формулировать свои ценности, а
государственная политика и общественные нормы должны отражать только
то согласие, к которому люди приходят на добровольной основе. В основе
такого подхода лежит опасение, что в соответствии с коллективно
сформулированными
понятиями
нравственности
окажутся
безнравственными те, кто не будет жить согласно этим принципам,
Сторонники неограниченных свобод считают, что это приведет к
дискриминации, а то и к появлению законов, направленных на обеспечение
общего блага, то есть к ущемлению свободы, являющейся для них главной
ценностью.
Эти вопросы возникают вновь и вновь, особенно в ходе дискуссий между
сторонниками коммунитарного порядка и приверженцами индивидуальных
свобод. <...> Основная проблема состоит в том, что те, кто выступает за
неограниченные свободы и индивидуализм, не отказываясь от
необходимости социального порядка, не только осуждают его жесткие
формы, но и хотят ограничить его такими рамками, определение и
легитимизацию которых обеспечивают сами люди как свободные личности.
Сторонники же коммунитарного подхода видят необходимость в таком
социальном порядке, который несет в себе комплекс совместных ценностей,
являющихся обязательными для каждого человека. Впоследствии человек
может сомневаться в данном социальном порядке, оспаривать его, бунтовать
против него, даже его видоизменять, однако исходным пунктом он должен
иметь именно этот совместный комплекс определений того, что хорошо, а
что плохо.
Если люди оказываются захлестнуты социальной анархией, вне зависимости
от того, что лежит в ее основе — криминализация общества, межплеменные
распри, гангстеризм или общая утеря нравственных ориентации, то чуть ли
не любой социальный порядок покажется им нужным и желанным. Под этим
утверждением будут готовы подписаться все, кто пережил гражданскую
войну в Ливане, Боснии или Шри-Ланке либо жил в Москве или Вашингтоне,
захлестнутых волной преступности. В результате опроса общественного
мнения, проведенного в 1996 году, 77% российских граждан заявили, что
порядок важнее демократии, тогда как противоположного мнения
придерживались лишь 9%3. Однако далеко не каждый социальный порядок
обеспечивает становление здорового общества. Справедливое общество
требует такого порядка, который увязан с нравственными ценностями его
членов. Другие формы социального порядка требуют высоких общественных
и индивидуальных затрат (таких, как отчуждение труда, злоупотребление
алкоголем и наркотиками, высокий уровень психосоматических заболеваний)
и ведут к тому, что люди то и дело стремятся не подчиниться такому
порядку, а изменить его или вырваться за его пределы.
Здоровое общество требует создания и поддержания (а в случае его утери —
восстановления) такого социального порядка, который всеми людьми
рассматривается как легитимный и признается таковым не только на момент
его создания (как полагают сторонники неограниченных свобод, ставящие во
главу угла общественный договор). Новое золотое правило требует, чтобы
разрыв между индивидуальными предпочтениями и социальными
обязательствами сокращался за счет расширения сферы нравственной
ответственности людей; речь идет не об обязательствах, навязываемых
силой, а об ответственности, воспринимаемой человеческим долгом, ибо
человек полагает, что она возложена на него совершенно справедливо. Затем
встает следующий серьезный вопрос: каковы пути обеспечения такого
уникального социального порядка, который основывается именно на
добровольной подчиненности граждан? Прежде всего хочу отметить, что
понятия «добровольный» и «порядок» отнюдь не противоречат друг другу.
Если я твердо верю, что добропорядочные люди, уважая общественные
нормы, должны соблюдать правила уличного движения (причем мое
убеждение разделяют многие другие мои сограждане), то движение на дороге
в целом будет упорядоченным, и в основе такого порядка будут лежать наши
нравственные обязательства. Ряд коллег предлагают мне избегать термина
«порядок» и вместо него говорить о «сообществе»; по их мнению, понятие
«порядок» несет консервативный оттенок. Это можно сказать об
определенных категориях порядка, однако не о тех, которые, как мы
убедимся, составляют неотъемлемую черту здорового общества.
Отправной точкой для осуществления такого анализа служит практическое
наблюдение, из которого следует, что все категории социального порядка в
той или иной степени полагаются на принуждение (воплощением которого
выступают, например, полиция и тюрьмы), прагматические средства (такие,
как экономические стимулы, обеспечиваемые государством) и нормативные
средства (в частности, обращение к ценностям, нравственному воспитанию).
Что отличает одно общество от другого, так это степень использования
перечисленных средств. Тоталитарное общество в основном полагается на
принуждение, пытаясь регулировать чуть ли не все аспекты поведения
человека; авторитарное общество действует аналогичным образом, однако
сфера регулирования людских поступков здесь гораздо меньше. Либеральное
общество, в котором степень социального порядка ограничена и которое
полагается на рыночные механизмы даже в области общественных служб
(например, путем приватизации сбора мусора, сферы социального
обеспечения, школ и даже управления тюрьмами), прибегает в основном к
прагматическим средствам. В здоровом коммунитарном обществе порядок в
целом обеспечивается за счет нормативных средств (образование,
руководство, консенсус, пример сограждан, ведущие ролевые модели,
увещевания и, прежде всего, общественная нравственность). В этом смысле
социальным порядком здорового общества является порядок нравственный.
Для того, чтобы социальный порядок мог основываться прежде всего на
нормативных средствах, необходимо, чтобы большинство граждан общества
разделяли принятые в нем основные ценности; для этого нужно, чтобы они в
эти ценности верили, а не просто были вынуждены им подчиняться. Вполне
очевидно, что высокий уровень преступности и других проявлений
антисоциального поведения служит показателем нехватки порядка; гораздо
менее признан тот факт, что большое число полицейских, фининспекторов и
ревизоров также является показателем упадка нравственности, даже если
проявления антисоциального поведения ограниченны. Именно в этом
моменте заключается основное различие между общественным состоянием,
которое обозначают формулой «закон и порядок», и ком-мунитарным
понятием социального порядка.
Необходимый порядок будет опираться на восстановление гражданского
(civil), или гражданственного (civic) [курсив мой. — В.И.} общества, о
котором столько говорится в последнее время, и окажется во многом
самоценным. Однако для его обеспечения одного гражданского общества
недостаточно. Понятие «гражданского строя» (civic order) используется для
обозначения людей, придерживающихся цивилизованного отношения друг к
другу (не делают исчадий ада из своих оппонентов, готовы пойти на
компромисс, в спорах не горячатся, а полагаются на силу убеждения). При
этом подразумевается, что общество должно располагать институтами,
выполняющими роль посредников между его членами и государством,
уважая при этом предпочтения граждан. Я согласен с тем, что «гражданский
строй» является неотъемлемым элементом здорового общества, однако его
понятие слишком ограниченно: к нему в основном подходят с точки зрения
деятельности в политической сфере, не уделяя внимания основополагающим
ценностям <...>.
Если исходить из того, что здоровое общество нуждается в социальном
порядке, основывающемся на конкретных ценностях и на их воплощении в
жизнь, следует задаться таким вопросом: чем же тогда подобная концепция
порядка отличается от подхода представителей консервативного крыла
общества? Различия заключаются в характере независимости личности, в
масштабах согласия по поводу представлений об общественном благе, а
также в средствах обеспечения такого порядка.
Различие в подходах к социальному порядку, которых придерживаются
сторонники коммунитарной позиции и консерваторы, становится очевидным
при подробном анализе консервативного подхода. Его сторонники
оценивают социальный порядок точно так же, как индивидуалисты —
независимость личности: как главное социальное благо. Приверженцы
консерватизма стараются вообще не касаться вопросов независимости
личности, тогда как в коммунитарной парадигме здорового общества она
имеет столь же принципиальное, основополагающее значение, как порядок и
общественные ценности. <...> Социальные консерваторы, как правило,
выступают за то, чтобы государство не играло всеобъемлющей роли, не
занималось вопросами социального регулирования, но было бы достаточно
сильным, чтобы обеспечить соблюдение (enforce) нравственных норм. <...>
Мощным (подчас даже слишком мощным) источником нерелигиозной
консервативной идеологии, обеспечивающим легитими-зацию сильных
правительств и парадигм, делающих акцент на общественных ценностях,
всегда был национализм. Он исходит из того, что граждане готовы
жертвовать своими свободами во имя достижения той или иной
национальной цели, во имя национального предназначения. Например, в
1950-х годах социальные консерваторы в Соединенных Штатах,
сосредоточенные на борьбе с коммунизмом, требовали, чтобы
университетские преподаватели приносили присягу в лояльности
государству, вносили в черные списки тех, кого подозревали в
коммунистических взглядах, и увольняли государственных служащих по
обвинению в том, что они придерживаются «подрывной» позиции4.
Многие социальные консерваторы в основу своего подхода кладут религию.
Они исходят из того, что социальный порядок должен основываться на
добродетелях, предписанных Богом и теми, кто представляет его на Земле, а
диктат религиозных ценностей должен иметь примат над соображениями
независимости личности. Наиболее известным примером является, пожалуй,
иерархический характер католической церкви и ее основные теологические
принципы. Отец Ричард Джон Нейхаус неустанно повторял известный тезис,
гласящий, что люди вольны в своем выборе, если этот выбор следует пути,
который указан Богом. Так что одно из кардинальных различий,
заключающихся между социальным консерватизмом и коммунитарной
парадигмой, о которой здесь идет речь, заключается в статусе независимости
личности. В рамках коммунитарной парадигмы этой независимости
отводится ведущее место, тогда как парадигмы социального консерватизма
возлагают на нее лишь второстепенную роль.
Помимо того статуса, который закрепляется за независимостью личности,
одно из главных различий между социальным консерватизмом и
коммунитаризмом (а также между разными представителями самих
социальных консерваторов) заключается в их подходе к легитимным путям
обеспечения нравственности. Если сторонники коммунитарной идеологии в
целом основываются на уверенности человека в нравственном характере его
позиции, полагаются на общественную мораль, воспитание, убеждение и
увещевание, то социальные консерваторы в вопросах обеспечения тех
ценностей, в которые они веруют, гораздо больше склонны полагаться на
силу закона. И если многие из них все же стремятся оставаться в рамках
конституционной
демократии,
прибегая
к
помощи
подробного
законодательства для институционализации своих ценностей, то крайние
консерваторы, и в особенности сторонники авторитарного подхода и
фундаментализма, апеллируют к тем законам, которые считают высшими по
сравнению с законами человеческими, стремясь тем самым к установлению
теократии.
Еще одно важнейшее различие заключается в том, что приверженцы
коммунитарного порядка (по крайней мере в рамках той парадигмы, о
которой здесь идет речь) ограничивают общественные ценности
определенным комплексом «главных» добродетелей, обеспечивая при этом
легитимность различий по другим нормативным вопросам, тогда как
диапазон ценностей, проповедуемых социальными консерваторами, является
гораздо более широким, причем они носят унитарный характер. Социальные
консерваторы оставляют открытыми для выбора на уровне личности или той
или иной подгруппы лишь очень немногие сферы поведения человека. Если
индивидуалисты уходят от вопроса о нравственности, то крайние социальные
консерваторы эту нравственность монополизируют. Что ты ешь, что ты
пьешь, что ты читаешь — все это получает моральную оценку. <...>
Другими словами, все социальные консервативные парадигмы отличаются от
коммунитарной тем, что они в большей степени сосредоточены на вопросах
порядка и в меньшей — на независимости личности как на главной ценности,
используют всесторонний и одновременно унитарный нормативный подход и
проявляют склонность полагаться в большей степени на государство, чем на
общественную нравственность, для воплощения этих ценностей в жизнь.
<...>
Позиция индивидуалистов, в соответствии с которой независимость
личности представляет собою ценность, выше которой ничего нет,
расходится с тезисом, гласящим, что добро имеет социальный контекст:
каждый человек свободен в своем выборе, если он не причиняет вреда
другому. Как правило, в этом случае принято ссылаться на юридические
права и на независимость от правительства. Особое значение придается
праву человека на защиту своей жизни, а также праву распоряжаться и
пользоваться своей собственностью. Наиболее яркими представителями
такого подхода являются сторонники неограниченной свободы и умеренные
консерваторы. Если индивидуалисты в принципе не отрицают того, что
каждого человека надо как-то сдерживать, в особенности если эти пределы
устанавливаются не обществом и не правительством, то большинство
конкретных требований, предъявляемых к индивидууму, они воспринимают
если не с враждебностью, то с подозрением, и уж по крайней мере с
высокомерным пренебрежением.
Целый ряд областей общественных наук основывается на предпосылках
индивидуалистического характера, сводящихся к тому, что социальные
явления можно и нужно объяснять с точки зрения атрибутов и действий
индивида, не принимая во внимание или отвергая значение культурных и
исторических сил. Для социальных наук индивидуализм не сводится к
кратковременной причуде или малозначительному отклонению. Он играет
ключевую роль и в психологии. Индивидуалистический характер имеют
также неоклассичес- кие экономические теории, в особенности в
Соединенных Штатах, не говоря уже о теории общественного выбора и
[других концепциях]. <...>
Несмотря на то, что позиция индивидуалистов бывает далеко не
однозначной, наиболее известные политические доктрины, строящиеся на
идеях индивидуалистического толка, сводятся, в сущности, к одной общей
проблеме: как обеспечить дальнейшую приватизацию общественной сферы
(социального обеспечения, государственных школ, полицейских управлений,
тюрем, налоговых ведомств)? Возможно ли дальнейшее разрегулирование
частного бизнеса? Допустимо ли уменьшение налогов и передача
государственных фондов в частные руки? К числу еще более радикальных
идей о путях дальнейшего ограничения роли государства относятся отмена
пограничного контроля и закрытие Администрации по вопросам
продовольствия и медикаментов. Предлагается даже заменить уголовные
суды гражданскими, где соображения, касающиеся моральных и социальных
ценностей, не будут приниматься во внимание, а наказание
правонарушителей будет заключаться в выплате ими компенсации своим
жертвам, выступающим в качестве истцов. Вопросу о том, необходимо ли
обеспечить сбалансированность между действиями индивидуума и задачей
обеспечения социального порядка, внимания уделяется гораздо меньше:
утверждают, что либо такой порядок возникает сам по себе как сумма
отдельных действий («невидимая рука»), либо что индивидуум, если захочет,
сам обеспечит необходимое ограничение своей свободы. Что же касается
норм социального характера, то они не нужны в принципе.
Среди сторонников неограниченных свобод, как правило, выделяются
приверженцы свобод гражданских (civil libertarians), хотя, как все другие
индивидуалисты, они признают лишь независимость личности и решительно
отвергают концепцию социальной ответственности. Их интересуют права и
не интересуют обязанности; их интересуют привилегии, а не такие вещи, как
служба обществу, отчисления и налоги. Они безусловно отвергают любые
указания на то, какими им следует быть: прежде всего если таковые исходят
со стороны правительства.
Сторонники крайнего индивидуализма часто определяют свободу как право
на выбор. Желая при этом показать, что им не чужд и социальный порядок,
они отмечают, что человек свободен на- столько, насколько это не причиняет
ущерба другим людям. Однако концепция ущерба не может быть надежным
ориентиром. Непонятно, идет ли речь только о физическом ущербе (в таком
случае нарушение чьего-то права на свободу слова, например, «ущербом» не
является) или также и об ущербе психологическом (здась можно
договориться до того, что следует, например, запретив разрыв любовной
связи). Невозможно также ответить на вопрос о том, каков уровень ущерба,
которого не следует допускать. Если необходимо избегать любого ущерба, то
человек практически лишается всей свободы действий. Например, если я
сяду за руль автомобиля, это может нанести ущерб вашей возможности
дышать чистым воздухом. Как ни интерпретируй этот принцип — и в плане
характера ущерба, наносимого другим, и в плане теоретического
распределения каких-то привилегий, — подобные определения в
подавляющем большинстве случаев реализовать на практике просто
невозможно. <...>
Абсолютно свободных личностей, подобных тем, что представляют себе
индивидуалисты, не существует и никогда не существовало. Человек
общественен по своей природе и постоянно испытывает воздействие со
стороны культурных, социальных и моральных факторов, не говоря уже о
влиянии других людей. Реклама продукции строится таким образом, чтобы, в
соответствии с результатами мотивационных исследований, в наибольшей
степени воздействовать на инфантильные и импульсивные стороны
потребителей.
Молодежная
культура
проповедует
рискованное,
иррациональное поведение. Люди даже не осознают, насколько они опутаны
узами социального характера. Другими словами, выбор, который делает
каждый отдельный человек, не может быть свободен от культурных и
социальных факторов. Если личность, в соответствии с пожеланиями
сторонников абсолютной свободы, окажется действительно свободной от
всех общественных норм, то это не только не увеличит ее независимость,
напротив, это оставит ее абсолютно незащищенной от всех других влияний,
которые она воспринимает не в виде информации или воздействия среды,
поддающихся анализу и контролю, а в виде какой-то невидимой ауры,
которая подчас воздействует на нее самым иррациональным образом. <...>
Сторонники неограниченных свобод утверждают, что если человек является
владельцем частной собственности, то он свободен вести себя с ней так, как
считает нужным, а если другие члены сообщества такого поведения не
одобряют, они вольны держаться в стороне (или платить за то, чтобы этот
владелец частной собственности так не поступал). Если дороги находятся в
частном владении, их владельцы могут подвергать всех автомобилистов на
этих дорогах проверке на алкоголь, а если кто-то возражает, то пусть по этим
дорогам не ездит. Однако такое решение основывается на букве закона, а не
на нравственной норме. Нравственная сторона вопроса заключается в
следующем: правильно ли поступает владелец дороги (о том, что он имеет
такое право, речь не идет), проверяя людей на алкоголь? То же самое
касается и всех других нравственных требований, предъявляемых к
отдельным людям ради интересов других людей и всего сообщества, включая
проверку на ВИЧ сексуально активной категории населения, проверку на
наркотики водителей школьных автобусов, обыск посетителей школ на
предмет оружия и обеспечение поголовной вакцинации населения.
Часто цитируемые высказывания Исайи Берлина, касающиеся негативной и
позитивной свободы, подчас рассматриваются как выходящие за пределы
индивидуалистического подхода. На деле же он дает достаточно широкое
определение обоих видов свободы. Негативная свобода, по его мнению,
«представляет собой всего лишь ту область, в рамках которой человек может
действовать, не встречая препятствий со стороны других людей»5. Отметим
здесь, что ни о каких пределах ради обеспечения прав других людей, не
говоря уже о далеко идущих последствиях уважения этих прав, здесь не
упоминается. Позитивная свобода представляет собой право человека
совершать такие поступки, какие он хочет совершать. «"Позитивный" смысл
слова "свобода", — пишет Берлин, — проистекает из стремления человека
быть хозяином самому себе... Прежде всего я хочу осознавать себя как
думающее, к чему-то стремящееся, активное существо, несущее
ответственность за свой выбор и способное объяснить его с точки зрения
своих идей и своих целей»6.
В основе этого определения лежит внутреннее побуждение субъекта решать,
будет он учитывать существование других или нет, а если будет, то что из
этого следует. И тем не менее, речь идет о неограниченной свободе
личности. Поэтому, как я считаю, по это- му пункту Берлин стоит на
позиции, которой часто придерживаются индивидуалисты.
Независимость личности, в которой нуждается справедливое общество, не
сводится, как это часто бывает, к индивидуальной добродетели человека,
ценящего свободу и ведущего себя так, чтобы иметь возможность ею
пользоваться. Речь здесь идет о неотъемлемом свойстве общества, структура
которого обеспечивает индивидууму и группе возможность и легитимность
выражения их конкретных ценностей, потребностей и предпочтений. Чтобы
подчеркнуть, что я имею в виду ценность как социетарный, а не личностный
атрибут, я буду использовать термин «общественная добродетель» (social
virtue).
Социально обусловленная независимость личности расширяет возможности
общества, связанные с адаптацией к изменениям, с метастабилизацией.
Обеспечение структурных возможностей для выражения интересов
индивидуумов и групп служит противовесом тенденции властей
предержащих воздерживаться от перемен в социальных построениях и
государственной политике, провоцируемых изменениями внешней среды или
внутренних социетарных конфигураций. Чтобы быть стабильным, общество
нуждается в метастабильности, другими словами, в сохранении той самой
общей структуры, которую оно должно иметь для самовоссоздания.
(Различие между обычной стабильностью и метастабильностью часто
упускается из виду. Его можно сравнить с различием между ремонтом
парусника и переделкой парусника в пароход: судно остается судном,
которое выполняет ту же самую функцию и, может быть, даже следует тем
же курсом, однако имеет иную конструкцию. Что же касается общества, то
оно нуждается в определенной форме социально обусловленной
независимости личности для обеспечения успешной адаптации и
сбалансированности амбиполяр-ных ценностей; тем не менее, оно способно
коренным образом менять конкретные пути, по которым идет обеспечение
такой независимости.)
Социум, оказывающий мощное принудительное воздействие на своих
граждан и тем самым ограничивающий их независимость, как правило,
подрывает свою способность к адаптации. Японское общество часто
называют в высшей степени конформистским, отмечая, что оно, по
сравнению с Западом, дало сравнительно мало гениев в области науки или
культуры. Я не берусь судить, насколь- ко эти утверждения соответствуют
действительности; но сама постановка такого вопроса со всей очевидностью
говорит о потребности в независимости личности. Тоталитарные общества,
допускающие еще меньшую степень независимости, как правило,
располагают меньшими возможностями к адаптации. Ошибочность своей
политики они осознают гораздо позже, чем общества демократические. <...>
Помимо этого, институциональная независимость личности дает обществу
возможность учитывать, что люди значительно отличаются друг от друга как
по своим способностям, так и по тем конкретным условиям, в которых они
находятся. Попытка заставить всех поголовно подчиняться одним и тем же
правилам (например, настаивать на изучении высшей математики или
какого-то конкретного иностранного языка) резко снижает полезность
индивида для общества, не говоря уже о возможностях самореализации. Этот
вопрос часто встает в области образования. В некоторых странах на
государственном уровне разрабатывается программа школьного обучения,
тогда как здоровое общество оставляет гораздо больше простора для местной
автономии. Та же самая проблема имеет место в целом ряде других областей
социальной политики.
Не менее важное значение имеет возможность выражения различий,
существующих между группами людей, вне зависимости от того, о каких
различиях идет речь: о тех, что касаются ценностей или же в основном
базируются на экономических интересах, равно как и интересах власти. Если
говорить о формах правления, то федерализм превозносят как в большей
степени учитывающий различия между группами, чем унитарное
государство.
Дискуссии,
касающиеся
вырождения
федерализма,
необходимости пересмотра конституционных законов в целях его
укрепления, предложения о создании регионального парламента в
Шотландии и о расширении прав провинций в Канаде и во многих других
странах сводятся по сути к вопросу о том, какой уровень независимости
следует предоставить различным сообществам, вместо того., чтобы
стремиться подчинить их всех единым национальным стандартам. Помимо
этого, границы автономии групп отнюдь не повторяют очертания
географических или юридических единиц, таких, как государства и местные
правительства. Определенную самостоятельность стремятся получить
религиозные, расовые, этнические и другие образования. Широко известным
примером в этом отношении служит вопрос, связанный с правом иметь
выходной день не в воскресенье, а в субботу.
В американской социальной философии основой независимости человека
выступают не общественные потребности, а неотъемлемые права личности;
при этом, как правило, понятие «свобода» ('liberty' или 'freedom')
используется вместо термина «автономия» ('autonomy'). Я же применяю
последнее понятие, поскольку хочу подчеркнуть, что оно охватывает не
только то, что принято считать индивидуальной свободой, но также
потребность в самовыражении, инновациях, творчестве и самоуправлении,
равно как и легитим-ность подчеркивания межгрупповых отличий.
Про генералов часто говорят, что они готовятся к сражениям прошедшей
войны, а не следующей. Западные интеллектуалы, имеющие долгий опыт
противостояния сначала авторитаризму, затем тоталитаризму, а в полностью
время — и религиозному фундамен-тализму, полностью отдают себе отчет в
том, какую опасность таит в себе чрезмерный порядок, в особенности если он
основан на принуждении. Они в меньшей степени готовы встретить ту
опасность, которой грозит идеологизация безграничной независимости в
условиях, когда сторонники права на выбор и самовыражение подрывают
моральные запреты, налагаемые на антисоциальное поведение. Дискуссия,
касающаяся различий между социально ограниченной и анархистской,
неограниченной независимостью, позволяет судить о том, какого рода
свобода личности нужна справедливому обществу.
В абстрактном смысле человека вполне можно представить отдельно от его
сообщества, однако при этом следует отметить, что если его действительно
лишить стабильных и позитивно утверждаемых в сообществе ориентиров, то
у него остается крайне мало атрибутов, которые индивидуалистическая
парадигма обычно ассоциирует с понятием совершенно свободной личности.
Подобный человек не может быть разумно мыслящим членом гражданского
общества. Доказано, что жители крупных городов, ведущие уединенный
образ жизни в своих высотных зданиях и не имеющие никакого источника
социальной привязанности (например, на работе), проявляют тенденцию к
интеллектуальной
нестабильности,
импульсивность,
склонность
к
самоубийству
и
другие
предрасположения
к
умственным
и
психосоматическим заболеваниям. Исследования, проводившиеся на
заключенных, которых изолировали от сокамерников (в отличие от тех, кому
разрешалось находиться среди других заключенных и тем самым
интегрироваться в общую культурную среду), а также над людьми, которых
изолировали в ходе психологических экспериментов, также подтверждают,
что связь с сообществом имеет важное значение для индивидуальности в
целом и для способности к разумному поведению и свободным поступкам в
особенности.
Наибольшая опасность грозит автономии тогда, когда члены общества
оказываются без социальных «якорей». Разобщение людей, равно как и
распад сообщества на толпы, результатом чего является утрата
индивидуумом своей личности и своей ценности, всегда вели к
формированию социетарных условий, выливавшихся в тоталитаризм,
другими словами, в жесткое ограничение независимости личности. Такое
разобщение предшествовало становлению тоталитарных движений и
правительств в России, после поражения в войне с Японией в 1905 году, а
также в Германии в 1920-х годах, в условиях безудержной инфляции и
массовой безработицы7. Даже когда такого разобщения недостаточно для
установления тоталитарного режима, оно ведет к росту апатии, отчуждения,
эска-пизма и антисоциального поведения, свидетельством чего может
служить положение в основных мегаполисах мира, сложившееся там за
последние десятилетия.
Наиболее распространенным противоядием против разобщенности людей,
тем самым противоядием, которое Алексис де Ток-виль называл
краеугольным камнем гражданского общества, служат «посреднические
органы» между индивидуумом и государством. Часто упускают из виду, что
к этим органам в первую очередь относятся не пресловутые добровольные
ассоциации, чье влияние на своих членов ничтожно (начиная от любителей
дешевых распродаж и кончая шахматными клубами), а сообщества,
обеспечивающие гораздо более сильные межличностные связи (в
особенности этнические, расовые и религиозные, а также местные).
Коммунитарная парадигма, по крайней мере та, о которой мы ведем речь на
этих страницах, признает необходимость укрепления социальных «якорей» в
рамках усилий по поддержанию общественного порядка, одновременно
обеспечивая такое положение, при котором эти «якоря» не подавляют любое
выражение независимости. Другими словами, здоровое общество не отдает
предпочтения общественному благу перед индивидуальным выбором или
наоборот; оно поддерживает социетарные формации, обеспечивающие
всестороннюю сбалансированность этих амбиполярных социальных
ценностей. Такая структура, в свою очередь, требует: (а) опоры
преимущественным образом на образование, руководство, убеждение, веру и
моральный диалог, а не на закон как средство обеспечения ценностей; (b)
определения основных ценностей, которые необходимо развивать, причем
речь идет о комплексе основополагающих ценностей, который важнее
комплекса ценностей, относящихся только к поведению; (с) отсутствия
всепроникающей идеологии или какой-то религии, которая оставляла бы
мало места для независимости личности.
Итак, все доктрины, все верования имеют в своей основе какую-то
изначальную идею. Для индивидуалистов краеугольным камнем здорового
общества является свободная личность; для сторонников социального
консерватизма — всеобъемлющий комплекс общественных ценностей,
нашедших свое воплощение в социуме или в государстве. Для приверженцев
коммунитарного подхода в первом приближении необходимо, чтобы
здоровое
общество
обеспечивало
сбалансированность
между
независимостью личности и порядком, причем речь идет о порядке особого
рода: добровольном и ограниченном основными ценностями, а не
навязываемом и не имеющем всепроникающего характера. Сама же
независимость личности должна быть отнюдь не беспредельной, а иметь
социальные границы и вписываться в контекст общественных ценностей.
* - Weizsaecker E., van, Lovins A.B., Lovins L.H. Factor Four. Doubling Wealth
— Halving Resource Use. L., Earthscan Publications Ltd., 1997. Copyright —
Weizsaecker E., von, Lovins А. В., Lovins L.H. 1997. Текст воспроизводится с
согласия Э. фон Вайцзеккера.
1 - См.: Meadows D.H., Meadows D.L, Randers J. Behrens III, W.W. The Limits
to Growth. N.Y., 1972.
2 - Мы называем так эту модель потому, что существовали также модели
World 1 и World 2. World 1 была первоначальной версией, разработанной
профессором Массачусетсского технологического института Дж.Форестером
в рамках проводившегося Римским клубом исследования взаимозависимости
между глобальными тенденциями и глобальными проблемами. World 2
является окончательной документированной моделью, представленной
профессором Дж.Форестером в книге: Forester J. World Dynamics. N.Y., 1971.
Модель World 3 была создана на базе World 2, в первую очередь как
следствие изменения ее структуры и расширения количественной базы
данных. Мы должны отметить, что профессор Дж.Форестер является
безусловным вдохновителем данной модели и автором используемых в ней
методов.
3 - См.: Meadows D.H., Meadows D.L., Renders J. Behrens III, W.W. The Limits
to Growth. P. 24.
4 - Vargish Th. Why the Person Sitting Next to You Hates Limits to Growth //
Technological Forecasting and Social Change. Vol. 16. 1980. P. 187-188.
5 - См.: Pipes D. In the Path of God: Islam and Political Power. N.Y., 1983. P.
102-103, 169-173.
6 - [Автор приводит слова византийской принцессы Анны Комнин].
Цитируется по кн.: Armstrong К. Holy War: The Crusades and Their Impact on
Today's World. N.Y., 1991. P. 3-4, и Toynbee A. Study of History. Vol. VIII. L,
1954. P. 390.
7 - Buzan B.G. New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century //
International Affairs. No 67. July 1991. P. 448-449.
Оглавление
Новая постиндустриальная волна на Западе
Оглавление
Тайичи Сакайя. Стоимость, создаваемая знанием, или История будущего
Тайичи Сакайя родился в Осаке (Япония) в 1935 году. Он окончил
Токийский университет, где получил также докторскую степень в области
экономики. Его карьера началась в 1962 году в престижном Министерстве
международной торговли и промышленности Японии— фактическом
генеральном штабе национальной экономики. В конце 60-х и начале 70-х
годов Т. Сакайя был одним из разработчиков стратегии проникновения
японских компаний на внешние рынки, отвечал за подготовку и проведение
Всемирной промышленной выставки в Осаке в 1970 году и Морской
выставки на Окинаве в 1975 году. Во второй половине 70-х годов он покинул
Министерство международной торговли и промышленности, хотя и
продолжал сотрудничать с ним; например, он руководил программой по
организации павильона Японии на Всемирной выставке в Барселоне в 1982
году. Выйдя в отставку с государственной службы, Т.Сакайя получил
широкое признание как автор целого ряда работ по проблемам современной
экономики и поли- тики, футурологии и социальных отношений. Им
написаны более тридцати книг, множество эссе и статей. Талантливый
издатель и переводчик, Т. Сакайя является также президентом японского
Азиатского клуба— влиятельной неправительственной организации,
объединяющей известных обществоведов, политиков и бизнесменов. Он
женат, живет в Токио.
Среди книг Т. Сакайи наибольшее признание получили такие, как
«Поколение тупиц», «Великий план», «Анатомия коллективизма»,
«Предостережение японскому народу», «Взгляд на Японию с вершины»,
«Концепции истории», «Критерии размышлений о будущем». Будучи высоко
оценены в Японии, эти работы не были переведены на иностранные языки.
Первой книгой Т.Сакайи, изданной в США, стала «Стоимость, создаваемая
знанием, или история будущего», отрывки из которой мы и предлагаем
вниманию читателей. Представляется уместным сказать несколько слов о ее
заглавии. Эта работа увидела свет в Японии в 1985 году под названием
«Chika kakumei», а в США опубликована в 1990 году как «The KnowledgeValue Revolution, or A History of the Future». Основный термин, применяемый
в работе — chika — является производным от японских слов с/и (знание) и
kah (стоимость, ценность). На английский он переведен как «knowledgevalue», что соответствует понятию «ценность, воплощенная в знании,
порождаемая знанием». К сожалению, приходится констатировать, что даже
термин «knowledge-value revolution» не в полной мере совпадает с
оригинальным понятием «chika kakumei»; при этом мы не смогли
предложить сколь-либо удовлетворительного перевода данной конструкции
на русский язык. Поэтому приходится лишь отметить, что, говоря о
knowledge-value revolution, автор имеет в виду, что в современных условиях
традиционные факторы производства уже не определяют ту ценность,
которую потребители признают за тем или иным продуктом; именно это
обстоятельство, по его мнению, и является одним из наиболее
фундаментальных сдвигов, происходящих в современной экономике.
Книга Т. Сакайи разделена на пять относительно равных по размеру частей.
Первые три посвящены осмыслению различных аспектов формирующегося
сегодня общества и поиску его оптимального определения. Автор
останавливается на проблеме «заката» индустриальной цивилизации,
изменении ориентиров производителей и потребителей, начиная с 70-х годов,
на трансформации политической системы, глобализации хозяйства и отходе
от модели национального государства и, наконец, на формировании
постматериалистической ориентации у зна- чительной части современного
общества. Характерно, что, рассматривая целый ряд принципиальных
изменений в организации производства, развитии технологий, прогрессе
знаний и эволюции политических и социальных ориентиров, на протяжении
первых трех частей своей работы Т. Сакайя весьма последовательно избегает
применения к современному социальному состоянию какого-либо четко
характеризующего его термина, чем подчеркивает, с одной стороны,
незавершенность происходящей трансформации, а с другой— ее
комплексный характер, не позволяющий жестко выделить какой-либо из
основных элементов или движущих сил.
В четвертой и пятой частях, напротив, автор знакомит читателя со своей
концепцией общества, центральное место в котором занимают знания и
которое он называет knowledge-value society. В отличие от ряда западных
исследователей, широко применяющих понятия knowledge society,
knowledgeable society или производные от них, Т. Сакайя подчеркивает, что
характерным признаком современного общества является не сам факт
широкой распространенности знаний, а то, что они непосредственно
воплощаются в большинстве создаваемых в обществе благ и таким образом
экономика превращается в систему, функционирующую на основе обмена
знаний и их взаимной оценки. По его мнению, одной из важнейших
трансформаций в современном обществе становится переход от
симбиотических объективных ценностей, которыми характеризовалась
традиционная рыночная экономика, к независимым от прежних факторов
производства субъективным ценностям, и учет этого сдвига имеет огромное
значение для любого хозяйствующего субъекта, который намерен
эффективно действовать или даже просто выживать в современной
конкурентной среде.
В завершающей части книги рассматриваются основные направления того
процесса, который и приводит к становлению нового общества. Именно его
автор именует «chika kakumei», или «knowledge-value revolution», и считает
содержанием современной эпохи.
Книга Т. Сакайи представляется примером новаторского исследования,
серьезно расширяющего наши представления о современном обществе. По
своей последовательности, обоснованности доводов и убедительности
изложения она выгодно отличается от многих работ современных западных
авторов по этой проблематике. Искренне жаль, что мы не можем представить
читателям полный текст этой работы и ограничиваемся отрывками из второй
главы I части книги и первой главы IV части, где излагаются наиболее
существенные
элементы
авторской
концепции
(эти
фрагменты
соответствуют стр 39-41, 42-43, 51-52, 53, 56-60, 61-63, 63-72,72-73, 248-249,
252-254, 256-264 и 266 в издании Kodansha International). СТОИМОСТЬ,
СОЗДАВАЕМАЯ ЗНАНИЕМ, или ИСТОРИЯ БУДУЩЕГО*
Каким окажется грядущее общество: всего лишь более развитым по
сравнению с тем, в котором мы живем сегодня, или же принципиально
новым, отличным от него? Иначе говоря, насколько долгая жизнь уготована
индустриальному строю? Неужели люди будут по-прежнему стремиться к
тому, чтобы потреблять все больше и больше материальных благ, как то
диктует существующий порядок? Неужели наши вкусы, наши ценности,
наша нравственность по-прежнему останутся основанными на предпосылке,
гласящей, что безудержный рост потребления отвечает высшим интересам
цивилизации?
Постановка этих вопросов, причем именно в таком порядке, способствует
пониманию того обстоятельства, что в последнее время стали заметны
тенденции и явления, имеющие прямое отношение к вопросу о том, в каком
же направлении идет современный социум. Сегодня можно привести как
никогда много примеров, свидетельствующих, что некогда неутолимое
стремление к обладанию все новыми и новыми материальными благами
постепенно начинает ослабевать.
В этой связи сразу же вспоминается извечная проблема: нефть.
Два нефтяных кризиса 70-х годов в очередной раз со всей очевидностью
продемонстрировали, насколько беспочвенной была наша вера в то, что
запасы природных ресурсов неисчерпаемы. Даже японцы (и в особенности
японцы), которые всегда чувствовали себя уютно, отгородившись от
остального мира своим образом жизни, основанным на дешевом импорте
продуктов питания и сырья, сегодня вынуждены задуматься о том, какое
будущее уготовано этим поставкам. Любой слух о потопленном в
Персидском заливе очередном танкере порождает в стране волну
лихорадочных измышлений о том, что вот-вот грянет третий нефтяной
кризис, подобно тому, как бесснежная зима дает пищу зловещим прогнозам о
неурожае риса. В результате этих алармистских настроений Япония на
протяжении 80-х годов была «затоварена» и нефтью, и продовольствием,
однако ни страх неизбежного дефицита, ни общее ощущение того, что сырье
и ресурсы не беспредельны, не покидали людей.
Но еще больший пессимизм в отношении обеспечения ресурсами, энергией и
продуктами питания большинство японцев испытывают тогда, когда речь
заходит о долгосрочной перспективе. Многие искренне убеждены, что в
будущем нам доведется стать свидетелями того, как начнут высыхать
нефтяные скважины и истощаться запасы других ресурсов, столь бездумно
расточаемых сегодня. Немало людей обеспокоены тем, что в результате
урона, наносимого человеком окружающей среде, огромные участки земли
превратятся в пустыню, что вкупе с уничтожением лесов, идущим
пугающими темпами, приведет к острому дефициту продуктов питания,
бумаги и древесины. Часто высказываются аналогичные опасения в
отношении нехватки драгоценных металлов и других природных
ископаемых, а на демографический взрыв в развивающихся странах со
страхом смотрят как на неизбежный путь, ведущий к будущему голоду и
мору. Понадобилось немногим более десятилетия, чтобы пугающая картина
стремительно уменьшающихся ресурсов Земли проникла в сердце каждого
обывателя.
Как только человек ставит под сомнение неисчерпаемость продуктов
питания и природных ресурсов, свойственная ему инстинктивная тревога
предупреждает его, что среда обитания способна выдержать ее эксплуатацию
лишь до какого-то предела, но не более того; человек со всей остротой
ощущает, как его собственное «просвещенное своекорыстие» (enlightened
self-interest) требует положить предел жадному поглощению всего того, чем
изобилует природа, и такое ничем не сдерживаемое потребление уже больше
не кажется ему столь желанным и приятным, как ранее. Иными словами, то,
что я называю «импульсом сопереживания» (empathet-ic impulse), посылает
человеку сигнал, призывающий его сдерживать себя.
Человечество впервые получило этот сигнал в 80-е годы. У самых различных
людей стало меняться мировоззрение, они начали иначе смотреть на такие,
казалось бы, незыблемые понятия, как удовольствие, целесообразность и
привлекательность.
На протяжении всех 70-х годов и на Западе, и в Японии концепция того, что
считать роскошью, была напрямую связана с объемом тех или иных благ:
чуть ли не во всех случаях было принято исходить из принципа «чем больше,
тем лучше». Машина должна быть большой; если она большая, то, значит,
она и роскошная. То же самое относилось к мебели, холодильникам,
телевизорам, даже журналам. Чем большим оказывался тот или иной
продукт, тем больше средств и ресурсов требовало его изготовление, тем он
считался более привлекательным.
Подобное мировоззрение проявлялось и в том подходе к проблемам жилья,
который получил распространение в японском обществе после 1965 года.
Когда в ходе социологических опросов японцев спрашивали, в чем, по их
мнению, заключаются недостатки их жилища, ответ так или иначе сводился к
тому, что оно является, мол, слишком маленьким. Иначе говоря, ценность
определялась через размер: количество и качество в менталитете
опрашиваемых сливались воедино. Последующие вопросы позволяли
уточнить, что с точки зрения большинства роскошный дом не только должен
быть просторным, но и обязан иметь встроенные кондиционеры и
отопительные устройства, несколько современных туалетов, а так- же целый
ряд легких пристроек и маленьких двориков. Другими словами,
высококачественное жилье обязательно требовало большого объема
материалов и энергии, затрачиваемых на его строительство и эксплуатацию.
Если бы тот или иной участник опроса заявил, что его жилье представляет
собой деревянную одноэтажную постройку площадью менее пятидесяти
квадратных метров, выполненную в старом стиле, где нет кондиционеров и
центрального отопления, но которая, тем не менее, действительно относится
к разряду роскошных, большинство японцев посмотрели бы с жалостью на
такого человека, который из ложной гордости пытается доказать
недоказуемое. И тем не менее, именно такой дом в довоенной Японии являл
собой идеал роскоши и богатства.
С приходом 80-х подход к таким вещам начал меняться. Новая эстетика стала
определяться лозунгом «легкое — тонкое — короткое — маленькое»;
оказалось, что все помешаны на небольших и компактных изделиях. Эпоха,
когда понятия «большое» и «прекрасное» были чуть ли не синонимами,
подошла к концу.
Год за годом, вплоть до конца 70-х годов, производители автомобилей,
сдерживаемые лишь параметрами, установленными правилами дорожного
движения и ограничениями, налагаемыми налоговыми властями, наводняли
рынок все более крупными и мощными моделями. Однако стоило Японии
вступить в 1980 год, как правила игры изменились, и страна стала стремиться
к выпуску более легких машин, потребляющих меньше бензина. Если в 70-е
среди потребителей с подачи рекламодателей бытовало мнение, что каждое
повышение зарплаты лучше всего отметить покупкой более мощного
автомобиля, то сегодня многие гордятся своими малолитражками, а в
непомерно больших американских моделях видят не столько роскошь,
сколько безвкусицу. К разбазариванию бензина ныне относятся с таким
неодобрением, что производство велосипедов и мотоциклов переживает
настоящий бум, хотя еще недавно любой взрослый (если только не
спортсмен, конечно) сгорел вы со стыда, если бы его застали
передвигающимся на этом двухколесном сооружении. Сегодня же на них
ездят даже люди среднего возраста, и с трудом вспоминается то время, когда
стоянки у железнодорожных вокзалов и станций метро не были заставлены
бесчисленным множеством велосипедов и мотоциклов.
Та же логика обнаруживается и в маркетинге товаров для дома и
электрооборудования. Раньше изготовители дорогой мебели каждый год
выпускали все более крупные образцы, и это длилось вплоть до конца 70-х,
когда тенденция резко поменялась на противоположную. Такая смена
ориентиров совпала с неожиданным смещением акцентов в рекламе
холодильников, когда на смену волшебным словам «большой и
вместительный» неожиданно пришло новое заклинание: «компактный и
экономный». А уж когда дело доходит до маркетинга электронных
калькуляторов или видеокассет, то война, в которой миниатюрное
приравнивается к идеальному, ведется буквально за миллиметры.
Эти тенденции не ограничиваются менталитетом японских потребителей.
Общеизвестно, что около 1980 года американский рынок отверг большие
прожорливые автомобили, и на нем возобладали более компактные японские
модели. Несомненно, здесь сказал свое слово и внезапный скачок цен на
бензин, однако еще большую роль сыграли изменения во вкусах
потребителей. Причиной неудачи американских автомобильных компаний
стало их неумение правильно спрогнозировать новый подход потребителей к
тому, что же именно следует считать привлекательным в том или ином
товаре.
Послевоенная жизнь, казавшаяся кульминацией всех тех ценностей,
которыми столь дорожило индустриальное общество, уже прошла свой пик и
стала двигаться по нисходящей; последнее свидетельствует об агонии и
самого индустриального строя. Мы имеем все основания для такого
утверждения, поскольку в 80-е годы произошло немало явлений,
ознаменовавших диаметральный поворот в тех тенденциях, которые были в
наибольшей степени характерны для индустриального общества, включая и
основное направление технического прогресса.
Со времени промышленной революции техническое развитие было
направлено на достижение максимально возможных объемов, масштабов,
производственных темпов. Домны, химические заводы, гидравлические
прессы строились все быстрее, а пароходы и самолеты становились все
крупнее. По тому же принципу велось строительство служебных зданий и
гостиниц. На протяжении 70-х годов в разработке информационных систем
основной акцент делался на увеличение памяти центрального компьютера.
Конечно, на рост масштабов и объемов производства в силу его массового
характера можно смотреть как на закономерный результат индустриальнотехнического развития, однако не следует забывать, что аналогичную тягу к
гигантизму испытывали информационная сфера, организация досуга и- так
далее.
Другой важнейшей задачей технологии в этот период было обеспечение
максимально высоких темпов. В погоне за все большей быстротой операций
всего и вся, от станков до прокатных станов и самолетов, инженеры не
желали признавать никаких ограничений. Для тех, кто стоял во главе
компаний, связанных с такими товарами и услугами, чей золотой век явно
миновал (как, например, железные дороги), увеличение скорости было
средством завладеть воображением потребителя; то же самое можно сказать
и о производителях электроприборов, потрясавших домохозяек выпуском
микроволновых печей. В те времена любой разговор, заходивший о
перспективах новой техники, неизбежно касался возможности появления еще
более быстрых сверхзвуковых самолетов и такого захватившего воображение
всей Японии проекта, как разработка высокоскоростных поездов на
магнитной подвеске. Вне всякого сомнения, технический прогресс в это
время в определенной мере был направлен и на повышение эффективности
работы, обеспечивающей экономию потребляемой энергии, однако
финансовые и кадровые ресурсы, вкладываемые в такие исследования, не
составляли и десятой доли тех, что шли на увеличение объемов, расширение
масштабов, повышение темпов.
В 80-е годы и в Японии, и в западных странах подход к этим проблемам
претерпел коренные изменения. Строительству гигантских домен или
танкеров водоизмещением более 50 тыс. тонн серьезного внимания больше
не уделяют. Разработка поезда, способного двигаться со скоростью свыше
700 миль в час, уже представляется нереальной, и даже в самолетостроении,
где поиск путей создания более быстрых средств передвижения составляет
сам смысл существования этой отрасли, прекратилась гонка, направленная на
создание самолета, который по скорости превзошел бы «Конкорд», да и
целесообразность самого «Конкорда» сегодня ставится под сомнение.
Даже в области обороны, где экономическая целесообразность стоит на
втором плане, происходит чуть ли не полный отказ от стремления к созданию
более крупного и более быстродействующего оружия. Не планируется
постройка военного корабля, который своими размерами превзошел бы
авианосцы типа «Нимиц», не разрабатываются проекты создания
истребителей, способных летать со скоростью, более чем в три раза
превышающей скорость звука. Даже ядерное оружие, разработка которого из
года в год шла по пути все большего укрупнения, теперь планируется
использовать в рамках таких систем, где численности отдается предпочтение
перед размерами, так что боеголовки мощностью более одной мегатонны
сегодня уже кажутся анахронизмом. Вместо этого современные научные
разработки тяготеют к поиску новых путей экономии энергии, к созданию
более гибкой и многоцелевой продукции. Если эта тенденция сохранится, она
со всей неизбежностью приведет не только к деструкции индустриального
строя, но и к возникновению общества, которое будет иметь совершенно
иной характер.
Моя основная цель состоит в том, чтобы не только предсказать конец
индустриального общества, но и нарисовать, хотя бы в общих чертах,
картину приходящего ему на смену, показать характер социальных
преобразований, бросить общий взгляд на мир, который станет их
результатом. Вне всякого сомнения, это непростая задача. Здесь непригодны
теории и научные изыскания, основанные на наблюдениях за
индустриальным обществом, и существующие концепции не проливают на
новые проблемы должного света. Для того, чтобы вплотную подойти к
вопросам, которые ставит новый тип общества, необходимы совершенно
иные концептуальные рамки; для этого требуется создать новую
терминологию и разработать новую теоретическую базу. Совершенно
очевидно также, что в надежде обрести более глубокое понимание
перспектив, нежели то, которое мы имеем сегодня, нам придется вникнуть и
во
все
пертурбации,
которые
индустриальному строю общества.
претерпели
предшествовавшие
Для того, чтобы подготовиться к решению этой задачи, я хотел бы
рассмотреть действие «импульса сопереживания», выступающего в качестве
спутника самых глубинных социальных перемен.
Выше уже была приведена характеристика того, каким образом
«просвещенное своекорыстие», движимое этим импульсом, подвело человека
к тому, что он счел приятным поглощение в огромных количествах всего,
чем изобилует природа. Как свидетельствует история, «импульс
сопереживания» всегда и везде служит движущей силой [социальной
эволюции]. Именно он породил к жизни не только основанную на нефти
послевоенную культуру, но и само индустриальное общество.
Из этого следует, что если мы хотим знать, какой же именно мир будет
уготовлен нам, когда общество вступит в свою следующую фазу, мы
правильно поступим, если зададимся вопросом: какие блага будут отныне и
впредь существовать в достатке? Ответ на этот вопрос способен дать очень
много для понимания того, что ожидает всех нас.
То, чем мы, скорее всего, будем обладать в изобилии, можно назвать
мудростью, причем определяемой в самом широком смысле, включающей
человеческие способности и знание, равно как и информацию.
«Запасы» того, что мы назвали мудростью, увеличивались и увеличиваются
по мере накопления знаний и опыта, распространяясь через системы
образования, информационные и коммуникационные сети, а характер
восприятия и прочтения людьми новых данных обусловливают ее
постоянное адаптирование и преобразование [к существующим
потребностям]. Однако сегодня мы подошли к моменту, когда благодаря
прорывам в сфере компьютерных и коммуникационных технологий
появились
средства,
обеспечивающие
хранение,
обработку
и
распространение знаний в несравненно более широких масштабах, чем это
было возможно ранее. События последнего времени, связанные с
разработкой персональных микрокомпьютеров и коммуникационных систем,
объединяющих таковые в глобальную сеть, сделали их неотъемлемой чертой
нашего образа жизни и обусловили взрывное увеличение объема
информации, с которой мы сталкиваемся постоянно.
Итак, товаром, которым мы обладаем в изобилии, является мудрость. Отсюда
следует, что в складывающемся сегодня обществе наибольшее уважение
будет вызывать образ жизни, сопровождаю- щийся бросающимся в глаза
потреблением мудрости (в ее самом широком понимании), а находить
наилучший сбыт будет продукция, свидетельствующая о том, что ее
покупатель — человек «умудренный». Именно продукция, более, чем чтолибо иное, подтверждающая доступность ее владельцу высших знаний,
информации и мудрости, должна обладать тем, что я далее буду называть
ценностью (или стоимостью), созданной знанием (knowledge-value). Я
полагаю, что ныне мы вступаем в новый этап цивилизации, на котором
движущей силой являются ценности, создаваемые знанием, и именно
поэтому я называю этот этап обществом, базирующимся на знанием
создаваемых ценностях (knowledge-value society).
Но как исчислить ценность знания как одного из факторов производства
товара? Что представляет собой стоимость, созданная знанием? Экономисты
и социологи сегодня уходят от ответа на эти вопросы. Многие из них в своих
работах обращают особое внимание на важность определенных элементов,
соответствующих созданной знанием стоимости, однако большинство
воспринимают их лишь как присущие продукции сферы образования или
информационного сектора и пытаются охарактеризовать их в контексте
перехода от материальных ценностей к нематериальным. Подобный
упрощенческий подход к явлению, которое по своей сути относится к числу
наиболее масштабных социальных преобразований, не только во многом
усугубляет трудности, связанные с пониманием этого феномена, но и ведет к
тому, что социальные институты, находящиеся на службе истэблишмента,
оказываются заинтересованными в сохранении статус-кво индустриального
общества, противоборствуя тенденции, в которой они усматривают
неприкрытую угрозу своему положению.
Вне всякого сомнения, никто не будет спорить с тем, что сфера образования
и информационный сектор (хотя столь расплывчатый и неопределенный
термин затушевывает кардинальные различия между этими понятиями)
занимаются сбытом товаров, содержащих элементы созданной знанием
стоимости. Поэтому есть все основания ожидать, что в качестве таковых в
будущем их ожидает процветание. Между тем степень этого преуспеяния и
та доля, которая будет принадлежать им в экономике будущего
непосредственно как отраслям, сбывающим созданную знанием стоимость,
будут ненамного больше, чем у секторов, которые не занимаются
реализацией благ, обладающих такой стоимостью.
Напротив, в значительном числе случаев спрос на созданную знанием
стоимость будет удовлетворяться за счет продукции, в которой таковая
находит свое выражение, например, в неповторимом дизайне, а также за счет
предоставления
в
высшей
степени
специализированных
услуг,
подкрепленных длительной традицией в обеспечении удовлетворения нужд
потребителя.
Предположим, что вы собираетесь приобрести галстук. Если вы выберете
такую всемирно известную марку, как «Гермес» или «Дан-хил», подобная
покупка в токийском магазине обойдется вам более чем в 20 тыс. иен. Если
же вы предпочтете купить обычный, «нефирменный» галстук, изготовленный
из такого же материала, его цена не превысит 4 тыс. иен. Даже не вдаваясь в
крайности и не пытаясь найти что-то в высшей степени уникальное и
необычное, вы сможете убедиться, что разница в цене двух галстуков,
изготовленных из одного и того же материала, составляет пятьсот процентов.
При этом самое тщательное их изучение продемонстрирует, что они мало
чем отличаются друг от друга с точки зрения энергии или ресурсов,
затраченных на их изготовление, равно как и с точки зрения работы ткачей,
красильщиков, швей, участвовавших в их создании. Галстук от «Гермеса» не
окажется в три раза длиннее, не будет отличаться какой-то особой вышивкой
или другими заметными деталями, но будет, тем не менее, стоить в пять раз
дороже. И многие люди охотно покупают такие галстуки, хотя никто их не
заставляет этого делать. Другими словами, то обстоятельство, что
фирменный галстук должен стоить 20 тыс. иен, получает социальное
признание.
Такое изделие является носителем ценности, выходящей за пределы
расходов, связанных с его изготовлением. Что же представляет собой эта
ценность?
Она содержится уже в том обстоятельстве, что при покупке галстука данной
фирмы покупатель абсолютно убежден, что имидж этой продукции признан
высококлассным, а ее непревзойденный дизайн будет служить отражением
коллективной мудрости тех, кто так или иначе связан с фирмой,
изготовившей эту продукцию. Другими словами, созданной знанием
стоимостью обладает фирменное название, а поступок покупателя, который
приобрел
продукцию,
отражающую
накопленную
мудрость
ее
изготовителей, признается разумным.
Аналогичные примеры можно привести в отношении изделий, связанных с
важными техническими изобретениями или уникальными новыми
материалами либо имеющих свойства, пока еще отсутствующие у других
видов продукции. Когда общепризнанно, что тот или иной товар обладает
неповторимыми техническими характеристиками, нет ничего необычного в
том, что его продажная цена будет во много раз превосходить его
себестоимость. Изготовителям нередко удается в два-три раза увеличить
первоначально установленную цену на некоторые виды продукции только
лишь благодаря демонстративному включению уникальных материалов в
отдельные небольшие, но находящиеся на виду элементы. Существуют и
товары, специально ориентированные на безудержное стремление
потребителя обладать самой современной технологией: за то, что они
способны выполнять какую-то малозначительную функцию, которую другие
обеспечить пока что не могут, цены на них устанавливаются совершенно
сюрреалистические. В таких областях, как сервис и организация досуга,
можно также найти много примеров того, как маркетинг уникальной услуги
осуществляется с большим успехом, несмотря на установленную на нее
сверхвысокую цену. Каждый из этих примеров свидетельствует о том, сколь
важное значение придается сегодня созданной знанием стоимости.
Однако тот факт, что люди стали ценить стоимость, созданную знанием, как
один из важнейших компонентов имиджа продукции, не обязательно
означает, что их перестает интересовать чисто материальная сторона вещей.
Ниже я коснусь этой проблемы более подробно, а сейчас хотелось бы
отметить неоспоримое значение материальных товаров в качестве носителей
созданной знанием стоимости. Наша задача здесь заключается в том, чтобы
определить ту степень, в которой значение этой новой ценности принимается
во внимание при определении того, сколько же стоит тот или иной продукт.
Даже в знакомом нам индустриальном обществе цены на определенные
товары, такие, как произведения искусства, предметы высокой моды,
украшения или современные технологии, могут быть лишь в очень малой
или вовсе ничтожной степени связаны с базовыми расходами на затраченные
материалы или на изготовление этих товаров; их производители сумели
установить на них гораздо более высокую цену, чем та, которая
соответствовала бы их себестоимости. Это дает нам основания говорить о
том, что данные товары обладают элементами созданной знанием стоимости.
Однако подобная продукция встречается редко и служит исключением из
общего правила, чаще всего проявляя себя в каких-то необычных
обстоятельствах. Между тем в обществе, к которому мы идем, в обществе,
где все построено на созданной знанием стоимости, основная доля цены той
или иной продукции будет складываться из факторов, связанных с созданной
знанием стоимостью. Производители, стремящиеся к созданию продукции,
сбываемой по высокой цене, будут прилагать все силы к тому, чтобы придать
ей как можно более высокую созданную знанием стоимость.
Такой поворот событий неузнаваемым образом изменит лицо мира, в
котором мы живем. Прежде всего, с уверенностью можно говорить о том, что
произойдет переход от массового производства стандартных товаров к
системе, основывающейся на выпуске большого многообразия товаров,
каждый вид которых будет ограничен небольшими партиями. Заключенная в
товаре созданная знанием стоимость в конечном счете проистекает из
факторов, которые позволяют ощутимым образом отличить его от другой
имеющейся на рынке продукции. Наряду с этим, всякий раз когда
изготовителям удастся подмять под себя своих конкурентов путем придания
своей продукции новой формы созданной знанием стоимости, их конкуренты
тут же ответят ударом на удар, заявив во всеуслышание, что и их товару
придана такая же ценность, причем созданная якобы «еще лучшим» знанием;
неизбежным следствием подобной конкуренции станет появление системы,
которая будет обеспечивать все большую диверсификацию видов продукции
наряду с тенденцией к сдерживанию расходов, связанных с их разработкой.
Столь острая конкурентная борьба, скорее всего, породит такие условия, при
которых «бум» в сбыте того или иного популярного товара или технического
новшества будет становиться все короче и короче. Мы должны быть готовы к
жизни в мире, где новые разработки, технические новинки и товары,
предлагающие неповторимые сочетания различных функций, будут
вводиться на непрерывной основе и тут же уступать место еще более
оригинальным изобретениям и товарам, так что созданная знанием стоимость
превратится... в товар «одноразового пользования», от которого после его
употребления надлежит избавиться как можно скорее.
Стоимость, созданная знанием, по самому своему характеру требует в
высшей степени субъективированного общества, иначе она не сможет
получить должного признания. Вспомним, что сельскохозяйственная
продукция, сырье и другие товары, составлявшие основу, на которой было
создано индустриальное общество, имели, как правило, стабильную,
подверженную определению, стоимость. Как одинаковы возможности
использования, скажем, бушеля риса, тонны стали или рулона материи, так
более или менее стабильна полезность и ценность таких товаров, пусть даже
цена на них меняется в зависимости от спроса и предложения. Отсюда
следует, что если в какой-то момент цены на такие товары поднимаются
непомерно высоко по сравнению с их истинной стоимостью, есть все
основания ожидать их последующего падения примерно до прежнего уровня.
Другими словами, стоимость продукции в долгосрочной перспективе
оказывается более или менее сбалансированной, хотя цены на нее безусловно
подвержены рыночным колебаниям.
Если в качестве основных товаров выступают ресурсы или сырье такого
типа, о котором речь шла выше, либо стандартная продукция массового
производства, создаваемая путем обработки этих материалов, средства,
используемые для их производства (материально-техническая база и
процессы, осуществляемые на этой базе), также будут иметь свою стоимость,
в зависимости от которой на них установится более или менее стабильная
цена. Именно так обстоит дело в отношении полей, на которых произрастает
рис, равно как и в отношении домен, где выплавляется чугун, и станков, на
которых ткут материю. Если в тот или иной момент случается спад
производства, то это означает, что изготовители хлопка или чугуна несут
краткосрочные потери, но можно предположить, что не в столь далеком
будущем рынок активизируется и производство этих товаров вновь окажется
прибыльным.
Между тем о созданной знанием стоимости этого сказать нельзя. Если
фирменный галстук, который был модным в прошлом году и продавался за
20 тыс. иен, выйдет из моды, есть все шансы встретиться с ним на
распродаже, где за него будут просить не более 4 тыс. иен. Другими словами,
созданная знанием ценность, за которую потребитель еще недавно готов был
выложить дополнительные 16 тыс. иен, сегодня свелась к нулю. При этом мы
вправе предположить, что, несмотря на падение цены до одной пятой от
уровня прошлого года, никто не горит желанием скупить подобные галстуки
в огромных количествах в надежде на то, что они рано или поздно вновь
будут стоить в пять раз больше, чем сегодня.
То, что справедливо в отношении модного товара, справедливо и в
отношении рынка новых технологий. Даже если той или иной компании
удастся добиться больших прибылей путем внедрения какой-то
впечатляющей технологии, быстро придет время, когда его конкурент
преуспеет еще больше, и тогда цена, установленная на внезапно ставший
устаревшим товар, резко покатится вниз. По сути дела, именно это постоянно
происходит с такой продукцией, как программное обеспечение для
персональных компьютеров.
Другими словами, созданная знанием стоимость представляет собой не
только подверженную резким колебаниям переменную величину; каждое из
ее конкретных воплощений отличается преходящим, чуть ли не
одномоментным, характером. Еще более важно, что личности, являющиеся
творцами созданной знанием стоимости, зачастую теряют свой авторитет и
свою ценность в силу изменения тенденций, связанных с модой и
технологиями.
Возьмем в качестве примера дизайнера, изделия которого в свое время
пользовались популярностью. Нередки случаи, когда той или иной фирме
удается заполучить себе подобного мастера и добиться благодаря ему такого
ошеломляющего успеха, что компания начинает занимать ведущее
положение в мире моды. Но если с годами творения этого мастера теряют
былую привлекательность, фирма не только оказывается не в состоянии
сбыть свою продукцию; утрачивается и доверие к ней, и она лишается
возможности в дальнейшем играть сколь-либо заметную роль [на рынке].
То же самое можно сказать практически о любом виде операций, связанных с
производством созданной знанием стоимости, идет ли речь о разработке
новой технологии или новой продукции, о корпоративном планировании,
создании произведений искусства, об организации досуга и так далее,
поскольку каждая из этих областей требует творческого начала. Временный
характер созданной знанием стоимости связан с преходящим характером
самого творческого процесса.
В обществе, основной чертой которого является безбрежное многообразие
благ и преходящий характер их ценности, экономическая среда станет
жесткой и безжалостной, а психология рынка будет сводиться к девизу
«победа или смерть», что будет означать гибель недостаточно энергичных
или работающих без должного блеска фирм. И тем не менее, именно этот
процесс жесточайшей конкуренции, где победителю достается понастоящему жирный кусок, а проигравший теряет все, способен служить
средством, которое позволит обществу добиться еще больших достижений.
Созданная знанием стоимость, о которой речь шла выше, обладает
уникальной чертой: она создается [индивидуализированными усилиями
людей]. А характеристикой основывающегося на ней общества, которая
отличает его от индустриального строя, является тенденция к объединению
труда и средств производства.
Появление индустриального общества стало возможным лишь благодаря
промышленной революции. Зародившись в Англии в конце XVIII века, к
середине следующего столетия она перекинулась на всю Западную Европу,
Америку и Японию, обретя форму фабричного производства, что стало
общей чертой всех этих обществ.
При этом, однако, не следует забывать и о многочисленных технических
достижениях, которые как предшествовали становлению фабричной
системы, так и сопровождали его. У нас есть все основания задаться
вопросом, почему в рамках эволюционного процесса именно этот
конкретный момент выделяется как начало промышленной революции.
Фабричное производство не сводилось к одному лишь быстрому
техническому прогрессу; напротив, именно потому, что оно повлекло за
собой разделение труда и средств производства, оно привело к коренному
преобразованию всей социальной структуры.
В средние века земледельцы при помощи собственных орудий обрабатывали
землю, которую им предоставлялось право возделывать, ремесленники
владели необходимыми им инструментами, торговцы либо торговали в
собственных лавках, либо владели повозками и лошадьми, на которых
развозили свои товары. Таким образом, за небольшими исключениями, в это
время господствовали такие условия хозяйства, при которых тот, кто владел
трудом, обладал и конкретным правом (если не фактической собственностью
в ее современном смысле) на использование земли и/или орудий, имевших
определяющее значение для его производства; одновременно те права,
которыми он владел, заставляли его заниматься именно этим видом занятий
и никаким другим.
Промышленная революция, приведя к появлению фабричной системы,
использующей паровые машины, создала ситуацию, при которой произошло
взаимное отчуждение труда и средств производства. Это положило начало
описанной Марксом поляризации между капиталистами, владеющими
средствами производства, и свободной рабочей силой, у которой ничего нет,
кроме услуг, которые она способна предложить.
Таким образом, промышленная революция повлекла за собой не только
появление новой технологии или изменения в средствах производства, но и
коренное преобразование общества. Импульс, вызванный ею, был столь
велик, что каждое новое событие — изобретение двигателя внутреннего
сгорания, появление электроэнергии или зарождение химической
промышленности — не только не оборачивало вспять воздействие этих
коренных преобразований, но и еще больше их усиливало. Средства
производства увеличивались в объеме и дорожали в такой степени, что
отдельным людям и даже семьям все больше и больше становилось не под
силу управлять ими и финансировать их, поскольку они должны были
быстро разрастаться и адаптироваться к меняющимся условиям. В течение
долгого времени каждое крупное техническое достижение или изобретение
приводило лишь к тому, что социум все более и более отвечал
характеристикам, свойственным именно индустриальному обществу; все эти
достижения ни в коей мере не изменяли структуру, успевшую установиться к
этому времени.
Как же обстоит дело в отношении того общества, к которому мы движемся
сегодня, — общества, основывающегося на созданной знанием стоимости?
Какие средства производства, какие орудия используют те, кто принимает
участие в процессе увеличения такой стоимости? Дизайнеру для создания его
набросков требуется рабочий стол, карандаши, угольники и другие
несложные инструменты. Фотографу нужен фотоаппарат, оператору
необходима
кино-или
видеокамера.
Большинству
разработчиков
программного обеспечения достаточно для работы небольшого компьютера.
Цена на орудия, необходимые для выполнения любой из этих функций, не
является запредельно высокой: напротив, их приобретение связано с
расходами, которые вписываются в более чем разумные рамки. Даже
корпорации, которые должны обеспечивать материально-техническую базу
для разработки новых технологий или видов продукции, в последние годы
все меньше склонны к строительству огромных лабораторий и все чаще и
чаще обходятся средними или даже небольшими по размеру научноисследовательскими центрами, причем строят их непосредственно в городах,
а не в гигантских промышленных парках неизвестно на какой окраине.
Направление развития и превалирующая концепция технологического
прогресса все больше отходят от понятия «большой науки», одержимой тем,
чтобы добиться максимальных размеров, объемов, скоростей; вместо этого
происходит движение к такой концепции технологии, при которой во главу
угла ставятся диверсификация, эффективность и оптимальная увязка
множества функций.
Однако наиболее важным средством умножения созданной знанием
стоимости оказывается разум отдельного человека, и те, кому поручено ее
производство, должны стремиться вложить в него как можно больше знаний,
опыта, мировосприятия. Сотворение созданной знанием стоимости является
процессом, при котором труд и средства производства оказываются
неразрывно связанными; сам человек становится главным средством
производства.
Если предположить, что число работников, связанных с производством
созданной знанием стоимости, будет увеличиваться, то весьма вероятно, что
противоречие между трудом и средствами производства, бывшее постоянной
чертой, доставшейся нам в наследство от промышленной революции, начнет
сходить на нет, и в обществе будущего станет превалировать новая
концепция хозяйства, в которой эти два элемента гармонично сольются
воедино. Нет никакого сомнения, что это означает отказ от основных
принципов индустриального общества и будет иметь огромные последствия
для всех экономических, социальных и политических институтов.
Я считаю возможным утверждать, что начавшиеся в 80-е годы изменения
знаменуют собой не просто появление более развитой промышленной
экономики, но начало перехода к обществу нового типа; что эти перемены не
ограничатся технологическими нововведениями или изменениями
индустриального порядка, но коренным образом преобразуют всю
социальную структуру. В этом смысле изменения, которые наблюдаются
сегодня в Японии и в Соединенных Штатах, могут быть названы наиболее
важными из происшедших за двести лет с момента начала промышленной
революции. Вот почему я предпочитаю называть эти преобразования
knowledge-value revolution.
События, происшедшие за последние несколько лет, за время после выхода в
свет первого издания этой книги, появившегося в декабре 1985 года,
практически полностью подтверждают мои тогдашние прогнозы.
Осенью 1985 года в Японии резко подскочили процентные ставки, а те
отрасли промышленности, которые в своей работе нуждаются в сырье,
«вошли в штопор», как только резко взмыл вверх потребительский спрос на
фирменные товары и продукцию самого высокого качества. Одновременно
активизировался спрос на максимально разнообразную продукцию, в
результате чего теперь все чаще предлагаются множественные варианты
одного и того же товара, причем время, отводимое на выпуск каждого из них,
все больше сокращается. Сегодня, в 1990 году, основная экономическая
проблема, стоящая перед Японией, заключается в том, что она не располагает
системой и возможностями для эффективной диверсификации производимых
благ, с тем чтобы обеспечить удовлетворение все более конкретного и вместе
с тем все более многообразного потребительского спроса. Сложившаяся в
Японии социальная структура, идеально отвечавшая задачам современного
массового производства, плохо удовлетворяет потребности страны, как
только
дело
доходит
до
культивирования
такого
типа
индивидуализированного творчества, который имеет существенно важное
значение для разработки различных форм созданной знанием стоимости, а
именно это особенно необходимо для обеспечения эффек- тивной
конкурентоспособности по мере перехода к следующему этапу
[хозяйственного прогресса].
Американский опыт второй половины 80-х годов несколько отличался от
японского. Тот факт, что доллар ослаб, а иена и немецкая марка окрепли, дал
американской
промышленности
конкурентное
преимущество
на
международном рынке. Несмотря на это, показатели производительности и
занятости в американской промышленности не достигли ожидавшегося
уровня. Даже после падения курса доллара рост занятости и
производительности труда в основном ограничился лишь теми секторами
экономики, где «белые воротнички» были связаны с производством
созданной знанием стоимости; я имею в виду научные исследования и
разработки, коммуникацию, информационную индустрию, финансы,
конструкторские бюро и недвижимость. Скорее всего, такой рост
показателей объясняется тем обстоятельством, что в Америке, которая в
настоящее время продвинулась дальше Японии на пути производства
созданной знанием стоимости, молодых людей, вступающих в мир труда, все
меньше и меньше привлекает перспектива засучить рукава и отправиться на
завод, посвятив себя выпуску безликой продукции.
Вторая половина 80-х годов во всем мире стала периодом экономического
подъема. Однако при этом увеличение производства ресурсов и
сельскохозяйственной продукции и даже появление их излишков не привело
к колебаниям цен на эти товары, как это происходило в 60-е годы. Несмотря
на то, что цены на многие виды ресурсов действительно снизились, это не
повлекло за собой возврата к прежнему менталитету, когда образ жизни,
связанный с максимальным потреблением, считался синонимом хорошего
вкуса, как было в те дни, когда индустриальное общество находилось в своем
зените.
Напротив, растущая обеспокоенность глобальными экологическими
проблемами свидетельствует о том, что все более распространенным
становится ощущение того, что должен существовать материальный предел и
производству, и потреблению.
Но если выбирать наиболее яркий пример того, как характерные для
индустриального общества вкусы и убеждения стали меняться к концу 80-х
годов, на ум сразу приходит то разочарование социализмом, которое дало о
себе знать в Советском Союзе и во всем восточном блоке. Социализм и те
три идола, которым он по- клонялся, — идеализм, плановая экономика и
однопартийность — были одним из крайних выражений современной
индустриальной идеологии; его сторонники верили в способность
человечества дойти в своей эволюции до состояния Homo economicus,
поведение которого подчинялось бы законам объективной рациональности.
Социалистическая система представляла собой попытку административного
воплощения именно этого принципа, и в качестве таковой она оказалась
плохо приспособленной как к восприятию создаваемой знанием стоимости,
которая в значительной степени опирается на субъективные факторы, так и к
решению проблемы диверсификации потребительского спроса, характерной
для общества, в основе которого лежат подобные ценности.
Изучение тенденций, наметившихся во второй половине 80-х годов,
показывает, что революция, порожденная создаваемой знанием стоимостью,
распространяется по всему миру. В результате изменений, происшедших за
эти годы, производство таких ценностей становится главным условием
экономического роста и средством обеспечения корпоративных прибылей;
человечество уже начало свой переход от индустриального общества [к
новому социальному строю].
Крайне важно соотнести появляющиеся сегодня технические новшества с
многочисленными преобразованиями, сказывающимися на других аспектах
общественной жизни.
Развитие компьютерных коммуникаций не стало одномомент-ным явлением,
относящимся к 80-м годам. Подобные технологии активно развивались и в
конце 60-х, и в 70-е годы, и уже тогда можно было предсказать, что вскоре
наступит период их гораздо более бурного распространения. Однако в то
время невозможно было предвидеть ни достигнутую впоследствии степень
миниатюризации, диверсификации и экономичности, ни появление большого
числа совершенно новых технологий, ни массовые формы их использования
в таких областях, как организация досуга и сервисный сектор. Прогнозы
«компьютерного общества», которыми так изобиловали 70-е годы,
основывались на идее центрального звена, на поочеред- ном использовании
суперкомпьютеров через сеть терминалов, охватывающих всю страну. Если
вспомнить, каким реальным путем направились инновации, нет ничего
удивительного в том, что компанией, впервые изобретшей персональный
компьютер, стала не такая гигантская корпорация, как «Ай-Би-Эм», а
небольшая молодая компания, основывающаяся на совместном капитале.
По сути, развитие и массовое распространение компьютернокоммуникационных систем, ворвавшихся в нашу жизнь в 80-е годы, стало
результатом неуклонного развития технологии, которое, поменяв свое
направление в соответствии с желанием человека, позволило ей решительно
вторгнуться в целый ряд непривычных областей. Побудительным мотивом
такой модели прогресса оказалось изменение вкусов и этических принципов
человека, основывающееся на крепнущем убеждении в том, что
материальные ресурсы имеют конечный и ограниченный характер.
Воздействие современных компьютерно-коммуникационных технологий на
общество по своему характеру резко отличается от влияния, которое некогда
оказали на него двигатель внутреннего сгорания, электричество или
химическая
промышленность.
Изобретения
прошлого
отвечали
превалирующему в то время стремлению к количественному увеличению
материальных благ. Большинство технических инноваций, свидетелями
прогресса которых мы являемся сегодня, направлены на уменьшение
зависимости от материальных ценностей путем обеспечения все большей и
большей их диверсификации и роста масштабов информационных услуг.
Именно такой характер имеют инновации, реальная роль которых
заключается в закреплении успехов, достигнутых на пути роста значения
создаваемой творческим знанием стоимости.
Каким же окажется общество, основывающееся на созданных знанием
ценностях? Прежде чем ответить на этот вопрос, имеет смысл рассмотреть
саму природу создаваемой знанием стоимости, кото- рой, на мой взгляд,
предопределено играть все более и более важную роль.
Вновь следует повторить: созданная знанием стоимость генерируется путем
субъективных перцепций (группы людей или же общества в целом),
получающих определенное распространение в обществе. Подобный вид
социальной субъективности отличается неустойчивостью и подвержен
быстрым изменениям. Особенно это относится к обществам, допускающим
свободу выражения мнений и обладающим гигантскими информационными
системами. Структура подобных перемен не ограничивается простой серией
вертикальных флуктуаций, а является по своей природе гораздо более
зыбкой: превалирующая ценность мгновенно может быть низведена до нуля.
Даже если речь идет о продукции, относящейся к разряду типичных
материальных ценностей или услуг, ее цена может резко взлетать и падать в
зависимости от факторов спроса и предложения. Цена на стальной прокат,
например, в течение одного года способна колебаться в интервале между 50
и 150 тыс. иен. Тем не менее есть все основания смотреть на базовую цену
проката как на стабильную в рамках определенного диапазона,
определяемого социальными условиями соответствующего периода. Если
цена падает слишком низко, есть основания предполагать, что она вновь
поднимется, а если она взлетает до астрономических высот, то с
уверенностью можно говорить о том, что в недалеком будущем следует
ждать ее падения. Другими словами, к вопросам цены на сталь вполне
применима традиционная экономическая логика спроса и предложения.
В отношении созданной знанием стоимости дело обстоит иначе. Возьмем
уже упоминавшийся пример с галстуками, которые были модны год назад и
быстро расходились по цене 20 тыс. иен. Когда такой товар выходит из моды
и продается по 4 тыс. иен, никто не надеется на то, что его стоимость скоро
вновь возрастет. Если такое и случится, это будет похоже на чудо.
Данный феномен свидетельствует, что подобный товар теряет практически
всю свою стоимость; если мы попытаемся трактовать этот феномен как
уменьшение цены, это будет означать некорректную постановку вопроса. Тот
факт, что подобный галстук все еще продается по цене 4 тыс. иен,
обусловлен издержками на материал, использованный для его изготовления,
однако стоимость, созданная знанием и нашедшая свое выражение в покрое и
расцветке этого галстука, упала до нуля. Это сразу становится очевидным,
если рассматривать покрой и расцветку в качестве самостоятельного
фактора.
Аналогичный принцип с еще большей уверенностью может быть отнесен к
технологии и информации. Продукция, обладающая m.i-сокой стоимостью в
силу того, что она представляет собой уникальную новую технологию,
немедленно утрачивает свою ценность, как только появится другая,
превосходящая ее технология. Когда транзисторы получили повсеместное
признание, стоимость радиоламп упала до крайне низкой отметки, а
появление реактивных двигателей столь же сильно обесценило винтовые
моторы. С развитием текстовых процессоров ценность технологии,
связанной с производством пишущих машинок, быстро приближается к
нулевой отметке, а компьютерное программное обеспечение нередко теряет
всю свою стоимость за один-два года. Если только не произойдет ничего
исключительного, эти товары уже никогда не обретут вторую жизнь.
Другими словами, созданная знанием стоимость подобна падающей звезде,
которая горит ярко лишь в те мгновения, когда проходит через пространство
социальных обстоятельств и субъективных факторов, позволяющих ей
светить ярче других. Осознание факта, что созданная знанием стоимость
слагается из такого мимолетного набора переменных факторов, обладает
определяющим значением для понимания того, почему она не имеет
никакого прямого и даже косвенного отношения к издержкам, связанным с ее
созданием.
Разработка универсальной концепции (подобного теории трудовой
стоимости), применимой в отношении созданной знанием стоимости,
невозможна; более того, трудно представить себе и то, каким образом теория
полезности способна объяснить характер такой ценности. Понесенные
производителем расходы в своей основе не имеют никакого отношения к
стоимости созданного знанием продукта; помимо этого, отсутствует то
традиционное движение, которое сближает цены с затратами. В этом
заключено фундаментальное отличие созданных знанием ценностей от
материальных товаров и услуг, к которым может быть применена теория
общественной полезности Вальраса.
Временный характер как созданной знанием стоимости, так и самого
процесса ее производства, обусловливает высокую степень уязвимости
факторов хозяйства перед лицом нестабильности. Даже тот, кто, проявив
незаурядные способности, создал соответствующие той или иной конкретной
отрасли субъективные факторы и технологические условия, может утратить
их по мере эволюции соответствующего производства. Таким образом,
повсеместные изменения являются непременным условием, свойственным
основанному на знаниях обществу, а само оно оказывается гораздо более
динамичным, чем индустриальный строй, с которым мы сталкивались до сих
пор.
Каким же образом может быть установлена цена в случае, когда отсутствует
всякая связь с издержками? В этой ситуации она, примитивно говоря,
формируется потребителями в зависимости от того, какое у них складывается
представление о «надлежащей» цене.
Помимо затрат, существует ряд факторов, формирующих у потребителя
ощущение того, что та или иная оценка имеет «правильный» характер.
Одним из элементов, присутствующих в этом уравнении, является цена
альтернативных видов продукции; свою роль играют и представления,
которые данное общество принимает как отвечающие здравому смыслу. В
качестве важных факторов могут также выступать реклама, отзывы средств
массовой информации, престиж той или иной продукции среди тех, кто
формирует общественное мнение. Время от времени сюда вторгаются и
элементы изменений, поскольку стоимость, созданная знанием, в своей
основе имеет временный характер.
Между тем одним из важнейших факторов выступают издержки выбора,
затраты, связанные с принятием решений (decision-making cost). Концепция
подобных затрат родилась из попыток предсказать число людей,
посещающих те или иные мероприятия. Обычный метод прогнозирования
распределения участников событий или покупателей в магазинах
заключается в использовании так называемой гравитационной модели.
Таковая предусматривает, что число прибывающих потребителей находится
в обратной пропорции к расстоянию (следует отметить, что в данном
контексте понятие расстояния имеет крайне широкое значение). Однако, как
известно из опыта проводившихся в Японии всемирных ярмарок и научных
выставок, эта модель не срабатывает. В последнее время отмечено, что из
более отдаленных областей появляется большее число потребителей, чем
следовало бы ожидать согласно основанным на данной формуле расчетам.
Вот почему новая прогностическая модель включает константную величину,
отражающую издержки выбора.
Когда человек потребляет определенный продукт, этому предшествует
выплата некоей суммы денежных средств, отражающая его финансовые
затраты. В богатом обществе потребление в подавляющем большинстве
случаев не сводится к непроизвольным действиям, обусловленным
необходимостью удовлетворения биологической потребности. Напротив,
человек, выбирая ту или иную форму потребления, вынужден отказаться от
другой,
альтернативной,
формы,
что
всегда
сопровождается
психологическими издержками. Это и есть затраты, связанные с принятием
решений. В условиях бедности, когда потребитель не располагает богатым
выбором, затраты такого рода оказываются незначительными по сравнению с
финансовыми издержками. Таким образом можно объяснить тот факт, что
экономисты до недавнего времени не уделяли данному моменту
значительного внимания.
Между тем в богатом обществе затраты, связанные с принятием решений,
оказываются важным фактором, определяющим поведение потребителя. И
пусть сегодня у людей достаточно денег, необходимость выбора между
большим числом альтернатив, открывающихся перед потребителем, делает
таковой все более и более трудным, и значение затрат, связанных с
принятием решений, проявляет тенденцию к росту. Поэтому, когда мы
говорим об отказе от одной формы потребления при выборе другой, мы не
обязательно имеем в виду, что покупка одной вещи означает отсутствие
денег для покупки какой-то другой веши; мы хотим этим сказать, что такие
факторы, как ограничения, налагаемые временем, имеющимся для
потребления, или же социальная оценка той или иной конкретной формы
поведения потребителя, также играют свою роль. Более того, мы вправе
пойти еще дальше и заявить, что время и репутация для многих потребителей
стали играть даже большее значение, чем деньги.
Тем, кто стремится к увеличению объема сбыта своей продукции в условиях
диверсифицированного общества, основывающегося на созданной знанием
стоимости, придется уделять больше внимания сокращению усилий,
направленных на принятие решений, чем уменьшению финансовых расходов
покупателя через систему скидок.
Что же определяет издержки выбора? Конкретные черты той или иной
личности наряду с внешними обстоятельствами, вне всякого сомнения,
имеют важное значение, однако наиболее серьезным фактором может в
перспективе оказаться осознанное отторжение или же, напротив,
благоприятная реакция той социальной группы, к которой принадлежит
человек. Другими словами, усилия, необходимые для того, чтобы сделать
нечто такое, что делают многие, невелики; но они будут значительны тогда,
когда речь пойдет о том, чтобы сделать то, чего раньше никто не делал. Это
особенно верно в случае, если элемент «многие» означает «подавляющее
большинство»; в этих случаях реакция отторжения уступает место
непреодолимому стремлению к совершению подобного действия. По сути
дела, психологические издержки, связанные с отказом от такого поступка,
могут оказаться очень высокими, что позволяет говорить об «отрицательной
величине» издержек выбора.
Например, в наше время до старших классов средней школы в Японии
доходит 95 процентов детей, и поэтому родители тех подростков, которые
заявляют, что хотят бросить школу, оказываются в неловком положении. В
таких случаях прилагаются нечеловеческие усилия к тому, чтобы склонить
ребенка к иному решению; родители завлекают своих детей, [обещая им
альтернативные формы образования и дорогие подарки]. Все это делается
потому, что финансовые затраты, связанные с продолжением обучения,
перевешиваются психологическими издержками, вызываемыми его
прекращением. Издержки выбора оказываются в данном случае
отрицательной величиной. Подобные факторы должны учитываться в
будущем
микроэкономическом
анализе
проблем
стоимости
и
ценообразования, в первую очередь когда речь идет о богатых и
процветающих обществах.
Какие изменения в экономике влечет за собой распространение созданной
знанием стоимости? Прежде всего, можно утверждать, что, поскольку
таковая является побочным продуктом стремления придать товарам и
услугам индивидуальный характер, на рынке появится бесконечное
множество различных видов продукции.
В обществе, основывающемся на созданной знанием стоимости, цена
продукта и объем его продаж значительно увеличатся в случае, если при его
маркетинге потребителю удастся навязать представления о том, что этот
продукт является результатом новых технологий, обладает уникальными
функциями, отвечает потребностям людей с тонким вкусом, наконец,
представляет собой последний крик моды. Цена порой окажется в несколько
раз выше объема затраченных на производство данного блага средств, а
разница эта будет формироваться за счет представлений потребителя.
Кроме этого, любой прорыв на рынке, достигнутый благодаря выпуску
нового созданного знанием продукта, закончится, как только другие
производители сумеют найти вариант, который будет преподнесен как еще
более эффективный. Подобная парадигма способна обеспечить растущую
диверсификацию продукции при снижении объема выпуска каждого
продукта или товарной партии.
Эта тенденция, как уже отмечалось, приведет к уменьшению или даже
устранению преимуществ, достигаемых за счет больших масштабов (merits of
scale), доминировавших в индустриальном обществе; изменится сама основа
конкуренции между корпорациями, что будет иметь важные последствия для
внутренней структуры компаний будущего и принципов руководства ими.
Переход к социуму, основывающемуся на созданной знанием стоимости,
повлечет за собой и перемены, связанные с фактором времени. Можно с
уверенностью утверждать, что срок жизни любого нового продукта
неизбежно будет становиться все короче и короче.
В обществе, где продукция носит в высшей степени разнообразный характер,
а распространение информации обретает все более широкие масштабы,
скорость перехода от одного создаваемого знанием блага к другому не может
не быть крайне высокой. Результатом этого станет ускорение
технологических изменений, а мода на те или иные изделия будет держаться
крайне недолго, причем подчас ее вариации окажутся столь
незначительными и скоротечными, что будут практически незаметны. Вряд
ли нас ожидает эпоха, отмеченная таким движением вперед, для которого
характерно появление принципиально отличных технических новаций и
моды, радикально отрицающей предыдущую; напротив, акцент будет
делаться на небольших усовершенствованиях, а создание находящих спрос
вариантов одной и той же продукции, основывающихся на незначительном
изменении ее черт, скорее всего, приведет к долгому ряду малосущественных
преобразований. Подобно тому, как нефтяная культура создала такой тип
потребления, при котором достижение максимально возможных уровней
расходования нефти и нефтепродуктов стало не только императивом, но и
настоящим фетишем, общество, основывающееся на созданных знанием
ценностях, скорее всего, сотворит мир, в котором одноразовое использование
знания будет доведено до своих крайних пределов.
Из этого со всей очевидностью следует, что всеобщее распространение
получит возвеличивание имиджа продукции, представляемой как
сконцентрированное воплощение могучего интеллекта, мудрости, знаний и
умений. В эпоху нефтяной культуры расточительное использование
энергетических ресурсов стало самоцелью. Выпускались большие
автомобили, оборудованные огромными двигателями, которые им были не
нужны. Расход материалов, используемых для упаковки продукта,
неоправданно далеко выходил за пределы разумной потребности в его
сохранении. Отопление или, напротив, охлаждение также становились
предметом чрезмерного потребления, причем никто не задумывался, хорошо
это для здоровья или плохо. Производители лишь потворствовали
распространенному среди потребителей представлению о том, что путь к
роскоши лежит через крупномасштабное, расточительное потребление
энергетических ресурсов.
Не исключено, что в будущем сложится ситуация, при которой продукция
будет насыщена знанием в гораздо большей степени, чем этого требуют ее
функции, только лишь ради формирования впечатления о более высоком
уровне воплощенного в ней интеллектуального потенциала. Выпускаемые
часы, фотокамеры, персональные компьютеры будут иметь функции,
которые покупатель вряд ли применит и в которых он редко нуждается. Все
это напоминает ситуацию с владельцем небольшого магазина, покупающего
калькулятор, способный производить дифференциальные вычисления, хотя
этой функции он совершенно не понимает и необходимости в ней не
испытывает. Подобные эксцессы могут также принимать форму
претенциозного дизайна или чрезмерного раздува- ния имиджа той или иной
продукции, другими словами, создания некоей интеллектуальной ловушки с
многократным запасом прочности.
Стремление к наделению продукта имиджем еще более роскошного с точки
зрения воплощенных в нем знаний будет вести к стимулированию выпуска
благ в областях, которые общество будет рассматривать как играющие
гораздо более важную роль в общем производственном процессе, что
вызовет экспоненциальный рост числа занятых в этих сферах. Деятельность
по созданию стоимости на основе знания больше не будет восприниматься
как удел кучки обособленных технократов, напротив, на ее создание будут
смотреть как на заурядный элемент каждодневного производства. Подобно
тому, как выпуск промышленных изделий, вначале бывший занятием
небольшой группы рабочих, обладающих соответствующими навыками,
быстро превратился в профессию, которой способен заниматься самый
обычный человек, так и создание стоимости при помощи знаний станет
ординарным занятием рядовых граждан.
И действительно, уже сегодня ведутся исследования, направленные на то,
чтобы позволить людям, имеющим весьма ограниченные навыки
пользования компьютером, создавать программное обеспечение и заниматься
дизайном. Те, кто привык видеть в интеллектуальном творчестве нечто
возвышенное, могут воспротивиться ситуации, в которой это творчество
становится доступным «среднему человеку» и сводится к выпуску
продукции, содержащей созданную знанием стоимость, имеющую ярко
выраженный одноразовый характер. У интеллектуалов может возникнуть
впечатление, что не осталось ничего святого, что жизнь потеряла смысл.
Однако в любой отрасли хозяйства наращивание производства неизбежно
сопровождается расширением рядов его участников. В обществах древности,
зараженных материалистическими ценностями, страстное проповедование
религии оставалось делом единиц; между тем уже в средние века, когда
религия получила повсеместное распространение, священнослужителем,
монахом или монахиней мог стать совершенно обычный человек. Монастыри
и соборы в средневековой Европе или в Китае эпохи династии Тан стали
святилищами, в которых находили прибежище бездельники и попрошайки,
тысячами стекавшиеся туда в надежде на кусок хлеба. Не вызывает никакого
сомнения, что это свидетельствует о вульгаризации религии; но ведь именно
благодаря этому она получила столь широкое распространение в массах.
Это не должно означать неизбежного выхолащивания любого вида созданной
знанием стоимости. Эпоха средневековья дала миру святых, а современная
эра породила мастеров. Нет никаких причин считать, что будущее общество
даст миру меньше творцов-интеллектуалов, чем индустриальная эпоха.
Однако следует, скорее всего, ожидать, что большая часть создаваемой
знанием стоимости будет производиться на массовой основе и состоять из
продукции, создаваемой людьми, не обладающими неординарным
интеллектом.
Мои прогнозы не могут не вызвать у многих сомнения и возражения. Люди,
всесторонне приверженные ценностям индустриального общества, могут
принижать значение того, что я называю созданной знанием стоимостью,
рассматривая ее в качестве лишь одного из средств расширения спроса на
товары и услуги, которое не имеет большого значения для общества в целом.
Однако решающую роль играет различие между индустриальным
обществом, где созданная знанием стоимость принадлежит немногим, и
социумом, основывающимся на ней, обществом, где она становится
достоянием широких масс. Позвольте мне пояснить эту мысль на примере
изменений, происходящих в процессе создания стоимости в рамках одной из
форм информации — в рекламе.
В индустриальном обществе смысл существования рекламы заключался в
том, что она давала изготовителям возможность продать больше товаров; тем
самым открывались допонительные возможности производства, снижающие
издержки в расчете на единицу продукции. Реклама представляла собой
оправданное вложение средств в силу той роли, которую она играла в
реализации преимуществ масштаба; поэтому стоимостные характеристики
рекламц рассматривались как нечто объективное, симбиотическим образом
связанное с распространением материальных благ, объем которого она
способна увеличить.
Споры, которые до настоящего времени велись вокруг рекламы,
основывались именно на таком представлении о ее роли. Даже для
сторонников социалистического строя, называвших одним из преимуществ
плановой экономики возможность производить и распространять товары без
помощи рекламы, исходным моментом служило то, что она выступает в
качестве средства, помогающего увеличить объем реализуемых благ.
Между тем в обществе, основывающемся на созданной знанием стоимости,
основная функция рекламы заключается не столько в расширении сбыта
материальных товаров, сколько в том, чтобы побудить представителей
определенной социальной структуры более высоко ценить (как в социальном,
так и в финансовом аспекте) тот или иной вид продукции. Давайте вспомним
кривую общественной полезности и теорию Вальраса: реклама продукции,
содержащей стоимость, созданную знанием, ведет к тому, что кривая
полезности ползет вверх, а издержки выбора снижаются. Другими словами,
реклама расширяет объем созданной знанием стоимости, которую, как
считается, содержит данное материальное благо или услуга. Поэтому сегодня
стоимость, создаваемая рекламой, обладает способностью к независимому
субъективному существованию. В теоретическом плане это предоставляет
бесконечные возможности для экономического роста, причем даже в случаях
отсутствия крупномасштабных хозяйственных сдвигов.
Примерно то же самое можно сказать и по поводу технологии и дизайна. Они
также выступают в форме созданной знанием стоимости, которая может быть
преобразована в материальные товары, однако создание такой формы не
обязательно подразумевает снижение производственных расходов
посредством увеличения объема продаж; напротив, созданная знанием
стоимость, которая обеспечивается благодаря творческой технологии или
дизайну, свойственна самому продукту. Стоимость элементов дизайна или
технологии в этом случае меняет свой характер, превращаясь из объективной
стоимости, зависящей от доходов, получаемых в результате традиционного
производственного процесса (и симбиотическим образом связанной с этими
доходами), в субъективную, независимую стоимость, обладающую своими
собственными
характеристиками.
Это
обстоятельство
открывает
возможности для бесконечного роста созданной знанием стоимости.
В обществе, основывающемся на таких тенденциях, не только возрастает
доля расходов на научные исследования и конструкторские разработки;
одновременно благодаря расширению независимой субъективной стоимости,
которой обладают эти элементы, созданная знанием ценность начинает
играть заметную роль в структуре ценообразования.
Таким образом, созданная знанием стоимость представляет собой ценность,
носителем которой может выступать любой материальный товар или услуга.
Переход от индустриального общества к социуму, основывающемуся на
таком виде ценности, будет связан не столько с изменением носителя
стоимости, сколько, прежде всего, с модификацией структуры той
совокупной ценности, которую он содержит. Вот почему я вновь и вновь
подчеркиваю, что мы никогда не сумеем понять общество, основанное на
созданной знанием стоимости, если будем рассматривать его возникновение
как воплощение тенденции к экспансии нематериальных благ или как
элементарный отход от производства материальных благ как таковых.
* - Weizsaecker E., van, Lovins A.B., Lovins L.H. Factor Four. Doubling Wealth
— Halving Resource Use. L., Earthscan Publications Ltd., 1997. Copyright —
Weizsaecker E., von, Lovins А. В., Lovins L.H. 1997. Текст воспроизводится с
согласия Э. фон Вайцзеккера.
Оглавление
Новая постиндустриальная волна на Западе
Оглавление
Томас Стюарт. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства
организаций
Томас Стюарт— американский экономист и публицист, широко известный
своими многочисленными статьями по проблемам мировой экономики,
теории управления и развития современных форм услуг в финансовом
секторе. В настоящее время он занимает пост члена редакционного совета
журнала «Fortune» и отмечен рядом международных премий в области
журналистики.
Книга «Интеллектуальный капитал» (1997) имеет особое значение в ряду
работ, вышедших в 1996—1997 годах под аналогичным названием в США и
Англии. Основной заслугой автора является, на наш взгляд, то, что ему
удалось, сохранив все преимущества глубокого анализа, в популярной форме
изложить важнейшие проблемы, стоящие сегодня перед экономикой, в
которой знания и информация становятся главными производственными
ресурсами. Читатель найдет в книге прежде всего впечатляющие примеры
успеха корпораций, поставивших во главу угла полное использование
творческого потенциала своих работников, ознакомится со статистикой
инвестиций в материальные и нематериальные активы, почувствует, сколь
масштабной трансформации подвергаются и будут подвергаться
современные принципы управления подобными производственными
структурами.
Работа Т.Стюарта разделена на три основные части, в первой из которых он
рассматривает специфику современной экономики как порождения
информационной эры, во второй обращается к понятию интеллектуального
капитала как источника ценности компаний и залога их успешного развития,
а в третьей исследует процесс становления глобальной экономики эпохи
информационных сетей и наднациональных компаний
Стремясь дать читателю адекватное представление о книге Т. Стюарта, мы
предпочли включить в этот сборник элементы каждой части его работы. В
первой из них наибольшее внимание привлекают главы 2 и 3, озаглавленные
«Интеллектуальная компания» и «Интеллектуальный работник», во второй—
глава 4 «Скрытые ценности»,и в третьей— глава 10 «Экономическая теория
информации» (эти фрагменты соответствуют стр. 20-21, 32-35, 35, 36, 39-40,
41, 42-43, 43-47, 59-60, 60-61,170-172,172-175, 176-180 в издании Doubleday).
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ НОВЫЙ ИСТОЧНИК БОГАТСТВА
ОРГАНИЗАЦИЙ*
Если вы хотите понять, чем занимается то или иное предприятие, проследите
за движением его средств. Компании производят два основных вида затрат.
Первый — капиталовложения. Деньги помещаются в недвижимость,
оборудование и прочие долгосрочные активы, отдача от которых — в виде
прибыли на инвестированный капитал — поступает лишь с течением
времени. Помимо вложений в оборудование, организации производят
долгосрочные инвестиции в научные исследования, опытно-конструкторские
разработки и в подготовку кадров, что тоже является разновидностью
капиталовложений, хотя по правилам бухгалтерского учета они обычно
проходят по статье расходов. Второй вид затрат — это текущие издержки:
зарплата, покупка сырья и материалов, реклама, транспортировка, арендная
плата и т. п. Различие между капиталовложениями и расходами не всегда
легко определить — поэтому-то, между прочим, бухгалтеры и получают
такую высокую зарплату. Однако совершенно очевидно, что
«информационный век» коренным образом изменил суть обоих видов затрат.
Рассмотрим ситуацию с капиталовложениями, которую анализирует Бюро
экономического анализа (БЭА) при министерстве торговли США. Из его
подробных выкладок видно, что с 1982 года затраты предприятий частного
сектора на покупку средств производства «промышленного века» —
двигателей и турбин, электрораспределительных и контрольных приборов,
металлообрабатывающих станков, погрузочно-разгрузочных механизмов и
машин общепромышленного назначения, оборудования для сферы услуг,
горнодобывающей, нефтяной и строительной отраслей, а также сельского
хозяйства — более или менее устойчиво держатся на уровне 110 млрд. долл.
в год. Снижаясь в периоды промышленного спада, круто поднимаясь вверх
во времена роста, они в среднем составляли названную выше цифрy1.
В области затрат на приобретение информационной техники наблюдается,
однако, постоянный рост. В 1982 году на покупку компьютеров и
телекоммуникационного
оборудования
американские
компании
израсходовали 49 млрд. долл. К 1987 году эта сумма подскочила до 86,2
млрд. долл. и продолжала расти. Если изобразить динамику капитальных
затрат «промышленного» и «информационного» века в виде графиков, то
будет видно, что обе линии Пересе- каются в 1991 году, когда расходы на
приобретение промышленного оборудования составили 107 млрд. долл., а на
закупку информационной техники — 112 млрд. долл. Будем считать его
первым годом информационного века. С этих пор компании расходуют
больше денег на оборудование, необходимое для сбора, обработки, анализа и
распространения информации, чем на машины, предназначенные для
штамповки, резки, сборки, погрузки и иного рода действий с материальными
предметами.
Приведенные данные впечатляют, но не дают полной картины
капиталовложений в информационные системы. В них не учитывается,
например, новообретенный интеллект машин, доставшихся нам в наследство
от «старой экономики», таких, как программно-управляемые станки. Они
также не отражают того обстоятельства, что отдача в виде роста
обрабатывающей способности на один доллар капиталовложений в
компьютерную технику сейчас высока, как никогда. Так, при увеличении
расходов компаний на приобретение компьютеров в первой половине
девяностых годов почти вдвое объемы обработанной информации выросли
чуть ли не в три раза2. В эти данные не включаются также инвестиции в
деятельность по приобретению знаний, такую, как научные исследования и
опытно-конструкторские разработки. Между тем некоторые компании, в
частности японские фирмы, расходуют на эти цели больше, чем на покупку
всех видов средств производства. <...>
Какова же отдача от этих капиталовложений? Их последствия трудно
предсказать даже в краткосрочной перспективе. На предприятиях первые
результаты обычно заключаются в усовершенствовании того, что уже есть:
что-то делается быстрее, лучше, дешевле или в большем количестве. Однако
у перемен есть и более отдаленные, неожиданные последствия: их
невозможно предугадать, но они открывают новые возможности. Готтлиб
Даймлер, Рэнсом Олдс, а также их союзники и конкуренты считали, что они
просто усовершенствовали лошадь. Откуда им было знать, что
распространение автомобиля превратит соседствующую с городом сельскую
местность в пригороды, а их появление, в свою очередь, приведет к созданию
тысяч новых рабочих мест — ведь нужно же было кому-то прокладывать
дороги, строить дома, производить газонокосилки, продавать луковицы
тюльпанов и развозить пиццу.
Изменения,
происшедшие
в
организациях
под
воздействием
информационной революции, пока что едва различимы, но они есть.
Интеллектуальная компания перемещается налегке. После того как
информация заменила собой товарные запасы и, покинув свое материальное
тело, зажила собственной деловой жизнью, компания превратилась в
качественно иную разновидность организации. Традиционная фирма
представляет собой совокупность основных фондов, являющихся
собственностью капиталистов, которые несут ответственность за их
сохранность и нанимают работников для их приведения в действие.
Интеллектуальная компания — это во многих отношениях нечто совсем
иное. Ее основные фонды не имеют материальной формы, и вообще неясно,
кому они принадлежат и кто отвечает за их содержание.
В самом деле, интеллектуальная компания может вообще не располагать
фондами в традиционном смысле. Материальные активы вытесняются
интеллектуальными таким же образом, как текущие активы вытесняются
информацией. Финансовая структура интеллектуальной компании настолько
отличается от структуры компании промышленной, что разобраться в ней с
помощью традиционных понятий просто невозможно. Для примера сравним
между собой компании «Майкрософт» и «Ай-Би-Эм». Как известно,
жизненные пути обеих компаний уже давно переплелись. В 1983 году «АйБи-Эм», корпорация-талисман 50-х, 60-х и 70-х, выбрала дисковую
операционную систему «Майкрософт» (MS-DOS) в качестве основного
элемента производимых ею персональных компьютеров и тем самым вывела
«Майкрософт» в число ведущих компаний предыдущего и нынешнего
десятилетий. Последняя вошла в такую силу, что теперь можно и не
вспомнить, что «Ай-Би-Эм» продает своей продукции в пятнадцать раз
больше, чем крошка-захватчик <...>, да и интеллектуальный потенциал «АйБи-Эм» чрезвычайно высок, о чем свидетельствуют <...> 3768 патентов,
выданных ее сотрудникам только за период с 1993 по 1995 год.
Однако при создании «Майкрософт» Билл Гейтс и Пол Аллен использовали
совершенно иную модель, нежели та, что лежит в основе фирмы Тома
Уоррена. Бухгалтерские книги обеих компаний выявляют поразительные
различия. Оказывается, «Майкрософт» стоит дороже «Ай-Би-Эм», хотя
продает куда меньше продукции. На ноябрь 1996 года рыночная
капитализация активов «Ай-Би-Эм» выражалась в сумме порядка 70,7 млрд.
долл.; общая капитализация «Майкрософт» составляла 85,5 млрд. долл. Но за
этими капиталами стоят совершенно разные активы. В начале 1996 года «АйБи-Эм» за вычетом амортизации владела имуществом, основными
производственными средствами и оборудованием на сумму 16,6 млрд. долл.;
остаточная же стоимость основного капитала «Майкрософт» была всего 930
млн. долл. Иными словами, на каждые 100 долларов, вложенные в «Ай-БиЭм», приходятся основные фонды стоимостью 23 доллара, тогда как тем же
100 долларам, инвестированным в «Майкрософт», соответствуют фонды
стоимостью чуть более доллара3.
Ясно, что, покупая акции «Майкрософт», инвестор приобретает не фонды в
традиционном смысле этого слова. Да и у «Ай-Би-Эм», «Мерк» или
«Дженерал Электрик» он покупает вовсе не фонды. Доллар, вложенный в
корпорацию сейчас, дает совсем не то, что давал тот же доллар,
инвестированный в ту же корпорацию еще несколько лет назад. Маргарет
Блэр из Института Брукингса рассчитала соотношение между
материальными активами (имущество, основные производственные средства
и оборудование) и общей рыночной стоимостью всех обрабатывающих и
горнодобывающих компаний США, занесенных в базу данных Компьюстат.
В 1982 году, в соответствии с ее расчетами, доля таких активов составляла
62,3% рыночной стоимости компаний; десять лет спустя эта доля снизилась
до 37,9%. Здесь следует подчеркнуть, что обзор распространялся только на
промышленные компании.
Некоторые из фирм, добившихся огромного успеха, практически не
располагают никакими материальными активами. Можно было бы
утверждать, например, что компании «Виза Интер-нэшнл» не существует,
хотя она и осуществляет финансовые сделки на сумму в треть триллиона
долларов в год. «Виза» является членской организацией, союзом банков и
других финансовых учреждений. Каждая компания-член владеет только той
частью пред- приятия, т. е. портфелем держателей кредитных карточек,
которую создала сама. Основатель «Визы» Ди Хок называет ее «холдинговой
компанией наоборот — в том смысле, что не она владеет своими
функциональными подразделениями, а они являются ее собственниками». На
протяжении многих лет акционеры «Электроник Дейта Системз» (ЭДС) не
являлись собственниками ее активов, хотя ее акции котировались на ньюйоркской фондовой бирже. Вся собственность «ЭДС» принадлежала
«Дженерал Моторс» (ДМ), которая только в 1996 году выделила ее в
отдельную компанию. Собственностью акционеров «ЭДС» была лишь
отзывная гарантия «ДМ» о том, что им в виде дивидендов будет выплачена
какая-то часть прибыли «ЭДС».
Для интеллектуальных компаний характерно стремление освобождать свои
балансы от основных фондов. Штаб-квартира размещается в арендованном
помещении; банки обращают ипотечные закладные в ценные бумаги; вместо
того, чтобы содержать собственные грузовые парки, производственные
компании пользуются для перевозки продукции нанятым автотранспортом;
вертикальная интеграция уступает место виртуальной организации.
Интеллектуальной компании не нужны активы. Поистине, чем меньше
активов, тем лучше; пока у нее есть интеллектуальный капитал, она может
получать доходы, не обременяя себя ни управлением активами, ни
необходимостью оплачивать их содержание. Компании, подобные «Юнион
Пасифик», на первый взгляд занимаются эксплуатацией железных дорог; на
самом деле они управляют информационными системами, посредством
которых организуют движение товарных вагонов (возможно, взятых в аренду
у кого-то еще) по железнодорожной сети дорог. Банки и другие учреждения,
оказывающие финансовые услуги, уже не в такой степени озабочены
объемами финансового капитала, который они контролируют. Им важны
доходы, будь то доходы от займов (от различия между процентными
ставками, по которым банк получает средства и по которым выдает их
заемщикам) или от комиссионных платежей (значение этого вида доходов
постоянно возрастает). Треть своих прибылей крупные банки получают от
беспроцентных операций, таких, как обработка данных, продажа ценных
бумаг, обеспеченных закладной, и от комиссионных за оказанные услуги;
еще в 1982 году таковые приносили банкам менее четверти их доходов.
Вполне возможно, что закладная на ваш дом уже не находится в
собственности банка, который выдал ее; вместе с другими закладными ее
могли объединить в так называемую «ценную бумагу, обеспеченную
закладной», которую банк продал инвесторам и которая котируется на бирже
наравне с любыми другими акциями или облигациями.
Страховые компании традиционно имели в собственности огромные
портфели активов — недвижимое имущество, облигации, акции и т. д. — и
использовали доход от них для осуществления выплат держателям полисов.
Теперь же активы, создаваемые новейшими продуктами страховых компаний
— пожизненной рентой и плавающей рентой, — принадлежат держателям
полисов, обычно в виде взаимных фондов. Страховая компания не является
их собственником, а управляет ими за комиссионные, и в этом смысле ей
важен премиальный доход. «Экуитабл Компаниз», например, управляет
активами третьих лиц, стоимость которых более чем в два раза превышает ее
собственные. Принимая в расчет тысячи исключений, все же можно сказать,
что предприятия постепенно разделяются на две группы — владельцев
активов и их арендаторов. Интеллектуальным компаниям активы не нужны.
В первую очередь этот факт следует осознать менеджерам, управляющим
средствами по доверенности их собственников. Он имеет жизненно важное
значение для конкурентной борьбы, особенно в тех отраслях
промышленности, где невозможно обойтись без собственности на активы.
Здесь действует практическое правило: чем более дифференцировано ваше
производство и чем более частный характер оно имеет, тем выше
вероятность того, что вам необходимо будет иметь в собственности
соответствующие активы. «Майкрософт», задача которой — составление
программ, не владеет заводами; «Интел», нацеленный на производство,
строит собственные предприятия. Вот что пишет Адриан Слывотски:
«Многим компаниям, владеющим большими активами, таким, как
риэлтерские фирмы, химические или сталеплавильные производства, станет
труднее зарабатывать деньги», поскольку значительные объемы их средств
скованы материальными активами.
Заметим, что для них еще не все потеряно. Как мы видели, почти все
организации являются информационноемкими. Своими специальными
знаниями — умением управлять работой сетей — торгует даже такая
обремененная активами компания, как «Электриситэ де Франс», которая
оказывает помощь Аргентине, Китаю, Кот-Д'Ивуару, Португалии, Швеции,
Украине и другим странам в стро- ительстве энергоблоков и управлении
энергетическими компаниями. Поскольку знания и информационные активы
сегодня обрели реальность существования, доступной и важной задачей
любой организации становится управление интеллектуальным капиталом.
Большинство организаций едва приступило к ее решению. Они заменили
товарно-материальные запасы информацией, а основные фонды — знаниями.
Но это только ожидаемые, планируемые выгоды от нововведений,
направленные на сокращение издержек, первые веяния информационного
века.
В понятиях «интеллектуальная экономика» и «интеллектуальная компания»
есть что-то абстрактное. Зато нет ничего абстрактного в интеллектуальном
труде. Вы занимаетесь им каждый день, и если вы прожили достаточно
много лет, то знаете, насколько он отличается теперь от того, каким он был
ранее. Информация — самый важный исходный материал, необходимый для
решения вашей задачи. Раньше это относилось к отдельным работникам,
теперь относится к большинству, а рабочие, не занимающиеся умственным
трудом, уже не получают прежнего вознаграждения. Не у дел остаются и те,
чей труд имеет однообразный, нетворческий характер, пусть и связанный с
обработкой информации. На верхних этажах манхэттенского небоскреба,
принадлежавшего авиакомпании «Пан Америкэн», за рядами железных
столов когда-то сидели десятки служащих, занимавшихся сортировкой и
подсчетом использованных авиационных билетов, а также сравнением их с
учетными документами транспортных агентств. Делалось это для того, чтобы
выяснить, получила ли компания от агентств все, что ей причитается. «Пан
Америкэн» уже нет; использованные билеты пересчитываются и
проверяются автоматизированными системами, а тот небольшой объем
работы, который еще остается, выполняется в развивающихся странах, таких,
как Доминиканская Республика.
Удивительно не то, что этот конторский «горячий цех» исчез под напором
автоматизации; самое поразительное в том, что он когда-то занимал
помещение в одном из самых дорогостоящих зданий в мире. Судьбу
сортировки авиабилетов разделили и другие виды занятий, легко
поддающиеся автоматизации: число операторов телефонных станций,
например, сократилось с 244 тыс. в 1983 году до 165 тыс. в 1994-м. Кассиров
в банках стали вытеснять банкоматы. Снижается и число секретарей; те, кто
звонит по телефону, признают, что в случае отсутствия вызываемого лица им
проще оставить сообщение на автоответчике, чем диктовать его секретарше.
Все больше и больше сотрудников, приходя на работу, погружаются в мир
идей и информации. По расчетам Стивена Барли, к концу века доля
американцев, чей труд связан главным образом с материальными предметами
(сельскохозяйственные рабочие, механики, чернорабочие, ремесленники) и
оказанием непрофессиональных услуг (работники гостиниц и ресторанов,
рабочие, занятые в сфере распределения, розничные торговцы, домашняя
прислуга, парикмахеры, косметологи, работники оздоровительных
учреждений и т. п.), сократится более чем в два раза, с 83% в 1900 году до
примерно 41%. Доля же тех, кто работает прежде всего с информацией (в
торговле, на управленческих и административных должностях, в свободных
профессиях, в промышленности, в учреждениях) увеличится с 17% в 1900
году до 59% в начале следующего века.
В направлении этой тенденции невозможно ошибиться: неуклонно
возрастает доля людей, которые становятся «работниками умственного
труда». Информация и знание составляют одновременно и исходный
материал, и продукт их деятельности. В интеллектуальных компаниях, т. е. в
тех, где доля работников умственного труда доходит до 40 и более
процентов, занято 28% всех работающих в США, однако в последние пять
лет на них приходится 43% вновь созданных рабочих мест. Но дело не
только в том, что все больше людей занимаются умственным трудом: растет
интеллектуальное содержание всякого труда, будь то в сельском хозяйстве,
промышленности, учреждениях или в свободных профессиях. Современный
врач, вооруженный антибиотиками, магнитными резонансными томографами
и методами микрохирургии, привносит в свою деятельность гораздо больше
знаний, нежели его предшественники до второй мировой войны, главными
лекарствами которых были горячая вода и внимательное отношение к
больным. Героический образ фабричного рабочего — голого по пояс, с
отблесками адского пламени из доменной печи на торсе — уходит в
прошлое, как до него исчез с исторической арены крестьянин. Современный
работник трудится скорее в диспетчерской с кондиционером, наблюдая за
рядами экранов и циферблатов. Время от времени он отлучается, чтобы
взглянуть на вверенные его заботам роботы или принять участие в
совещании, где вместе с коллегами изучает гистограммы, схемы Парето,
графики и другие средства статистического анализа с целью найти способ
сделать еще более безотходным производственный процесс.
Рабочие автосборочного конвейера, которым когда-то приходилось вручную
крепить тяжелые детали к корпусу, должны овладеть навыками управления
роботами, теперь выполняющими эти операции. В то же время
интеллектуальная составляющая их труда возросла. Они сами устраняют
неисправности в оборудовании и берут на себя многие управленческие
функции; на автозаводах теперь вдвое меньше среднего руководящего
персонала, чем в начале девяностых годов, и число их, как ожидается,
сократится еще наполовину до конца текущего десятилетия. Десять лет назад
большинство промышленных рабочих (57%) были станочниками,
сборщиками и чернорабочими; остальные имели более высокую
квалификацию и были заняты в точном производстве и на
специализированных работах. В настоящее время соотношение обратное:
55% заняты в точном производстве, а 45% являются станочниками и
чернорабочими.
Неудивительно, что для выполнения наукоемких видов работ производители
нанимают более образованных рабочих. До 1947 года в отделе кадров
корпорации «Форд» даже не спрашивали, сколько классов закончил
нанимаемый работник. Теперь же от одной трети до двух пятых — вдвое
больше, чем десять лет назад, — вновь нанятых рабочих на автозаводах
получили какое-то образование после окончания средней школы.
Подобные изменения претерпела и конторская работа. Всю механическую,
монотонную, иссушающую душу деятельность — сверку таблиц,
перепечатку писем и т. д. — взяли на себя компьютеры, выполняющие ее с
невообразимой быстротой. В 1973 году подруга моей тещи, женщина
средних лет, работавшая секретарем в крошечном учреждении, получила от
своего начальника в подарок на Рождество электрическую печатную
машинку. Позже она не без удовольствия жаловалась, что работать на ней
настолько легче по сравнению с механической, что она даже на пять фунтов
прибавила в весе. Теперь же секретари говорят, что благодаря электронной
почте они экономят от одного до двух часов в день: не надо ждать, пока
компьютер напечата- ет конверты и письма для рассылки, не надо томиться
возле факсов и фотокопировальных машин, упаковывать почту, чтобы ее
забрал посыльный из «Федерал Экспресс». А ведь в свое время каждое из
этих
новшеств
помогало
в
значительной
мере
сокращать
непроизводительные затраты времени и труда.
В результате сокращается число секретарей; но более важный итог состоит в
том, что они уже не выполняют привычную секретарскую работу: не сверяют
таблицы, а помогают их анализировать, не перепечатывают письма, а готовят
для них материал, не обслуживают совещания, а устраивают конференции.
Из подмастерьев они перешли в разряд мастеров.
Рынок безжалостен. Он вознаграждает все, создающее стоимость, и либо не
замечает, либо карает все, что ее не создает. В этом нет ничего личностного.
Невидимая Рука так же незряча, как и незрима: она движется, не зная и не
заботясь о том, потрепала ли она кого-то по плечу или ударила в челюсть. На
рынке труда ее движение менее заметно, чем на других рынках. На бирже
инвесторы в считанные минуты могут забрать миллиарды долларов у «Эй-Ти
энд Ти» и отдать их «Ай-Би-Эм». Но семьям не так-то легко в одночасье
сняться с насиженных мест и отправиться пытать счастья в другой город, и
не всякий автомеханик будет тратить свои выходные дни на изучение
компьютерного программирования. Да и компании еще подумают (по
крайней мере, какое-то время), надо ли им увольнять старых, преданных
служащих и набирать новых. Понятно, что правительства скорее попытаются
как-то повлиять на рынок труда, чем будут вмешиваться в деятельность
других рынков: надо ведь защитить тех, кому не повезло, за счет
дополнительного налогообложения тех, кто пользуется наивысшими благами
рынка.
Тем не менее Невидимая Рука движет и рынком труда. Коль скоро знание
является главным источником стоимости, следует ожидать, что плоды будут
пожинать те, кто работает головой, а все шишки будут доставаться тем, кто
этого делать не умеет. В 1996 году писательница Сьюзан Шихен рассказала
трогательную историю супружеской пары из штата Айова. Жена работает
санитаркой в ле- чебнице: она купает, одевает, кормит больных, укладывает
их спать. Муж также занят на тяжелых ручных работах в строительной
компании: он укрепляет ограждения и предупредительные знаки на
строительных площадках мешками с песком. Вдвоем они зарабатывают чуть
больше 31 тыс. долл. в год и постепенно влезают в долги. А ведь несколько
лет тому назад он один получал примерно такую же сумму. Тогда он работал
на заводе по производству автомобильных моек, но его сократили, а других
таких мест не было. Когда-то после окончания средней школы он поступил в
технический колледж, но бросил учебу из-за неуспеваемости по математике.
Его жена работала учетчицей, но у нее не ладилось с машинописью, и ее
понизили в должности, поручив подшивать бумаги. Теперь, когда им обоим
уже за сорок, они чувствуют, что обречены получать семь долларов в час до
конца своей жизни. Супруги, пишет Шихен, «когда-то считали, что
принадлежат к среднему классу»4.
Не их вина, что они стали жертвой ожиданий, порожденных конкретным
временем и конкретными обстоятельствами. И сочувствия они от этого
достойны ничуть не меньше. Но на протяжении почти всей истории
человечества почти во всех странах мира род их занятий — персональное
обслуживание и неквалифицированный ручной труд — определял
принадлежность к рабочему, а не к среднему классу. Небывалый
экономический расцвет Соединенных Штатов после второй мировой войны
позволил американским работодателям обеспечить уровень жизни среднего
класса почти всему белому работающему населению страны. Но как только
Европа восстановила разрушенное войной хозяйство, а в Азии начался
экономический бум, между ними и Соединенными Штатами завязалась
жестокая конкурентная борьба. Однако описанная Шихен супружеская пара
страдает не из-за глобальной конкуренции: ведь американские больничные
санитарки и дорожностроительные рабочие не конкурируют с немцами или
малайзийцами. Не вовлечены они и в информационную экономику, где
обеспечивается наивысший уровень оплаты труда; их пребывание в рядах
среднего класса было недолгим, и они снова влились в состав пролетариата.
Много сказано и написано о растущем неравенстве в доходах в США и
других промышленно развитых странах, а также о мучитель- ной борьбе за
выживание, которую ведут люди, некогда составлявшие становой хребет
народного хозяйства этих государств. Можно возразить, что неравенство в
доходах не увеличивается, но это будет неверно. Сегодня, на пороге
информационной революции, оно усиливается так же, как когда-то в эпоху
индустриализации. Можно возразить, что рост неравенства не влечет за
собой никаких моральных, политических и экономических последствий, и
опять это будет неверно. Впрочем, рассмотрение этого предмета не входит в
нашу задачу. В росте неравенства в доходах винили японцев, дешевую
рабочую силу из стран «третьего мира», соглашения о свободной торговле,
жадность корпораций, изменения политики в области налогообложения и
социального обеспечения и т. п. В доказательство любого из этих
утверждений можно привести массу статистических данных, но с таким же
успехом их можно выбросить в корзину.
Неравенство растет оттого, что экономика перестала быть индустриальной, а
рынок труда не успел приспособиться к происшедшим в ней изменениям.
Существуют данные — и их еще никто не сумел опровергнуть, — что
образованные люди в наше время получают больше, чем когда бы то ни
было. Сокращая плату за физический труд, рыночные силы одновременно
все более щедро вознаграждают труд умственный. Начиная с 1969 года,
когда появились первые признаки упадка промышленного века, работники и
работницы всех отраслей промышленности стали получать «надбавку за
образование», которая постоянно увеличивалась. С 1979 года только одна
группа американцев — выпускники высших учебных заведений — смогла
увеличить свой реальный еженедельный доход. В тот год доходы
окончивших колледж мужчин были на 49% больше доходов тех, кто
закончил только среднюю школу; четырнадцать лет спустя, в 1993 году,
надбавка за образование составила уже 80%. Важно отметить, что надбавка к
зарплате работников с высшим образованием увеличилась, несмотря на
одновременный рост предложения, связанный с расширением доли
работников, имеющих такое образование5.
Существование надбавки за образование указывает на растущую роль знаний
в создании стоимости и материальных ценностей. Джеймс Роч, экономист из
Калифорнийского
университета
в
Сан-Диего,
доказал,
что
производительность труда городской рабочей силы возрастает на 2,8%
пропорционально каждому году дополнительного обучения. Иными словами,
если обучение среднего рабочего, скажем, из Хьюстона длилось десять лет, а
среднего рабочего из Атланты — одиннадцать, то выработка продукции на
одного рабочего в Атланте будет почти на 3% больше. Отчасти этот феномен
можно объяснить тем, что более образованный рабочий способен трудиться с
большей отдачей, но скорее всего дело в том, что образованная рабочая сила
выполняет качественно иную работу, в которой преобладает
интеллектуальное содержание: предоставление юридических услуг или
программирование отличается от работы типографского наборщика или
экспедитора. Хотя иногда говорят, что из-за внедрения компьютерной
техники снижается зарплата рабочих и служащих, не входящих в
управленческое звено, это совершенно неверно. На самом деле зарплата
сотрудников тем выше, чем больше в организации используется
компьютеров.
В соответствии с государственной политикой, проводившейся в прежде
социалистическом обществе Швеции, считалось, что несправедливо
выплачивать производственным рабочим меньшее вознаграждение, чем их
начальникам. Соответственно устанавливались и ставки заработной платы.
Вследствие того, что получение знаний не окупалось, немногие из шведов
стремились продолжать обучение после окончания средней школы;
происходила «утечка мозгов», так как большое число лучших выпускников
высших учебных заведений искали работу за пределами страны. И напротив,
все больше людей стремятся получить образование, если образованные
работники получают повышенную зарплату. Среднее образование сейчас
имеют четверо из пяти взрослых американцев, тогда как всего пятнадцать лет
назад среднее образование имели двое из трех. Процент мужчин,
обучавшихся хотя бы четыре года в колледже, вырос с 20 в 1980 году до 25 в
1994; процент женщин — с 13 до 20. В 1993 году, впервые за всю историю,
число поступивших в университеты Германии молодых немцев превысило
число тех, кто воспользовался немецкой системой «двойного образования»,
предназначенной для подготовки рабочих кадров для промышленности. В
среде самих абитуриентов резко возросло соперничество при поступлении в
институты, считающиеся лучшими. Так, в Гарвардский университет
поступило 18190 заявлений о приеме на 2000 мест, или 11 человек на каждое
место. За пять лет до этого соотношение было 8 человек на одно место6.
С интеллектуальным капиталом обходятся так небрежно отчасти потому, что
от него не ожидают никакой отдачи, т. е. прибыли на инвестированный
капитал. Инвестор, захотевший убедиться в прибыльности «Ай-Би-Эм» или
«Майкрософт» единственно на основании их финансовых отчетов, так и не
узнает, из чего складывается столь высокая стоимость этих двух компаний.
Активами авиакомпании «Америкэн Эйруэйз» являются ее реактивные
самолеты. Однако информационная система, лежащая в основе службы
бронирования авиабилетов -«Сейбр», которая приносит большую прибыль,
чем самолеты, представляет собой нематериальный актив и не заносится в
балансовые отчеты. Подобно электронам в камере Вильсона,
интеллектуальные активы проявляются в бухгалтерских книгах корпораций
только в виде призрачных изображений.
Только в редких случаях они имеют на рынке какую-либо стоимость, и чаще
всего последняя не соответствует их действительной ценности. В 1976 году
композитор Эндрю Ллойд Уэббер, создатель мюзиклов «Кошки», «Эвита»,
«Призрак оперы» и «Бульвар заходящего солнца», основал «По-настоящему
полезную компанию», имевшую права на все его работы. Что бы вы ни
думали о музыке Уэббера, произведения, написанные руководителем «Понастоящему полезной компании», пользуются огромным успехом. В 1986
году Уэббер преобразовал ее в открытую акционерную компанию со
следующими активами: театр «Палас» в Лондоне стоимостью около 2
миллионов фунтов стерлингов, права на мюзиклы и песни Уэббера (главным
образом, «Кошки»), контракт на семь лет с самим Уэббером и полис по
страхованию жизни Уэббера (тогда ему было тридцать семь лет). На момент
оформления компании общая стоимость всех ее акций, включая ту их часть,
которая принадлежала Уэбберу, составляла 35,2 млн. фунтов стерлингов.
Четыре года спустя Уэббер выкупил компанию. Судя по тому, сколько он
заплатил за акции, принадлежавшие другим участникам, ее стоимость
составляла уже 77,4 млн. фунтов. Такая цифра была получена, главным
образом, на основе расчетов инвестиционных банков, пользовавшихся
установившимися правилами оценки предметов интеллектуальной
собственности — авторских прав, патентов и т. д. Через год Уэббер продал
30% акций фирме звукозаписи «Поли-Грам» за 78 млн. фунтов, т. е. за сумму
большую, чем та, которую еще год назад назначили за всю его компанию.
Тем временем состоялась премьера его «Бульвара заходящего солнца», но не
это послужило главной причиной увеличения более чем втрое стоимости
компании. Скорее всего, лучшие аналитики Сити самым постыдным образом
недооценили величину дохода и, следовательно, ценность старых авторских
прав. <...>
Когда компанию покупают за сумму, превышающую ее балансовую
стоимость, то цена обычно повышается за счет цены интеллектуальных
активов — доходов, ожидаемых от патентов, связей с потребителями, прав
собственности на торговую марку и т. д., а также надбавки за приобретение
прав на управление компанией. Но поскольку по правилам бухгалтерского
учета не разрешается платить за нечто неосязаемое, то за неимением лучшего
придумали вычитать балансовую стоимость из покупной цены и обозначать
разницу по существу бессмысленным термином «добрая воля» (денежная
оценка неосязаемого капитала). Между тем таковая <...> зачастую составляет
более половины покупной цены. Можно возражать против занесения
стоимости интеллектуального капитала в бухгалтерские книги, но
непростительно ее не учитывать. Невежество стоит очень дорого.
Информация и знания отличаются от денежных, природных, трудовых и
технических ресурсов. Экономисты называют их «обществен- ным благом»7.
Это означает, что знания не убывают по мере их использования. Они
неотчуждаемы: приобретение мною некоего объема знаний никоим образом
не уменьшает вашей способности приобрести столько же, чего не скажешь,
например, о порции мороженого или о месте в автобусе. На стоимость
создания знаний не влияет, сколько человек будет пользоваться ими
впоследствии. Знания, воплощенные мною в этой книге, будут стоить
одинаково, независимо от того, прочтут ли ее 5 или 500 тыс. человек.
Конечно, экземпляр, который вы держите в руках, не может быть прочитан
десятком людей одновременно, а стоимость печати, безусловно, зависела от
тиража, но эти экономические факторы относятся к изделию, а не к знаниям.
Знания и их оболочка — не одно и то же. Кроме того, средства их
воспроизведения — магнитофоны, ксероксы, телевизоры, компьютеры —
часто находятся под контролем потребителей, а не производителей.
Производственные же возможности, по существу, ничем не сдерживаются.
Так, миллиарды телезрителей каждый год смотрят церемонию вручения
премии «Оскар», а Американской академии кинематографии это обходится
не дороже, чем если бы вся зрительская аудитория была ограничена теми, кто
сидел в «Павильоне Дороти Ченддер».
Знания существуют вне зависимости от пространства. Подобно квантовым
частицам, они могут находиться в нескольких местах одновременно.
Продайте мне пирог, и у вас его больше не будет. Продайте мне рецепт
пирога, и он будет у нас обоих. В царстве интеллектуальных активов и
неосязаемой продукции пирога не становится меньше, сколько его ни ешь.
Но вы не можете забрать его назад. Продавец может вернуть себе,
предположим, автомашину, но сообщив покупателю какую-либо
информацию, он не может забрать ее обратно. В информационной экономике
есть одна уловка, касающаяся и покупателя, и продавца: покупатель не
может судить, стоит ли платить за информацию до тех пор, пока ее не
получит; но как только он завладел ею, ему больше не нужно ее покупать.
Еще одна странная особенность, отсутствующая в сделках с материальными
предметами, состоит в следующем: тот факт, что вы продали мне
информацию, не мешает вам продавать ту же информацию другим — ведь
университетский профессор из года в год читает одну и ту же лекцию. А мне
этот факт не мешает перепродавать то, чему меня научили, при условии
соблюдения законов об интеллектуальной собственности; этим в конечном
итоге и занимаются журналисты.
Но если знания в целом не ограничены пространством, некоторые их формы
чрезвычайно чувствительны к фактору времени — даже в большей степени,
чем
материальные
активы.
Хотя
последние
обесцениваются
катастрофически, порой до полной потери стоимости (за механическую
печатную машинку, хранящуюся у меня в кладовке, теперь мало что дадут),
это происходит постепенно и медленно, тогда как совет, на какую лошадь
ставить, который до забега потенциально стоил тысячи долларов, теряет
всякую цену, как только закрывается окошко тотализатора. Чувствительность
к фактору времени вызвала к жизни целые отрасли, основанные на желании
предвосхитить будущие формы знаний: службу погоды, опросы
общественного мнения по политическим вопросам, фондовую биржу.
Второе различие между знаниями и прочими ресурсами заключается в
изобилии знаний. В учебниках сказано, что категория стоимости в
экономической теории выводится из понятия редкости (scarcity). «Покупайте
землю, — советовал читателям сатирик Уилл Роджерс, — а то ее больше не
делают». Мы же с каждым днем «делаем» все больше знаний, и, как мы
потом увидим, они зачастую вырастают в цене именно потому, что имеются
в изобилии, а не потому, что их недостает.
Несмотря на отсутствие надежного способа измерения запасов знаний,
накопленных в мире, самые разные показатели указывают на то, что их
объем продолжает увеличиваться. Так, например, в Соединенных Штатах
число заявок на получение патентов неуклонно растет: в 1953 году было 72
тыс. заявок, а в 1993 году — уже 189 тыс. Хотя знания, в особенности
научные, часто вытесняются более свежими, они редко исчезают совсем. Вот
что говорит французский специалист по финансам Шарль Гольдфингер, чью
книгу «Полезное и бесполезное: неосязаемая экономика»* я считаю лучшим
сочинением об экономическом поведении нематериальных активов:
«[Информация] структурно изобильна. Информации всегда слишком много.
Каждый вид экономической деятельности производит ее больше, чем в
состоянии потребить»8. При переработке одного барреля нефти, например,
происходит сокращение запаса нефтепродуктов, но при этом использование
знаний нефтехимии не уменьшает объема этих знаний. Одновременно
создается дополнительная информация, как-то: характеристики нефти данной
партии, ее стоимость, местонахождение и пункт назначения. Может быть
мало талантов, но не знаний: человечество знает сейчас больше, чем когдалибо прежде.
В-третьих, структура себестоимости большинства наукоемких товаров и
услуг («материализованного знания») резко отличается от структуры
себестоимости
«материализованного
материала».
Большая
часть
заключенных в них издержек приходится на подготовительный период: это
означает,
что
себестоимость
изготовления
первого
экземпляра
непропорционально велика по отношению к себестоимости последующих. В
книгоиздательском деле, например, начальные капиталовложения,
включающие в себя гонорар автора, а также стоимость макета и набора,
значительно выше, чем себестоимость бумаги, процесса печати и переплета
тиража. Чем более неосязаем продукт — чем ближе он к чистому знанию, —
тем больше разрыв между затратами истекшего периода и предельными
издержками; затраты на изготовление и доставку электронной копии
документа равны искре электричества, да и несет эти затраты главным
образом получатель, а не «изготовитель». То же самое относится к
программному обеспечению, фармацевтическим изделиям, кинофильмам и т.
д. Тенденция к накоплению издержек на начальной стадии производства
проявляется и при изготовлении промышленных товаров по мере роста их
информационного содержания; затраты на конструкторские работы, научные
исследования и опытно-конструкторские разработки при производстве
самолетов, автомобилей и многих других продуктов растут относительно
прямых производственных издержек. В «фуджи Электрик», занимающей в
Японии
четвертое
место
по
производству электротехнического
оборудования, принята на вооружение гибкая произ- водственная система
для выпуска магнитных соединителей, используемых в электромоторах.
Система состоит из очень дорогих универсальных станков, способных
выпускать 8 тыс. различных модификаций данного изделия, причем для их
перевода на выпуск новой модификации практически не требуется
дополнительных затрат, поскольку все инвестиции в новый продукт
делаются на стадии НИОКР.
Наконец, что касается творческой работы, между затратами знаний на входе
и объемом знаний на выходе нет значимого экономического соответствия.
Поскольку стоимость интеллектуального капитала не обязательно
соотносится с затратами на его приобретение, мерилом успеха не может быть
количество усилий, приложенных к его достижению.
Отдача от подготовки кадров также не соотносится с объемом затрат.
Гораздо легче оценивать стоимость основных фондов. Поэтому бухгалтеры
сходятся во мнении, что стоимость оборудования достаточно полно отражена
в уплаченной за него цене минус аккумулированные амортизационные
отчисления. Такие данные можно занести в баланс, тогда как тот же объем
инвестиций, но существующий в виде неосязаемых активов, окончательную
стоимость которых невозможно определить, капитализировать не стоит.
Неотчуждаемый, структурно многообразный, сосредоточенный на
предварительной стадии, непредсказуемый — когда самый важный из
экономических ресурсов имеет подобные характеристики, нет ничего
удивительного в том, что такие насыщенные информацией виды
деятельности, как финансы и составление компьютерных программ,
отличаются досадной изменчивостью. Очень часто они даже выходят за
рамки основных экономических законов.
Согласно закону спроса и предложения, между тем, что производят
продавцы, и тем, что покупают покупатели, существует точка равновесия;
слишком большому нарушению равновесия препятствует механизм
ценообразования. Этот закон никто не отменял, однако на практике он
применяется не столь строго и далеко на всегда. На ликвидных и хорошо
отлаженных финансовых рынках, например, должно господствовать близкое
к совершенному равновесие; вместо этого положение на них все более
переменчиво в связи с тем, что предметы купли-продажи все чаще
переводятся из материальной области в нематериальную — в информацию о
будущем и о стоимости интеллектуальных активов корпораций. Закон спроса
и предложения не срабатывает, в частности, потому, что многие
нематериальные
товары,
такие,
как
консалтинговые
услуги,
профессиональная подготовка, образование, развлечения, создаются
производителями и потребителями совместно. Кто же здесь покупатель, а кто
продавец? Еще одна причина заключается в том, что производственные
возможности (предложение) часто определяются потребителями, а не
официальными производителями. Избыточная производственная мощность,
наличие которой пагубно воздействует на рынки материальных благ,
повышает эффективность рынков нематериальных товаров.
Наукоемкие производства нарушают и другой основной закон экономики —
закон убывающей доходности. Сформулированный в восемнадцатом веке
Томасом Мальтусом и Давидом Рикардо, он утверждает, что любое
предприятие достигает в своей деятельности такого предела, за которым
продуктивность дополнительных капиталовложений убывает по сравнению с
отдачей
более
ранних.
Двое
рабочих
способны
увеличить
производительность мусороуборочной машины вдвое, но четверо не
добьются еще одного ее двукратного роста. Конкуренция из-за ограниченных
ресурсов, гласит теория, уменьшает предельную рентабельность инвестиций.
В связи с этим компании сокращают инвестиции до уровня средней
прибыльности в своей отрасли и таким образом стабилизируют их структуру.
Закон убывающей доходности влияет на экономику отчасти оттого, что, как
это ни парадоксально, капитализм ненавидит прибыль и изо всех сил
пытается ее уничтожить. Высокоприбыльное предприятие притягивает
конкурентов; одни согласны зарабатывать чуть меньше, другие сбивают
лидеру цены, потому что имеют возможность паразитировать на его
инвестициях в технологию и в развитие рынка. Чем больше успех компании,
тем больше ее уязвимость в конкурентной борьбе.
Тем не менее, во многих отношениях экономическая деятельность
информационного века характеризуется растущей, а не убывающей
доходностью. По мнению экономиста из Стэнфордского университета и
Института Санта-Фе Брайана Артура, «секторы экономики, основанные на
использовании или разработке ресурсов (сельское хозяйство, производство
скоропортящихся продуктов, горнодобывающая промышленность), попрежнему испытывают на себе действие закона убывающей доходности.
Здесь по праву властвует традиционная экономическая теория. Напротив,
секторы, основанные на использовании знаний, характеризуются растущей
доходностью. Очень нелегкое дело — разработать и произвести такие
продукты, как компьютеры, фармацевтические изделия, ракеты, самолеты,
автомобили,
программное
обеспечение,
телекоммуникационное
оборудование или волоконная оптика. Требуются большие начальные
вложения в научные исследования, разработки и оборудование, но прирост
производства после начала реализации обходится относительно дешево...
Издержки производства по мере выпуска все большего числа
высокотехнологичных продуктов снижаются, а прибыль от их
использования, напротив, увеличивается... После того, как некий продукт
завоевал значительную часть рынка, у населения появляется сильная
побудительная причина покупать его и дальше, чтобы иметь возможность
обмениваться информацией с теми, кто им уже пользуется»9.
Там, где высока себестоимость первого экземпляра, а последующие
издержки незначительны, возникает сильнейший эффект экономии,
обусловленной масштабом производства. Вот простой пример: представьте
себе, что две компании израсходовали по 5 тыс. долл. каждая на разработку
конкурирующих продуктов; продукты реализуются по цене 10 долл. за
штуку, расходы на производство, рекламу и сбыт составляют 2,50 долл. на
единицу продукции. Первая компания продает 2000 единиц продукта; ее
прибыль составляет 20 000 долл. - (5000 + 5000) = 10 000 долл.. Вторая
компания продает 1000 единиц и зарабатывает 10 000 — (5000 + 2500) = 2500
долл. Разница один к двум при реализации влечет за собой четырехкратный
разрыв в прибыли, что неудивительно, если учесть эффект масштаба.
Теперь изменим условие: увеличим наполовину стоимость разработки
продукта (7500 долл.) и наполовину сократим предельные удельные
издержки на единицу продукции (1,25 долл.). Первая компания, как и
прежде, получает 10 000 долл. прибыли: 20 000 — (7500 + 2500). А вот
вторая зарабатывает всего 1250 долл.: 10 000 долл. от продажи минус 7500
+1250 долл. Теперь разница в доходах два к одному приводит к
восьмикратному разрыву в прибыли. По мере роста соотношения затрат на
производство первого экземпляра и предельных издержек возрастает и
эффект масштаба.
Но компания, создающая наукоемкую продукцию, способна получать больше
прибыли не только за счет эффекта экономии в результате масштаба
производства. Другой источник — внешний эффект от широкого
распространения продукта. Дело в том, что стоимость знаний увеличивается
вследствие расширения круга использующих их лиц. В качестве наглядного
примера
приведем
операционную
систему
Windows
компании
«Майкрософт». Поскольку Windows установлена на множестве компьютеров,
программисты стремятся разрабатывать прикладные программы прежде
всего для этой системы, а уж потом создают приложения, совместимые с
системой Macintosh компании «Эппл» или «OS/2», применяемой «Ай-БиЭм». В свою очередь, обилие новейших прикладных программ повышает
привлекательность Windows в глазах покупателей компьютеров, благодаря
чему возникает эффект нарастающей положительной обратной связи.
Поскольку Windows пользуется большинство ваших друзей и деловых
партнеров, вы чувствуете, что должны последовать их примеру, хотя бы для
того, чтобы обеспечить совместимость с их компьютерами. Наличие
большого числа потребителей и программ, в свою очередь, укрепляет
сбытовые и сервисные организации. По той же причине видеомагнитофоны,
использующие кассету VHS, вытеснили с рынка «Бета-макс» корпорации
«Сони»: как только кассеты VHS вышли на первое место по итогам продаж,
кинокомпании стали выпускать большую часть своей продукции на пленке
VHS, а не на пленке «Бета», а это, в свою очередь, еще больше подняло спрос
на магнитофоны VHS.
Влияние внешнего фактора с особой силой ощущается в отраслях
промышленности,
эксплуатирующих
средства
связи,
ибо
там
вырабатываются нормы, делающие коммуникацию возможной. Для
сравнения, выгоды от использования английского языка (и соответственно,
ценность включения этого языка в состав основных производственных
фондов вашей компании) возрастают именно потому, что им пользуется
множество других людей. Но в силу тех же обстоятельств, ценность средства
коммуникации может почти мгновенно исчезнуть, как случилось с телексом
после изобретения факсимильного аппарата. Географические карты
испещрены названиями старых речных портов, городков у каналов,
железнодорожных поселков, которые благополучно перестали существовать,
когда на смену пришли новые транспортные сети, образованные
автомагистралями и авиалиниями.
Внешний фактор распространения представляет собой разновидность
клиентского капитала. Его стоимость создается совместно поставщиком и
потребителем и приносит выгоду обоим. «Майкрософт» — лишь одна из
многих компаний, извлекающих выгоду из широкого использования
операционной системы Windows, да и объем этой прибыли не самый
большой: поступления от продажи всего программного обеспечения,
выпускаемого на базе Windows, от продажи компьютеров и
микропроцессоров (например, микросхем Intel), производимых различными
компаниями, составляют около 66 млрд. долл., из которых на долю
«Майкрософт» приходится всего 4 процента.
Побежденные в играх, ведущихся по правилам нарастающей доходности,
«замуровываются» в нишах рынка. Победителей же почти невозможно
выбить с завоеванных позиций даже с помощью значительно лучшего
продукта. Классическим примером такого эффекта «статус-кво» является
клавиатура типа QWERTY (названная так по буквам на первых шести
клавишах в верхнем ряду клавиатуры пишущих машинок с латинским
шрифтом). Призванное помешать заеданию клавиш на механической
машинке, такое расположение стало стандартным, благодаря тому, что
«Ремингтон Сьюинг Машин Ко.», которая запустила в производство
машинки с клавиатурой типа QWERTY, захватила первенство на рынке, что
побуждало машинисток осваивать именно эту клавиатуру, а не
расположение,
предлагавшееся
конкурентами
«Ремингтона».
Это
обстоятельство, в свою очередь, вынудило и другие компании перейти на
QWERTY. Уже созданы клавиатуры с иным расположением букв, которые
позволяют печатать гораздо быстрее, но они никому не нужны. Внешний
эффект распространения воплотился в клиентский капитал — сумму усилий,
которые операторы вкладывают в освоение клавиатуры QWERTY, — и это
уже ничем не изменить.
Непривычная ситуация ставит перед компаниями ряд новых задач в области
стратегии и управления. Они не могут пренебречь законами спроса и
предложения и убывающей доходности; их никто не отменял, просто в них
появилось множество лазеек. Но это не значит, что экономика развивается по
старым правилам. Компании столкнулись с новой проблемой —
необходимостью заранее делать колоссальные ставки в рискованной игре.
Мы видели, что высокотехнологичные предприятия часто несут огромные
начальные издержки, инвестируя в НИОКР, развитие сетей и т. д. Прибавьте
сюда эффект «статус-кво», когда вложенные деньги начинают приносить
прибыль и богатый становится еще богаче. В этом случае дальнейшая судьба
компании зависит от объема ее первоначальных инвестиций. Подводя итоги,
можно сказать, что всякий, кто хочет находиться на гребне волны растущей
доходности, должен обладать не только темпераментом игрока, но и
бездонными карманами крупной корпорации — сочетание, которое в
традиционных компаниях встречается отнюдь не часто.
Компаниям информационного века, стремящимся получать выгоды от
информационной экономики, следует знать, какой арсенал стратегий имеется
в их распоряжении. Существует всего три основных вида (группы) оружия.
Используйте содействие друзей для создания и удержания первоначальных
преимуществ на отвоеванном участке рынка
Информационная экономика заставляет компании заключать странные на
первый взгляд союзы. Например, компания «Мацуси-та» посчитала
выгодным не оставлять за собой исключительное право на разработанную ею
технологию VHS для видеомагнитофонов; напротив, она по недорогой цене
продала конкурентам множество лицензий на изготовление кассет VHS,
благодаря чему в промышленности утвердился стандарт VHS, который
вытеснил с рынка «Бетамакс», запатентованный «Сони». Компания «Эппл»,
напротив, долгие годы придерживалась разумной на вид политики защиты
своей удельной прибыли, не разрешая другим компаниям воспроизводить
операционную систему Macintosh. Много лет спустя «Уолл Стрит Джорнэл»
назвал это решение «одной из грубейших ошибок в истории бизнеса»10.
Однако в области производства программного обеспечения «Ма-цуситу»
обошли «Нетскейп» и «Сан Майкросистемз», которые попросту раздают
даром разработанные ими программные продукты. Пользователи ничего не
платят за загрузку из Интернета принадлежащей «Нетскейп» программы
просмотра «Навигатор». Но они создают огромный спрос на прикладные
программы на базе «Навигатора», которые могут быть написаны только
людьми, у которых есть платная версия программного продукта.
Разработанный компанией «Сан» язык программирования «Ява», с помощью
которого можно создавать прикладные программы, совместимые с любой
операционной системой — Windows, Macintosh, IBM, Unix и другими, —
предлагается пользователям и разработчикам прикладных программ
бесплатно. Но если вы захотите реализовать на рынке ваш продукт, вам
придется купить лицензию на все входящие в его состав элементы. Главный
технолог компании «Сан» Эрик Шмидт высказал такую мысль: «Сначала мы
хотим стать вездесущими, а потом уже получать прибыль».
Заключая союзы с другими организациями, особенно с оптовыми фирмами и
поставщиками, предприятия любого типа получают мощную поддержку.
«Дженерал Моторс», «Форд» и «Крайс-лер» не ушли бы так далеко вперед от
паровых автомобилей и паровозов, если бы у них не было поддержки
нефтяных магнатов и правительственных ведомств, занимавшихся
строительством дорог. Союзы информационноемких предприятий
представляют собой особенно мощное оружие: в силу низких предельных
издержек производства информации — ее близкой к нулю заводской
себестоимости — союзы таких предприятий создаются очень быстро, а
эффект «статус-кво» способствует их укреплению. Стратегия объединения
для защиты лидирующих позиций
Имея незначительные предельные издержки, ведущие компании могут
позволить себе высокую степень гибкости в ценовой полити- ке. Они
способны разложить постоянные издержки на большое число потребителей и
таким образом значительно потеснить конкурентов, которые вынуждены
окупать равновеликие расходы на НИ-ОКР с меньшего участка рынка. В
результате снижение расходов происходит у всех участников ценовой
цепочки при том лишь условии, что компания использует свое влияние для
создания клиентского капитала, а не для банального давления на
поставщиков и оптовых торговцев с целью увеличения своей чистой
прибыли. Если мощная компания использует свое влияние для того, чтобы
переместить товарно-материальные запасы со своих складов на баланс
поставщиков или клиентов, она попросту взрыхляет почву, на которой может
вырасти конкурент. Но если компания совместно с клиентами и
поставщиками старается освободить от товарно-материальных запасов всю
систему, снизить издержки каждого, распределить сэкономленные средства
между всеми партнерами независимо от того, кто в итоге оказывается в
выигрыше, тогда она привязывает их к себе. Есть надежный способ
определить, управляете вы рынком или боретесь с ним: изучайте не только
принадлежащую вам долю рынка, но и долю, занятую вашими поставщиками
и потребителями. Развиваются ли быстрее других в своей отрасли самые
крупные и быстрорастущие из ваших клиентов? Растет ли ваше собственное
участие в их делах так же быстро (а еще лучше, с опережением), как общий
объем их деловых операций? Если да, то правило растущей доходности
работает на вас. Познание как орудие конкуренции
Знания о клиентах, технике и технологиях способствуют росту любой
организации, как способствуют этому союзы и рыночная мощь. Но, как и
последние, знания обретают дополнительный потенциал, когда становятся
основной составляющей деловой активности. В этом случае они, по
существу, являются частью того, чем обмениваются обе стороны делового
процесса. У компаний, которые приобретают их совместно со своими
клиентами (одновременно обучая их и учась у них), со временем появляется
взаимозависимость. Между их сотрудниками и системами — человеческим и
структурным капиталом — образуется связь более сильная, чем прежде.
Парадоксальным образом информация обретает качество долговечности
именно в силу своей нематериальности и неустойчиво- сти. Постоянство
информации является проявлением ее способности проникать через границы,
недоступные для материального. Как писал Виктор Гюго в своем романе
«Собор Парижской Богоматери», пока Гутенберг не изобрел наборный
шрифт, человечество пыталось сохранить знания, высекая их в камне.
Архитектурные памятники, например соборы, были «великой книгой»
человечества, в чьих порталах и скульптурах с помощью резца и краски было
запечатлено интеллектуальное и духовное наследие рода человеческого —
наследие твердое, как камень, и на вид несокрушимое. И тем не менее сила
знаний возрастает, когда они освобождаются от этой материальной оболочки.
Гюго писал: «В виде печатного слова мысль стала долговечной, как никогда:
она крылата, неуловима, неистребима. Она сливается с воздухом. Во время
зодчества мысль превращалась в каменную громаду и властно завладевала
определенным веком и определенным пространством. Ныне же она
превращается в стаю птиц, разлетающихся на все четыре стороны, и
занимает все точки во времени и в пространстве... Разрушить можно любую
массу, но как искоренить то, что вездесуще?»11
Цифровая революция, освободившая знания от остатков материальной
оболочки, сделала их еще более доступными... и несокрушимыми. Для того,
чтобы преуспеть в нематериальной экономике, организациям и каждому
человеку следует освоить приемы работы, которые отличаются от их
прежних навыков в такой же мере, в какой птицы отличаются от камня.
* - Weizsaecker E., van, Lovins A.B., Lovins L.H. Factor Four. Doubling Wealth
— Halving Resource Use. L., Earthscan Publications Ltd., 1997. Copyright —
Weizsaecker E., von, Lovins А. В., Lovins L.H. 1997. Текст воспроизводится с
согласия Э. фон Вайцзеккера.
1 - См.: Meadows D.H., Meadows D.L, Randers J. Behrens III, W.W. The Limits
to Growth. N.Y., 1972.
2 - Мы называем так эту модель потому, что существовали также модели
World 1 и World 2. World 1 была первоначальной версией, разработанной
профессором Массачусетсского технологического института Дж.Форестером
в рамках проводившегося Римским клубом исследования взаимозависимости
между глобальными тенденциями и глобальными проблемами. World 2
является окончательной документированной моделью, представленной
профессором Дж.Форестером в книге: Forester J. World Dynamics. N.Y., 1971.
Модель World 3 была создана на базе World 2, в первую очередь как
следствие изменения ее структуры и расширения количественной базы
данных. Мы должны отметить, что профессор Дж.Форестер является
безусловным вдохновителем данной модели и автором используемых в ней
методов.
3 - См.: Meadows D.H., Meadows D.L., Renders J. Behrens III, W.W. The Limits
to Growth. P. 24.
4 - Vargish Th. Why the Person Sitting Next to You Hates Limits to Growth //
Technological Forecasting and Social Change. Vol. 16. 1980. P. 187-188.
5 - См.: Pipes D. In the Path of God: Islam and Political Power. N.Y., 1983. P.
102-103, 169-173.
6 - [Автор приводит слова византийской принцессы Анны Комнин].
Цитируется по кн.: Armstrong К. Holy War: The Crusades and Their Impact on
Today's World. N.Y., 1991. P. 3-4, и Toynbee A. Study of History. Vol. VIII. L,
1954. P. 390.
7 - Buzan B.G. New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century //
International Affairs. No 67. July 1991. P. 448-449.
* - Weizsaecker E., van, Lovins A.B., Lovins L.H. Factor Four. Doubling Wealth
— Halving Resource Use. L., Earthscan Publications Ltd., 1997. Copyright —
Weizsaecker E., von, Lovins А. В., Lovins L.H. 1997. Текст воспроизводится с
согласия Э. фон Вайцзеккера.
8 - Lewis В. The Roots of Muslim Rage: Why So Many Muslims Deeply Resent
the West and Why Their Bitterness Will Not Be Easily Mollified // Atlantic
Monthly. No 266. September 1990. P. 60.
9 - Mohamed Sid-Ahmed. Cybernetic Colonialism and the Moral Search // New
Perspectives Quarterly. No. 11. Spring 1994. P. 19; [мнение индийского
политического деятеля М.Дж.Акбара цитируется no) Time. 1992. June 15. Р.
24; [позиция тунисского правоведаАбдельвахаба Бёльваля представлена в]
Time. 1992. June 15. Р. 26.
10 - McNeil W.H. Epilogue: Fundamentalism and the World of 1990's; Marty
M.E., Scott Appleby R. (Eds.) Fundamentalisms and Society; Reclaiming the
Sciences, the Family, and Education. Chicago, 1992. P. 569.
11 - Mernissi F. Islam and Democracy: Fear of the Modem World. Reading (MA),
1992. P. 3, 8, 9, 43-44, 146-147.
Оглавление
Новая постиндустриальная волна на Западе
Оглавление
Пол Пильцер. Безграничное богатство. Теория и практика «экономической
алхимии»
Пол Зейн Пильцер, американский экономист и бизнесмен, получил
образование в Lehigh University и Wharton Graduate School. С 1979 года он
занимал пост адъюнкт-профессора финансового факультета Университета
Нью-Йорка. С 1985 по 1992 год был советником по экономическим вопросам
в администрациях президента Р.Рейгана и президента Дж.Буша. С 1992 года
П. Пильцер является совладельцем и управляющим широко известной в
США риэлтерской корпорации Zane May Interests со штаб-квартирой в
Техасе. Он женат и живет в Далласе, штат Техас.
Книга «Безграничное богатство. Теория и практика "экономической алхимии
"» (1990) была написана им в бытность экономическим советником в
администрации президента Дж.Буша. Работа посвящена осмыслению тех
перемен, которые происходят в современном постиндустриальном обществе
под воздействием информационной револю- ции. Наблюдая радикальные
изменения значения традиционных производственных ресурсов, повышение
значимости информации и знаний как. основного условия хозяйственного
успеха, превращение знаний и других индивидуальных способностей
человека в новый вид капитала, даже более важный, чем его традиционные
типы, П.Пильцер обобщает все эти явления в понятии «экономическая
"алхимия "», что служит в его работе не столько законченным инструментом
постижения новой реальности, сколько средством, способным заставить
людей задуматься над масштабами происходящих перемен.
Основным тезисом, обосновываемым в книге профессора Пильцера, является
утверждение о том, что современный постиндустриальный мир вступил в
полосу многолетнего хозяйственного роста, который не сдерживается
ограниченным характером естественных ресурсов, подталкивается
беспрецедентным технологическим прогрессом и обеспечивается новым
характером финансовых показателей, который способствует притеканию все
новых и новых денежных ресурсов в страны, специализирующиеся не на
разработке природных ресурсов или производстве стандартных
материальных благ, а на создании технологий будущего.
Стремясь представить читателю основные подходы П.Пильцера, а также
показать ту парадоксальность, которая нередко обнаруживается в работе, мы
остановились на главе 2 — « "Алхимия " предложения» и главе 5 — «Труд
есть капитал» (эти фрагменты соответствуют стр. 22, 24, 24—30, 30—45,
96—101 в издании Crown Publishers, Inc.). БЕЗГРАНИЧНОЕ БОГАТСТВО
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА «ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АЛХИМИИ»*
Вначале семидесятых годов в мире царил пессимизм. Все запасы подходили
к концу. Необходимо было принимать решительные меры, в том числе
экономное использование ресурсов и общее снижение уровня жизни, —
иначе дальнейшее существование человечества было обречено. <...>
В последующие несколько лет эти пророчества, казалось бы, подтвердились.
В 1973—1981 годы подскочившие цены на энергию ввергли Соединенные
Штаты в самый жестокий за последние сорок лет кризис. Рост экономики
прекратился, уровень безработицы подскочил, инфляция почти не
поддавалась контролю. У бензозаправочных станций выросли огромные
очереди, где отчаявшиеся водители часто решали споры кулаками. Летом в
городах стали часто отключать электричество, а поскольку поставки
горючего стали нерегулярными, обеспокоенные домовладельцы Новой
Англии зимой уменьшали мощность своих термостатов.
Будущее рисовалось в мрачном свете. Американцам, говорили нам, придется
потуже затянуть пояса, загнать машины в гараж, отключить электроприборы
и вообще привыкнуть к более низкому уровню жизни. Правительство даже
позаботилось о том, чтобы отпечатать миллионы'талонов на бензин. По
наблюдениям Дэвида Рокфеллера, в 1975 году нельзя было игнорировать тот
факт, что появились «ограничители темпов экономического роста, которых
не было в предыдущие двадцать лет»1.
Но затем произошло нечто странное.
По мере приближения к концу столетия мы приходим к поразительному и
обнадеживающему открытию. Пессимисты семидеся- тых ошибались.
Мировые запасы естественных ресурсов не сокращаются, а, наоборот, растут.
Рассмотрим это на примере одного из самых важных и проблемных ресурсов
в мире — сырой нефти.
Накануне нефтяного кризиса 1973 года мировые запасы нефти, по оценкам,
составляли порядка 700 млрд. баррелей, которых при современном уровне
потребления могло хватить еще лет на сорок2. Если бы пессимисты
оказались правы, то в течение следующих пятнадцати лет эти запасы должны
были бы сократиться до 500 млрд. баррелей. Но они ошиблись. В 1987 году
мировые запасы нефти оценивались почти в 900 млрд. баррелей, то есть
почти на 30% больше, чем пятнадцать лет назад. А в эти 900 миллиардов
вошли только подтвержденные запасы, и не учитывались еще 2000млрд.
баррелей нефти, которую можно найти и добыть при использовании
новейших методов.
То же самое произошло и с другими видами сырья. В 1970 году мировые
запасы природного газа оценивались приблизительно в 1500 триллионов
кубических футов. К 1987 году эти цифры были пересмотрены в сторону
повышения и составили почти 4000 триллионов кубических футов.
Аналогичным образом за период с 1970 по 1987 год запасы меди
увеличились более чем в два раза (с 279 млн. до 570 млн. тонн); серебра —
более чем на 60% (с 6,7 млрд. до 10,8 млрд. тройских унций), золота — на
50% (с 1 млрд. до 1,52 млрд. тройских унций), бокситов — более чем на 35%
(с 17 млрд. до 23 млрд. тонн)3. Этот список можно продолжить.
По мере увеличения запасов снижались цены. В 1980—1985 годах индекс
цен на тридцать наименований сырьевых товаров, рассчитываемый
Международным валютным фондом, упал на целых 74%. В течение
восьмидесятых годов цены на бокситы, уголь, какао-бобы, кофе, медь,
хлопок, кожу, железную руду, свинец, марганец, никель, нефть, поташ, рис,
каучук, серебро, соевые бобы, сахар, олово и пшеницу упали до самого
низкого уровня за последние 50 лет. В обозримом будущем вряд ли стоит
ожидать перемен. Сни- жение цен на сырье было таким резким, что Бюро
технологических оценок США в одном из исследований в 1988 году пришло
к выводу, что «будущее Америки, вероятно, никогда еще не было столь
независимо от стоимости природных ресурсов»4. <...>
Увеличение запасов и снижение цен традиционно считаются классическими
симптомами экономического спада, иными словами — рецессии и депрессии.
Однако <...> в восьмидесятые годы этого не наблюдалось. Напротив, как мы
уже отмечали, для США и большинства других промышленно развитых
стран в 80-х годах был характерен наивысший для мирного времени
экономический подъем. Масштабы промышленного производства, реальная
заработная плата, уровень жизни — все эти показатели неуклонно росли, в
некоторых случаях достаточно резко, и продолжают расти до сих пор. <...>
Сейчас мы богаче, чем когда-либо раньше. В это трудно поверить в то время,
когда нас одолевают нищета и преступность, когда мы все чаще понимаем,
что надо работать напряженнее, чем когда-либо, чтобы просто сводить концы
с концами. Но, тем не менее, это так. Хотя временами может показаться, что
мы попали в ловушку и вынуждены, как Алиса в Стране чудес, участвовать в
беге, когда надо бежать все быстрее и быстрее, только чтобы остаться на том
же месте, — однако, чтобы получить желаемое, нам нужно работать
значительно меньше, чем мы привыкли. В 70-е годы, например, американцам
приходилось трудиться в три раза больше, чтобы заработать на телевизор,
чем в конце 80-х. Аналогичным образом, в 70-е годы им требовалось в два
раза больше времени, чтобы заработать на новую одежду, и на 25% больше,
чтобы заработать на новый автомобиль. Кроме того, сегодня наши дома
стали просторнее (средняя площадь нового частного дома на одну семью в
Соединенных Штатах составляла в 1985 году 1785 кв. футов, тогда как в 1980
году — 1595 кв. футов, а в 1968 году — всего 1385 кв. футов), у нас
появились новые возможности для отдыха и развлечений, увеличилась
продолжительность жизни.
Так что же все-таки происходит? Как нам удается получать больше ресурсов,
чем раньше, по более низким ценам?
На этот вопрос можно ответить одним словом — «Алхимия».
Согласно традиционной экономической теории, в мире существует
фиксированный запас естественных ресурсов. Имеется определенное
количество угля, нефти, железной руды, золота, воды, земельных угодий и т.
д. В соответствии с такой точкой зрения единственный способ увеличения
реального богатства, как для отдельного индивидуума, так и общества в
целом, — это разбогатеть за чей-либо счет.
Согласно нашей «Алхимии», напротив, естественные ресурсы не являются
скудными и ограниченными, особенно в эпоху, когда современные
технологии «позволяют сделать компьютер из грязи», как выразился недавно
математик Митчел Фейгенбаум. Сегодня важны не конкретные минералы,
которые мы откопаем на заднем дворе, а наши растущие возможности
использовать то, что мы там обнаружим, наилучшим образом.
В этом суть «Алхимии»: богатство — это продукт не только естественных
ресурсов, на также и технологии. И из этих двух слагаемых технология
неизмеримо важнее.
Математически эту глубокую истину можно выразить простой формулой:
W=PTn.
В данном выражении W означает богатство, Р — естественные ресурсы,
такие, как земля, рабочая сила, полезные ископаемые и т. д., Т— технологию,
а n — степень влияния технических достижений на них самих. Как мы
увидим, технология приумножает сама себя, поскольку каждое техническое
достижение создает основу для следующего.
Эта простая формула имеет глубокий смысл — не только с точки зрения
лучшего понимания экономической основы общества, но и в качестве ключа
к разработке более эффективной стратегии нашей жизни как потребителей,
предпринимателей и граждан. Она говорит, что нам больше не придется
постоянно играть с нулевым результатом. Вместо того, чтобы искать
возможности половчее разрезать один и тот же маленький пирог, в мире
«Алхимии» мы можем найти способ испечь новый пирог побольше.
В течение последних пяти или шести тысячелетий, с тех пор как появилось
организованное общество, люди представляли себе богатство как обильное
удовлетворение физических потребностей, а именно — изобилие еды,
одежды и жилья. На ранних стадиях раз- вития общества источники этих
благ были очевидны: земля, скот и строительные материалы... <...> Чем
больше естественных ресурсов имел человек, тем более богатым считало его
общество.
Тем не менее, даже в самых примитивных обществах простое наличие
естественных ресурсов само по себе не могло гарантировать человеку
выживание, не говоря уже о комфорте и роскоши. Владей он хоть всей
землей и всем скотом в мире, человек мог умереть с голоду, если он не умел
охотиться и ставить ловушки, сеять и собирать урожай, забивать скот и
разделывать туши. Для того чтобы естественные ресурсы принесли какую-то
пользу, необходимо знать, как ими пользоваться, иметь хотя бы самое общее
представление о том, что мы сегодня называем технологией.
Именно благодаря технологии, т. е. знанию о том, как эффективно
использовать природное сырье, такие ресурсы, как земля, скот и
строительные материалы, имеют первостепенное значение. Только вслед за
открытием огня, или, по крайней мере, после того, как люди научились
добывать и поддерживать его, стало нужно собирать дрова. Только после
изобретения хлеба появился смысл в выращивании таких культур, как рожь и
пшеница. И только когда люди научились плавить металлы, стало полезным
добывать железную руду и олово.
Короче говоря, с самого начала цивилизации технология была, по крайней
мере, столь же важной составной частью богатства, как и естественные
ресурсы, а на самом деле она всегда была намного важнее, поскольку в ее
отсутствие эти ресурсы оставались бесполезными. Другими словами, только
с помощью технологии можно отделить зерна от плевел.
Таким образом, мы подошли к первому закону «Алхимии»:
Позволяя нам продуктивно использовать то или иное сырье, технология
определяет, что является естественными ресурсами.
Хотя сегодня эта мысль, может быть, и кажется очевидной, на протяжении
большей части истории таковой она не казалась. Причина в том, что до
последнего времени технологии развивались сравнительно медленно.
Поколения рождались и умирали, пока Каменный век сменился Железным, а
Железный — Бронзовым. Способы перевозок, земледелия, лечения,
строительства тысячелетиями оставались неизменными. В результате
влияния технологии на общество <...> как бы и не существовало, а те, кто его
все же замечал, при принятии решений рассматривали технологию как
величину постоянную на протяжении их собственной жизни.
Возможно, для жителя южных островов конца девятнадцатого века тот факт,
что пальмовые листья можно сплетать определенным образом, чтобы сделать
из них крышу для хижины, воспринимался как неотъемлемое свойство
пальмового листа. Живя в обществе, в котором, сколько он себя помнил,
крыши делались из пальмовых листьев, он и не задумывался о том, что
пальмовые листья стали ценным естественным ресурсом только благодаря
определенному набору знаний, а именно технологии их плетения. Для его
земляков-островитян эти листья были строительным материалом по
определению, полезным, а следовательно — ценным. Плетение крыш из
пальмовых листьев было для них естественно и составляло часть их жизни,
как, скажем, ловля рыбы с помощью гарпуна.
Доказывать нашему островитянину, что пальмовые листья сами по себе не
являются ценным естественным ресурсом было бы так же бесполезно, как,
например, доказывать ему же, что и рыба, в общем-то, не так уж ценна. Как
же так? Ведь, как и пальмовые листья, рыба всегда была главной жизненной
потребностью и всегда таковой останется. Тем не менее очевидно: чем
больше у тебя рыбы или пальмовых листьев, тем ты богаче.
На самом деле, конечно, как пальмовые листья, так и рыба сами по себе не
являются ценными ресурсами. Последняя становится пищей только в
обществе, владеющем технологией рыбной ловли. Без этой технологии рыбы
не более чем призрачные тени, которые могут иногда мелькнуть в воде и
снова исчезнуть в глубине волн.
Мы начинаем сознавать решающее значение технологии, только когда
массовые ее изменения происходят в течение короткого промежутка
времени. Для нашего островитянина переломным моментом могло бы
послужить прибытие миссионеров с крышами из оцинкованной жести. Узнав
другой, и предположительно более совершенный, способ строительства, он,
возможно, пересмотрел бы свой взгляд на пальмовые листья и их назначение.
Они уже не олицетворяли бы для него богатство, как раньше; в новой
ситуации зажиточным человеком считался бы тот, у кого сложатся лучшие
отношения с миссионером.
Только в последнее время технологии стали развиваться достаточно быстро,
чтобы мы обратили на это внимание. Возьмем нефть — один из основных
ресурсов современной эпохи. Немногим более века назад она считалась не
более чем липким черным веществом (ее называли «странным загадочным
жиром^), на которое кто-то однажды наткнулся, карабкаясь вверх по скалам
в богом забытом месте. Даже после того как полковник Эдвин Л. Дрейк
пробурил первую нефтеносную скважину в Титусвиле, штат Пенсильвания, в
1859 году, нефти не нашли лучшего применения, чем использовать ее в
качестве смазочного материала, общедоступного лекарства и сильно
чадящего зловонного горючего для ламп. Вплоть до 1885 года, когда Готтлиб
Даймлер и Карл Бенц создали первые легкие двигатели внутреннего
сгорания, работавшие на продукте переработки нефти, известном как бензин,
который до тех пор считался бесполезным отходом, нефть не
рассматривалась как ценный ресурс.
В начале 70-х годов XX века нефтехимическая промышленность заняла
ведущее место в мире, а нефть (как в качестве горючего, так и в качестве
химического сырья) превратилась в двигатель мировой экономики. Более
того, в результате признания ее значения бесплодные пустыни стран
Персидского залива, которым посчастливилось расположиться над
богатейшими на земном шаре нефтяными месторождениями, перестали быть
самими нищими, с которыми никто не считался, и оказались среди
богатейших и наиболее влиятельных стран мира.
Другими словами, с помощью технологии плевела могут превратиться в
зерна, а зерна — в плевела прямо на наших глазах. В последние годы мы
могли наблюдать, как технология превращает в важные ресурсы такие
обыденные и привычные вещи, как песок (из которого изготавливают
кремниевые кристаллы) и морская вода (где содержатся разнообразные
минералы — от золота до магния). В то же время технология снижает, если
вообще не сводит к нулю, значение таких когда-то ключевых ресурсов, как
натуральный каучук (на смену которому приходит синтетический), олово
(вытесняемое алюминием и пластмассами), алюминий (который, в свою
очередь, замещается новыми керамическими материалами и углеродноволоконными соединениями), медь (спрос на которую падает в результате
недавних открытий в области волоконной оптики и сверхпроводимости) и
листовая сталь (которой стало трудно вы- держивать конкуренцию со
стороны легких и устойчивых к коррозии суперполимеров).
Технология, рассматриваемая с точки зрения первого закона «Алхимии»,
позволяющего определить, можно ли с ее помощью использовать то или иное
сырье и является ли оно ценным естественным ресурсом, может быть названа
«определяющей технологией». Не вызывает сомнений, что таковая играет
исключительно важную, можно сказать, важнейшую роль в предопределении
благосостояния общества. Но <...> существует еще одна категория
технологий, которую следует рассмотреть, — технологии, проверяющие,
какую отдачу мы получаем от уже установленного материального ресурса.
Хотя мы живем в постоянно меняющемся мире, <...> не все в нем
трансформируется ежедневно. В любой конкретный момент существует
фиксированный уровень определяющей технологии, т. е. некая база
естественных ресурсов <...>. В 80-е годы, например, она состояла из таких
относительно знакомых компонентов, как бокситы, медь, уголь, железо,
золото, природный газ, нефть, кремний, древесина, олово, уран и т. д.
Сто лет назад этот перечень выглядел бы иначе (в нем отсутствовали бы
бокситы, кремний и уран, зато вполне могли присутствовать, например,
слоновая кость и китовый жир). И через десять лет он тоже будет иным,
причем даже трудно представить, каким именно. Тем не менее, приходится
работать с теми инструментами и ресурсами, которые сегодня признаются
значимыми. Поэтому в 80-е годы, как, впрочем, и в любой другой
исторический момент, имело смысл задаться вопросом: как увеличить запас
того, что в настоящее время считается ценными естественными ресурсами?
Обращаясь к истории, можно по вполне понятным причинам прийти к
выводу, что наилучший, а по сути и единственный, способ увеличения
запасов естественных ресурсов — взять их у кого-то другого. В конце
концов, не только традиционные экономисты рассматривали борьбу за
процветание как игру с нулевым исходом, но и большинство историков
смотрели на мир с этих позиций. И действительно, представление, что пирог
ограничен, и если отрезать кусок побольше, это будет означать, что кому-то
достанется меньше, всегда воспринималось большинством человечества как
вполне разумное. Казалось, что это понятие, как и идея Аристотеля о том,
что Солнце вращается вокруг Земли, согласуется с нашими ощущениями.
<...>
На самом же деле ресурсная база никогда не была ограниченной, и не только
потому, что природа ее составляющих постоянно меняется с развитием
«определяющей технологии». Если бы эта база была конечной, как бы могли
мировые запасы нефти, газа, меди, золота, серебра и других [полезных
ископаемых] возрасти за период с начала 70-х годов до конца 80-х? Даже в
рамках ранее определенных естественных ресурсов их запас постоянно
увеличивается.
Это не значит, что где-то глубоко в недрах Земли стихийно создаются новые
массы нефти, газа или меди. Количество этих ископаемых в целом
неизменно; конечно, за вычетом того, что мы израсходовали в течение
тысячелетия. Но количество ресурсов — это не то же самое, что их запасы.
Первое определяется их естественным объемом; второе — это то их
количество, о существовании которого нам известно и которое нам
физически доступно. <...>
Отсюда следует второй закон «Алхимии»:
Технология задает запасы существующих естественных ресурсов,
предопределяя как эффективность, с которой мы эти ресурсы используем, так
и способность находить, добывать, распределять и хранить их.
Что делает естественный ресурс ресурсом в отличие, скажем, от красивого
камешка или отвратительной липкой и вязкой черной жижи — это его
полезность. Возьмем, к примеру, нефть. Одно из качеств, определяющих ее
ценность, состоит в том, что мы можем путем очистки получить из нее
бензин и использовать его в двигателях автомобилей. Поэтому наиболее
точное измерение количества имеющейся нефти заключается не в
определении числа бочек, которые ею можно заполнить, а в оценке
количества километров пути, которые с ее помощью можно преодолеть.
Сколько нефти находится в недрах Земли (в баррелях или галлонах), не
имеет значения. Важнее, насколько эффективно мы используем те запасы,
которые нам известны. Даже океан нефти не принесет нам пользы, если мы
не подозреваем о его существовании. Но если мы и найдем его, но не сможем
добыть нефть, она останется столь же бесполезной. Такая же ситуация
возникнет и в том случае, если мы добудем нефть, но не сможем перевезти ее
туда, где она необходима. И даже если мы доставим ее по назначению, но не
сможем сохранить до того, как использовать, ничего не изменится.
Однако помимо всех этих ограничений важно и то, как мы ее используем.
Если у меня есть автомобиль, расходующий один галлон на десять миль, а у
вас автомобиль, который расходует один галлон на двадцать миль, то
получается, что, используя такое же количество бензина, что и я, вы сможете
проехать вдвое больше. Иными словами, даже при том, что у нас имеется
одинаковое количество бензина, ваш полезный запас вдвое больше моего.
Из этого становится ясно, что существуют два основных пути увеличения
запасов предварительно определенных естественных ресурсов: можно
совершенствовать наши способности по их обнаружению, добыче, доставке и
хранению, и можно повышать эффективность их использования.
В первом случае мы имеем дело с тем, что можно назвать «технологиями
запасов», во втором же—с «технологиями использования». Вместе они
составляют технологию, которую и рассматривает второй закон «Алхимии»,
— «количественную технологию», или технологию, определяющую
имеющееся количество естественных ресурсов.
«Технология запасов» оказывает более непосредственное влияние на нашу
ресурсную базу. Рассмотрим, как она повлияла на запасы нефти и
природного газа в течение последних двух-трех десятилетий. Начнем с того,
что развитие геологии (нашей способности находить нефть и газ) привело к
открытию в 1968 году огромного нефтяного месторождения под бухтой
Прудхо на северном склоне Аляски, в результате чего мировые запасы нефти
увеличились почти на 10 млрд. баррелей. В довершение этого
усовершенствование технологии бурения (нашей способности добывать
нефть и газ) позволило <...> бурить скважины на глубину шести и более миль
в земной коре, открыв доступ к огромным новым резервуарам. <...> В свою
очередь, совершенствование супертанкеров и развитие технологии
сооружения трубопроводов (нашей способности доставлять нефть и газ)
позволили почти сразу же начать промышленную эксплуатацию новых
месторождений. И наконец, создание относительно безопасных наземных и
подземных хранилищ дало нам возможность хранить нефть для отопления
непосредственно в городах и расположить бензозаправочные станции чуть
ли не на каждом углу.
В целом, четыре аспекта «технологии запасов» — способность находить,
добывать, доставлять и хранить полезные ископаемые — составляют своего
рода концептуальную траекторию, на которой должны находиться
естественные ресурсы, чтобы представлять для нас какую-то ценность. Наша
способность решать любую из этих задач увеличивает запасы
соответствующего ресурса.
В отношении нефти и газа самая серьезная проблема возникла в начале 90-х
годов и была связана с распределением. За последние 10—20 лет мы многого
достигли в области открытия месторождений, добычи и хранения нефти и
газа. Но, как свидетельствует страшный разлив нефти с танкера «Эксон
Вальдез» в 1989 году, изуродовавший залив Принца Уильяма у берегов
Аляски, наши возможности безопасной транспортировки нефти оставляют
желать лучшего. В результате пришлось отказаться от разработки крупных
потенциальных запасов нефти и газа на Аляске, в прибрежных водах
Калифорнии и Мексиканского залива.
То же самое можно сказать о недавно определенных естественных ресурсах.
Самым серьезным ограничителем запасов является не трудность
обнаружения, добычи или хранения ресурсов, а невозможность их
эффективной доставки туда, где они могли бы использоваться с наибольшей
отдачей.
Возможно, самой яркой иллюстрацией неспособности решить эту проблему
служит пример охваченной голодом Эфиопии. Хотя в это трудно поверить,
но раньше эта страна считалась житницей Северной Африки. Даже когда
провинции Эритреи и Тифа были охвачены засухой в начале и середине
восьмидесятых годов, основной сельскохозяйственный район Эфиопии — юг
— продолжал производить продовольствие в достаточных, если не сказать
избыточных, количествах. К сожалению, отсутствие хороших дорог и
транспортных средств, не говоря уже о промарксистски настроенном
правительстве, которое пыталось подавить восстание в Эрит-рее, не
позволяло осуществлять поставки на север, где в них отчаянно нуждались.
В 1985 году на международном уровне были предприняты
крупномасштабные меры помощи голодающим на севере страны. В
результате этих акций более 500 тыс. тонн зерна были отправлены в
Эфиопию, однако накормить удалось только немногих голодающих.
Случилось так, что большая часть зерна сгнила на складах восточного
побережья в городах Ассаб, Массава и Джибути. К своему ужасу, работники
благотворительных служб обнаружили, что страна нуждалась не столько в
продовольствии, сколько в грузовиках и дорогах.
Конечно, развитие технологии запасов — не единственный способ
расширения базы имеющихся естественных ресурсов. <...> Классическим
примером того, как ресурсную базу может расширить развитие технологии
использования, является реакция автомобильной промышленности на так
называемый дефицит топлива в начале 70-х годов. Заменив
трехсотдолларовые карбюраторы на 25-долларовые автоматические
инжекторы, автомобилестроители удвоили эффективность потребления
горючего в новых моделях машин менее чем за десять лет, одновременно
снизив среднее потребление горючего у всех автомобилей более чем на 35%
(в среднем с 13,5 мили на галлон в 1976 году до более чем 18,3 мили на
галлон в 1986 году)5. Тем самым они фактически увеличили запасы бензина
более чем на треть.
Аналогичным образом, разрабатывая более совершенные изоляционные
материалы, <...> строители значительно повысили эффективность обогрева и
кондиционирования
домов.
В
результате
бытовое
потребление
электроэнергии в Соединенных Штатах должно, по оценкам, сократиться на
50% к 2005 году, фактически удвоив запасы энергоресурсов, используемых
для производства электроэнергии6.
Какими бы впечатляющими ни казались эти выгоды, по сравнению с
технологией запасов технология использования всегда отодвигалась на
задний план. До того как в начале 70-х мир охватила боязнь дефицита,
инженеры и предприниматели, как правило, считали, что самый простой
способ увеличения ресурсной базы заключается в том, чтобы открыть новые
месторождения, приобрести и обработать больше пахотных земель и т. д.
Исключение составлял военный период, когда искусственно создаваемый
дефицит вынуждал людей искать способы наиболее эффективного
использования уже имеющихся ресурсов. Во время второй мировой войны,
например, когда правительство ввело ограничения на олово, американские
производители
вышли
из
положения,
разработав
новую
электрогальваническую технологию, в результате чего потребности в олове
снизились почти на две трети. Но эти уроки были практически забыты, когда
война закончилась, а доступ к недостающим ресурсам восстановился.
То же самое происходит и сегодня. Основной причиной, по которой
производители автомобилей по-прежнему стремятся повысить их
экономичность, является не боязнь очередного периода дефицита бензина, а
обеспокоенность загрязнением окружающей среды (или, если посмотреть на
это с другой стороны, неэкономичные двигатели угрожают создать дефицит
ресурса, который люди считают более ценным, чем бензин, а именно —
чистого воздуха). В любом случае, чем меньше люди боятся дефицита, тем
ниже стимул разрабатывать более эффективные методы использования
имеющихся естественных ресурсов. В результате технология использования
никогда не применяется на сто процентов.
Однако даже временная попытка совершенствования технологии
использования может дать значительные и длительные результаты. Так,
достижения, которым способствовал энергетический кризис 70-х годов, не
случайно названный президентом Джимми Картером «морально
равнозначным войне», в 80-е годы обеспечили сокращение потребления
энергии на единицу валового национального продукта во всем мире на одну
пятую. В результате мировой спрос на нефть снизился на 7% за период с
1979 по 1987 год, несмотря на то, что в 1987 году и население, и объем
промышленного производства значительно возросли. Цифры для США еще
более впечатляют: за пятнадцать лет после нефтяного кризиса 1973 года
Америка на треть сократила потребление энергоносителей на доллар ВНП, в
результате чего страна смогла снизить абсолютное потребление нефти на
15%7.
Более того, по сведениям Международного агентства по энергетике, за счет
полного использования уже сделанных открытий, даже без новых
достижений в области технологии, мировое потребление энергии на единицу
ВНП должно к 2000 году сократиться еще на 30%*. Другими словами, только
в результате достижений в области технологии использования, появившихся
в течение 80-х годов, полезные запасы энергетических ресурсов будут в 2000
году на 50% выше, чем в 1980-м. В целом же, как отмечает Управление
технологической экспертизы США в своем сенсационном отчете за 1988 год
— «Технология и переходный период в американской эко- номике»,
«оптимальное использование новой технологии могло бы обеспечить
снижение [спроса на] природные ресурсы на 40—60% даже при быстром
экономическом росте»8. <...>
Согласно первому и второму законам «Алхимии», база наших естественных
ресурсов, а соответственно, и наше благосостояние определяются развитием
технологии. Но что же определяет само это развитие?
Данный вопрос приводит нас к осознанию самого важного, третьего, закона
«Алхимии», объясняющего, в чем скрыт источник технологического
прогресса, а следовательно, и дающего ключ к повышению благосостояния.
Успехи в области науки и техники не возникают, да и не могут возникнуть, в
изоляции. Они зависят от способности ученых и инженеров идти в ногу с
последними достижениями, обмениваться информацией и учиться на опыте
других. Как сказал когда-то Исаак Ньютон, «если я и видел дальше других,
то только потому, что стоял на плечах гигантов». Не имея доступа к работам
Николая Коперника, Галилео Галилей никогда не мог бы узнать, как
использовать свои наблюдениям за спутниками Юпитера. Не зная об
уравнениях поля, выведенных блестящим шотландским физиком XIX века
Джеймсом Клерком Максвеллом, итальянский инженер двадцатого столетия
Гульельмо Маркони не смог бы изобрести радио, а Альберт Эйнштейн не
создал бы свою теорию относительности.
Короче говоря, темпы технологического прогресса зависят от того, насколько
широко доступны для членов общества знания и насколько люди могут
делиться ими, т. е. от уровня развития технологии обработки информации.
Таким образом, мы подходим к третьему закону «Алхимии»:
Скорость, с которой развивается технология в обществе, определяется
относительным уровнем его способности усваивать и обрабатывать
информацию.
Хотя это давно было известно, эта прописная истина никогда не проявлялась
так явно, как в течение последних десятилетий. Мы живем в эпоху веры в
абсолютную ценность информации, <...> эпоху, которая иногда величает себя
даже «веком информации». И действительно, к концу 80-х годов обработка,
передача информации и операции с нею были основным занятием каждого
четвертого работающего в США, или даже каждого третьего, если считать
учителей и других работников сферы образования. Аналогичным образом, с
началом последнего десятилетия нынешнего века более сорока процентов
всех новых капиталовложений в производство и оборудование были сделаны
в сфере информационных технологий (компьютеры, фотокопировальные и
факсимильные аппараты и тому подобное) — это в два раза больше, чем
десять лет назад. Бывший министр финансов США У. Майкл Блюменталь так
резюмировал это в 1988 году в статье, озаглавленной «Мировая экономика и
изменения в технологии»: «Информация, — писал он, — стала
рассматриваться как ключ к современной экономической деятельности —
базовый ресурс, имеющий сегодня такое же значение, какое в прошлом
имели капитал, земля и рабочая сила»9.
Объем имеющейся у нас информации с каждым днем увеличивается все
быстрее. За последнее столетие мы добавили к общей сумме знаний больше,
чем за всю предыдущую историю человечества. Но, так же, как и в случае с
другими ресурсами, нахождение или разработка новой информации —
только полдела. Какой смысл открывать новые факты о Вселенной, будь то
основной закон природы или усовершенствованный метод изготовления
жевательной резинки, если тот, кто может воспользоваться этой
информацией, никогда ее не получит?
Как и любой другой ресурс, информация полезна только в том случае, если
мы можем доставить ее туда, где она необходима. Таким образом,
«относительное преимущество той или иной страны заключается в ее
способности
эффективно
использовать
новую
информационную
технологию»10.
С точки зрения «Алхимии», значение технологии обработки информации
очевидно. Если информация является самым важным из имеющихся в нашем
распоряжении ресурсов (поскольку от него зависит развитие технологии), то
технология обработки информации становится важнейшей из имеющихся у
нас технологий.
Первым серьезным прорывом в области технологии обработки информации
было изобретение и развитие письменности пять-шесть тысячелетий назад.
До изобретения письменности идеи могли передаваться только устно.
Помимо прочего, это означало, что пока вы лично не встретитесь с
конкретным человеком, которому принадлежат новая концепция или
открытие, о его работе вы, в лучшем случае, узнаете из вторых рук, и
поэтому ваши знания могут оказаться неточными. <...> Хотя устные
традиции человечества, несомненно, богаты <...>, таким путем информацию
никогда не удавалось распространить достаточно быстро, широко и точно.
Изобретение письменности стало ключевым элементом экономической базы
древней цивилизации. Хотя сегодня мы нередко думаем о письменности как
о средстве выражения личных чувств или художественного слова, ее ранние
примеры, такие, как глиняные дощечки с клинописью самаритян и жителей
Вавилона, представляют собой деловые расписки и правительственные
документы, летописи или описания методов земледелия.
Следующий важный шаг в развитии возможностей обработки информации
был сделан в средние века, когда Гутенберг изобрел печатный станок11. До
этого единственным способом тиражирования письменных материалов было
воспроизведение текста от руки — дорогостоящий и длительный процесс,
резко ограничивавший круг людей, которым автор мог сообщить знания.
Переписывание сказывалось и на точности передачи знаний, поскольку в
ходе многократного копирования текста в него непременно вкрадывались
ошибки. [Именно] печатный станок [принес с собой] массовое производство
и стандартизацию процесса обработки информации, проложивших дорогу
промышленной революции.
В наш век мы стали свидетелями третьего открытия в области обработки
информации: появления компьютера, наиважнейшего изобретения
современности.
Говоря о компьютерах, мы чаще всего имеем в виду их быстродействие. Как
отмечал Блюменталь, «в семнадцатом веке Иоганну Кеплеру понадобилось
четыре года, чтобы рассчитать орбиту Марса. Сегодня микропроцессор
делает это всего за четыре секунды»12. Однако основное достоинство
компьютера состоит не в том, что он может молниеносно производить
вычисления. Какую бы ценность ни представляла собой эта способность,
сама по себе она может стать как благословением, так и проклятием,
поскольку, расширяя наши знания, она в то же время повергает нас в пучину
новых информационных потоков.
Что делает компьютер поистине важным изобретением, так это его
способность обрабатывать результаты вычислений под управлением
человека, а именно сортировать и сопоставлять данные, связывать разные
слои общества сложными коммуникационными сетями, осуществлять
передачу информации по этим сетям в любое место на земном шаре, где она
необходима.
В результате этих свойств широкое внедрение компьютеров не только
вызвало информационный бум, но и дало нам средства справиться с этим
сокрушительным потоком. Тем не менее, нам по-прежнему лучше удается
производить новую информацию, чем оценивать ее и обмениваться ею.
Технологии развиваются так стремительно и охватывают столько областей,
что сегодня основным фактором, ограничивающим изобретения, является не
столько способность инженеров и предпринимателей выступать с новыми
идеями, сколько их способность быть в курсе последних достижений в
других областях, лежащих за пределами его узкой специализации, и умение
воспользоваться этими достижениями.
Именно в этом заключен способ увеличения размеров пирога. От того,
насколько мы сможем усовершенствовать свою способность обрабатывать
информацию, зависит скорость развития технологии в целом. Чем быстрее
развивается технология, тем выше ее возможности — как в увеличении
полезных запасов существующих естественных ресурсов, так и в
определении совершенно новых их видов, и в результате мы становимся
богаче и богаче.
Что же значат слова о том, что благодаря современным технологиям мы
получаем доступ к неограниченным запасам ресурсов? Прежде всего, это
означает, что накопление ресурсов уже не является ключом к достижению
благосостояния.
Такой урок получили компании, попытавшиеся воспользоваться страхом
перед оскудением ресурсов, охватившим мир в начале и середине 70-х. В
1974 — 1975 годах появилось не менее восьми новых картелей,
объединявших экспортеров из стран «третьего мира», которые считали, что
способны диктовать цены и объемы поставок основных товаров — от
бананов до бокситов, меди, каучука, древесины и вольфрама. В 1978 году
была даже предпринята попытка создать организацию, которая
координировала бы ценообразование в отдельных подобных группах. Но к
середине 80-х все эти картели были вытеснены с рынка. То же самое
произошло и с ОПЕК, когда-то предметом ненависти индустриального мира.
Главной логической ошибкой, допущенной этими картелями, было
предположение, что промышленно развитые страны не смогут выжить без
товаров, поставляемых ими, и что потребители будут готовы заплатить
любую цену, лишь бы поставки не прерывались.
На самом же деле по мере роста цен потребители начали оглядываться
вокруг в поисках субститутов, которые они могли отыскать с помощью
средств и методов, предоставляемых технологией. Например, когда картель,
поставляющий олово, в начале 80-х годов взвинтил цены до рекордной
цифры в 12 тыс. долл. за тонну, потребители дружно перешли на алюминий,
стекло, картон и пластмассы. Еще в 1972 году 80% банок для
прохладительных напитков в Америке изготовлялось из жести, к 1985 году
практически все пивные банки в США и 87% банок для безалкогольных
напитков делались из алюминия. Всего же из-за жадности производителей
мировое потребление олова сократилось за период с 1980 по 1985 год на
15%13.
Аналогичным образом, с повышением цен на медь в 70-е годы
промышленность
телекоммуникаций
стала
ускоренными
темпами
разрабатывать новые технологии, такие, как волоконная оптика, не
зависевшие от медных проводов и кабелей. В результате к концу 80-х годов
телефонные компании США проложили на 1,5 млн. миль больше волоконнооптических кабелей, и как минимум два отделения районного обслуживания
компании «Белл» объявили о сво- ем намерении полностью заменить медные
кабели волоконно-оп-тическими сетями в течение следующих двадцати
лет14.
Из этого следует извлечь серьезный урок, а именно: в мире «Алхимии»
рынок не имеет углов.
В то время как старомодный экономист пытается загнать рынок в угол,
сыграв на наиболее ценных сырьевых товарах, «алхимик» доказывает, что
коммерческие предприятия, пытающиеся сыграть на дефиците, обречены.
Когда дело доходит до оценки стоимости товаров, «алхимик» становится
настоящим фундаменталистом. Он знает, что в мире практически
неограниченных ресурсов, поскольку мало каким из них нельзя найти
замену, конкретное сырье не стоит тех денег, которые потребитель, как
выясняется, готов за него платить. Конечно, цена, устанавливаемая рынком,
является классическим экономическим определением стоимости. Но мир, в
котором мы живем, уже перестал быть классическим. В мире «Алхимии»
рыночная цена отражает только спекулятивную стоимость товара.
«Алхимика» же, наоборот, интересует фундаментальная производственная
ценность (fundamental productive value), т. е. цена товара в отношении к цене
других благ, которые могут быть использованы с той же целью. Если эта
цена завышена, платить ее не стоит.
Производственная ценность товара аналогична балансовой стоимости
активов компании. Последняя основывается не на представлении фондового
рынка, которое частично зависит от результатов анализа, частично от
эмоциональных ощущений, а на строгом учете наличности, которую могут
принести активы, если будут распроданы по отдельности. В 80-е годы новое
поколение головорезов с Уолл-Стрит изменило соотношение сил среди
корпораций, сколотив на этом состояние. Они уничтожали (или грозились
уничтожить) компании, рыночная цена которых была ниже их балансовой
стоимости. Так же в 90-е годы и позже «алхимики» будут изменять
соотношение в сфере ресурсов, все больше перенося акцент на
фундаментальную производственную ценность сырья.
Рассмотрим конкретный пример. Предположим, что в зубоврачебной
практике используется одна унция золота. И предположим, что разработан
синтетический материал стоимостью 250 долл., который может быть
применен для тех же целей. Хотя золото продается на рынках по 400 долл. за
унцию*, «алхимик» считает, что его полезная стоимость для данного
конкретного применения составляет 250 долл. за унцию. Если бы золото
больше нигде не использовалось, то, по оценкам «алхимика», его цена
постепенно снизилась бы до этого фундаментального уровня. Однако,
поскольку конкретный товар имеет, как правило, много применений, его
реальная производственная ценность обычно представляет собой среднее
арифметическое нескольких разных величин производственной ценности для
различных целей.
Рассмотрим аналогичный пример. Предположим, что вам надо сжечь 400
галлонов печного топлива, чтобы обогревать дом в течение года. Если
стоимость печного топлива составляет 1 долл. за галлон, то ваш счет за год
составит 400 долл. Но как вы вычислите производственную ценность
печного топлива? Она будет зависеть от цены на его заменители. Допустим,
что стоимость обогрева дома природным газом в течение года составит 500
долл. В этом случае «алхимик» будет считать, что полезная стоимость
топлива составляет 1,25 долл. за галлон и что его цена будет постепенно
расти, приближаясь к этому уровню (конечно, с учетом изменений цены на
природный газ и, что более важно, любых изменений в технологии, от
которой зависит количество имеющегося в наличии топлива обоих видов).
Когда речь заходит о ресурсах, «алхимик» никогда не забывает, что это
рынок покупателя, а в результате развития технологии почти не осталось
видов сырья, которым нельзя было бы найти заменителей. Поэтому при
таком положении вещей ни один из сырьевых ресурсов не является слишком
уж важным, а реальная стоимость любого сырья определяется в такой же
степени ценой и наличием его потенциальных заменителей, как и его
собственными [издержками и] наличием.
Если накопление не является больше ключом к достижению благосостояния
в современном мире, то где же тогда этот ключ? В 60-е годы фильм
«Выпускник» ответил на этот вопрос одним словом — «пластмассы». В 90-е
годы мы предлагаем другой ответ (хотя и не менее сжатый) —
«распределение».
В наши дни в результате влияния технологий на цену рабочей силы и сырья
стоимость практически каждого произведенного изделия упала. В
большинстве случаев это произошло из-за того, что фактическая
себестоимость изделия снизилась до уровня, составляющего, как правило,
менее 20% розничной цены. К концу 80-х годов, например, совокупные
издержки на сельскохозяйственное сырье и сельскохозяйственную рабочую
силу составляли менее 15% цены, которую брали за продукты питания с
покупателей в магазинах и с посетителей ресторанов. Аналогичным образом,
только около 17% стоимости готовой одежды составляли затраты на
производство ткани и оплата труда, необходимого, чтобы раскроить и сшить
одежду нужного фасона. Большую часть оставшихся 80% составляют
издержки распределения. Распределение заняло такую непомерно большую
часть общей цены товара, потому что его издержки снижались медленнее,
чем себестоимость. Разница в снижении [отдельных составляющих)
стоимости отражает тот факт, что, за редким исключением, нам приходится
применять к сетям распределения те достижения технологии, которые уже
весьма основательно видоизменили остальные элементы производственной
сферы.
Это не означает, что у нас отсутствуют необходимые знания. На самом деле
во многих случаях соответствующая технология давно уже имеется. Так,
дистрибьюторы продуктов питания в Америке могли бы увеличить
производительность
на
50%,
просто
воспользовавшись
такими
распространенными преимуществами уже существующих технологических
новшеств, как автоматические погрузо-разгрузочные устройства. Точно так
же американские производители одежды могли бы снизить затраты на
инвентаризацию запасов в два раза, если бы использовали принципы
системы управления, известной как «быстрое реагирование».
Между тем перемены в распределении потенциально могут принести гораздо
большую экономию, чем усовершенствования в любой другой области.
Предположим, что вы руководите компанией, производящей продукцию,
продажная цена которой составляет 100 долл. По нашим подсчетам, 20 долл.
из этой суммы будет приходиться на производственные затраты (а именно —
стоимость рабочей силы и материалов), в то время как остальные 80 долл.
будут отражать издержки распределения. Если стоимость производства
уменьшится на 20% в результате, скажем, перевода вашей фабрики на
Дальний Восток, то окончательная цена готовой продукции снизится на
четыре доллара. А если уменьшатся на 20% затраты на доставку, то
окончательная цена снизится на 16 долл. Другими словами, увеличение
производительности доставки дало бы экономию в четыре раза больше, чем
производства.
На самом деле разница будет еще большей, поскольку перевод фабрики на
Дальний Восток неизбежно вызовет увеличение стоимости доставки, которая
в итоге перечеркнет всю экономию, достигнутую при производстве. Вот
почему сборка львиной доли телевизоров «Сони» и автомобилей «Ниссан»,
приобретаемых американскими потребителями, в настоящее время
осуществляется в США, а не в других странах, хотя стоимость рабочей силы
там может быть ниже.
«Мы считаем очевидным, что все люди созданы равными» — когда Томас
Джефферсон писал эту фразу, он, конечно, не имел в виду потенциальных
работников. И действительно, с точки зрения работодателей, которые
добровольно выплачивают ежегодно 8 тыс. долл. заработной платы одному и
800 тыс. долл. — другому, ничего не может быть дальше от истины, чем это
высказывание.
С момента зарождения промышленной революции и по сей день, с этой
точки зрения, люди становились все более и более неравными. И все же,
оценивая вложенный в производство труд, классическая экономическая
теория обычно полагала, что производительность труда каждого рабочего
остается неизменной в течение данного периода времени.
В 1936 году Джон Мейнард Кейнс понял, что это не так. Давая определение
единице труда в своей книге «Общая теория занятости, процента и денег», он
отказался от таких классических в то время единиц измерения труда как
человеко-час и человеко-день, отметив существующую значительную
разницу в квалификации отдельных рабочих15. На место этих единиц Кейнс
поставил доллар заработной платы, предположив, что «[в условиях
свободного рынка] сумма выплачиваемого рабочим вознаграждения
находится в пропорциональной зависимости от производительности их
труда»16. Для него производительность труда человека, зарабатывающего 10
долл. в час за выполнение определенной операции, в два раза превышает
производительность труда работника, получающего 5 долл. в час за
выполнение той же операции. Сегодня это кажется нам очевидным, но в то
время признание факта, что труд не является однородным товаром, явилось
серьезным переворотом в сознании.
Вопрос, которому Кейнс не придавал особого значения в то время, — почему
один рабочий может производить вдвое больше другого и что каждый из нас
может сделать, чтобы стать таким рабочим, — сегодня является для • нас
наиболее важным. Ответ на него можно найти, если изучить ту же мощную,
вездесущую и недооцениваемую силу, которая помогла найти объяснение
технологии снабжения естественными ресурсами.
В классической экономике производство товаров и услуг определяется
«функцией производства» — количеством необходимых для этого единиц
труда и капитала. Целью является максимизация производства (минимизация
затрат) путем выбора их оптимального сочетания. Обычно исходят из того,
что изменение технологии представляет собой постоянную величину. Но
«Алхимия» учит нас, что в процессе выработки решений мы не можем
принимать подобного допущения. Технология является третьим измерением
функции производства, переменной, оказывающей наибольшее влияние,
поскольку она определяет базовую стоимость капитала. И, как мы увидим
ниже, технология имеет такое же значение при определении базовой
стоимости труда. <...>
Труд, так же, как капитал, будь то естественные ресурсы или машины,
определяется и управляется технологией. Труд не только реагирует на
инвестиции, так же, как и капитал; в мире «Алхимии» капитал все больше
замещает труд. Перефразируя Джона Кеннета Гэлбрейта, провозгласившего,
что в обществе изобилия нет смысла проводить различие между предметами
роскоши и предметами необходимости, можно сказать, что в обществе
«Алхимии» нет смысла проводить различие между трудом и капиталом.
Действительно, с точки зрения принятия решений труд есть капитал.
В классической экономической теории все товары и услуги рассматривались
как созданные сочетанием труда и капитала. Однако по мере внедрения
автоматизации происходило неуклонное снижение доли труда в готовой
продукции.
Например, в 1920 году издержки на производство механических часов
составляли 100 долл. и могли состоять наполовину из разнообразных затрат
на рабочую силу (т.е. часовщику выплачивалось по 50 долл. за каждые
сделанные часы) и наполовину из капитальных затрат (25 долл.
фиксированных затрат, которые должны были уплачиваться независимо от
того, были ли произведены часы, и 25 долл. переменных затрат, начисляемых
только по каждым выпущенным часам). В течение последующих пятидесяти
лет для снижения затрат и сохранения конкурентоспособности специалисты
рационализировали
и
модернизировали
процесс
производства,
автоматизируя или ликвидируя максимальное количество операций. В
результате 10 долл. стоимости производства механических часов в 1970 году
включали только 2 долл. затрат на рабочую силу и 8 долл. капитальных
затрат. К 1980 году производители перешли на цифровые кварцевые часы и
построили полностью автоматизированную сборочную линию, где процесс
их изготовления осуществлялся практически без участия человека. Благодаря
этому себестоимость часов (1,25 долл.) уже практически не включала затрат
на рабочую силу, а состояла полностью из капитальных затрат. <...>
Сегодня многие товары производятся с применением автоматизированных
методов производства, практически не включающих затрат на рабочую силу.
Поскольку стоимость квалифицированного труда растет, а цены на станки с
автоматическим управлением снижаются, компании все больше склоняются
к замене отдельных операций, выполняемых человеком, машинными
операциями и проектируют методы производства, в которых участвуют
больше машин и меньше людей.
Замена рабочих машинами пугает многих людей. Некоторые из них, часто
называемые луддитами по аналогии с английскими рабочими, ломавшими
текстильное оборудование в начале XIX века17, обеспоко- сны тем, как
будут влиять на общество те, кто лишился работы в результате развития
технологии. Но их страхи необоснованны, потому что каждый раз, когда
человек заменяется машиной, общество в целом не становится беднее, а,
наоборот, богатеет.
Возьмем остров, на котором живут десять человек, занимающиеся рыбной
ловлей с общественной лодки. Появляется новый, лучший в технологическом
отношении способ ловли, например, с использованием большой сети вместо
десяти отдельных удочек. Теперь два рыбака, один из которых управляет
лодкой, а другой забрасывает сеть, могут поймать столько же рыбы, сколько
десять рыболовов со своими удочками. На первый взгляд безработица на
нашем гипотетическом острове возросла с нуля до 80%, поскольку восемь из
десяти рыболовов теперь лишились работы. Тем не менее, хотя восемь
человек больше не работают, благосостояние общества в целом осталось на
том же уровне, поскольку теперь два рыбака, пользуясь сетью, ловят столько
же рыбы, сколько обычно ловили десять человек, пользуясь удочками.
То же самое происходит каждый раз, когда в результате совершенствования
оборудования или технологии человек теряет работу. Общество в целом
остается таким же богатым, потому что оно продолжает получать продукт
труда рабочего, лишившегося своего места (теперь его работу выполняет
машина), и может стать даже богаче, когда временно вытесненный рабочий
найдет себе новую работу, что увеличит валовой национальный продукт.
Давайте теперь вернемся к нашему острову, который должен кормить и
одевать восемь безработных рыболовов. У островного общества есть два
пути: либо взимать с двух рыбаков налоги и распределять 80% выловленной
ими рыбы между безработными, либо помочь восьмерым безработным найти
новую работу, что способствовало бы росту общественного благосостояния.
Каким смешным ни казался бы сегодня первый вариант, именно увеличение
предельной ставки налога с производителей было обычной реакцией в
течение этого столетия, когда в результате развития технологии некоторые
оказывались гораздо богаче своих соседей.
Массовое повышение производительности наблюдается как раз сегодня в
нашем «алхимическом» мире. Но это не привело к росту безработицы
потому, что там, где спрос неограничен, мы сталкиваемся с неутолимой
потребностью в рабочей силе, необходимой Для производства новых товаров
и новых услуг.
Важно понимать, однако, что многие рабочие места, <...> которые имеются
сегодня, завтра могут стать ненужными. Например, программисты могут
быть
уверены,
что
появятся
программы,
облегчающие
само
программирование, в результате чего компании смогут обходиться меньшим
числом сотрудников для выполнения тех же задач. Квалифицированные
сварщики могут не сомневаться, что для выполнения их работы вскоре
изобретут роботов или создадут новый производственный процесс, при
котором не будет необходимости в сварке.
В какой бы отрасли ни выполнялась та или иная работа, рано или поздно
смышленый «алхимик» придумает, как заменить человека машиной или
сократить потребность в рабочей силе. Когда это произойдет, перед
обществом встанет задача как можно скорее снова найти полезное занятие
для безработного. Как только замененный автоматом рабочий найдет новое
место, благосостояние общества в целом увеличится.
Таким образом, в мире «алхимии» благосостояние увеличивается путем
уничтожения нерентабельных рабочих мест и создания новых, более
производительных. По мере развития технологии ликвидируются [целые
профессии]; тем не менее валовой национальный продукт остается
неизменным, поскольку общество по-прежнему получает товары и услуги в
результате операций, которые теперь выполняются машиной. А когда
вытесненный рабочий находит новую работу, валовой национальный
продукт увеличивается, и благосостояние общества значительно возрастает.
Это «алхимический» процесс, при котором наше реальное благосостояние
возрастает экспоненциально.
* - Weizsaecker E., van, Lovins A.B., Lovins L.H. Factor Four. Doubling Wealth
— Halving Resource Use. L., Earthscan Publications Ltd., 1997. Copyright —
Weizsaecker E., von, Lovins А. В., Lovins L.H. 1997. Текст воспроизводится с
согласия Э. фон Вайцзеккера.
1 - См.: Meadows D.H., Meadows D.L, Randers J. Behrens III, W.W. The Limits
to Growth. N.Y., 1972.
2 - Мы называем так эту модель потому, что существовали также модели
World 1 и World 2. World 1 была первоначальной версией, разработанной
профессором Массачусетсского технологического института Дж.Форестером
в рамках проводившегося Римским клубом исследования взаимозависимости
между глобальными тенденциями и глобальными проблемами. World 2
является окончательной документированной моделью, представленной
профессором Дж.Форестером в книге: Forester J. World Dynamics. N.Y., 1971.
Модель World 3 была создана на базе World 2, в первую очередь как
следствие изменения ее структуры и расширения количественной базы
данных. Мы должны отметить, что профессор Дж.Форестер является
безусловным вдохновителем данной модели и автором используемых в ней
методов.
3 - См.: Meadows D.H., Meadows D.L., Renders J. Behrens III, W.W. The Limits
to Growth. P. 24.
4 - Vargish Th. Why the Person Sitting Next to You Hates Limits to Growth //
Technological Forecasting and Social Change. Vol. 16. 1980. P. 187-188.
5 - См.: Pipes D. In the Path of God: Islam and Political Power. N.Y., 1983. P.
102-103, 169-173.
6 - [Автор приводит слова византийской принцессы Анны Комнин].
Цитируется по кн.: Armstrong К. Holy War: The Crusades and Their Impact on
Today's World. N.Y., 1991. P. 3-4, и Toynbee A. Study of History. Vol. VIII. L,
1954. P. 390.
7 - Buzan B.G. New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century //
International Affairs. No 67. July 1991. P. 448-449.
* - Weizsaecker E., van, Lovins A.B., Lovins L.H. Factor Four. Doubling Wealth
— Halving Resource Use. L., Earthscan Publications Ltd., 1997. Copyright —
Weizsaecker E., von, Lovins А. В., Lovins L.H. 1997. Текст воспроизводится с
согласия Э. фон Вайцзеккера.
8 - Lewis В. The Roots of Muslim Rage: Why So Many Muslims Deeply Resent
the West and Why Their Bitterness Will Not Be Easily Mollified // Atlantic
Monthly. No 266. September 1990. P. 60.
9 - Mohamed Sid-Ahmed. Cybernetic Colonialism and the Moral Search // New
Perspectives Quarterly. No. 11. Spring 1994. P. 19; [мнение индийского
политического деятеля М.Дж.Акбара цитируется no) Time. 1992. June 15. Р.
24; [позиция тунисского правоведаАбдельвахаба Бёльваля представлена в]
Time. 1992. June 15. Р. 26.
10 - McNeil W.H. Epilogue: Fundamentalism and the World of 1990's; Marty
M.E., Scott Appleby R. (Eds.) Fundamentalisms and Society; Reclaiming the
Sciences, the Family, and Education. Chicago, 1992. P. 569.
11 - Mernissi F. Islam and Democracy: Fear of the Modem World. Reading (MA),
1992. P. 3, 8, 9, 43-44, 146-147.
12 - Подборка подобных высказываний приведена в журнале «Economist».
1992. August 1. Р. 34-35.
13 - См.: International Herald Tribune. 1994. May 10. Р. 1, 4.
14 - Ayatollah Ruhollah Khomeini. Islam and Revolution. Berkeley (CA), 1981. P.
305.
* - Weizsaecker E., van, Lovins A.B., Lovins L.H. Factor Four. Doubling Wealth
— Halving Resource Use. L., Earthscan Publications Ltd., 1997. Copyright —
Weizsaecker E., von, Lovins А. В., Lovins L.H. 1997. Текст воспроизводится с
согласия Э. фон Вайцзеккера.
15 - Economist. 1991. November 23. Р. 15.
16 - Keynes J.M. The General Theory of Employment, Interest, and Money. P. 42.
<%page 425>
17 - Сейчас луддитами стали называть всех, кто выступает против
технического прогресса, в то время как изначально луддиты (названные так
по имени выдуманного ими мифического предводителя, короля Лудда из
Шервудского леса) разрушили текстильные станки в знак протеста как
против низкой заработной платы и тяжелых условий труда, так и против
технических нововведений.
Оглавление
Новая постиндустриальная волна на Западе
Оглавление
Лейф Эдвинссон, Майкл Мэлоун. Интеллектуальный капитал. Определение
истинной стоимости компании
Лейф Эдвинссон и Майкл Мэлоун— соавторы представляемой читателю
книги об интеллектуальном капитале— являются признанными во всем мире
пионерами изучения данного явления, одного из важнейших для понимания
современной экономической реальности. Л.Эдвинссон занимает пост члена
совета директоров известной шведской финансовой корпорации «Скандия»,
которая под его руководством первой в мире после нескольких лет
уникальных исследований в мае 1995 года опубликовала годовой отчет по
использованию интеллектуального капитала; М.Мэлоун широко известен
своими работами в области организации современного бизнеса,в частности—
книгой «Виртуальная корпорация» (1994), которая стала бестселлером в
США и Англии.
Книга «Интеллектуальный капитал» (1997) занимает особое место среди
иных работ в этой области прежде всего благодаря четкости
сформулированных в ней определений и выводов, а также тому, что
большинство выдвигаемых авторами положений не только подкреплено
данными прикладных социологических исследований, но и реально
используется в практике современных корпораций,
Основное внимание в книге уделяется проблеме четкого определения
интеллектуального капитала как теоретической категории и исчислению его
доли в рыночной стоимости той или иной компании. Эта задача
представляется исключительно актуальной в условиях современной
информационной экономики, когда цены на фондовом рынке растут гораздо
быстрее, чем реальные результаты хозяйственной деятельности той или иной
корпорации. Авторы придерживаются весьма широкой трактовки
интеллектуального капитала, относя к нему фактически все виды не
поддающихся традиционным оценкам ресурсов современной корпорации.
Выделяя в пределах интеллектуального капитала «человеческий» капитал
(human capital) и «структурный» капитал (structural capital), Эдвинссон и
Мэлоун отмечают, что каждая из этих форм «капитала» порождена
человеческими знаниями и именно их совокупность определяет скрытые
источники ценности, наделяющие компанию нетрадиционно высокой
рыночной оценкой.
Весьма интересен ряд теоретических выводов, сделанных в контексте
исследования возможностей отражения интеллектуального капитала в
рамках традиционных систем хозяйственного учета. В частности, вывод о
том, что интеллектуальный капитал как один из важнейших источников
ценности компании порожден ресурсом, которым компания не в состоянии
владеть, а именно ее работниками. Таким образом, заключают Эдвинссон и
Мэлоун, интеллектуальный капитал, обеспечивая высокие рыночные
показатели деятельности компании, не является ее активом. Данное
положение чрезвычайно важно, так как оно отражает ту степень
субъективности и условности, которую имеют современные оценки на
фондовом рынке. Относя интеллектуальный капитал скорее к пассивам
компании, авторы вынуждены признать, что в качестве актива ему
противостоит в первую очередь «добрая воля» (goodwill) агентов рынка,
оценивающих потенциал компании; таким образом, вполне четко
объясняется, в какой мере с развитием информационного общества растет и
будет расти отрыв рыночной стоимости фирм от цены их балансовых
активов.
Между тем рост этого отрыва, обосновываемый авторами, сам по себе не
является ни положительным, ни отрицательным явлением; задача экономиста
заключается прежде всего в том, чтобы спрогно-зировать его, то есть с
максимальной точностью рассчитать рыночную цену корпорации. В этом
отношении весьма интересными для специалистов могут стать конкретные
методы количественной оценки интеллектуального капитала и его
стоимости, разработанные Эдвин-ссоном и Мэлоуном. Дополнительную
значимость придает им и то обстоятельство, что основные теоретические
выводы подкреплены описанием практического применения разработанных
методик; не случайно книга в значительной мере представляет собой
переработанный отчет фирмы «Скандия» по проблемам использования
интеллектуального капитала.
Книга Эдвинссона и Мэлоуна имела очень большой резонанс в кругах
специалистов по современному менеджменту и теории корпорации. Включая
фрагменты из нее в наш сборник, мы руководствовались прежде всего этим
oбcmoяmeльcmвoм. Между тем приходится отметить, что книга посвящена
принципам современного западного бизнеса и написана для западных
бизнесменов. В российских условиях предлагаемые авторами методы оценки
интеллектуального капитала вряд ли могут быть широко применены на
практике. Поэтому выбор фрагментов обусловлен вниманием к поднятым в
книге методологическим проблемам. В результате мы остановились на
отрывках из главы 1 — «Скрытые источники ценности», главы 2 —
«Скрытые возможности корпорации», главы 6 — «Реальное богатство: взгляд
потребителя», главы Л — «Общие ценности» и главы 12 — «Рынок
будущего» (данные тексты соответствуют стр. 2—3, 10—12, 19—20, 21—22,
23— 25, 31—34, 92—94, 173—174, 199-201 в издании Harper Business). Более
подробно достоинства и недостатки данной работы рассмотрены нами в
рецензии (см.: Иноземцев В. В поисках источника богатства // Мировая
экономика и международные отношения. 1998. № 3. С. 151-153).
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
КАПИТАЛ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ИСТИННОЙ
СТОИМОСТИ КОМПАНИИ*
Между любой рыночной концепцией и реальностью бухгалтерской
отчетности всегда существовали расхождения. Сегодня они перерастают в
серьезные противоречия. Из этого следует вывод, что мы имеем дело не с
временной аберрацией, а с системным дефектом применяемого нами метода
определения стоимостных параметров. Налицо разительное несоответствие
между картиной, нарисованной в балансовых отчетах компаний, и
реальностью повседневной деятельности коммерческих структур.
Этому можно найти немало примеров в экономических разделах
американских газет. Оценочная стоимость «Саусвест Эрлайнз» оказывается
выше, чем у авиакомпаний-ветеранов, во много раз превосходящих ее по
масштабам перевозок. Когда в знаменитой микросхеме Pentium корпорации
«Интел» обнаруживают дефект и разгорается громкий скандал, это
практически не отражается на курсе её акций. Компания «Нетскейп» с
капиталом в 17 млн. долл., штат которой составляет 50 сотрудников,
становится открытым акционерным обществом и, судя по рыночной цене
акций первого выпуска, ее капитал возрастет к концу года до 3 млрд. долл.
«Майкрософт» объявляет о выпуске операционной системы Windows 95 — и
стоимость каждой ее акции тут же повышается более чем на 100 долл., в
результате чего эта компания оказывается дороже таких гигантов, как
«Крайслер» или «Боинг».
Стало очевидным, что истинная стоимость таких корпораций не может
определяться традиционными методами бухгалтерского учета. Стоимость
компаний «Интел» или «Майкрософт» задается не ценой кирпичей и
цементного раствора и даже не ценностью их товарно- материальных
запасов, а категориями другого — нематериального — актива, именуемого
интеллектуальным капиталом.
В своей нашумевшей книге «Сумерки суверенитета» Уолтер Ри-стон писал:
«На самом деле новым источником богатства является нечто нематериальное
— а именно информация и знания, применяемые в работе по созданию
ценностей». <...>
Что такое интеллектуальный капитал? До недавнего времени достаточно
четкого определения этого понятия не существовало. Но в последние годы
отдельные исследователи и группы, работающие в самых различных
областях, встали перед необходимостью выработки общего определения
данного термина.
[Некоторые авторы] подразумевают под интеллектуальным капиталом не
только научные кадры (интеллектуальную элиту), но и заводские марки,
товарные знаки и даже активы, занесенные в бухгалтерские книги с
указанием их исторической стоимости, которая за прошедшие годы
многократно возросла (например, лес, купленный сто лет назад и
превратившийся с тех пор в первоклассную недвижимость). По их словам,
все эти активы ныне не фигурируют в балансовых отчетах, «так как их
стоимость считается нулевой».
Другие исследователи распространяют понятие интеллектуального капитала
и на такие факторы, как лидирующие позиции в области использования
новых технологий, непрерывное повышение квалификации персонала и даже
оперативность выполнения заявок клиентов на техническое обслуживание и
ремонт поставленного оборудования.
«Необходимо создать новую, более совершенную систему бухгалтерского
учета, — утверждают они, — которая отражала бы поступательное движение
компании с точки зрения укрепления ее рыночных позиций, привлечения
постоянной клиентуры, усовершенствования качества продукции и т.д.
Игнорируя эти динамические показатели, мы даем столь же неверную оценку
стоимости активов компании, как'если бы мы сделали элементарную
арифметическую ошибку».
<...> Наглядное представление о значении интеллектуального капитала
можно получить, прибегнув к метафоре. Если сравнивать компанию с живым
организмом — скажем, с деревом, — то схему организационной структуры,
годовые и квартальные отчеты, рекламные проспекты и другие документы
можно уподобить стволу, ветвям и листьям. Опытный инвестор тщательно
осматривает это дерево в поисках зреющих плодов, урожай которых он
сможет собрать, вложив капитал.
Однако было бы ошибкой считать деревом только видимую его часть.
Половина дерева находится под землей в виде корневой системы. Хотя
аромат плодов и цвет листьев свидетельствуют о здоровье растения в
настоящий момент, только по состоянию его корней можно с наибольшей
степенью достоверности судить о том, сохранится ли оно в последующие
годы. Очаг гниения или вредитель, только что появившийся на корневой
системе глубоко под землей, вполне может привести к преждевременной
гибели дерева, внешний вид которого сегодня не вызывает никаких
опасений.
Интеллектуальный капитал — это корни компании, скрытые условия
развития, таящиеся за видимым фасадом ее зданий и товарного
ассортимента. В этом и заключается особое значение интеллектуального
капитала.
Что это за условия? Исследования, проведенные в шведской страховой и
финансовой компании «Скандия», выявили две группы подобных факторов:
1) Человеческий капитал. Совокупность знаний, практических навыков и
творческих способностей служащих компании, приложенная к выполнению
текущих задач. Другими его составляющими являются моральные ценности
компании, культура труда и общий подход к делу. Человеческий капитал не
может быть собственностью компании.
2) Структурный капитал. В эту категорию входят техническое и программное
обеспечение, организационная структура, патенты, торговые марки и все то,
что позволяет работникам компании реализовать свой производственный
потенциал — иными словами, то, что остается в офисе после ухода
служащих домой. Структурный капитал также включает в себя отношения,
сложившиеся между компанией и ее крупными клиентами. В отличие от
человеческого капитала, структурный может быть собственностью компании,
а следовательно, и объектом купли-продажи. Таким образом,
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ + СТРУКТУРНЫЙ КАПИТАЛ =
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ.
Нетрудно понять, почему интеллектуальный капитал не вписывается в
традиционные модели бухгалтерского учета. Такие важные его
составляющие, как постоянство покупателей или компетенция служащих,
могут никак не влиять на итоговую строку счета прибылей и убытков
компании в течение многих лет. В контексте интеллектуального капитала
коммерческий успех, не определяющий положение компании на рынке на
длительную перспективу, не имеет никакого значения.
Хотя теория интеллектуального капитала и считается новой, в форме
здравого смысла она существует уже давно. Она всегда таилась в отношении
рыночной стоимости акций компании к стоимости ее чистых активов в
расчете на одну акцию. До последнего времени эта разница относилась на
счет субъективных факторов — таких, как слухи, конфиденциальная
информация о новых товарах, еще не поступивших в продажу, и интуитивное
предвидение перспектив компании, — которые не поддаются эмпирической
оценке. Более того, считалось, что указанная разница является временным
отклонением от нормы, неэмпирической добавленной стоимостью, которая
со временем найдет свое выражение в росте доходов, сокращении накладных
расходов, повышении производительности или увеличении доли рынка,
приходящейся на изделия компании, — т. е. в категориях, к которым
применимы обычные оценочные критерии.
Опыт последних лет доказал ошибочность таких взглядов. В так называемой
интеллектуальной экономике упор делается на интенсивные инвестиции в
человеческий капитал и в информационные технологии. Удивительно, что ни
то, ни другое не фигурирует в традиционных финансовых отчетах в разделе
прибылей, а относится, скорее, к убыткам, хотя такие инвестиции являются
ключевым средством создания новых ценностей.
И все же рынок интуитивно учитывает влияние невидимых активов.
Некоторые из них как бы витают в воздухе, материализуясь в строки
балансовых отчетов через много лет после того, как рынок отреагировал на
них,
Признание этой реалии современного бизнеса приведет к необходимости
установления нового равновесия между прошлым и будущим, а также между
финансовым компонентом бизнеса и его нефинансовой составляющей —
интеллектуальным капиталом.
До конца текущего десятилетия и в последующий период сотни тысяч
крупных и мелких компаний во всем мире возьмут на вооружение теорию
интеллектуального капитала как средство измере- ния, конкретизации и
отображения истинной стоимости своих активов. Они сделают это потому,
что бухгалтерский учет, основанный на интеллектуальном капитале, дает
уникальную возможность комплексного использования всего того, без чего
немыслима современная экономика динамичных и высокотехнологичных
виртуальных корпораций:
• Тесные и долговременные деловые связи в рамках товариществ,
объединенных в торгово-промышленные сети.
• Постоянство клиентуры.
• Знания и компетенция ведущих сотрудников, от которых зависит судьба
корпорации.
•
Стремление
компании
и
ее
самоусовершенствованию и развитию.
служащих
к
постоянному
• И, главное, имидж корпорации и ценности, которые она исповедует, что
имеет решающее значение для руководителей высшего ранга и
потенциальных инвесторов при решении вопроса о слиянии, приобретении,
сотрудничестве, приеме на работу, вступлении в союзы и товарищества.
Это лишь первая попытка систематического подхода к выявлению таких
факторов и определению главных показателей в новой системе измерения. За
ней последуют другие, и со временем путем проб и ошибок на основе
лучших из этих показателей будут созданы общие нормы отчетности по
интеллектуальному капиталу. <...>
Человеку свойственно считать, что любое новшество призвано всего лишь
усовершенствовать то, что существовало ранее, — а потом поражаться тому,
что оно в конце концов дает начало самостоятельной области деятельности.
К примеру, когда массовая компьютеризация компаний только начиналась,
пользователи пытались ограничить функции компьютера рамками
усовершенствования процессов бухгалтерского учета, производства,
внутренней отчетности, составления платежных ведомостей, управления
сбытом, пока информатизация не привела наконец к революции во всех
сферах деятельности. Так произошло и на производстве, где компьютеры,
роль которых первоначально сводилась к ускорению движения сборочного
конвейера, в конечном счете заменили конвейерную сборку массовой гибкой
настройкой производства на изготовление изделий по заданным параметрам,
немыслимой еще каких-нибудь десять лет назад.
То же самое происходит и с интеллектуальным капиталом. Даже его
исследователи, ряды которых растут, далеко не всегда отдают себе отчет о
масштабах совершаемой ими финансовой революции. На самом деле новая
система определения стоимости активов приведет к преобразованию не
только экономики, но и всего общества в результате использования новых
механизмов производства материальных ценностей и создания стоимости.
Применение интеллектуального капитала означает учет при анализе
стоимостных показателей не только финансового, но также человеческого и
структурного факторов. Категории интеллектуального капитала применимы
не только к коммерческим предприятиям, но и к некоммерческим
организациям, военным учреждениям, церквам и даже к правительствам.
Сегодня у нас есть универсальный критерий оценки и сравнения динамики
стоимостных показателей предприятий любого типа.
Значение этого критерия трудно себе представить: коль скоро
интеллектуальный капитал дает возможность оценки результатов любого
вида коллективной деятельности, это несомненно скажется на характере
инвестирования, благотворительности и даже выборов.
Наконец, любая революция в методах оценки какого-либо объекта
радикальным образом воздействует на способы его обмена. Новые уровни
абстрагирования от рынка физических товаров приведут к возникновению
рынков нового типа. Сельское хозяйство создало вторичный рынок в форме
товарной биржи, промышленность вызвала к жизни ценные бумаги и
фондовые площадки; новая — интеллектуальная — экономика обязательно
создаст свою специфическую форму вторичного распределения.
Бухгалтерский учет был и остается основной системой оценки акционерного
капитала. Интеллектуальный капитал станет такой же основой для новой
биржи. Сегодня мы можем только гадать, какой будет эта биржа и как она
станет работать. Но нет никакого сомнения в том, что от нее в решающей
степени будет зависеть экономическое здоровье и богатство общества,
которому она служит.
<...> Многим поколениям студентов коммерческих и экономических
колледжей объясняли, что стоимость предприятия — это цена его активов.
Активы — это вся собственность компании, поддающаяся денежной оценке.
Существуют активы четырех видов, три из которых конкретны и измеримы, а
четвертый обретает конкретность и поддается измерению только после ее
продажи.
Первые два вида активов — это текущие активы, которые могут быть
использованы или реализованы в течение следующего года (к ним относятся
товарно-материальные запасы и дебиторская задолженность), и основные
(или долговременные) фонды в форме промышленного оборудования и
имущества со сроком службы, превышающим один год. На каждый отчетный
период со стоимости основных фондов списывается определенный процент,
т.е. производится равномерное начисление износа (амортизация) активов,
стоимость которых распределяется на весь срок их службы, что находит свое
отражение во всех последующих балансовых отчетах.
Третьим видом активов являются инвестиции, например в акции и
облигации. Хотя активы этого вида гораздо менее устойчивы, чем активы
первых двух видов, их можно систематически оценивать по рыночной
стоимости и с помощью других критериев.
Активы четвертого вида наиболее проблематичны. Хотя неосязаемые активы
физически не существуют, они представляют собой значительную ценность
для компании. Обычно такие активы являются долгосрочными и не
поддаются точной оценке до момента продажи предприятия.
Для бухгалтера неосязаемые активы — это и благо, и бич. С одной стороны,
в эту достаточно расплывчатую категорию удобно заносить все активы
компании, в том числе и недолговечные, которые просто не вписываются в
четкие первые три категории. С другой стороны, существование неосязаемых
активов — это молчаливое признание бухгалтерским сообществом того
факта, что элегантное тавтологическое уравнение
АКТИВЫ = ПАССИВЫ + КАПИТАЛ,
этот кошмар бухгалтера, на самом деле включает еще одно слагаемое,
которое при ближайшем рассмотрении оказывается менее эмпирическим и
более иррациональным, чем это представлялось на первый взгляд.
Интерес к неосязаемым активам рос по мере того, как становилась все более
очевидной роль небухгалтерских факторов в создании реальной стоимости
активов компании. Некоторые из них были вполне очевидными — патенты,
торговые марки, авторские и ду-гие эксклюзивные права давали их
владельцам конкурентное преимущество, заметно влиявшее на итоговую
строку счета прибылей и убытков в годовом отчете. Эти факторы явно были
связаны с прибылью компании.
Другие факторы оказывали влияние на ее пассивы. К примеру, если
компания в течение многих лет вкладывала средства из научноисследовательского фонда в создание нового технологического процесса или
технического решения, этот вклад в конечном итоге способствовал
увеличению стоимости ее активов. Был разработан процесс систематического
списания цены накопленных таким образом неосязаемых активов
(амортизация) по мере их износа с балансовых счетов компании.
Но даже этого оказалось недостаточно для того, чтобы выявить все
неосязаемые активы корпорации. Существовали и другие, менее очевидные
факторы, зачастую дававшие о себе знать только после продажи
предприятия. Например, если общая стоимость активов компании,
выставленной на продажу, составляла два миллиона долларов, но покупатель
с готовностью выложил за нее 2,2 миллиона, напрашивается вывод, что
покупатель (если он» конечно, в своем уме) увидел в этой компании нечто
такое, за что стоило переплатить 200 тысяч долларов.
Что же это за дополнительная стоимость? Она может заключаться и в
постоянстве покупателей, и в широкой известности назва-ния фирмы,
завоеванной за десятилетия ее существования на рынке, и в
местонахождении ее магазинов, и даже в характере ее служащих. Все это
вместе составляет то, что можно назвать «доброй волей» тех, кто
осуществляет денежную оценку неосязаемого капитала.
При всей кажущейся неопределенности, эту «добрую волю» также можно
амортизировать с интервалами от пяти до сорока лет. Так, покупатель
упомянутого предприятия, переплативший за него 200 тысяч долларов,
должен был списывать подобные затраты в течение всего периода их
экономической полезности, каким бы долгим он ни был.
Все связанные с данным процессом расчеты составляют проблему
покупателя и, иногда, сборщика налогов.
Если все это покажется читателю несколько расплывчатым и абстрактным,
особенно на фоне традиционных представлений о точности и конкретности
бухгалтерского учета, он будет прав; не так уж далека от истины и та точка
зрения, что это — интеллектуальная лазейка, достаточно просторная для
того, чтобы любой жулик, мошенник или растратчик мог въехать в нее на
бронирован- ном лимузине. Неосязаемые активы сводят бухгалтеров с ума...
Они прилагают беспрестанные усилия, чтобы как-то упорядочить понятие
доброй воли, создать систему прецедентов, новые правила и правовые
нормы.
К несчастью для бухгалтеров, с годами значение неосязаемых активов
неуклонно возрастает, а в некоторых компаниях они даже начинают
превосходить осязаемые. Свидетельством тому является более чем
девятикратный рост балансовой стоимости активов американских компаний.
В конце двадцатого века можно говорить о том, что неосязаемые активы
одержали победу.
Это означает, что традиционная модель бухгалтерского учета фактически
служит препятствием на пути распространения объективных данных о
компании и, более того, в конечном счете мешает экономике сохранять свою
конкурентоспособность в условиях быстро меняющейся рыночной
конъюнктуры. В условиях, когда корпорации приходится доказывать
акционерам (а до того — аналитикам), что для справедливой оценки ее
стоимости долгосрочные вложения в инфраструктуру важнее показателей
квартальных дивидендов, у многих руководителей, акционеров и инвесторов
создается впечатление, что мир перевернулся вверх ногами.
Так какими же оценочными критериями нужно руководствоваться? В каком
направлении следует идти? Нельзя, конечно, игнорировать такие категории,
как доходы и прибыль: они являются конечной мерой успеха коммерческого
предприятия и должны быть если не точкой отсчета, то во всяком случае
итогом при оценке стоимости корпорации.
Но что еще следует принимать во внимание? И как эти факторы
взаимодействуют между собой и с финансовой структурой компании?
Вспомним сравнение коммерческого предприятия (да и любой другой
организации, как мы увидим ниже) с деревом. Ствол, ветви и листья, т.е.
видимая часть дерева — это компания, какой ее знают по рыночным
результатам и опубликованным финансовым отчетам. Плоды этого дерева —
это прибыли, получаемые инвесторами, и товары, потребляемые клиентами.
Корневая же система представляет собой скрытую стоимость компании. Для
того, чтобы цвести и плодоносить, дерево должно иметь сильные и здоровые
корни. Так же, как качество плодов дерева зависит от его корневой системы,
качество организацион- ной структуры компании и величина ее финансового
капитала зависят от ее скрытой стоимости. Обеспечьте этим корням
надлежащий уход — и компания будет процветать; дайте им засохнуть — и
компания, как бы хорошо она ни выглядела внешне, в конце концов
разрушится и погибнет.
Это вовсе не открытие. Аналитики всегда применяли субъективный критерий
скрытых ценностей при расчетах стоимости компаний. Возвращаясь к нашей
аналогии, можно смело утверждать, что если видимая часть дерева здорова, а
окружающая ее природная среда стабильна, то и невидимые нам части дерева
— его корни — также здоровы. Только в очень редких случаях внешне
здоровое дерево оказывается прогнившим внутри.
Но если климат непрерывно меняется, если вокруг кишат хищники и
паразиты, то происходящее под землей приобретает гораздо большее
значение, чем то, что наблюдается на поверхности. Иногда лишь крепкие
корни помогают дереву пережить неожиданную засуху или резкое
похолодание.
Все это относится и к компаниям. Как говорится, внешняя крепость старых
дубов часто обманчива: они могут оказаться насквозь прогнившими и
рухнуть при первой же буре. В случае с компаниями такое «разъедание»
изнутри обычно бывает преднамеренным. Так поступают руководители,
которым выгодно снижение расходов и которые поэтому срезают не только
сухие ветки, но и сердцевину дерева. <...>
В эпоху бурного технического прогресса, когда целые категории товаров
могут мгновенно исчезнуть, когда конкуренция подстерегает с неожиданной
стороны, когда возникают новые типы взаимоотношений между
поставщиками, производителями и потребителями, т.е. когда все
«апокалипсические» предсказания начинают сбываться, только базовые
ценности и истинные достоинства помогут компаниям выжить и добиться
успеха.
Возьмем, к примеру, историю фирмы «Лотус». Созданная в 1980 году, она
вскоре стала ведущим поставщиком компьютерных программ, в частности
интерактивных электронных таблиц для обработки данных. Этот бизнес
обогатил компанию, но ей пришлось столкнуться с массой конкурентов,
включая такого гиганта, как «Майкрософт». Судя по балансу фирмы, дела ее
шли хорошо, но на самом деле острая конкурентная борьба истощала ее.
Кажущаяся стоимость компании, представленная в ее балансе, оставалась высокой, но ее истинная стоимость, измеряемая в категориях
интеллектуального капитала, катастрофически падала.
А затем произошла любопытная вещь. Ситуация резко изменилась. Позволю
себе процитировать высказывание, сделанное по этому поводу легендой
компьютерного бизнеса Эндрю Гроувом: «Пока все это происходило, фирма
«Лотус» разработала компьютерные программы нового поколения,
воплощенные в продукте Notes, который сулил такой же рост
производительности организациям, какой электронные таблицы в свое время
обеспечили индивидуальным пользователям. Программисты «Лотуса» все
еще работали над электронными таблицами и сопутствующими
программами, а руководство фирмы уже полностью сместило акцент на
групповую обработку данных. Продолжая вкладывать средства в развитие
продукта Notes в те трудные годы, оно разработало программу сбыта и
развития, которая решила все проблемы финансовой отчетности крупных
корпораций».
Иными словами, когда фирма «Лотус» казалась процветающей, дела её на
самом деле были плохи, а когда её положение вроде бы пошатнулось,
неосязаемые активы принесли ей подлинный успех.
Когда в 1995 году «Ай-Би-Эм» поглотила «Лотус», рыночная цена последней
в пятнадцать раз превышала ее опубликованную балансовую стоимость
благодаря тому, что она привлекла миллионы клиентов, активно
разрабатывала новые продукты и технологические процессы, завоевала
сильные позиции на рынке и создала популярные программные продукты,
прежде всего Notes. «Ай-Би-Эм» заплатила 3,5 млрд. долл. за компанию,
которая на бумаге стоила всего 230 млн. долл. Почему? Да потому, что этого
стоят другие ее активы — рынок постоянных покупателей, компетентность и
высокий профессионализм персонала, а главное — новаторские
программные разработки, на базе которых был создан продукт Notes, и
проницательность руководства, которое сделало на него ставку.
<...> Решая проблемы, связанные с внедрением новых технических средств и
удовлетворением растущих потребностей покупателей, компании пришли к
осознанию того факта, что им не удастся осуществить долгосрочные
стратегические программы без коренной перестройки организационных
структур. Отсюда начался подъем так называемых «виртуальных
корпораций».
Виртуальная корпорация — это прежде всего организация, использующая
высокие технологии и имеющая квалифицированный персонал, способный
перестроиться и при необходимости модифицировать формы ее деятельности
в масштабе реального времени. На практике это означает — и мы читаем об
этом в газетах каждый день — сокращение руководящего персонала среднего
звена, замену его различными коммуникационными системами и базами
данных, расширение пределов компетенции высшего руководства и
наделение рядовых работников правом принимать самостоятельные решения.
Все это происходит внутри компании. Внешние же признаки виртуализации
(хотя различие между «внутри» и «снаружи» начинает исчезать по мере
размывания контуров компаний) выражаются в более тесных связях между
оптовиками и поставщиками по всей цепи системы снабжения и между
оптовиками и розничными торговцами по всей цепи системы реализации.
Они выражаются и в вовлечении пользователя в «метапредприятие» с целью
совместного создания и усовершенствования потребительских ценностей,
ибо покупатель выступает и судьей в последней инстанции всех созданных
компанией продуктов и услуг, и даже, во все возрастающей степени,
выполняет функции специалиста по обслуживанию, сборщика и даже
конструктора. Это сотрудничество наверняка углубится с созданием
всемирной компьютерной сети.
Потребители с готовностью идут на такое сотрудничество, быстро
приносящее ощутимые плоды, и устанавливают новую форму
взаимоотношений, некую разновидность «бригадной работы». В ней
участвуют все — от переработчиков сырья до местных розничных торговцев.
Каждый вкладывает огромное количество времени и ресурсов в общее дело,
но главное — это уверенность в том, что и другие члены «бригады» также
вносят свой посильный вклад в развитие данного проекта и в его конечный
успех.
Во всех аспектах этой деятельности потребитель ныне занимает уникальное
положение, связанное с большой ответственностью. Он должен высказывать
критические замечания, с тем чтобы продукт можно было приспосабливать к
индивидуальным потребностям заказчика. С целью максимально
эффективного использования продукта или услуги чем дальше, тем больше
будет расходоваться времени на различные программы обучения. В
результате таких совместных усилий, связанных со значительными затратами
средств и времени, потребитель надолго сохраняет верность «своему»
поставщику.
И это не просто внешние атрибуты новой экономики, а скорее — ее
сущность. По мере повсеместного ужесточения конкуренции и роста
себестоимости товаров, отвечающих все более изощренным индивидуальным
требованиям потребителей, уровень доходности снижается. В то же время
распространение «массового производства по индивидуальному заказу»
ведет к стиранию самого понятия модели продукции, вместо которой
компания предлагает набор самых разных потребительских свойств товара.
Размывается и грань между товарами и услугами: товары создаются, как и
услуги, «по требованию». Исчезает даже необходимость в каталогах
наличных товаров. На смену им приходят долговременные и тесные связи
между потребителем и продавцом. Первый всегда уверен, что все его
потребности будут полностью удовлетворены в любое время, а последний
вознаграждается доходами от продажи потребителю непрерывно
совершенствуемых изделий — процесса, который длится годами, если не всю
жизнь.
<...> Оценка стоимости интеллектуального капитала — это революционная
идея, и как таковая она не укладывается в отведенные ей рамки.
Промышленная революция не остановилась на изобретении гидравлического
ткацкого станка: революционные перемены затронули искусство, науку,
бизнес, формы государственного правления, саму организацию общества и, в
конечном счете, даже образ мышления людей. То же относится и к так
называемой Второй промышленной революции семидесятых годов прошлого
века, которая создала не только современные промышленные предприятия,
но также иерархию в бизнесе и бюрократическое общество.
Сегодня мы являемся свидетелями широкомасштабных перемен,
происходящих под воздействием информационной революции. Переворот,
вызванный появлением полупроводниковой интегральной схемы — особенно
микропроцессора, — оказал огромное влияние на все стороны современной
жизни.
Между тем участники всех этих революций были твердо убеждены, что
современные им перемены — последние, что новое изобретение призвано
только усовершенствовать существующий технологический процесс,
который может быть лишь ускорен, удешевлен или сделан более
эффективным.
История учит нас, что такие прогнозы всегда ошибочны, что истинные
последствия переворотов в любой области непредсказуемы и что со
временем происходит радикальная переоценка ценно- стей. Телефон не
заменил телеграфа, а привел к созданию нового телекоммуникационного
общества. Телевидение оказалось не радио с картинками, а стало сердцем
нового общественного строя. Массовое производство не просто привело к
снижению
себестоимости
промышленных
товаров,
а
изменило
взаимоотношения между человеком и окружающей его действительностью.
Выработка критериев оценки стоимости интеллектуального капитала —
может быть, и не такое уж эпохальное событие, хотя, впрочем, вполне может
оказаться таковым. В конце концов, при замене прежних ценностей новыми
человек меняет и свои цели, и методы их достижения. Пока нам трудно
представить, к каким это приведет последствиям; составление таких
прогнозов не входит в наши намерения, но ясно одно — всеобщее признание
роли интеллектуального капитала обязательно внесет коррективы в
нынешние методы организации и управления коммерческими предприятиями
и приведет к перераспределению инвестиций в мировую экономику.
Можно с уверенностью сказать, что, как и любая революция, оценка
интеллектуального капитала не имеет прецедентов и перерастет в систему
взаимосвязей и взаимодействий, кажущуюся сегодня немыслимой.
Смещая акцент с финансовых результатов на процессы как таковые,
концепция оценки стоимости интеллектуального капитала преодолевает
традиционное представление о коренном отличии коммерческих
предприятий от некоммерческих. Это совершенно новый взгляд на вещи,
который <...> даст нам возможность, впервые в истории, сравнить ценность
всех организаций и учреждений, существующих в обществе.<...>
Новое измерение стоимости всегда приводит к созданию новой системы
обмена.
В средние века существовали и бартерный обмен, и торговля за деньги.
Крестьянин привозил полученный им урожай или пригонял выращенный им
скот, а ремесленник приносил свои изделия на ближайший рынок, где они
могли обменять свои продукты на нужные им равноценные по стоимости
вещи или продать их за золото, которое, в свою очередь, давало им
возможность что-то приобрести.
Даже в условиях такого примитивного рыночного хозяйства можно было
иногда давать деньги в долг под проценты. Ростовщики могли продать этот
долг друг другу со скидкой, создавая таким образом обмен долговыми
обязательствами.
Несколькими столетиями позже процесс обмена был упрощен широким
использованием денег, ставших гарантированным конвертируемым
эквивалентом золота. С возвращением металлических денег (которых не
было в широком обращении со времен Римской империи) и с появлением
первых банкнот возник новый уровень обмена — фондовый. Первая
фондовая биржа была открыта в Амстердаме в XVII веке.
По прошествии еще одного столетия процесс обмена стал
специализированным. В пятидесятых годах XVIII века в Биржевом переулке
Лондона можно было видеть спекулянтов, покупавших и продававших акции
в многочисленных кофейнях, специализировавшихся в определенной
отрасли. Например, кофейня Эдварда Ллойда специализировалась на
морском страховании; кофейня Кей-си — на страховании от пожара. Со
временем эти скромные страховые агентства превратились в гигантские
компании, существующие и поныне.
Промышленная революция подняла процесс обмена на более высокий
уровень. К концу XIX века на биржах всего мира — особенно на ньюйоркской Уолл-Стрит — брокеры в спекулятивном угаре ежедневно
покупали и продавали миллионы акций предприятий, что навсегда изменило
природу образования капитала. За тысячу миль от Нью-Йорка, в Чикаго,
местная товарная биржа трансформировалась — благодаря информационной
революции, совершенной телеграфом, телефоном и железными дорогами, —
во фьючерсную товарную биржу, на которой брокеры начали спекулировать
информацией о кукурузе, золоте и свиных окороках, а не самими этими
товарами.
К началу XX века фондовые и фьючерсные биржи в основном
сформировались, поэтому в нашем веке уже происходило создание новых
форм и инструментов инвестирования капитала и расширение
инвестиционной базы. В конце второго тысячелетия более 100 миллионов
частных лиц в США владеют таким количеством акций, паев и опционов, что
они вполне могли бы считаться держателями контрольных пакетов по
отношению к институциональным инвесторам. И это — только часть
глобального феномена: каждый день мировая финансовая система
пропускает через себя более 1,5 трлн. долл. — в десять раз больше, чем так
называемая реальная экономика.
За последние 25 лет была создана биржа нового типа. NASDAQ
специализируется на неустойчивых акциях компаний, разрабатывающих
новые технологии, и структура этой биржи дублирует структуру ее клиентов.
NASDAQ пользуется массивными базами данных и высокоскоростными
системами связи и по сути представляет собой самую настоящую фондовую
биржу, но оперирующую только данными, без традиционной торговой
площадки и рабочих мест брокеров. NASDAQ указывает дорогу в будущее.
Теперь у нас есть новая мера стоимости — интеллектуальный капитал — и
средства его оценки. Эта система измерения включает в себя более широкий
круг объектов: она применима не только к коммерческим предприятиям, но и
к правительственным и некоммерческим организациям. Представляется
неизбежным возникновение новой системы обмена, в которой эта мера
стоимости будет использоваться в целях торговли.
Возникновение интеллектуального капитала вполне закономерно, если
принимать во внимание действие непреодолимых исторических и
технологических процессов, не говоря об инвестиционных потоках,
захлестнувших современный мир и способствующих развитию экономики, в
которой знания играют ключевую роль. Интеллектуальный капитал вскоре
станет главным критерием оценки наших компаний и учреждений, потому
что только он способен отразить динамику организационной устойчивости и
процесса создания ценностей. Только он пригоден для оценки современного
производства, меняющегося настолько быстро, что судить о его (подлинной)
стоимости можно только по таланту его работников, их преданности делу и
качеству используемых ими орудий труда.
* - Weizsaecker E., van, Lovins A.B., Lovins L.H. Factor Four. Doubling Wealth
— Halving Resource Use. L., Earthscan Publications Ltd., 1997. Copyright —
Weizsaecker E., von, Lovins А. В., Lovins L.H. 1997. Текст воспроизводится с
согласия Э. фон Вайцзеккера.
Оглавление
Новая постиндустриальная волна на Западе
Оглавление
Олвин Тоффлер. Адаптивная корпорация
Олвин Тоффлер— один из самых популярных западных социологов и
публицистов— родился 4 октября 1928 года. Окончив в 1949 году НьюЙоркский университет в Олбани, он сотрудничал с рядом периодических
изданий, в том числе был членом редакционной коллегии журнала «Форчун».
С 1965 года О.Тоффлер работает в качестве лектора в ряде американских
университетов, таких, как Корнеллский университет и Новая школа
социальных исследований, участвует в деятельности Фонда имени Рассела
Сэйджа и Института по изучению будущего. В 1968-1983 годах О. Тоффлер
периодически приглашался в качестве эксперта и консультанта по проблемам
стратегического развития в крупнейшие американские корпорации— фонд
Рокфеллера, IBM, AT&T и др.
Всемирную известность принесли О. Тоффлеру его работы по наиболее
актуальным проблемам, стоящим перед современной цивилизацией. Среди
них следует отметить такие, как «Столкновение с будущим» [1970],
«Потребители культуры» [1973], «Доклад об экоспазме» [1975], «Третья
волна» [1980], «Адаптивная корпорация» [1985], «Перераспределение
власти» [1990], «Война и антивойна. Опыт выживания на пороге XXI века»
[1993], «Создавая новую цивилизацию: политика в обществах "третьей волны
"» [1995] (последние две работы написаны им в соавторстве с супругой X.
Тоффлер). Книги О. Тоффлера отличаются в первую очередь их
публицистическим накалом; изложение новых концептуальных положений
сочетается в них с простотой подачи материала и описанием множества
парадоксальных ситуаций. Это вызывает как относительно отстраненное
отношение к нему со стороны академических кругов, так и гигантский успех
у читательской аудитории. Работы «Столкновение с будущим» и «Третья
волна» переведены более чем на двадцать языков и изданы тиражом около 6
млн. экземлляров каждая.
О. и X. Тоффлеры отмечены рядом академических наград и премий. О.
Тоффлер — почетный профессор шести американских университетов, член
'американской Ассоциации за развитие научных исследований; его работа
«Столкновение с будущим» отмечена французской премией за лучшую
зарубежную книгу, а автор удостоен французского Ордена искусств и
литературы. Г-жа X. Тоффлер за ее вклад в развитие социальных наук
отмечена почетной медалью Президента Италии. О. и X. Тоффлер женаты в
течение 45 лет, имеют взрослую дочь и двух внуков. Они живут в штате
Калифорния, США.
Мы предлагаем вниманию читателей отрывки из малоизвестной работы О.
Тоффлера «Адаптивная корпорация» (1985). Эта книга увидела свет в
английском издательстве Gower и представляет собой публикацию полного
текста доклада, подготовленного автором в 1972 году для корпорации AT&T.
Приглашенный в 1968 году в качестве консультанта Совета директоров этой
тогда крупнейшей в мире компании, О. Тоффлер проанализировал ее
внутреннюю структуру и систему управления, отношения с потребителями и
конкурентами, а также место корпорации в американском обществе.
Основным выводом доклада стало утверждение, что традиционные методы
управления, применявшиеся в AT&T, и то монопольное положение, которое
она занимала на рынке, создали ситуацию внутренней деструктурированности компании и с неизбежностью должны привести к снижению ее
рыночного влияния и распаду на ряд региональных компаний с более гибкой
системой менеджмента. Результаты доклада были засекречены и
распространялись лишь среди управленческого персонала высшего звена.
Однако в начале 80-х годов, когда все предсказанные автором события стали
реальностью, доклад в его полном виде с новым предисловием и
комментариями был опубликован.
В работе «Адаптивная корпорация» автор акцентирует внимание на том, что
в условиях становления нового типа общества, которое он называет
«супериндустриальным», традиционные формы корпоративной организации
перестают быть эффективными. Лейтмотивом его исследования становится
положение, согласно которому центральным пунктом корпоративной
стратегии должно быть управление людьми, составляющими компанию, и
взаимное общение с людьми, являющимися ее потребителями и клиентами.
Корпорация не может и не должна использовать свое монопольное
положение и эффект масштаба производства, а обязана постоянно
приспосабливаться как к запросам ее собственных работников, так и к
потребностям клиентов. Книга содержит целый ряд исключительно
интересных наблюдений за внутренней жизнью крупной компании и
формирует систему критериев, позволяющих обнаружить те элементы ее
стратегии и структуры, которые с наибольшей вероятностью могут быть
подвержены кризису в результате столкновения с изменившимися
потребностями и предпочтениями работников и потребителей.
Подобная структура книги делает весьма проблематичной публикацию
отдельных ее отрывков, которые имели бы относительно завершенную
форму. Мы предлагаем вниманию читателя полный текст главы 6 «Модель
супериндустриализма» и методологические положения, изложенные в главе
9 ^Организационные проблемы» (эти фрагменты соответствуют стр. 93-101,
106, 118, 119-123 в издании Gower). АДАПТИВНАЯ КОРПОРАЦИЯ*
В период глубоких стремительных перемен все представления руководства
той или иной компании об окружающем мире должны проверяться на
точность в соответствии с ежедневными утренними новостями. Однако
новости в том виде, в каком они выплескиваются прессой и телевидением,
представляют собой структурно неорганизованный хаос. Целесообразно
поэтому обратить внимание на ряд. коренных изменений в той среде, в
которой действуют корпорации, и попытаться заключить их в логические
рамки.
Оглядываясь назад, я думаю, что содержащееся в докладе1 описание
нарождающегося общества не вполне точно не потому, что оно неверно, а в
силу того, что в нем многое оставлено за скобками, а рассмотренные
факторы недостаточно увязаны между собой. К 1980 году, когда была
опубликована моя книга «Третья волна», я расширил и углубил рабочую
модель нового общества. В этой книге я анализировал, к примеру, серьезные
изменения, которые претерпевают личность и сообщество в наши дни, а
также структуру элит и «сферы власти», что сильнейшим образом
воздействует на формы общения, человеческие отношения внутри фирмы и
организацию корпорации в целом. Поэтому описанная в книге модель
предстает более сложной и содержательной.
Тем не менее доклад предвосхитил появление многих важных тенденций.
Сбылись прогнозы относительно рассредоточения производства и изменений
в структуре семьи. Стремительно распространяется кабельное телевидение, о
котором в то время лишь начали говорить. Япония стала главным
конкурентом США. И если некоторые сепаратистские тенденции ослабли,
как в Канаде, <...> было бы ошибкой полагать, что ослабло и подспудное
движение за политическую децентрализацию и региональную автономию.
Продолжающийся процесс отхода от единообразия в производстве,
потреблении, средствах коммуникации, семье и других аспектах жизни
подразумевает, что в будущем отдельные регионы будут все сильнее
отличаться друг от друга. Между тем <...> многие виды производства,
нуждавшиеся прежде в национальном рынке, в результате технического
прогресса, роста населения и повышения его благосостояния могут теперь
развиваться без поддержки в общенациональных масштабах.
Хотя экономический кризис последнего времени, по-видимому, уменьшил
воинствующий антиматериализм молодежи, было бы ошибкой предполагать,
что происходит возврат к ценностям прошлого. Массовое общество
характеризовалось относительно высоким уровнем консенсуса — наличием
общих ценностей. Америка, сильно изменившаяся с момента написания
упомянутого доклада, двигалась, как в нем и предполагалось, в направлении
диссенсуса и широкого разнообразия ценностей. <...>
Главным элементом индустриального общества была фабрика. Здесь
концентрировались сырье, рабочая сила и организационное искусство.
Города, где сосредоточивались многочисленные предприятия, представляли
собой «суперфабрики». Но фабрика была и чем-то большим, чем просто
средством производства. Она определяла образ жизни, давала гудок, по
которому люди вставали и ложились спать, она требовала от рабочих
элементарной грамотности и обязательности. И прежде всего фабрика
служила моделью для других институтов, поэтому конторы, государственные
учреждения, больницы и особенно школы начали походить на нее по своему
внешнему облику и по организационной структуре.
Сегодня ситуация меняется в двух отношениях. Мы являемся свидетелями,
во-первых, оттока производства из главных городских центров, а во-вторых,
приближающегося упадка фабрики как основной формы производства.
По мере продвижения от машинной к информационной экономике прогресс в
области
телекоммуникаций
позволит
человеку
участвовать
в
производственных процессах, находясь в местах, удаленных от крупных
городов.
Сокращение расходов на передачу информации, уже приведшее к широкому
распространению индивидуальных средств связи, сделает ненужной
концентрацию рабочих в нескольких центрах и будет способствовать
дальнейшему рассредоточению производства и переносу его в домашние
условия, в офисы, конференц-залы и центры оперативной связи, где
взаимодействующие группы специалистов будут встречаться для решения
задач текущего характера. По мере того, как все большие объемы работы
начинают зависеть от личных усилий и манипуляций символами, громадные
индустриальные объединения начнут рушиться. Вполне возможно, что мы
приблизимся к новой форме «кустарного промысла», основанного на
суперсовременной технологии.
Конечно, это не означает, что фабрики исчезнут или что массовое
производство прекратится. Это лишь значит, что они перестанут играть
главную роль в нашей жизни и как производительная сила, и как модель для
других институтов. <...>
В эпоху индустриализма бюрократия оставалась доминирующей формой
организации. Как фабрика производила стандартизированную продукцию,
так и бюрократия была машиной, принимавшей стандартизированные
решения. Бюрократии присущи формализи-рованное разделение функций,
выполнение рутинных операций, постоянство и строгая иерархичность.
Высшее руководство принимает решения, выпускает инструкции, которые
передаются вниз, где и совершается работа. Такая система способна
выполнять ограниченное количество повторяющихся функций в
относительно предсказуемых обстоятельствах. Поэтому она стала основной
формой человеческой организации в индустриальную эпоху.
В супериндустриальном обществе бюрократия будет постепенно вытесняться
адхократиеи, структурой холдингового типа, координирующей работу
множества временных рабочих групп, возникающих и прекращающих свою
деятельность в соответствии с темпом перемен в окружающей организацию
среде. <...>
Адхократии завтрашнего дня потребуются работники, обладающие
совершенно новыми свойствами. Возникнет потребность в лю- дях,
способных быстро переучиваться и наделенных воображением. При решении
впервые возникающих или единичных проблем сотрудник корпорации
завтрашнего дня будет действовать не «по учебнику». Он должен уметь
выносить суждения и принимать сложные оценочные решения, а не
механически выполнять спущенные сверху распоряжения.
Он должен уметь свободно ориентироваться среди множества задач и
организационных обстоятельств и учиться работать с постоянно
меняющимся коллективом.
Индустриальное общество знает одну стандартную модель семьи — так
называемую нуклеарную семью, где родители и дети живут одни, без
бабушек и дедушек, зятьев и невесток, дядюшек и тетушек и прочих
родственников. Это не единственная, конечно, форма семьи в
индустриальном обществе, но она считается «идеальной» и распространена
наиболее широко.
Сегодня под воздействием целого ряда факторов нуклеарная семья сдает
свои лидирующие позиции и уступает место многовариантной системе
семейных отношений. Самый мощный из этих факторов связан с прогрессом
репродуктивной технологии. Социальное значение противозачаточных
средств можно назвать ничтожным по сравнению с успехами науки,
позволяющими вынашивать оплодотворенную вне организма женщины
яйцеклетку, выращивать зародыш в пробирке, программировать заданные
генетические характеристики, предопределять пол будущего ребенка,
клонировать человеческие существа и т.д. Генетика и науки, изучающие
проблемы деторождения, — это сферы, в которых в ближайшие два
десятилетия можно ожидать самых потрясающих результатов.
Развитие событий в этом направлении лишь ускоряет распад традиционных
семейных структур и появление социальной системы, основанной на
терпимости ко многим альтернативным формам семьи — от привычной нам
нуклеарной до коммуны, составной семьи, гомосексуальной ячейки,
воспитывающей ребенка, семьи по модели киббуца и, возможно,
«профессионального роди- тельства». Все это предполагает не просто
перемены в потреблении и распределении, но и громадные изменения в
коммуникационных потребностях и организационных формах социума. <...>
Существует также два фактора, совместно воздействующих на систему
распределения политической власти как в странах с высоким уровнем
развития технологий, так и в мире в целом. В эпоху индустриализма власть
сосредоточена в государствах, точнее — в их столицах. Вашингтон, Токио,
Лондон, Париж и Москва являются сегодня основными центрами власти.
Мощное давление процесса дестандартизации, набирающее силы в богатых
странах, требует фундаментального перераспределения, при котором больше
власти должно перейти от центра к территориально-административным
единицам. В самой крайней форме это давление проявляется в требованиях
полного отделения. Например, в Канаде существует вероятность того, что
либо Квебек полностью отделится, либо потребуются кардинальные
изменения в характере федеральной власти. Такие же процессы происходят и
в Соединенных Штатах. Весьма возможно, что город Нью-Йорк захочет
отделиться не только от штата Нью-Йорк, но и от самих США. Требования
самоуправления в афро-американских кварталах, попытки децентрализации
городской власти, предложения никсоновской администрации по
совместному использованию доходов, решение Верховного суда
относительно права членов секты аманитов не обучать детей в
государственной школе — все указывает на кардинальный сдвиг средоточия
власти в обществе из центра на места. Социум устремлен к фрагментации, а
не к единству, к рассредоточению власти, а не к ее дальнейшей
концентрации.
В то же время равные по мощи силы действуют в противоположном
направлении. Одновременно с частичным перераспределением власти от
общенациональных институтов к территориально-административным
образованиям происходит ее движение вверх — от общенациональных к
наднациональным
структурам.
Возникновение
международных
экологических проблем — например, в ре- зультате того, что швейцарские
предприятия сбрасывают отходы своего производства в Рейн и наносят вред
экологии Германии, а вредные отходы, сбрасываемые немцами в тот же
Рейн, текут в Голландию, — требует создания регулирующего органа
надгосу-дарственного уровня. Эту тенденцию отражает движение за
объединение Европы, как и великое множество малоизвестных или
недооцененных международных соглашений, призванных регулировать
разные
отрасли
экономики
(например,
воздушный
транспорт),
метеорологическую службу и службу воздействия на погоду, охрану
морского дна и т.д. Возникновение многонациональных корпораций, влияние
которых выходит за пределы национальных границ, ускоряет перемещение
политической власти вверх.
Последствия этих внешне парадоксальных воздействий будут состоять в том,
что общенациональные институты в столицах отдельных государств в
течение следующих двух десятилетий лишатся значительной части своей
власти.
Не менее важно и то, что супериндустриализм принесет свою систему
ценностей, сменяющих традиционные ценности индустриального общества.
Особое значение для корпорации имеет грядущее крушение системы
ценностей, в основе которой лежит достижение материального богатства.
Бунт молодежи, феномен хиппи, движение защитников окружающей среды,
растущий интерес к оккультизму, нежелание многих молодых людей,
принадлежащих к среднему классу, поступать на работу, единственным
вознаграждением за которую служат деньги, их настойчивое желание вместо
этого получить работу «осмысленную», «приносящую удовлетворение» или
«общественно полезную» — все это свидетельствует о мощной тенденции
перехода от системы материальных ценностей индустриализма к тому, что
может быть названо «постэкономической» системой ценностей.
Постэкономическая
система
ценностей,
характерная
для
супериндустриального общества, потребует от компаний и людей, которые в
них работают, принять новые критерии оценки труда. Когда социум в общем
и целом достигнет изобилия, людей и само общество будут больше заботить
не экономические, а психологические, моральные, социальные и
эстетические проблемы.
Хозяйственная рецессия приносит с собой частичный возврат к
материалистическим ориентирам, но если не последует глубокий
экономический кризис, маловероятно, что мы снова придем к слепому
приятию традиционных материальных ценностей.
С уменьшением роли материального достатка как главной личной
побудительной ценности тесно связана проблема экономического роста и
расширения предприятий. Широкое обсуждение доклада Римскому клубу,
озаглавленного «Пределы роста», в котором главное внимание уделяется
конфликту между ограниченностью ресурсов, нагрузкой на окружающую
среду и ростом населения, отражает утрату обществом веры в цели
экономического роста. Модель Римского клуба может быть подвергнута
критике как недостаточно разработанная, но руководители компаний
совершат большую ошибку, недооценив его выводы. Во Франции, Японии,
Германии, Голландии и в других странах вопрос о целесообразности роста
стал острой политической проблемой, повлекшей за собой поляризацию
общественного мнения, причем в дебатах принимают участие
государственные деятели и политические лидеры. Тот факт, что доклад не
вызвал большого резонанса в Соединенных Штатах, не означает, что
поднятые в нем вопросы можно игнорировать. <...>
Постэкономические ценности проявляются и в том, что общественность все
чаще требует от компаний решать помимо экономических также и
социальные задачи. Об этом же свидетельствуют попытки выработать
количественные критерии социальной деятельности. Активность таких
образований, как общества потребителей, этнические меньшинства,
представители различных субкультур, направленная на получение
представительства в правлениях корпораций, тоже связана с представлением
о том, что компании не должны больше преследовать единственную
(экономическую) цель, что им надлежит превратиться в «многоцелевые»
организации, вписывающиеся в социальное и экологическое окружение.
Главное различие между индустриальной и супериндустриальной эпохами
заключается, однако, не в переходе от материальных к постэкономическим
критериям, а в дроблении ценностей, со- путствующем процессу социальной
дестандартизации. Компании не смогут полагаться на общественный
консенсус, а будут вынуждены действовать в обстановке обостряющегося
конфликта ценностей между общественными группами.
Таким образом, новая технология ведет нас не в оруэлловский мир
роботизированного, стандартизированного одномерного общества, но к
социальным структурам, в небывалой степени дифференцированным, причем
каждая из них, оставаясь в широких рамках всего общества, будет создавать
свои подсистемы ценностей. Корпорациям придется адаптироваться к
небольшим
и
недолговечным
группам
субкультур,
активно
демонстрирующим, пропагандирующим и пытающимся реализовать свой
уникальный набор ценностей. Частично совпадающие, иной раз
усиливающие друг друга, но чаще противоречащие одна другой, эти системы
ценностей поставят персонал компаний перед труднейшей проблемой выбора
и окажут сильнейшее давление на интеграцию как личного, так и
корпоративного самосознания с соответствующей им ролью.
Никто
не
в
состоянии
детально
описать
нарождающееся
супериндустриальное общество. Если моя модель верна хотя бы частично,
можно сформулировать несколько положений, о которых будут «знать»
руководители компаний завтрашнего дня и которые будут восприниматься
ими как само собой разумеющееся.
Когда основные, минимальные нужды людей будут удовлетворены,
жизненные запросы большинства из них не будут совпадать, и для многих
одного материального вознаграждения будет не достаточно для мотивации
труда.
• Существуют пределы экономии, получаемой за счет масштабов
деятельности — как корпорации, так и государственного учреждения.
• Информация играет столь же важную, если не большую, роль, как земля,
рабочая сила, капитал и сырье.
• Мы движемся от массовой фабричной системы в направлении «кустарного»
производства, «штучного» интеллектуального труда, в основе которых лежат
информация и супертехнологии; конечным продуктом этого движения будут
не
миллионы
стандартизированных
законченных
изделий,
а
индивидуализированные товары и услуги.
• Организационная форма наиболее эффективна, если строится не по
бюрократическому принципу, а по принципу адхократии, когда каждый
организационный компонент представляет собой модуль, созданный для
решения одной конкретной задачи, и взаимодействует со многими другими
по горизонтали, а не только в соответствии с вертикальной иерархией;
решения, (принимаемые в компании), подобно товарам и услугам, не
стандартны, а индивидуальны.
• Развитие технологии не обязательно равнозначно «прогрессу» и, если не
будет постоянно контролироваться, может фактически уничтожить уже
достигнутые результаты.
• Для большинства людей работа должна быть разнообразной и
ответственной, требующей способности принимать решения, выносить
собственные суждения и оценки.
Для того, чтобы пережить обрушившиеся на нас перемены, мы должны поновому взглянуть на устройство наших устаревших организаций. Полезно
рассмотреть три наиболее распространенные проблемы, с которыми
сталкиваются сегодня компании: организационное несоответствие, излишняя
вера в вертикальную иерархию и обыкновенная самоуспокоенность. <...>
Каждый руководитель большой компании знаком с этими проблемами. Им не
ясно лишь, как их решить.
Переход от индустриальной к супериндустриальной эпохе потребует
кардинальных изменений структуры многих больших организаций.
Главный необходимый сдвиг нагляднее всего иллюстрирует разница между
пирамидой Хеопса и скульптурой Кальдера «Мобайл». Классическая
бюрократия эпохи индустриализма имеет пирамидальную структуру —
маленькая управляющая группа наверху и множество постоянно
действующих функциональных отделов внизу. Супериндустриальная форма
корпорации, вероятнее всего, будет складываться из небольших
полупостоянных
«конструкций»,
дополняемых
многочисленными
небольшими временными «модулями». Как и детали кальдеровской
скульптуры, они будут двигаться, реагируя на происходящие перемены. Их
можно ликвидировать или перегруппировать в соответствии с внешними
изменениями.
Существующие в большинстве компаний организационные структуры
рассчитаны на принятие ограниченного числа типовых решений.
При традиционной бюрократической системе для решения каждой проблемы
в организации предусмотрено соответствующее подразделение —
маркетинговые, производственные, финансовые отделы и т.д. Поскольку
классы проблем ограниченны и носят повторяющийся характер, их надлежит
лишь подключить к соответствующему компоненту, как в гнездо
старомодного коммутатора.
Сегодня число проблем, не соответствующих ни одному компоненту
организации, постоянно растет. Вместо круглой электророзетки мы
сталкиваемся с квадратными, прямоугольными и поли-формными образцами,
к которым просто нельзя подключить имеющиеся стандартные
электроприборы. К тому же проблема такого несоответствия возникает все
чаще и чаще, и все труднее предсказать очередность появления новых
проблем.
В результате растет число несоответствий между существующей в данный
момент организационной структурой и возникающими требованиями.
Проблемы передаются в отделы, для этого не предназначенные, или же
неверно понимаются и искажаются, подгоняются к существующим
организационным структурам; иногда и сами структуры беспрестанно
перестраиваются в бесплодных поисках постоянной «совершенной»
организационной формы.
Это приводит к росту структурной неэффективности и постоянным
реорганизациям, когда любая новая структура обречена на недолгую жизнь.
Ускорение изменений — в запросах потребителей, социальных тенденциях,
политических силах, демографии населения и т.д. — означает, что
корпорация сталкивается с постоянно ускоряющимся потоком «разовых»
возможностей и проблем. Чем выше темп перемен, тем ниже степень
преемственности в обществе и тем меньше вероятность, что проблемы
завтрашнего дня будут походить на сегодняшние.
«Разовая», или временная, проблема требует для своего решения «разовой»,
или временной, организации. Понятно, что формировать полномасштабную,
постоянную структуру для решения про- блемы, которая может больше
никогда не возникнуть, бессмысленно. Отсюда следует необходимость
создания множества модульных, временных или самодиссимилирующихся
структурных единиц — специальных групп, проблемных команд, целевых
комитетов и других объединений специального или временного назначения.
Многие из них могут быть большими, как в Национальном управлении по
аэронавтике и исследованию космического пространства. Некоторые
рассчитаны на несколько лет, другие — всего на несколько дней.
Если верно, что темп изменений будет резко возрастать в годы, оставшиеся
до конца столетия, то мы должны ждать появления множества организаций и
подразделений временного характера. Этот переход от постоянных форм к
мимолетным и есть, по существу, способ всестороннего приспособления
общества к императивам стремительных социальных перемен.
Долгое время наиболее эффективной формой управления считалась строго
вертикальная иерархия, при которой приказы постепенно спускаются вниз по
служебной лестнице; эта система характерна для организации
индустриальной эпохи.
Однако такая форма управления зависит от двух факторов: мощного потока
достоверной информации от нижнего уровня наверх и относительно
однородного характера требуемых решений. Там, где проблемы, стоящие
перед руководителем, однотипны и носят повторяющийся характер, он в
состоянии собрать о них большое количество информации и извлечь
полезный опыт из своих прошлых удач и ошибок.
Сегодня строгая вертикальная иерархия утрачивает свою эффективность,
поскольку исчезают два основных условия ее успешного функционирования.
Руководители сталкиваются со все более разнородными проблемами, и им
при решении сложных технических и экономических вопросов приходится
во все большей степени учитывать также политические, культурные и
социальные аспекты. В то же время обратная связь с нижними уровнями
становится все более неадекватной.
В абсолютном выражении руководство сейчас получает больше информации,
чем когда-либо прежде, и гораздо больше, чем отдельный руководитель в
состоянии усвоить и переработать. Тем не менее основная проблема
современной компании заключается в совершенно неудовлетворительной
обратной связи.
Супериндустриальная
революция
делает
более
разнообразной
экономическую, технологическую и социальную среду, в которой действует
корпорация, и поэтому требует от ее руководства более гибкой и быстрой
реакции. Поскольку изменения характера спроса, возможностей и
требований идут стремительнее, чем когда-либо раньше, а движение
соответствующей информации вверх по иерархической лестнице происходит
достаточно медленно, руководители различных уровней, вплоть до высшего
руководства, не успевают полностью аккумулировать опыт решения какойлибо одной проблемы. Расстояние между верхними и нижними эшелонами
определяется не только размерами нижестоящих подразделений или
количеством промежуточных уровней, но и разнообразием сведений,
которые надлежит обработать.
Как следствие, эффективные решения должны сегодня приниматься на все
более и более низких уровнях организации. Требования участия в
управлении продиктованы, таким образом, не политической идеологией, а
тем, что система в ее нынешнем структурном виде не в состоянии
эффективно реагировать на быстро изменяющуюся среду. <...>
* - Weizsaecker E., van, Lovins A.B., Lovins L.H. Factor Four. Doubling Wealth
— Halving Resource Use. L., Earthscan Publications Ltd., 1997. Copyright —
Weizsaecker E., von, Lovins А. В., Lovins L.H. 1997. Текст воспроизводится с
согласия Э. фон Вайцзеккера.
1 - См.: Meadows D.H., Meadows D.L, Randers J. Behrens III, W.W. The Limits
to Growth. N.Y., 1972.
Оглавление
Новая постиндустриальная волна на Западе
Оглавление
Ален Турен. Способны ли мы жить вместе? Равные и различные
Ален Луи Жюлъ Франсуа Турен, один из ведущих французских социологов,
родился 3 августа 1925 года в городе Арманвиллъ-сюр-Мер в департаменте
Кальвадос. Окончил лицей Людовика Великого и филологический факультет
университета Париж-V. Доктор филологии, директор парижского Центра
теоретической и прикладной социологии. Карьера А. Турена обозначена
целым рядом постов, которые он занимал в университетах и научных
центрах. С 1950 по 1958 год он работал в Национальном центре научных
исследований в Париже, с 1966 по 1969 год занимал пост профессора
филологического факультета университета Нантерра, с 1960 года по
настоящее время является руководителем исследовательских программ
Высшей школы социальных наук (I'Ecole des hautes etudes en sciences
sociales), с 1994 года состоит членом Высшего интеграционного совета.
Первая книга А. Турена — «Эволюция трудовых отношений на заводах
Рено» — была опубликована в 1955 году. Придерживаясь социалистических
убеждений и активно участвуя в разработке теоретической платформы и
программ Французской социалистической партии, в последующие годы он
зарекомендовал себя как один из авторитет- ных социологов. Профессор
Турен является автором тридцати книг, в том числе таких, как «Социология
действия» [1965], «Постиндустриальное общество» [1969], «Производство
общности» [1973], «В защиту социологии» [1974)', «Жажда истории» [1977],
«Возвращение Актера. Социологический очерк» [1984]', «Критика
модернити» [1992], «Что такое демократия» [1994] и «Способны ли мы жить
вместе? Равные и различные» [1997]. Его работы переведены на 15 языков и
изданы более чем в двадцати странах мира. А. Турен является членом
Европейской академии, действительным членом Американской Академии
наук и искусств, иностранным членом Академии наук Польши и Академии
наук Нью-Йорка, почетным профессором более пятнадцати европейских
университетов. Вдовец, имеет двух детей. Живет в Париже.
Книга «Способны ли мы жить вместе?» (1997) в значительной степени
представляет собой систематизацию ранее уже изложенных автором идей.
Большой интерес представляет данное в книге определение стадий процесса
модернизации. Критерием выделения трех эпох модернити выступает у А.
Турена характер соподчинения индивида и власти. Первой эпохой
модернизации называется период, прошедший под знаком эпохи
Просвещения и приведший к формированию первых буржуазных государств.
Вторая стадия, которую автор предпочитает называть «срединной» (moyenne
moder-nite), характеризуется им прежде всего с точки зрения господства идеи
рациональности, допускавшей при этом культурную самобытность в
пределах национального государства. Третий этап, или «программируемое»
общество, отличается, по мнению профессора Турена, прежде всего
возросшей ролью политической власти; это социум, «являющийся итогом
решений, политики и программ, а не естественного равновесия».
В свете такого подхода становится понятным то внимание, которое А. Турен
уделяет исследованию механизма взаимодействия человека и общества.
Однако оценка современного социума как продукта политической воли и ее
агента предопределяет то противопоставление самореализующегося
Субъекта социуму, которое было характерно для европейской социальной
философии конца 60-х годов. Автор гиперболизирует задачу «борьбы» за
Субъекта, выступая как против примитивных форм общества массового
потребления, так и против организованного насилия со стороны государства.
Протест личности подменяет ее творческое развитие; автор рассматривает
хозяйственную и культурную сферы как все более оторванные друг от друга,
что не может не показаться странным в эпоху, когда информация и знания
все зримее определяют развитие экономики.
Работа профессора Турена содержит предупреждение тем, кто стремится
изобразить
становление
постиндустриального
общества
как
непротиворечивый и эволюционный процесс. Следует, однако, отметить, что
методологические приемы, с помощью которых анализируются
подстерегающие социум опасности, применялись в лучшем случае в первой
половине 70-х годов. Явно и неявно обвиняя в проблемах человека
унифицированную экономику или деспотическое государство, автор
стремится не замечать того, что переменs последних десятилетий сделали
человека информационного общества способным выбирать как цель своей
жизни, так и пути ее достижения.
Книга «Способны ли мы жить вместе?», несмотря на ее вторичный по
отношению к другим работам А. Турена характер, тем не менее являет собой
яркий образец современной европейской социалистической мысли,
показывает как ее сильную гуманистическую направленность, так и
неспособность в полной мере выйти за пределы той реальности, которая
была задана хозяйственной и культурной системами индустриального
общества.
Отрывки, которые мы выбрали, чтобы дать читателю адекватное
представление о книге профессора Турена, относятся к разным частям его
работы. Несмотря на всю тщательность выбора, мы не можем быть уверены в
том, что он оказался оптимальным. Так или иначе, мы остановились на
фрагментах, относящихся ко второй главе, называющейся «Субъект» (Le
Sujet) (эти фрагменты соответствуют стр. 73-75, 75-78, 78-80, 80-81, 82-83,
83-84, 84, 85-86, 87-88, 88-89, 89-90, 90, 91, 92, 93-95, 95, 95-97, 97, 98-99, 99101,101-103, 103, 103-104, 104-105, 105-106,106-107,107-108,110-112,113,
113-114, 114, 115 в издании Fayard). Более подробные оценки основных
теоретических положений, содержащихся в книге «Способны ли мы жить
вместе?», были даны нами в рецензии (см.: Иноземцев В. [Возвращаясь к
вечным вопросам] // Вопросы философии. 1998. № 2. С. 188—191).
СПОСОБНЫ ЛИ МЫ ЖИТЬ ВМЕСТЕ? РАВНЫЕ И РАЗЛИЧНЫЕ*
Чтобы перекинуть мостик между все более удаляющимися друг от друга
континентами, мы не можем более обращаться за помощью к образу
Субъекта, понимаемого как исполнителя воли Бога, разума или истории, —
до такой степени теперь, после века тоталитаризма и авторитаризма, мы не
доверяем общественным религиям и политическим призывам. Образ борца в
качестве современного крестоносца вызывает у нас скорее недоверие, чем
восхищение. Мы забыли даже об идее Эго, так как осознали, что его
единство и цельность были всего-навсего проекцией на индивидуум
цельности и авторитарности общественной системы. Владыка оказался на
самом деле отцом семейства, напичканным моральными нормами. Всеобщая
социализация привела к победе принципа, привившего беспорядку
стремление к видимости законности и заменившего войну всех против всех
миром, где правит Левиафан, или всеобщее волеизъявление. Именно эта
общественная и гражданская религия исчезает сегодня вместе с ее
основаниями в образовании и семье: нет больше авторитета учителя с его
учебной программой, отца семейства с его властностью.
Это может привести и к фрагментации культурного опыта. Социальные
исследования среди молодежи показывают, что — за исключением все более
ограничивающегося семейного круга, где родители подготавливают новое
поколение к исполнению его общественных обязанностей и к личной
автономии, — обучение происходит все более и более беспорядочным
образом. В одиночку или в составе первичной группы молодые люди
прибегают к разного рода опытам, которые не составляют целого, более того
— противоречат друг другу, будто в каждом индивидууме сосуществует
несколько личностей. Юноши и девушки живут сразу в нескольких
временных срезах — в колледже или лицее, в компании друзей или обществе
партнеров по сексу, — чаще всего даже не имея представления о принципе
интеграции различных жизненных опытов. Идея постепенного подчинения
нормам общественной жизни — как профессиональным, так и семейным —
ослабевает. Классическая взаимодополняемость навязанных извне норм и
отвоеваний автономии становится призраком. Почти исчезает понимание
того, что только через принятие ценностей общества—и даже его запретов —
индивидуум осознает собственную свободу. <...> Некоторые хотят возродить
идею гражданственности: индивидуум становится свободным — говорят
они, — идентифицируя себя с сообществом свободных граждан. Но даже
если эта гражданская мораль и позволила написать возвышенные страницы
тем, кого волнуют десоциализация молодежи или проблема интеграции в
наше общество иммигрантов, она не предлагает никакого решения в
условиях сложной реальной ситуации. Личность, находящаяся в обществе
потребления, не стремится к врастанию в это общество. Прежде
социализация основывалась на плотно связанных между собой образах
времени и пространства; мы же, напротив, все более лишаемся времени и
пространства в их социальной определенности. Телевидение делает
доступным самое глубокое прошлое, а идею истории, которая всегда была
идеей нации или территориальной общности, заменила индивидуальная или
общественная память. <...> То, что сперва определялось как кризис семьи и
школы, другими словами — социализации или образования, является также
кризисом формирования личности. Исчезло двуединство общественных норм
и общественного или индивидуального осознания, ушел в прошлое и
тейлоризм как принцип рационализации производства. <...> Распад социума
и личности превратил наше общество в большей степени в супермаркет или в
аэропорт, нежели в завод или в свод юридических норм. <...>
Если в прошлом Субъект находился в полном подчинении закону,
Божескому или общественному, то в современном мире ему грозит стать
жертвой общества потребления, которое, с одной стороны, манипулирует им,
а с другой — постоянно подталкивает его к гонке за все новыми и новыми
благами.
Следует
признать
разложение
доминирующей
социальной
и
психологической модели, происходившее с конца девятнадцатого века и
придавшее особую силу философии, литературе и искусству нашего
столетия. Разрушение Эго, диктующего свой закон человеку, его <...>
потребностям и убеждениям, так же преобразовало нашу жизнь и наш образ
мышления, как и разрушение принципов общественного порядка.
Ориентация
на
культурную
самобытность,
противопоставляемая
евроцентричному универсализму, порождает культ секса и смерти, не
оставляющий камня на камне от былых этических норм. Эротизм в стиле
Батая и Бэкона разрушил общественный порядок так же, как идея возврата
личности к поиску ее этнической и религиозной самобытности уничтожила
на Западе стремление индивидуума отождествлять собственную историю и
личные интересы с идеей универсальности. Безусловно, велико искушение
покончить с Субъектом как с носителем идеи универсальности и тем самым
дать толчок к дальнейшему культурному расслоению, к обезличиванию
страстей и насилия, причем сделать это на фоне расширяющейся пропасти
между опытом конкретного человека и массой информации, аккумулируемой
в компьютерных и финансовых сетях.
Прежде чем предпринимать попытки объединения двух вселенных, все более
отдаляющихся одна от другой и параллельно дегра-дирующих, необходимо
признать факт разрушения как Субъекта, так и идеи общественной
рациональности. Мы обретаемся на развалинах марксизма-ленинизма,
который стремился объединить общественные и национальные требования с
рациональными законами исторического развития и основополагающими
нормами буржуазного общества, но чьи высокие принципы вовсе не
помешали триумфу насилия. Без «заката» общества и идеи Эго поиски
Субъекта и его защита не имели бы никакого смысла. Следует исходить из
того, что центральной проблемой является угроза демодер-низации*.
Откажемся от позитивных принципов реконструкции, от призывов к
Человечности, Порядку и Миру, доставшихся нам в наследие от прошлого.
Истинной исходной точкой может быть не надежда, а боль от разрыва. Ибо
вселенная объективации и технических наук деградирует, в то время, как
вселенная культурных самобытностей все больше замыкается в
коммунальных рамках. Индивидуум, человек в себе, существующий в
каждом из нас, страдает от разрыва, ощущаемого им в итоге распада как его
жизненного опыта, так и институционного порядка, самого этого мира,
наконец. Мы больше не знаем, кто мы есть. Наша основная проблема
вызвана тем жутким гнетом, которому подвергли нас запреты и закон; мы
страдаем от патологии, порожденной невозможностью формирования нашего
Я вне зависимости от того, погрязло ли оно в массовой культуре или
находится под влиянием авторитарных сообществ.
Этот опыт личностного разрыва, утраты личности, которому мы
сопротивляемся, придавая такое большое значение самоуважению,
саморазвитию, одним словом — независимости, подталкивает нас прежде
всего не к преодолению общественных противоречий, а к лечению ран
страдающего индивидуума, ибо последний не может более уповать на
помощь бога-творца, вмешательство самоорганизованной природы или
рационального общества. Личное страдание является главной силой
сопротивления разрыву демодернизирующегося мира. Оно становится
особенно острым, когда бедность, неуверенность, общественное неприятие
делают еще более трудным сообщение между двумя вселенными. И этот
культурный разрыв переживается всеми, кто не идентифицирует себя
полностью ни с миром успеха, ни с миром традиций. Он характерен не для
исключительных случаев, напротив — это общая ситуация, переживаемая в
более или менее неблагоприятных условиях, когда возможность проявления
инициативы у человека достаточно ограниченна.
Восстановление жизненного опыта может происходить только при условии
двойного освобождения, двойной реакции на деградацию распадающихся
частей опыта. Освобождение от общества определить проще. Речь идет об
освобождении культуры от того социального и политического комплекса, в
котором она была заключена. В западном мире ломка христианского
общества — кстати, во имя самого христианства — привела к внутренней
замкнутости веры в эпоху протестантстких и католических реформ. На
Востоке похожим образом зазвучали призывы к исламизации как к
наилучшей защите от политических новообразований. Это освобождение
проявляется везде, где культура является узницей общественного контроля,
так как сообщество (communaute), с которым идентифицирует себя
индивидуум, вовсе не являясь при этом выражением Субъекта, подавляет
последнего законом, обычаями, нравами, временными формами власти и
социальной организации, которые, таким образом становятся священными и
даже оккультными, отстраняющими Субъекта от общественной реальности и
восстанавливающими его против нее.
Невозможно более противопоставлять мир пережитого (Lebens-welt)
стратегическим действиям, диктуемым инструментальной рациональностью.
Субъект формируется только за счет одновременного отрицания
инструментальное™ и идентичности, ибо последняя является не чем иным,
как испорченной и замкнутой в самой себе формой распадающегося
жизненного опыта. Не только нынешняя демодернизация, но и
современность сама по себе приводят к устранению прежних отношений
между
индивидуумом,
обществом
и
вселенной
и
признают
недействительными те социологические конструкции, центральным
принципом которых является связь институтов и мотиваций, системы и
действующего лица. Сам по себе Субъект не может сформироваться иначе,
нежели освободившись от слишком конкретных общностей, навязывающих
ему стереотипы, основывающиеся на долге, а не на правах, на
принадлежности, а не на свободе.
Главная трудность заключается не в анализе возможностей воскрешения в
человеке его внутренней сущности, а в определении сил, которые могут
способствовать и которые противостоят сосуществованию общества
потребления и примитивно-общинного духа. Такое сосуществование мы
можем видеть сейчас в Алжире, где молодые безработные выживают в
городах за счет черного рынка: они пожинают плоды общества потребления,
участвуя при этом в исламистском движении. Их индивидуальность
взрывается от двойной зависимости — от массовой культуры и от
политических руководителей необщинного толка. Но что необходимо
совершить для того, чтобы они могли от такого противоречивого поведения
перейти к позитивным требованиям — одновременно социальным и
культурным? <...>
Сущность Субъекта заключена в стремлении индивидуума быть
действующим лицом, а субъективация есть не что иное, как желание
индивидуализации; данный процесс может развиваться только в том случае,
если имеет место достаточный контакт между миром инстру-ментальности и
миром идентичности. Если же этого диалога не существует, появляется риск
впасть в имитацию общности — с одной стороны, и в общественные
ограничения — с другой. Последнее может показаться противоречивым, но
это легко случается при тяжелых социальных и культурных переменах, когда
индивидуум проходит через двойное неприятие: все дальше уходит его
исходная Среда, а новое сообщество отказывается принимать чужака в свои
ряды.
Двойное освобождение Субъекта, скидывающего путы рыночных отношений
и освобождающегося от уз сообщества, является необходимым условием для
общения Субъекта с Субъектом <...>. Но оно также становится основой для
того, чтобы принципы справедливости, солидарности и коллективной
ответственности, делающие возможными любую коммуникацию и
аргументацию, смогли превратиться в конкретные действия, способные
смягчить общинную иерархию и ограничить маштабы применения силы.
Добавим: это идеальное для коммуникации сообщество существует только
как некая цель и, следовательно, всегда воплощается в реальной жизни в
форме социальных институтов, защищающих собственные интересы, что
позволяет одинаково хорошо как выпестовать бюрократию и [создать
замкнутые] элиты, так и подтолкнуть к поискам консенсуса. Идеальными
коммуникативными сообществами являются международные ассамблеи,
научные организации и дискуссионные клубы. Они слабо связаны как с
разбушевавшимся океаном рынка и технологий, так и с укрепленными
островками ком-мунитаризма. Анализ внутренних условий коммуникации
<...> не дает нам полного представления о том, как создаются эти
общественные пространства, и не позволяет определить, насколько они
могут способствовать гласности, миру и диалогу с сопротивляющимися им
экономическими и коммунитарными силами.
Это двойное движение может быть осуществлено только таким Субъектом,
добродетели которого не нуждаются в этике дискуссий. Первой из них
является индивидуальная смелость (необходимая для разоблачения властей),
второй — сила коллективного действия (защищающая права индивидуума и
позволяющая Субъекту выжить). Мораль в данном случае сводится лишь к
дискуссии в академических кругах, не говоря уже о том, что вовсе не
очевидно взаимное противодействие коммуникации и власти, невежества и
враждебности. <...>
Процесс преобразования разорванного и дезориентированного мира,
разделенного на две вселенные, никак не сообщающиеся между собой, в
единое общественное пространство, где действующие лица взаимно
конфликтуют или сотрудничают, не происходит посредством обращения к
высшему чувственному принципу или закону. Изменение мира может
начаться только со стремлений самого индивидуума, не желающего
оставаться в конфликте с самим собой и в состоянии двойной зависимости.
Причем не индивидуум как таковой ищет восстановления своего единства и
сознания; его воссоздание может начать осуществляться только тогда, когда
он осознает себя как Субъекта, когда утвердится в качестве носителя мнений
и творца перемен — касается ли это общественных отношений или
политических институций. Не индивидуум собирает воедино две различные
половины своего опыта, а в индивидууме — под воздействием его самого —
начинает проявляться Субъект. <...>
Индивидуум, если он не определяется исключительно как таковой, охотно
откликается на призывы рынка или на предложение присоединиться к
сообществу; напротив — его субъективация, являющаяся стремлением к
индивидуализации, становится реальной силой тогда, когда индивидуум
заново оценивает себя, осознавая свою ценность и свое место в
общественных отношениях. Речь идет о его освобождении от рынка и от
сообщества, в итоге которого он перемещается в систему производственных
и культурных отношений. При этом рынок и сообщество являются формами,
ставшими чуждыми друг другу, модернити же уступает место
демодернизации. <...>
Желание индивидуализации неизбежно проходит через утверждение
индивидуума как действующего лица в процессе преобразования
общественной жизни и восприятия ее ориентиров. Это стремление к
субъективации может начаться только с сопротивления индивидуума
собственному разрыву и потере идентичности. Сегодня субъективация
больше не является выражением защиты прав человека или трудящегося; она
проявляется прежде всего на уровне личного опыта. <...> Между тем,
глубокой рефлексии и пережитых страданий недостаточно, чтобы построить
личность; необходимо, чтобы индивидуум признал самого себя как Субъекта.
Это сочетание требует двойной борьбы, двойного освобождения, о котором я
говорил, — прежде всего для того, чтобы избежать смешения понятий Я (Je)
и Эго (Moi), которые, как бы они ни считали себя свободными и
избавленными от всяких принуждений, на самом деле являются отражением
системы иерархий и предпочтений, доминирующих в обществе и
проникающих в души индивидуумов. Однако не стоит сводить конструкцию
сексуальности и счастья только к негативу и критике хотя бы потому, что
индивидуализация воспринимается как опыт сращивания мира экономики и
мира культуры. Особенно отчетливо индивидуализация реализуется в
любовных отношениях. Здесь тоже чувствуется расщепление накопленного
опыта. С одной стороны, увеличилась автономия эротизма, в которой Жорж
Батай видел одно из выражений священного начала — в той мере, в какой
сексуальность никогда не была полностью отделима от функции
воспроизводства себе подобных и, следовательно, перемещала индивидуума
из замкнутого мира его сознания и культуры в гущу жизни. С другой
стороны, мы охвачены синдромом массового потребления, модели которого
были нам навязаны средствами массовой информации. Дистанция между
этими двумя мирами не перестает увеличиваться. Только любовные
отношения в состоянии сократить ее, ставя во главу угла отношение к
Другому (Autre) — каким бы ни был его пол. Таким образом, получается, что
эротизм, единство вкусов и признание Другого как Субъекта
сконцентрировались в любовной связи, определяемой как желание,
направленное навстречу желаниям Другого, состоящего из той же
комбинации эротизма, единства вкусов и признания Другого в качестве
Субъекта. <...>
Идея счастья развивалась вместе с идеей модернити, но центральное место
она заняла лишь после того, как иссякли все мета-социальные гарантии
общественного порядка, как стало двойственным наше отношение как к
нации, так и к экономическому росту. Сейчас с тем же упорством нам
навязывается противоположность счастью — несчастье. Не требуется
анализа эксплуатации или иностранного владычества, чтобы прочувствовать,
насколько несчастны те, кто погиб от жестокости или стихийного бедствия,
от личной драмы или репрессий. Все здесь перемешано — и природные
аномалии, и беды общества. Впрочем, причина в данном случае имеет куда
меньше значения, чем следствие, прерывание нити жизни не только как
биологического существования, но и нити воспоминаний и надежд,
пристрастий и перемен, в зеркале которых каждый из нас узнает свое лицо, в
отражении которых слышит свой голос. Все знают, что у несчастья нередко
бывают социальные и политические причины, а счастье предполагает также
уничтожение зависимости и эксплуатации; однако мы не имеем права
забывать, что главная цель — это счастье каждого и каждой, а не построение
нового общества и создание нового человека.
Сегодня мораль долга сходит со своего пьедестала. Ее не следует замещать
моралью добропорядочных намерений и чистоты, которую проповедовали
катехизисы мировых религий; она должна просто освободить место для
поисков счастья. Последнее же невозможно без наслаждения, как Субъект
несостоятелен без индивидуума. Счастье не дарится, оно достигается,
завоевывается в борьбе с тем, что его постоянно разрушает. Сущность
Субъекта и его поиски счастья проявляются одинаково хорошо и в радости, и
в горе. В радости они заметны больше, ибо коллективная радость сродни
щедрому и освободительному порыву, индивидуальная же — похожа на
вдохновение первооткрывателя и изобретателя... Но формирование Субъекта
происходит также и в грусти, в печали — это его последняя возможность
замкнуться на самом себе после испытанных страданий и поражений, в
болезни и при ощущении близости смерти. Те, кто оказывает паллиативные
услуги умирающим, кто устанавливает с ними на одре смерти словесный и
бессловесный контакт, помогают им ощутить себя признанными в качестве
Субъектов. Более того: умирая, эти люди порой чувствуют себя более
счастливыми, чем они были на протяжении большей части жизни. Они
ощущают, что их любят за усилие, которое они совершили, чтобы вести себя
в минуту кончины так, как подобает человеку нравственному и свободному.
Создание Субъекта никогда не завершается обретением в полной мере
защищенного психологического, социального и культурного пространства.
Освобождение человека от рынка (marchandise) и от сообщества
(communaute) не завершится никогда; пространство свободы постоянно
подвергается атакам, и Субъект осознает себя таковым как через то, что он
отрицает, так и через то, что он принимает. Он никогда не является
единовластным хозяином само- го себя и окружающей среды, а потому
вынужден постоянно заключать союзы — с дьяволом, чтобы противостоять
существующей власти, с эротическим началом, чтобы подняться над
социальными установлениями, с божественными силами, чтобы изменить
самого себя. Те, кто унизил человеческое существо до нынешнего
положения, поставили его в зависимость от техники, предприятий и
государств. Субъект вынужден хитрить <...>; вовсе не будучи архитектором
идеального города, он строит ограниченные и хрупкие комбинации
инструментальной деятельности и культурной самобытности, извлекая
первую из товарного мира, а вторую — из общинного пространства. <...>
Идея Субъекта проистекает из опыта. Она постоянно присутствует в виде
силы или — напротив — в виде слабости (absence), когда человек чувствует
себя лишенным собственного «я», когда он нелюбим и непонят. Но не будем
противопоставлять интимный опыт Субъекта его социальным правам и их
защите; именно в слиянии личностного опыта и коллективных действий
скрывается возможность Субъекта выжить под атаками его мощных
противников.
Каким образом сочетаются счастье и Субъект? Как индивидуум может
создать свободное пространство, позволяющее ему узнать самого себя? Это
возможно благодаря смешению двух вселенных, которые стремятся
разделиться, — вселенной инструментальное™ и вселенной самобытности.
Каждая из них защищает другую от разрушения. Открытые рынки и
технические требования лучше всего противодействуют общинной
замкнутости, последняя же неизбежно влечет за собой иррациональность
целей и средств, неспособность плодотворно использовать имеющиеся
технические и экономические ресурсы. И в то же время, как противостоять
гетерономии массовой культуры, рыночным привилегиям, которые даруются
избранным, если не опираться на общинную самобытность и на силу либидо?
Ничто не является более предвзятым и, соответственно, более опасным, чем
развенчание лишь одной из двух сил де-модернизации. Те, кто разоблачает
опасность стратегического действия, давление рынка, демонизирует технику,
вынуждены восхвалять интеграционную силу сообщества, народа, расы или
секты. Схожим образом те, кто осуждает общинный дух (esprit
communautaire) или идеи смешения культур <...>, стремятся свести жизнь
индивидуума лишь к принятию предложений рынка. Демодернизация же
делает очевидным то, чему нас уже обучила модернизация: не может быть
индивидуаль- ного или коллективного позитивного стремления, которое не
было бы сочетанием противоположных требований <...>, ибо таковое есть
результат перевоплощения индивида в Субъекта, преодолевающего как
открытость рынка, так и закрытость сообщества. <...>
Этот слабый образ Субъекта одновременно противостоит образу
индивидуума, способного на рационально свободный выбор, и образу члена
коллектива <...>, ощущающего ответственность за всеобщее благо и
поддержание моральных принципов и институтов, на которых покоится
сообщество. Социальный дух, даже если он и определяется как
гражданственность, предполагает участие всех в общественной жизни и,
соответственно, общие моральные ценности. Однако данная ситуация
перестает быть реальной под воздействием возрастающей автономии
экономической жизни. Что же мы видим в итоге? Одновременную изоляцию
людей и смешение групп и индивидуумов, принадлежащих к различным
культурам, придание возрастающего значения отношениям власти и
зависимости и расширение зоны маргинальности и аномальности.
Если же мы возьмем противоположный образ — индивидуума, свободного в
своем выборе, управляемого собственными интересами и стремлением к
удовольствию, и к тому же свободного от всевозможных влияний, в том
числе и от влияния государства, — то это вызовет лишь реакцию возмущения
в мире, где неравенство обостряется с каждым днем, а безработица и
бедность распространяются с быстротой инфекции. <...>
Утверждение самого себя проходит через двойное отрицание, двойное
преодоление. Дистанцирование [человека от общности] принимает крайние
формы, когда человек лишен надежды, когда ему остается лишь
демонстративно протестовать против тоталитарной власти, воплощающей в
себе мощь технократической и бюрократической иерархии и одержимость
идеей общинной унифицированности. Диссидент — это воплощение чистого
отказа, его сила убеждения тем больше, чем он независимее от идеологий и
партий. <...> Его активное присутствие, его страдание не предлагают метода
лечения, но делают видимым то, что было раньше скрыто, на- зывают то, что
было безымянным. Он рискует так же, как манифестант в белой рубашке,
который — забыв про угрозу его жизни -встал на пути танков, рвущихся к
площади Тяньанъмынь.
Этот протест не нуждается в надежде, объяснении, заданности. Он является
актом одиночки, и именно это — точнее, отсутствие репрезентативности и
организации — придает ему универсальную ценность. В отказничестве
диссидента воплощена способность человека сказать «Нет!», отражен
несгибаемый характер того, кого с этого момента необходимо называть
Субъектом, а значит — действующим лицом, ставшим таковым благодаря
его способностям и воле действовать вопреки рыночным предложениям и
общинной власти. Естественно, что это толкование отказа нуждается в
дополнении, а именно — в утверждении Субъекта в ситуациях менее
экстремальных. <...>
Так чем же является Субъект, если он не Эго (Moi) и если он не говорит от
имени какого-либо бога? Не чем иным, кроме как воплощением потребности
в индивидуализации, которая включает в себя необходимость признания этой
потребности как в других, так и в себе самом. Подобная потребность
выступает своим собственным обоснованием, она не ищет легитимации вне
самой себя и, следовательно, определяется как право и расценивает все, что
противостоит ей, как несправедливость, более того — как зло. Добро и зло
определяются отныне не в зависимости от общественной пользы и долга, а
по присутствию или отсутствию индивидуума в самом себе, по признанию
или непризнанию за ним права вести самостоятельную жизнь, быть
отличным от других и — прежде всего — быть реальной единицей,
переживающей все многообразие опытов и ситуаций. Таким образом,
Субъект является принципом, в зависимости от отношения к которому
формируются связи каждого с самим собой и с другими.
Вполне понятно, что над идеей Субъекта витает тень нравоучительности, и
легко объяснить враждебность Мишеля Фуко к теме субъективации. <...>
Самоконтроль, застывший на портретах кисти голландских мастеров,
внушает мне определенную неприязнь. Однако эти торжествующие буржуа
сейчас бесконечно далеки от современного человека; наш контроль над
временем и пространством исчез по мере того, как самобытность перестала
определяться нашими социальными ролями. Мы более не живем в социуме,
где наблюдение и контроль были вездесущими. Одно только упомина- ние
таковых вызывает мысли о тоталитарном обществе, где мы чувствовали бы
себя в опасности... Взамен этого социум становится все более
неопределенным; он оставляет без норм и правил все более обширные сферы
поведения; он гораздо чаще маргинализирует нас, чем вводит в какое-нибудь
сообщество, постоянно меняется, лишая нас возможности легко определить
свою самобытность, заменяет легко определяемые — положительные или
отрицательные — убеждения на амбивалентность. Те же убеждения, которые
призывают нас к осознанию самих себя, весьма далеки от веры в
соответствие личности и социальных ролей. <...>
Вот почему критические замечания Мишеля Фуко кажутся мне основанными
на примерах из жизни общества, все более оторванного от нашего, и весьма
своевременно напоминают о том, что ни в коем случае нельзя смешивать
идею Субъекта с идеей социального персонажа, осознающего свои права и
обязанности, являющегося хорошим гражданином и добропорядочным
тружеником. Субъект — в большей степени страдалец, чем победитель, он
одержим желанием, а не обладанием. Энтони Гидденс разумно
противопоставляет виновность, связанную с нарушением кодексов и
общественных табу, стыду, который вызывается покушением на
индивидуальную самобытность. «Мне стыдно, но я хочу есть», — написал
нищий бродяга на картонке, которую он держит у входа в метро. <...>
В наших обществах, где общественный и культурный контроль ослабляется,
самая большая опасность, грозящая Субъекту, противоположна той, которую
разоблачал Фуко. Под страхом морали-заторского и нормализаторского
сознания мы охотно удовлетворяемся образом «современного» (moderne)
Субъекта как отражения многообразия прожитых опытов, как простого
поиска того, что называется консистенцией (consistance), утверждением
цельности постоянно изменяющейся амальгамы и — прежде всего —
отказом от искажения части себя. Иллюстрацией этого определения может
быть противопоставление образа Пьера Безухова образу князя Андрея в
«Войне и мире», а также цитата из писем Рильке Лу Андреас-Саломе, где он
говорит о своем желании стать рекой — не замкнутой в берегах, а
разлившейся во всей дельте.
...Недостаточно настаивать на слабости и постоянных переменах,
происходящих с Эго (Moi), чтобы приблизиться к социологии Субъекта.
Следует сосредоточиться на двух основах последнего... <...> Первая из них
— это борьба против логики рынка и сообщества, борьба, которая навязывает
твердый и постоянный принцип поведения; вторая — положительное
дополнение к первой, стремление к индивидуализации и к ответу на вопрос:
Ubi consistam?
Подобные исследования можно упрекнуть в дистанцировании от философии
истории как религиозного видения мира. Более того, в них заложено
недоверие по отношению к любым асхатологиям, настолько часто наш век
видел рождение тоталитарных и авторитарных режимов, которые во имя
метасоциальных принципов пытались установить порядок, беспомощный в
мобилизации общества против зла. Правда, существует еще мистический
анархизм, восстающий против абсолютного зла, создаваемого от его имени,
но этот протест слишком безнадежный и запоздалый, чтобы создать нечто
позитивное. Те, кто усматривал в восстаниях эксплуатируемых бедняков и
освобождении колониальных народов свет, который должен был воссиять
над миром, сами создали закрытые сообщества, управляемые авторитарными
методами.., а в ходе национально-освободительных движений гораздо более
умело действовали мечом, чем пропагандистским словом. <...>
Трудно освободить идею Субъекта от великих идейных и социальных
традиций, благодаря которым она обрела свои формы, далекие от тех, что мы
изучаем сегодня. Идея Субъекта, пережив цепь последовательных
изменений, спустилась с небес на поля политических сражений, а затем
проникла и в социальные отношения, с тем чтобы установить связь с
прожитым опытом. Сначала был создан универсальный образ лишенного
всякого частного опыта Субъекта с его четко определенными правами:
Субъект — ни мужчина, ни женщина, ни хозяин, ни раб. Затем его заменили
идеей Реализации Субъекта в истории. Затем стали говорить о
республиканском государстве или о просвещенном деспоте, а еще позже —
об особом общественном классе, предназначенном для универсалистской
миссии освобождения. Каждый раз подобное обращение к Субъекту
создавало абсолютную власть, и чем конкретнее становился Субъект,
воплощающий реалии и общественные отношения, тем более тоталитарной
оказывалась власть, вещающая от его име- ни и проникающая во все сферы
жизни общества. Современная история состоит из этих двух тенденций,
противоположных, но дополняющих друг друга: все более активного
формирования личностного Субъекта и возрастающего влияния
нормализаторской и морализаторской власти. Политическое действие,
совершаемое от имени человека и его прав, идентифицируется с гражданской
властью и террором. Защита прав трудящихся породила мечту о
справедливом и эгалитаристском обществе, но слишком часто приводила к
политическому рабству во имя социального освобождения.
Политические вожди, включая и интеллектуалов, упорно расценивали самих
себя как носителей высших ценностей и считали своим долгом защиту
народа — эксплуатируемого и колонизированного, лишенного собственности
и голоса. Хорошо это или плохо, но такое время прошло. Плохо потому, что,
говоря о народе, наконец обретающем голос, это часто делают для
оправдания идеологии власти. Хорошо потому, что когда индивидуумы
измеряют действия правящих элит аршином собственных требований, они
идут гораздо дальше своих материальных интересов и реализуют таким
образом идею Субъекта, свободного в своем поведении и личностном опыте.
Не случайно общественные движения все менее и менее призывают к
созданию нового социального порядка, но все более и более — к защите
свободы, обеспечению безопасности и человеческого достоинства.
Во всех изучавшихся мною общественных движениях я стремился выделять
прежде всего не их социальную основу, а их доминирующий моральный
принцип. Каждое из подобных движений несет в себе не представление о
справедливом обществе, которое может возникнуть при изучении философии
истории, а требование справедливости. <....> Они всегда являются
моральным протестом; они ставят себя над обществом ради того, чтобы
судить или преобразовывать его, но ни в коем случае не в центре общества,
что позволяет управлять социумом и ориентировать его развитие в
направлении, которое подсказывают Разум или История. Вот почему я
постоянно отмечал противоречие, существующее во всех общественных
движениях, между принципом оспаривания и интерпретирующей его речью.
Так, основные принципы рабочего движения были оппозиционны
социалистическим речам, растолковывавшим его цели; схожим образом
студенты Беркли и Нантера были чужды гиперленинистским речам Даниэля
Кон-Бендита. <...>
Со времен французской и американской Деклараций прав человека и до
наших дней это разделение политических программ и общественных
движений становилось все более явным по мере того, как политические силы
начинали заниматься управлением, все серьезнее вникая в экономические
проблемы. Общественные же движения, напротив, все глубже проникали в
культуру и изучение личности.
Говоря о том, что Субъект не является носителем идеальной модели
общества, необходимо обнаружить Субъекта личностного в Субъекте
историческом или даже религиозном, находящемся в центре видения
общества и мира. Обращение к религии всегда рассматривалось прежде всего
как орудие социального сплочения и поддержания традиции, в основе
которой лежит главный миф соответствующего сообщества; таким образом
происходила сакрализация социального.
Аналогичным может быть и подход к изучению общественных движений,
которые несут в себе то, что я называю историческим Субъектом. Некоторые
из них ориентируются на представления об идеальном или исторически
необходимом обществе, некоторые призывают к свободе, справедливости и
равенству. Обращение к Богу, разуму или истории может привести к
сакрализации общества; но оно может и де-сакрализировать его, подвергнуть
критике и призвать к соответствию принципам, которые не ограничивались
бы лишь правилами организации общественной жизни. <...>
Центральное место, которое мы предоставляем идее Субъекта, должно
воплотиться скорее не в подчеркивании уникальности современной
ситуации, а в поиске различающихся, но вытекающих друг из друга
социальных явлений, пронизывающих все общества, обладающие
определенным уровнем историчности, способные к самопроизводству и
трансформации. Во всех этих социумах Субъект предстает в двух
противоположных образах. В постмодернистском он воплощается в
национальном государстве, которое сам сакра-лизирует, и правах человека,
ограничивающих общественную власть. В условиях индустриального строя
он обожествляет новый общественный порядок, создавая проект идеального
социалистического общества, но голос Субъекта в рабочем движении
воплощается прежде всего в призывах к справедливости и освобождению
трудящихся. На каждом этапе, в любом типе общества Субъект
отталкивается от мифа о сакральном порядке и в то же время исходит из
принципа подрыва устройства, установленного властью.
Все это приводит к постижению современности образом, совершенно
противоположным тому, который так часто навязывался. О триумфе
инструментальной рациональности не приходится и помышлять. Все
большее значение придается идее Субъекта, который становится
единственным
связующим
звеном
между
экономической
или
административной рациональностью и моральными устоями. Ранее связь
между двумя этими аспектами современности (modernite) устанавливалась
юридической и моральной философией. Но именно эта социальная связь
становится сегодня слишком слабой, чтобы поддерживать единство
глобализированной экономики и действующих лиц, одержимых
социальными и культурными целями. Тут и возникает идея Субъекта в том
виде, в каком она была нами определена. Чем современнее общество, тем
большее значение придается не институтам и универсалистским принципам,
а самим действующим лицам. Именно от них должны исходить
преобразования, которые не дают сфере приложения социальных и
политических действий распасться и исчезнуть вообще. В то время как
современное общество нередко определяется в первую очередь как
легитимное само по себе или в силу рациональности его организации, я
считаю, что самой яркой чертой современности (modernite) является
ослабление социального поля.
Мы продолжаем оставаться под влиянием представления об обществе как о
законченной системе, все части которой взаимозависимы и которая имеет
конечную цель. Этот образ принял сегодня две основные формы: одна
отражает способность общества к интеграции и его адаптацию к переменам;
другая представляет собой мизансцену в социальной организации,
устроенную властями, чтобы замаскировать подавление личности. Между
тем надо признать существование в современных социумах разделения
самоконтролируемой общественной системы и культурных моделей,
определяющих его историчность. Последние не являются отражением
общества, они не годятся и для усиления социальной власти; они могут быть
поняты лишь как формы проявления Субъекта, свидетельствующие о его
растущем отделении от социальной организации и механизмов ее
воспроизводства. Таким же образом протестантская реформа в XVI веке
пошла путями, отличными от определенных эпохой Возрождения, а позже
моральный
индивидуализм
буржуазии
противопоставил
себя
капиталистическому духу.
Разделение культуры и общества идет быстрыми темпами уже целое
столетие, с тех пор, как начался кризис идеи тождества си- стемы и
действующего лица. Сегодня моральные категории превалируют над
социальными, ибо только они одни позволяют заново использовать
культурные ориентиры. <...> Этот переворот ускоряется бесконечно
возрастающей
мощью,
с
которой
наши
общества
способны
трансформироваться или разрушаться. Ныне так легко подвергнуть
опасности наше коллективное выживание, что человечество не в состоянии
поверить во всемогущество рационализаторских моделей, как это делало оно
с XVI по XX век. Картина социальной жизни, которую дает «классическая»
социология, предстает сегодня отстраненной от наблюдаемой реальности и
от сознания действующих лиц. Где можно увидеть ценностные системы,
превращающиеся в социальные нормы, и социальные нормы,
превращающиеся в формы власти, в статусы и роли? Кто, кроме нескольких
идеологов, верит в прогрессивную унификацию мира, полностью ставшего
рыночным? Те, кто наблюдает за социальной реальностью, напротив, ищут
путей трудного перехода между двумя океанами, разделяющими большую
часть мира: океаном ком-мунитарной
глобализированной экономики. <...>
самобытности
и
океаном
Идея Субъекта долго была тесно связана с идеей высшего принципа
разумности и порядка. Ссылаясь на религиозные, философские и
политические концепции, вот уже целое столетие многие мыслители требуют
предания Субъекта анафеме. Я стою на той же исходной точке, но вижу
рождение идеи личностного Субъекта в исчезновении философий о
Субъекте. Такое представление могло появиться только тогда, когда
разрушились все концепции мирового порядка. Философские системы,
подчинившие социальное действующее лицо законам природы,
божественному промыслу или политическому проекту, помешали отделению
личной воли к свободе от сил, борющихся за возврат к естественному
порядку. <...> Именно модернити, разрушившая все прежние системы
порядка, позволила Субъекту обнаружить легитимность в самом себе и
признать верховенство закона. <...>
Субьект старается избавиться от этих пут и угроз, от подстрекательств рынка
и приказов сообщества. Он получает свое определение в двойной борьбе,
которую ведет с помощью своего труда и своей культуры. Его цель —
собственная независимость; он стремится к расширению пространства
свободы, раздвигая его внешние границы, но это пространство — вовсе не
обитель святых и мудрецов.
Если Субъект замкнется лишь на своем собственном сознании, он увидит
только те образы, которые ему посылают другие, только те воззрения и
вкусы, которые соответствуют его позиции в социальной организации и в
отношениях с властью. В любом обществе, в каждой культуре Субъект — это
сила свободы. Само по себе данное определение может быть только
негативным, и лишь благодаря признанию Другого (Autre) как Субъекта,
лишь путем присоединения к юридическим и политическим правилам
уважения самого себя и Другого это понятие обретает содержание. Субъект
может существовать только в процессе освобождения от собственного
сознания, до такой степени мощно проникают в него силы, осознаваемые им
как внешние. Он — свидетель свободы, а не моралист, и еще в меньшей
степени защитник доминирующих норм и ценностей.
Вот почему в очередной раз я признаю в диссиденте совершенное
воплощение Субъекта. Ибо он выступает — даже если его и не слышат —
против властей, лишающих его свободы. Субъект — это слово; его
свидетельство публично, даже если никто не может его увидеть или
услышать. История культуры изобилует призывами к исполнению
требований, превышающих закон: жертва Антигоны, Нагорная проповедь,
Декларация прав человека, действия партизан или диссидентов, сражавшихся
с бесчеловечным режимом.
Ничто не мешает нам рассматривать индивидов, являющихся носителями
сильной субъективации и ставших одержимыми (sub-limes), как попавших в
ловушку собственного ложного сознания. Я использую слово «одержимый» в
том смысле, какой ему придавали в начале индустриализации, когда так
называли
рабочих,
которые
одновременно
были
активистамиреволюционерами, горькими пьяницами и преступниками. Эта смесь, столь
насыщенная по смыслу, часто встречается и в истории религий, и в
летописях социальных движений, и в народном воображении. Она важна и
необходима, ибо говорит нам о том, что субъективация есть отклонение от
норм функционального поведения, которого требует общественный порядок.
Субъективация не была бы столь могучей силой социального преобразования
и протеста, если бы она не порывала с механизмами культурного
воспроизводства и общественного контроля. Вот почему Субъект всегда
несколько отделен от самого себя, или точнее — каждый из нас считает себя
исключительным и уникальным в той степени, в какой он ощущает себя
Субъектом.
В либеральных обществах, функционирование которых регулируется
рынком, субъективация может развиваться, не встречая непреодолимых
препятствий. Тогда главным риском для нее становится сведение «Я» (Je) к
«Эго» (Moi), то есть к определенному психологическому благосостоянию, к
иллюзии, будто частная жизнь может развиваться вне осознания кризисов
общественной жизни. Эту мораль труда, честности и долга вовсе не стоит
презирать, но она до боли хрупка: защищающие ее переборки превращаются
в прах при первом же социальном возмущении. Субъективация же, напротив,
верит только в то, что связано с сомнением, страданием и надеждой. Тот,
кого я называю Субъектом, открыт, подвержен давлениям, доступен
соблазнам и угрозам системы, стремящейся перемолоть тех, кто
противопоставляет ей свою свободу и самобытность.
Моральные нормы, подталкивающие индивида к жертвам ради коллективных
целей, очень устойчивы. И как не подчиниться призывам долга, не отрекаясь
от чистого индивидуализма, все более обуреваемого соблазнами массового
потребления или абстрактными импульсами желания?
Здесь необходимо вернуться к исходному пункту. В гиперсовре-менном
обществе индивидуум постоянно подвергается действию сил рынка с одной
стороны и сил сообщества — с другой. Их противоположность часто
приводит к терзанию индивидуума, который становится или потребителем,
или верующим. Субъект же формируется прежде всего в сопротивлении
этому разрыву, в своем желании самобытности, иначе говоря — в том, чтобы
его признавали им самим в каждом его проявлении. Так, во многих регионах
Латинской Америки этнические группы борются за выживание их экономики
и признание их культуры. Заявляя о своем желании защитить сообщество,
они нередко растворяются в низших стратах городского населения ради того,
чтобы найти работу, пропитание и возможность образования для детей. Но
бывают и случаи, когда данные группы ищут способов защитить свою
культурную самобытность, активнее участвуя в экономических и
политических процессах. В такие моменты они становятся способными на
масштабные коллективные действия и даже на социальные выступления. Вот
почему моим центральным тезисом является связь идеи Субъекта с идеей
социальной активности.
В этой идее содержатся два утверждения. Первое состоит в том, что в
Субъекте воплощены воля, сопротивление и борьба; второе — в
невозможности социального движения без стремления Субъекта к
освобождению. Коллективная активность, определяемая как инструмент
исторического прогресса, как защита сообщества или вероисповедания или
просто как примитивная сила, разрушающая барьеры и традиционные
обычаи, не может сделаться подлинно социальным движением, стремительно
деградируя до положения инструмента подавления, находящегося на службе
у власти. Субъект — это не рефлексия индивидуума по собственному поводу,
не идеальный образ, рисуемый им в гордом одиночестве, а непосредственное
действие. Вот почему он никогда не совпадает с индивидуальным опытом.
Можно ли говорить о воле к индивидуализации, если рефлексирующему
сознанию достаточно лишь удостовериться в существовании и в свободе
индивидуума? Идея Субъекта далека от скептической свободы Монтеня; она
гораздо ближе терзаниям Паскаля; она воплощается тогда, когда проявляется
коллективное действие, направленное на создание пространства —
одновременно социального, политического и морального. <...>
Мораль, которую мы унаследовали от предшествующих социальных форм,
была одновременно персонифицированной и общественной. Она
основывалась на универсальных принципах и солидном базисе потому, что
определяла правила, которым надо было следовать для исполнения
социальных обязанностей. Наша же этика стремится к отстранению от
социальных ролей, что способствует нашей амбивалентности по отношению
к социально определенному выбору. Мы менее рациональны, более того —
мы часто сталкиваемся с непреодолимыми противоречиями при выполнении
универсальных законов, не доверяя им. И даже если этические понятия
исходят из моральных принципов, они более удалены сегодня от социальных
рамок, чем сами моральные принципы. Этическое переживается как
обращение Субъекта к нему самому. Когда мы говорим об этической
ориентации по отношению к другим, мы ищем в них Субъекта, как ищем его
в нас самих, в результате чего в центре этических оценок оказывается не
взаимодействие с другими людьми, а наша связь с самим собой. Именно
последнее организует наши отношения с другими людьми, что самым четким
образом прослеживается в наиболее личностных и интимных отношениях.
<...>
Эта практическая ориентация этики, дистанцирующейся от общественной
морали и социальных норм, является продолжением творчества тех
мыслителей, которые ставили принцип гуманизма выше всех социальных и
культурных различий. <...> Движение по отделению социального и
биологического существования от Субъекта становится нашим правом и
долгом, когда мы говорим о сопротивлении подавлению и нетерпимости. Нет
ничего общего между тем, что приходится называть «гуманизмом», и
призывом к множеству людей, естественным образом обращенных к
волюнтаристским принципам, — такому, как нация, раса или пролетариат, то
есть внешним формам поведения, навязанным прежними видами
эксплуатации. <...>
Субъект замкнут на индивидууме, а воля к независимости и освобождению
от пут — главное в его становлении. Глубинная сущность Субъекта весьма
отлична от сущности социального действующего лица, ибо последняя
определяется отношением к другому такому же лицу, что предполагает
дефиницию ролей, статусов, форм организации и власти — иначе говоря,
норм. Насколько просто сделать акцент на свободе Субъекта и определении
институциональных условий по защите этой свободы, сформулировать
Декларацию прав человека и Субъекта, настолько же трудно определить
социальные отношения, не смещая при этом акцентов и не входя таким
образом в противоречие с тем исследованием, которое проводилось нами до
настоящего момента. <...>
Следует более конкретно определить социальные отношения, в которые
вступает Субъект. Он может вступить в эти связи только с другим
Субъектом, стремящимся, как и он, к двойному освобождению и творению
самого себя. Одно действующее лицо взаимодействует с другим не как с
существом, похожим на него или, напро- тив, полностью отличным, а как с
совершающим подобное же усилие по постижению личного и коллективного
опыта. Такое отношение к Другому базируется на симпатии и понимании его,
отчасти отличного и частично уже заангажированного инструментальным
миром. Здесь нет ни ощущения принадлежности к одной общности, ни
осознания полной «разности», как это было в момент открытия Америки.
Границы между общим и различным, цивилизацией и дикостью, близким и
дальним тут полностью размыты.
Мы заняты поисками Другого как носителя универсального, оценивая самих
себя как направленных на универсальное. Иначе говоря, век Просвещения,
сам по себе являвшийся наследием религиозного мира, ушел в прошлое, и
больше не представляется возможным установить связь с другими, исходя из
принципов торжествующей модернити. Сам по себе модернизм и в еще
большей мере недавняя демодернизация похоронили идею цивилизации.
Только из страданий разорванного индивидуума и из связей между
Субъектами может родиться способность Субъекта стать действующим
социальным лицом. Субъект более не формируется согласно классической
модели, принимая те или иные социальные роли и завоевывая те или иные
права; он создает самого себя в инструментальном, товарном и техническом
обществе, подгоняя свои возможности к желанию свободы и своей воле
создавать формы социальной жизни, благоприятные как для его
утверждения, так и для признания Другого как Субъекта.
Моральные убеждения должны устанавливать пределы гражданским
обязанностям. Мы должны признавать право не носить оружие за теми, кто
не хочет этого делать, но мы должны признавать и право врача или
медсестры (пусть и не в больнице, существующей на деньги
налогоплательщиков) отказаться от выполнения аборта, даже если
существует право на искусственное прерывание беременности. Я
поддерживаю папу Иоанна Павла II, когда он призывает к уважению
религиозных убеждений и считает, что закон не имеет права их не учитывать.
Надо противостоять любым попыткам превратить светский характер
общества в принцип общественной морали. В лучшем случае это может
привести к конформизму, в худшем — к репрессиям. Демократия
основывается не только на признании основных прав, ограничивающих
любую общественную власть, но и на солидарности, позволяющей каждому
индивидууму утвердиться как социальному Субъекту.
Самобытность Субъекта может быть обусловлена только сочетанием трех
сил: личного желания сохранить свою индивидуальную самостоятельность
<...>; коллективной и частной борьбы против властей, трансформирующих
культуру в сообщество, а труд — в товар; и признания — как
межличностного, так и институционного — Другого в качестве Субъекта.
Субъект не формирует себя в непосредственном контакте с самим собой, на
базе своего личностного опыта, в контексте персонального удовольствия и
общественного успеха. Он существует только в борьбе с силами рынка и
сообщества; он не создает идеального города и индивидуума высшего типа,
он осваивает и защищает лужайку, которую постоянно пытаются захватить.
Он скорее обороняется, чем участвует в борьбе, он скорее защищается, чем
пророчествует. Правда, он не олицетворяет собой лишь протест и борьбу; он
также знает удачу, успех и счастье. Но он — не архитектор идеального
порядка; он — сила освобождения.
* - Weizsaecker E., van, Lovins A.B., Lovins L.H. Factor Four. Doubling Wealth
— Halving Resource Use. L., Earthscan Publications Ltd., 1997. Copyright —
Weizsaecker E., von, Lovins А. В., Lovins L.H. 1997. Текст воспроизводится с
согласия Э. фон Вайцзеккера.
* - Weizsaecker E., van, Lovins A.B., Lovins L.H. Factor Four. Doubling Wealth
— Halving Resource Use. L., Earthscan Publications Ltd., 1997. Copyright —
Weizsaecker E., von, Lovins А. В., Lovins L.H. 1997. Текст воспроизводится с
согласия Э. фон Вайцзеккера.
Оглавление
Новая постиндустриальная волна на Западе
Оглавление
Мануэль Кастельс. Становление общества сетевых структур
Мы вновь обращаемся к работе Мануэля Кастельса «Информационная эра:
экономика, общество и культура» [1996—1998], на этот раз к первой части
трилогии— «Становление общества сетевых структур» (1996).
В ней профессор Кастельс предпринимает развернутый анализ современных
тенденций, приводящих к формированию основ общества, которое он
называет сетевым. Логика автора достаточно понятна; постулируя, что
информация есть по самой своей природе такой ресурс, который легче
любых других проникает через всяческие преграды и границы, он
рассматривает информационную эру как эпоху глобализации, а средством и
одновременно воплощением таковой и выступают сетевые структуры,
которые он считает наиболее характерным явлением современного мира.
Первый том трилогии разделен на семь частей, в которых М.Кас-тельс
весьма подробно, приводя множество конкретных данных, описывает
основные логические составляющие сетевого общества. Его анализ
начинается с исследования той революции, которую приносит с собой
развертывание информационных технологий, то есть с предпосылок
становления новой общественной структуры; далее изучается процесс
глобализации современной экономики и рассматривается структурная
единица новой организации производства — то, что автор называет «сетевым
предприятием» (network enterprise). Однако на этом этапе основная линия
повествования как бы прерывается; если в первых двух частях автору
удавалось удерживаться в рамках достаточно строгого теоретического
анализа, то начиная с середины третьей части книги он больше уделяет
внимания не структурированному изложению концепции, а приведению
огромного
количества
примеров,
иллюстрируя
скорее
свою
информированность в вопросах организации хозяйственной жизни в самых
разных регионах мира, нежели приверженность ранее выдвинутым
теоретическим положениям.
Подобный подход можно понять: профессор Кастельс, как мы уже отмечали,
настолько увлечен идеей противопоставления «информацио-нализма» как
исторической формы общества всем предшествующим формам, что
стремится если не посредством теоретических доказательств, то по крайней
мере апелляцией к завораживающим примерам убедить читателя в том, что
как в развитых странах, так и на периферии индустриального мира сегодня
происходят перемены, равных которым по своей значимости еще не знала
история человечества.
Поэтому вторая половина книги воспринимается скорее как заметки
стороннего наблюдателя, тщательно фиксирующего наиболее резко
выделяющиеся из общего ряда события, наиболее нетрадиционные
социальные и экономические формы, нежели как работа ученого,
стремящегося обнаружить в происходящих изменениях определенные
закономерности и тенденции.
И вновь, как и в первом случае, мы можем положиться лишь на авторитет и
научную добросовестность автора и предложить читателям полный текст
заключения к первому тому его трилогии, как мы поступили и со вторым
томом. Этот текст, озаглавленный М.Кас-тельсом «Общество сетевых
структур», соответствует стр. 469— 478 в издании Blackwell Publishers).
СТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА СЕТЕВЫХ СТРУКТУР*
Исследование зарождающихся социальных структур позволяет сделать
следующее заключение: в условиях информационной эры историческая
тенденция приводит к тому, что доминирующие функции и процессы все
больше оказываются организованными по принципу сетей. Именно сети
составляют новую социальную морфологию наших обществ, а
распространение «сетевой» логики в значительной мере сказывается на ходе
и результатах процессов, связанных с производством, повседневной жизнью,
культурой и властью. Да, сетевая форма социальной организации
существовала и в иное время, и в иных местах, однако парадигма новой
информационной технологии обеспечивает материальную основу для
всестороннего проникновения такой формы в структуру общества. Более
того, я готов утверждать, что подобная сетевая логика влечет за собой
появление социальной детерминанты более высокого уровня, нежели
конкретные интересы, находящие свое выражение путем формирования
подобных сетей: власть структуры оказывается сильнее структуры власти.
Принадлежность к той или иной сети или отсутствие таковой наряду с
динамикой одних сетей по отношению к другим выступают в качестве
важнейших источников власти и перемен в нашем обществе; таким образом,
мы вправе охарактеризовать его как общество сетевых структур (network
society), характерным признаком которого является доминирование
социальной морфологии над социальным действием.
Прежде всего я хотел бы дать определение понятию сетевой структуры, коль
скоро последняя играет столь важную роль в моей характеристике общества
информационного века. Сетевая структура представляет собой комплекс
взаимосвязанных узлов. <...> Кон- кретное содержание каждого узла зависит
от характера той конкретной сетевой структуры, о которой идет речь. К ним
относятся рынки ценных бумаг и обслуживающие их вспомогательные
центры, когда речь идет о сети глобальных финансовых потоков. К ним
относятся советы министров различных европейских государств, когда речь
идет о политической сетевой структуре управления Европейским союзом. К
ним относятся поля коки и мака, подпольные лаборатории, тайные взлетнопосадочные полосы, уличные банды и финансовые учреждения,
занимающиеся отмыванием денег, когда речь идет о сети производства и
распространения наркотиков, охватывающей экономические, общественные
и государственные структуры по всему миру. К ним относятся
телевизионные каналы, студии, где готовятся развлекательные передачи или
разрабатывается компьютерная графика, журналистские бригады и
передвижные технические установки, обеспечивающие, передающие и
получающие сигналы, когда речь идет о глобальной сети новых средств
информации, составляющей основу для выражения культурных форм и
общественного мнения в информационный век. Согласно закону сетевых
структур, расстояние (или интенсивность и частота взаимодействий) между
двумя точками (или социальными положениями) короче, когда обе они
выступают в качестве узлов в той или иной сетевой структуре, чем когда они
не принадлежат к одной и той же сети. С другой стороны, в рамках той или
иной сетевой структуры потоки либо имеют одинаковое расстояние до узлов,
либо это расстояние вовсе равно нулю. Таким образом, расстояние
(физическое, социальное, экономическое, политическое, культурное) до
данной точки находится в промежутке значений от нуля (если речь идет о
любом узле в одной и той же сети) до бесконечности (если речь идет о любой
точке, находящейся вне этой сети). Включение в сетевые структуры или
исключение из них, наряду с конфигурацией отношений между сетями,
воплощаемых при помощи информационных технологий, определяет
конфигурацию доминирующих процессов и функций в наших обществах.
Сети представляют собой открытые структуры, которые могут
неограниченно расширяться путем включения новых узлов, если те способны
к коммуникации в рамках данной сети, то есть используют аналогичные
коммуникационные коды (например, ценности или производственные
задачи). Социальная структура, имеющая сетевую основу, характеризуется
высокой динамичностью и открыта для инноваций, не рискуя при этом
потерять свою сбалансированность. Сети оказываются институтами,
способствующими развитию целого ряда областей: капиталистической
экономики,
основывающейся
на
инновациях,
глобализации
и
децентрализованной концентрации; сферы труда с ее работниками и
фирмами, основывающейся на гибкости и адаптируемости, сферы культуры,
характеризуемой постоянным расчленением и воссоединением различных
элементов; сферы политики, ориентированной на мгновенное усвоение
новых ценностей и общественных умонастроений; социальной организации,
преследующей своей задачей завоевание пространства и уничтожение
времени. Одновременно морфология сетей выступает в качестве источника
далеко идущей перестройки отношений власти. Подсоединенные к сетям
«рубильники» (например, когда речь идет о переходе под контроль
финансовых структур той или иной империи средств информации, влияющей
на политические процессы) выступают в качестве орудий осуществления
власти, доступных лишь избранным. Кто управляет таким рубильником, тот
и обладает властью. Поскольку сети имеют множественный характер,
рабочие коды и рубильники, позволяющие переключаться с одной сети на
другую, становятся главными рычагами, обеспечивающими формирование
лица общества наряду с руководством и манипулированием таким
обществом. Сближение социальной эволюции с информационными
технологиями позволило создать новую материальную основу для
осуществления таких видов деятельности, которые пронизывают всю
общественную структуру. Эта материальная основа, на которой строятся все
сети, выступает в качестве неотъемлемого атрибута доминирующих
социальных процессов, определяя тем самым и саму социальную структуру.
Таким образом, можно говорить о том, что новые экономические формы
строятся вокруг глобальных сетевых структур капитала, управления и
информации, а осуществляемый через такие сети доступ к технологическим
умениям
и
знаниям
составляет
в
настоящее
время
основу
производительности и конкурентоспособности. Компании, фирмы и, во все
большей степени, другие организации и институты объединяются в сети
разной конфигурации, структура которых знаменует собой отход от
традиционных различий между крупными корпорациями и малым бизнесом,
охватывая секторы и экономические группы, организованные по
географическому принципу. Поэтому трудовые процессы обретают все более
индивидуализированный
характер,
происходит
фрагментизация
деятельности в зависимости от производственных задач с ее последующей
ре-интеграцией для получения конечного результата. Это находит свое
проявление в осуществлении взаимосвязанных задач в различных точках
земного шара, что означает новое разделение труда, основывающееся на
возможностях и способностях каждого работника, а не на характере
организации данной задачи.
Ориентация на сетевые формы управления и производства отнюдь не
означает заката капитализма. Общество сетевых структур, в любых его
институциональных воплощениях, в настоящее время является буржуазным
обществом. Более того, капиталистический способ производства сегодня
впервые определяет социальные взаимоотношения повсюду в мире. Однако
эта разновидность капитализма коренным образом выделяется на фоне своих
исторических предшественников. Ее отличают два главных признака: она
носит всемирный характер и в значительной степени строится вокруг сети
финансовых потоков. Капитал работает в глобальном масштабе и в реальном
времени, причем он реализуется, инвестируется и накапливается прежде
всего в сфере обращения, т.е. как финансовый капитал. Последний всегда
составлял основную часть капитала, однако сегодня мы являемся
свидетелями несколько иного феномена: дальнейшее накопление капитала и
финансовая деятельность все чаще осуществляются на глобальных
финансовых рынках; из этих сетевых структур притекают инвестиции во все
области хозяйственной деятельности: информационный сектор, сферу услуг,
сельскохозяйственное
производство,
здравоохранение,
образование,
обрабатывающую промышленность, транспорт, торговлю, туризм, культуру,
рациональное использование окружающей среды и т.д. <...> Некоторые виды
деятельности оказываются более доходными, чем другие, проходя через
различные циклы, переживая взлеты и падения рынка, испытывая влияние
глобальной конкуренции. При этом, вне зависимости от того, что именно
обеспечивает получение прибыли (производители, потребители, технология,
природа или институты), она попадает в метасеть финансовых потоков, где
любой капитал уравнивается в условиях обращенных в продукт демократии
денег. В этом вселенском казино, которым управляют компьютеры,
различные виды капитала расцветают или, наоборот, обесцениваются,
определяя при этом судьбу корпораций, семейных сбережений,
национальных валют и региональных эко- номик. Общий итог равен нулю,
поскольку выигрыш победителей оплачивают проигравшие. Однако
выигравшие и проигравшие меняются ежегодно, ежемесячно, ежедневно,
ежесекундно, и эти перемены отражаются на мире компаний, рабочих мест,
зарплат, налогов, общественных служб, на том самом мире, который подчас
считают «реальной экономикой» и который я бы предпочитал называть
«нереальной экономикой», поскольку в век капитализма сетевых структур
настоящая реальность, где делают или теряют, размещают или сберегают
деньги, находится в финансовой сфере. Все другие виды деятельности (за
исключением деятельности во все более сокращающемся государственном
секторе) выступают либо в качестве основы для получения необходимых
свободных средств, которые можно было бы вложить в глобальные
финансовые потоки, либо же в качестве результата уже помещенных сюда
капиталовложений.
Однако чтобы финансовый капитал мог работать и конкурировать, он должен
опираться на знания и информацию, получающие обеспечение и
распространение благодаря информационной технологии. Таково конкретное
содержание взаимосвязи между капиталистической формой производства и
информационной формой развития. Капитал, которым распоряжаются чисто
по наитию, всегда подвержен опасностям и в конечном счете размывается
под воздействием элементарной статистической вероятности в условиях
произвольных колебаний финансовых рынков. Процесс его накопления
заключается не в чем ином, как во взаимодействии между выгодным
размещением средств в соответствующих фирмах и использованием
накопленных прибылей для их обогащения в условиях глобальных
финансовых сетей. Таким образом, накопление капитала связано с
производительностью, конкурентоспособностью и наличием необходимой
информации относительно инвестиций <..-> в каждом секторе экономики.
Фирмы, занимающиеся разработкой высоких технологий, зависят от
финансовых средств, без которых они неспособны продолжать свой
бесконечный поиск инноваций, обеспечивая производительность и
конкурентоспособность. Финансовый капитал, действуя непосредственным
образом через банковские институты либо же опосредованно, через
динамику фондовых рынков, определяет судьбу высокотехнологичных
отраслей. С другой стороны, технология и информация выступают в качестве
решающих средств, обеспечивающих получение прибылей и завоевание
рынка. Таким образом, финансовый капитал и промышленный капитал,
связанный с высокими технологиями, оказываются во все большей
взаимозависимости, пусть и сохраняя свою специфику в том, что касается
формы деятельности каждой из отраслей.
Итак, капитал либо изначально носит глобальный характер, либо обретает
его с целью приобщения к процессу накопления в условиях экономики,
строящейся вокруг электронных сетей. По принципу сетей фирмы
организуют как свою внутреннюю структуру, так и внешние связи. Благодаря
этому потоки капитала и вызываемая ими к жизни деятельность, связанная с
производством, управлением и распределением, растекаются по
взаимосвязанным сетям самой различной конфигурации. Но кто же тогда в
этих новых технологических, организационных и экономических условиях
выступает в качестве капиталистов? Вряд ли в их число входят юридические
владельцы средств производства, которыми могут оказаться, к примеру, ваш
или мой пенсионный фонд либо прохожий на улице Сингапура,
вкладывающий средства в растущий аргентинский рынок с помощью
банковского автомата. К числу капиталистов нельзя отнести и менеджеров
корпораций, как это предлагают сделать некоторые авторы, ибо они
контролируют конкретные корпорации и конкретные участки глобальной
экономики, однако ничего не знают о систематических, повседневных
подвижках капитала в финансовых сетях, развитии знаний в сетях
информационных или об эволюции стратегий в многогранном комплексе
сетевых предприятий. Менеджеры бывают представителями верхушки
глобальной системы капитала; так обстоит дело в японских корпорациях. Их
можно выявить и в рамках традиционной буржуазии, например, в
зарубежных сетевых структурах китайского бизнеса, причем у этой
категории прослеживаются отчетливо выраженные культурные связи,
зачастую семейные или личные, наряду с общими ценностями и, подчас,
политическими контактами. В Соединенных Штатах сложился причудливый
портрет
современного
капиталиста,
у
которого
одновременно
просматриваются черты традиционных банкиров; спекуляторов-нуворишей;
гениев, обернувшихся предпринимателями и самостоятельно поднявшихся
на вершину социальной лестницы; магнатов глобального масштаба и
менеджеров многонациональных корпораций. В других случаях в качестве
капиталистов выступают государственные корпорации (примером могут
служить французские банки и компьютерные фирмы). В России бывшие
представители коммунистической номенклатуры конкурируют с молодыми
«дикими» капиталистами, стремясь урвать кусок государственной
собственности в условиях становления самой молодой провинции
капиталистического мира. И во всех странах деньги. отмываемые самыми
различными криминальными структурами, стекают в глобальную
финансовую сеть, единовластную хозяйку всех накоплений.
Итак, речь идет о капиталистах, которые стоят во главе всех и всяческих
экономик и одновременно распоряжаются людскими жизнями. Но можно ли
объединить их в класс? Ни социологически, ни экономически такой
категории, как глобальный класс капиталистов, не существует. Вместо него
имеется взаимосвязанная, глобальная система капитала, движения и
изменчивая логика которого в конечном счете определяют экономику и
сказываются на судьбе любого общества. Таким образом, над многообразием
буржуа во плоти, объединенных в группы, восседает безликий обобщенный
капиталист, сотканный из финансовых потоков, управляемых электронными
сетями. Это явление нельзя сводить к простому выражению абстрактной
логики рынка, поскольку этот феномен не вполне подчиняется законам
спроса и предложения: он реагирует на всякого рода встряски, на не
поддающиеся прогнозу подвижки, обусловленные психологическими и
социальными факторами в не меньшей степени, чем экономическими
процессами. Эта глобальная сеть капиталистических сетей одновременно
объединяет и ставит под свой контроль конкретные центры накопления
капитала, определяя структуру поведения капиталистов на основе их
подчинения самой себе. Отдельные же капиталисты следуют своим
конкурирующим либо, напротив, взаимодополняющим стратегиям, двигаясь
по контурам и цепям этой глобальной сети, оказываясь, тем самым, в
конечном счете в зависимости от внечеловеческой логики произвольно
обработанной информации, подчиняющейся компьютерам. Это капитализм в
его наиболее чистом выражении, живущий только для денег и ради денег и
производящий товары ради производства других товаров. Однако деньги
практически окончательно потеряли свою зависимость от производства,
включая производство услуг; они ушли в сети электронных взаимодействий
более высокого порядка, которые едва ли понятны даже тем, кто выступает в
качестве их менеджеров. Капитализм по-прежнему остается правящей
системой, однако капиталиста во плоти можно встретить только случайно, а
капи- талистические классы ограничены конкретными регионами мира, где
они процветают в качестве придатка к мощному процессу, воля которого
находит свое проявление в колонках биржевых ведомостей и в рейтинге
фьючерных сделок и опционов, мигающих на экранах компьютеров по всему
миру.
Что же происходит с такой категорией, как труд, как социальные
производственные отношения, в этом новом мире информационного
капитализма? В пространстве финансовых потоков работники не исчезают, а
работы остается в избытке. Вопреки апо-калиптическим пророчествам,
основывающимся
на
примитивном
анализе,
сегодняшний
мир
характеризуется большим числом рабочих мест и более высокой долей
занятости самодеятельного населения, чем когда-либо в истории. В основном
это объясняется широким привлечением женщин к оплачиваемому труду во
всех индустриально развитых обществах, причем этот контингент рынку
труда удалось в целом абсорбировать без особых проблем. Таким образом,
распространение информационных технологий, несмотря на все изменения
структуры труда и уничтожение определенных рабочих мест, не привело и
вряд ли в будущем приведет к массовой безработице, даже несмотря на ее
рост в Европе, который, скорее, больше связан с социальными институтами,
чем с новой производственной системой.
Однако, несмотря на то, что работа, работники и трудящиеся классы
существуют и даже получают все большее распространение в мире,
социальные взаимоотношения между трудом и капиталом претерпевают
коренные преобразования. Капитал по самой своей сути носит глобальный
характер, а труд, как правило, — локальный. Историческая реальность
развития информационных технологий такова, что ведет к концентрации и
глобализации капитала, причем именно благодаря непреодолимому
децентрализующему воздействию сетевых структур. Труд оказывается
расчлененным в зависимости от осуществляемых операций, раздробленным
по организационному признаку, диверсифицированным в аспекте наличия
или отсутствия работы, раздельным в условиях коллективной деятельности.
Сети сливаются друг с другом, образуя метасеть капитала, объединяющую
капиталистические интересы на глобальном уровне, вне зависимости от сфер
и участков деятельности; это не может не сопровождаться конфликтами,
однако подчиняется одной и той же общей логике. Труд же теряет свою
коллективную самобытность, становится все более индивидуализированным
с
точки
зрения
возможностей
работников,
условий
труда,
заинтересованности в нем и перспектив на будущее. Кто владелец? Кто
изготовитель? Кто хозяин? Кто слуга? Эти понятия становятся все более
размытыми в условиях системы производства, характеризуемой меняющейся
конфигурацией, совместной работой, созданием сетей, привлечением
внешних источников, использованием субподрядов. Вправе ли мы
утверждать, что стоимость создается отупевшим от работы на своем
компьютере изобретателем новых финансовых средств, чей труд
отчуждается брокерами корпораций? Кто участвует в создании стоимости в
электронной промышленности? Изобретатель чипа в Кремниевой долине или
же девушка, работающая на конвейере фабрики где-то в Юго-Восточной
Азии? Несомненно, они оба, хотя и соверш