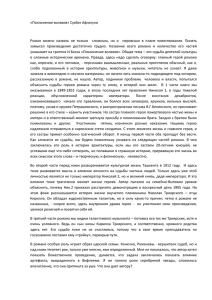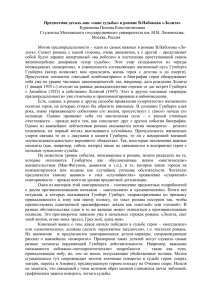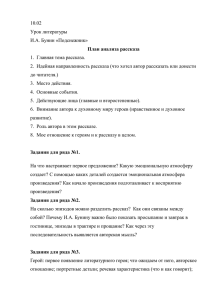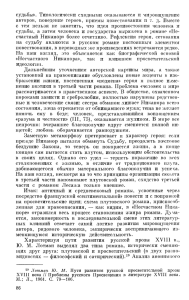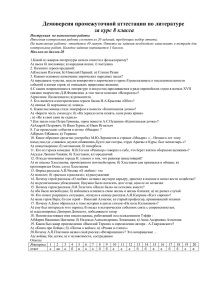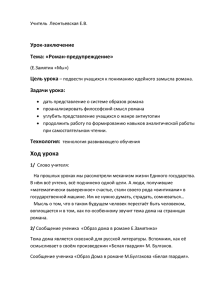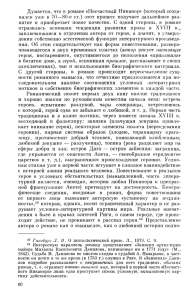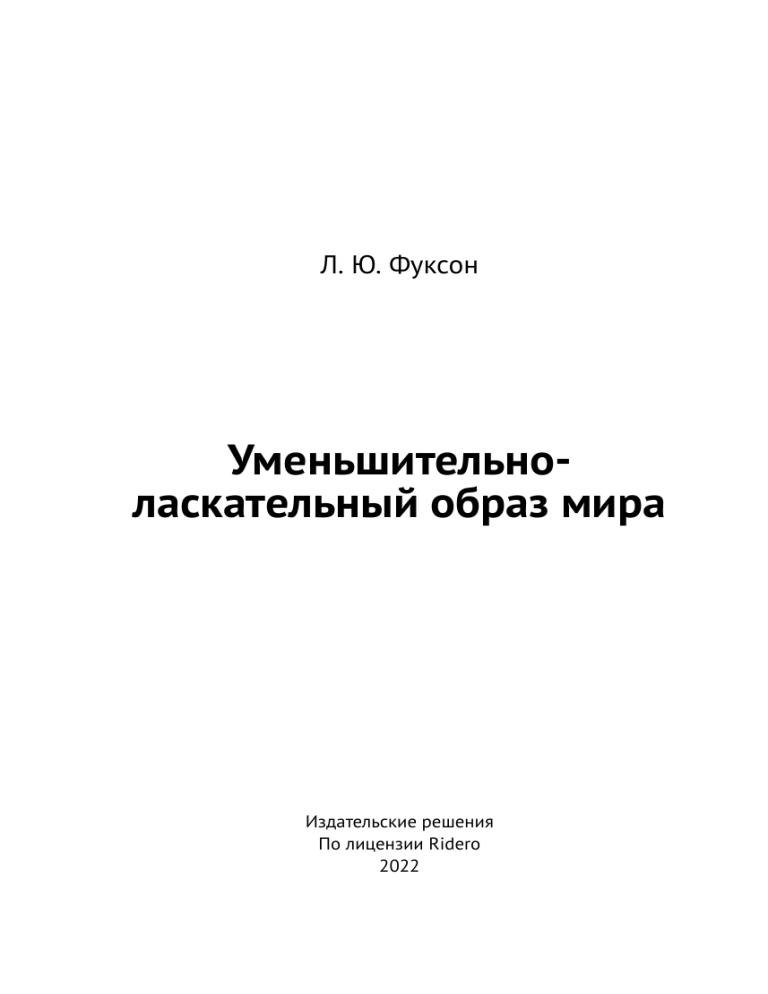
Л. Ю. Фуксон Уменьшительноласкательный образ мира Издательские решения По лицензии Ridero 2022 УДК 82.02, 82.091 ББК 83.0, 87.81 Ф94 Рецензенты: В. И. Тюпа, д. ф. н., профессор кафедры теоретической и исторической поэтики РГГУ (Москва) И. В. Силантьев, д. ф. н., профессор, директор Института филологии СО РАН РФ (Новосибирск) Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп» Ф94 Фуксон Л. Ю. Уменьшительно-ласкательный образ мира / Л. Ю. Фуксон. — [б. м.] : Издательские решения, 2022. — 142 с. ISBN 978-5-0056-8164-5 Предлагаемая монография посвящена вопросам сентиментальной художественности, которую автор понимает не как литературное направление XVIII века, а как многовековое освоение художественной литературой «слёзного аспекта мира». Сентиментальный способ истолкования жизни и человека — один из самых продуктивных в классической и современной художественной литературе. Данная книга адресована прежде всего филологам, а также всем любителям художественной литературы. Автор будет признателен за отклики и замечания, которые лучше всего присылать по адресу: 12fukson@gmail.com. УДК 82.02, 82.091 ББК 83.0, 87.81 12+ В соответствии с ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ ISBN 978-5-0056-8164-5 © Л. Ю. Фуксон, 2022 ВВЕДЕНИЕ Определение в названии («уменьшительно-ласкательный») обычно относится к слову, даже — к части слова — к суффиксу. Однако мы исходим из того, что, по выражению Пастернака, литературно-художественный «образ мира» именно в слове является. Поэтому название, которое обещает описание определённой идеальной (образной) формы, подчёркивает её неотрывность от формы материальной — словесной. Нетрудно узнать в определении «уменьшительно-ласкательный» перифраз сентиментального художественного образа. Сентиментальность является не только психологическим свойством чувствительного характера, но и одной из самых продуктивных художественных модальностей, утверждающих человечность. Искусство вообще объединяет людей, освобождает их от прозаической разобщённости, возвращает отдельного человека к его родовой нераздельной сущности. Как писал Андрей Платонов, «… искусство дороже вещей, потому что оно приближает человека к человеку, а это труднее и нужнее всего» («Че-Че-О»). Не случайно атрибуты «чувствительного» искусства можно обнаружить в теоретических построениях философской эстетики Г. Когена и Бахтина: понятие эстетической любви, объятие как эмблема художественного завершения. К этому же относится противостояние искусства общественному отчуждению, о чём писал С. С. Аверинцев (С. С. Аверинцев. Символ // КЛЭ. Т. 6. М., 1971. Ст. 827). Поэтому можно утверждать, что искусство как таковое, «приближающее человека к человеку», в широком смысле трогательно, сентиментально: «Над вымыслом слезами обольюсь…» — говорит поэт. Чувствительная литература открывает «вещество человеческое» (Платонов), что соответствует природе искусства вообще, а не только «чувствительного». 3 Л. Ю. ФУКСОН Но при этом сентиментальность — как жизни, так и искусства — имеет сравнительно невысокую репутацию. Словарь В. И. Даля определяет её как приторную (то есть чрезмерную, слащавую) чувствительность. На отрицательной оценке сентиментальности отчасти, по-видимому, сказывается авторитет кантианской «этики долга», а применительно к искусству — влияние суровых суждений Гегеля, который считал, что, например, «чувство как таковое есть совершенно пустая форма субъективной аффектации» (Г. В. Ф. Гегель. Эстетика. Т. 1. М., 1968. С. 39), а идиллия якобы бедна по своему содержанию, служа «лишь прибежищем и отдыхом для усталой души» (там же, с. 200) и отвлекаясь «от всех более глубоких и всеобщих интересов духовной и нравственной жизни…» (Эстетика. Т. 3. М., 1971. С. 473). Изучение сентиментальной литературы в отечественном литературоведении, если не считать размышлений В. Г. Белинского о карамзинском периоде русской литературы и концепции «сентиментального натурализма» Аполлона Григорьева, начинается с известной работы А. Н. Веселовского «Эпоха чувствительности» (А. Н. Веселовский. Избранные статьи. Л., 1939). У Веселовского, как этого и следовало ожидать от статьи с таким названием, на первом плане находится история. Явления, которые рассматривает автор, принадлежат одному времени, хотя при этом оказываются весьма разнородными: предромантизм, романтизм, «бурные гении» и сентименталисты. Однако Веселовский объединяет их все как принадлежащие «эпохе чувствительности», сменившей предшествующее ей время рассудочности. Как пишет автор, «наступил период сердца» (с. 495). Необходимо отметить критический тон статьи. Западных сентименталистов учёный характеризует «ограниченными стенками своего сердца, убаюкивающими себя до тихих восторгов и слёз анализом своих ощущений…», отходящими «от общественности в мир своего крошечного «я», в абстракцию «человечности», внутренней «свободы», в уединение, в природу, вещающую о благости творца…» (с. 489). 4 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА Российских «чувствительников» Веселовский критикует ещё и за подражательность: «У путешественника Карамзина западный «стихотворец» всегда «в мыслях и руках» — или в кармане для справки: он любуется видами и сентиментальничает там, где до него прошли Галлер, Геснер, Руссо, и в их стиле» (с. 497). Как видно по данной работе, представитель позитивистской литературоведческой науки относится к сентиментальному искусству как второсортному, и в этом он сходится с философом Гегелем. Нас в том времени, о котором писал А. Н. Веселовский, интересуют не свидетельства исторической либо национальной ограниченности и, вообще, не столько специфические характеристики данной эпохи, сколько, прежде всего, трансисторические и метаэтнические черты того, что является «чувствительностью» как уменьшительно-ласкательным модусом художественного изображения, или, как выражается Бахтин, «слёзным аспектом мира» (М. М. Бахтин. Собр. соч. Т. 6. М., 2002. С. 400). Поэтому для нас определение «сентиментальный» оказывается намного более широким, нежели определение «сентименталистский». Предварительно и конспективно перечислим сентиментальные архетипы как основные элементы слёзного семантического комплекса: оппозиция «сердца» и «ума», природы и города; пафос тождества, открывающий «вещество человеческое»; событие воскресения (прощения, примирения) раскаявшегося грешника; приоритет пространства дома над пространством пути; нормативность образа детства и детскости, любовная оптика умаления и умиления. 5 ПРИРОДА И ГОРОД, ЧУВСТВО И РАССУДОК С сентиментальной точки зрения, человек находится в гармонии с натуральным миром постольку, поскольку сам он — природное существо. Однако человек не только создание природы. Как утверждает Руссо, «человек рождается свободным, но повсюду он в оковах» (Ж.-Ж. Руссо. Трактаты. М., 1969. С. 152). Это означает, что несвобода человека понимается женевским мыслителем как привнесённая после рождения ненатуральность. Именно такая идеализация природного, естественного миропорядка создаёт сентиментальный формат видения и толкования. Коль скоро человек видится прежде всего как природное творение, то окружающая его реальность исходно — «лоно природы». На противоположном ценностном полюсе находится город — зона отчуждения человека от природы, искусственно образованная самим человеком ойкумена промышленного труда, торговли, социального мироустройства. Титул «эпоха чувствительности», стоящий в заголовке упомянутой статьи А. Н. Веселовского, связан, конечно, не с тем, что до и после того времени искусство было «бесчувственным». Однако сама сентиментальность как культурно-историческая категория не просто наиболее полно проявилась, но осозналась впервые именно в это время. Что здесь можно считать самым существенным? — Открытие «естественного» человека на официальном, государственном, социально дифференцированном фоне. В сентиментальной установке осуществляется приватизация бытия: мир видится домом, укромным, интимным уголком. Перенос образа человека в сферу частной жизни проводит особую границу родного и чужого, как и любовное объятие — жест, осуществляющий демаркацию интимной территории. Дом 6 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА обособляется от социального пространства, поделённого различными перегородками отчуждения (сословными, имущественными, национальными, должностными, религиозными). Внутренняя домашняя зона демонстрирует победу любой чуждости родством. Здесь теряющийся во внешнем мире человек находит себя. Имеется в виду, конечно, не дом как недвижимое имущество, а способ обитания, при котором абсолютная открытость и полное доверие противостоят закрытости и недоверчивости как обязательным атрибутам чужого мира и отчуждения. Натуральность самого человека (а не только среды его существования) означает в сентиментальном произведении акцентирование чувств. «Сердце» и «разум» оказываются ценностно противопоставленными в сентиментальном образе человека. Таким образом, чувствительность утверждает себя не непосредственно, а в противовес разуму. Хорошо известное утешение «слезами горю не поможешь» носит сугубо рациональный характер. Вообще пословицы открывают типичную точку зрения рассудка, которая в пародийном виде предстаёт, например, в словах Лебезятникова из романа «Преступление и наказание»: «если убедить человека логически, что в сущности ему не о чем плакать, то он и перестанет плакать» (4, V). Кризис рационализма в XVIII веке, связанный с крахом идеи устроения жизни сугубо на разумных основаниях, порождает фигуру Руссо — идеолога «эпохи чувствительности». В пьесе, имеющей характерное название «Горе от ума», Чацкий с горечью открытой истины говорит Фамусову: «Желаю вам дремать в неведеньи счастливом…». Слова персонажа драмы содержат прямую отсылку к «Рассуждению…» о науках и искусствах Руссо 1750 года, где «счастливым неведеньем» называется то состояние, в которое «погрузила нас вечная Мудрость» природы (Ж.-Ж. Руссо. Трактаты. М., 1969. С. 18). Однако при этом герой Грибоедова даёт прямо противоположную оценку такому «неведенью». Сын Просвещения Чацкий имеет в виду отрицательное состояние дремоты, которое он противопоставляет бодрствованию 7 Л. Ю. ФУКСОН разума. Но в ходе драматического действия выясняется, что само пробуждение («ум») горестно. Ю. М. Лотман обсуждает идеи Руссо, никак не дифференцируя философские концепты и художественные образы (см.: Ю. М. Лотман. Руссо и русская культура XVIII — начала XIX века // Ю. М. Лотман. Избранные статьи в трёх томах. Том II. Таллинн, 1992. С. 40–99). Мы считаем существенным специально отметить, что политические, философские и педагогические взгляды Руссо всё-таки исторически локальны, а вот сентиментальные художественные образы имеют не только гораздо более древние корни, но живут до сих пор, то есть существуют, если использовать термин М. М. Бахтина, в «большом времени». Параллелизмы эллинистической культуры и, с другой стороны, Европы XVII–XVIII веков дают в полной мере возможность почувствовать это большое время, то есть трансисторический характер сентиментальности. Противостояние сенсуализма Локка рационализму Декарта и Лейбница находит античную аналогию в спорах Эпикура и стоиков в IV–III вв. до н. э. Можно обнаружить близость между демократическим движением XVIII века с его идеями естественного равенства людей, с одной стороны, и установками древних киников — с другой (см.: И. М. Нахов. Очерк истории кинической философии // Антология кинизма. М., 1996. С. 6). Завершение же эллинистической эпохи ознаменовано возникновением христианства — духовной почвы так называемой «романтической формы искусства» (Гегель), рождением принципа субъективности, «Я», что характерно для западноевропейского романтизма. Таким образом, конец XVIII века и закат эпохи эллинизма позволительно сравнивать также с точки зрения их плодов. Сентименталисты открыли природу внутри человека — как «чувство» в противовес ненатуральному «рассудку». Отталкивание от внешнего социального бытия, в котором человек ощущал себя вещью, начатое «эпохой чувствительности», заканчивается в итоге приходом к «Я» — пределу такого отрицательного движения внутрь. Бахтин очень точно сказал о сентиментализме: 8 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА «Человек перестаёт быть вещью, но не становится личностью» (М. М. Бахтин. Собр. соч. Т. 5. М., 1996. С. 356). Как раз «личностью» он становится уже именно в романтизме. Приведённый тезис Бахтина перекликается со следующим рассуждением Зиммеля: «Для Руссо, обладавшего безусловно сильным чувством индивидуального, все отличия всё же поверхностны: чем ближе человек к собственному сердцу, чем меньше отдаёт он внешнему свою внутреннюю абсолютность, тем сильнее в нём биение источников добра и счастья, причём во всех одинаковых» (Г. Зиммель. Избранное. Т. 2. М., 1996. С. 196. Курсив наш — Л. Ф.). Немецкий философ указывает на представление Руссо о «внутреннем ядре, в коем все люди тождественны себе по ту сторону запутанных общественных отношений и случайных облачений» (там же). Мысль Георга Зиммеля можно считать глубокой формулой сентиментального мироощущения. Она показывает не только субстанцию тождественности себе человека, но и то, что ей противоречит. Описываемую коллизию выражает, например, название аллегорического сочинения чешского педагога Яна Амоса Коменского «Лабиринт мира и рай сердца», написанного ещё раньше эпохи чувствительности (1623), в котором ценностно противопоставлены внешняя искусственная сложность и внутренняя натуральная, доличностная простота. В. И. Тюпа в своём тонком анализе рассказа Чехова «Душечка» писал о «полной несостоятельности Ольги Семёновны как личности» (В. И. Тюпа. Художественность чеховского рассказа. М., 1989. С. 72). С этим тезисом нельзя не согласиться. Вместе с тем для истолкования произведения как художественного целого решающее значение имеет вопрос об оценке автором такой личностной несостоятельности героини. Ведь о той или иной степени безличности можно сказать по поводу любого сентиментального героя (у Флобера, например, своя «душечка», о чём речь впереди). Что смешно в рассказе Чехова? — Смешны «мнения» и то, что чужое высказывается как своё, личное, особенно когда «мнение» меняется на прямо противоположное (о театре). Мнение — нечто мнимое, и сама разница «мнений» в мире произ9 Л. Ю. ФУКСОН ведения — нечто внешнее и несерьёзное (как и вообще — разница между людьми). Меняются привязанности героини, её «мнения», но остаётся неизменной лишь одна безличная потребность любви — сентиментальная субстанция, серьёзность которой обнаруживается постепенно к концу рассказа, когда в центре его появляется ребёнок — бог сентиментального мира: «Из её прежних привязанностей ни одна не была такою…». Смех здесь замолкает, и если относить рассказ к комическим произведениям, то пришлось бы признать его художественное несовершенство. Однако в данном случае смех играет служебную роль и направлен на нечто несущественное и внешнее в человеке, не посягая на внутреннюю, серьёзную его сущность. Лев Толстой, автор статьи о «Душечке», по-видимому, не прав в абсолютном противопоставлении в рассказе смехового начала серьёзному, но прав в утверждении этой серьёзности как существенной стороны произведения Чехова. В конце рассказа Саша дерётся во сне с каким-то врагом (» — Я ттебе! Пошёл вон! Не дерись!»), но реально находится в мире любви и материнской заботы. Это как раз сентиментальная картина жизни: вражда, противостояние людей и мнений — что-то несущественное, эфемерное, малое, смешное, нереальное — сон — в камерном дружелюбном мире, где любовь — единственная серьёзная реальность. Поэтому единственно возможным и самым страшным несчастьем для героини представлена воображаемая «телеграмма из Харькова» («Мать требует Сашу к себе…»), так как отнять возможность любить — это отнять саму возможность жить: «… у неё холодеют голова, ноги, руки…». Можно, вообще, заметить, что в рассказе периодически приход любви связан с помолодением, оживанием героини, а уход — с постарением, смертью при жизни. Жизнь, которая держится любовью, — такова чувствительная её версия, реализованная в рассказе «Душечка». Сентиментальная форма изображения отвергает, критически оценивает любые притязания на обособленность одного человека от другого. Например, каждый подросток Достоевского (Коля 10 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА Иволгин, Аркадий Долгорукий, Коля Красоткин) озабочен как раз тем, в какой степени он личность (и такие притязания всегда в какой-то степени носят комичный характер). В свете сентиментального изображения эти притязания снимаются как именно отрицательный момент, под которым открывается безличная и простая субстанция человечности. Запутанный и ненатуральный характер социальных отношений воплощается в пространстве большого города. Образ большого города фигурирует в сентиментальной установке как безусловно отрицательный топос. Уже в первом стихе сонета Джона Китса «To one who has been long in city pent…» город предстаёт как тюрьма. Почему, скажем, Москва слезам не верит? — Прежде всего потому, что она большая: «сия ужасная громада домов и церквей» («Бедная Лиза»). Отсылаем к работе, содержащей описание ценностно дифференцированной пространственной структуры мира сентиментальной повести Карамзина: Л. Ю. Фуксон. Чтение. Кемерово, 2007. С. 162–165. Ванька из рассказа Чехова пишет «А Москва город большой» и просит своего дедушку забрать его отсюда. Неуютно чувствует себя в Москве лирический герой Мандельштама: Всё чуждо нам в столице непотребной: Её сухая чёрствая земля (…). В романе Шолохова «Тихий Дон» упоминается «каменная тяжёлая скука» Москвы (1, 3, XXIII). Большой город напоминает сложный лабиринт, в котором теряет себя человек. Москва, как и любой большой город, требует соразмерных характеров. Это суровая зона конкуренции, соперничества, где слабый (маленький человек) погибает, но «туда ему и дорога»: здесь нет места состраданию. Поэтому победитель («успешный», «большой человек») здесь, с чувствительной точки зрения, тоже потерянный («бессердечный», продавший свою душу), как, например, бальзаковский Растиньяк, который на могиле папаши Горио роняет «свою последнюю юношескую слезу», а потом, глядя на Париж, произносит высокомерную 11 Л. Ю. ФУКСОН фразу: «А теперь — кто победит: я или ты!» Можно вспомнить, в связи с образом большого города, сентиментальный фильм «City Lights» Чарльза Чаплина. Именно сентиментальное значение чаще всего имеет образ Петербурга в русской литературе XIX века (Пушкин, Гоголь, Гончаров, Достоевский). Например, в «Медном всаднике» Петербург предстаёт сначала (во «Вступлении») в героической («державной») оптике — как окно в Европу, как город, закладываемый «на зло надменному соседу», как «военная столица». И это соответствует «высокому» жанру поэмы. Однако отнюдь не случаен подзаголовок «Петербургская повесть», как бы сигнализирующий о переходе от «поэзии» к «прозе». Первая часть произведения переносит читателя в бедное жилище Евгения на окраине, и масштаб изображения резко меняется: человек показан маленьким, погружённым в свои частные заботы и беззащитным перед рассвирепевшей стихией. Г. Д. Гачев очень точно писал: «В самом замысле построить город здесь заключён дразнящий и насилующий природу и естество человека триумф общества над природой, духа над материей, разума над чувственностью… И природа непрерывно мстит за насилие над собой…» (Г. Д. Гачев. Образ в русской художественной культуре. М., 1981. С. 23). Сюжет наводнения в поэме как раз развёртывает картину этой мести природы: Нева вырывается на волю из своих городских искусственных гранитных берегов, подобно тому как чувства переполняют «смятенный ум» бедного героя. В гоголевских «Петербургских повестях» большой город изображён территорией обмана («Невский проспект»), распада всех человеческих связей и самого человека («Нос»), гибели его души («Портрет»). В романе Гончарова «Обыкновенная история» Петербург показан в провинциальном кругозоре Александра Адуева как кладбище: «…на него наводили тоску эти однообразные каменные громады, которые, как колоссальные гробницы, сплошною массою тянутся одна за другою» (II). Рассказчик в начале «Униженных и оскорблённых» Достоевского признаётся: «Я люблю мартовское солнце в Петербурге, особенно закат, разу12 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА меется в ясный, морозный вечер. Вся улица вдруг блеснёт, облитая ярким светом. Все дома как будто вдруг засверкают. Серые, жёлтые и грязно-зелёные цвета их потеряют на миг свою угрюмость; как будто на душе прояснеет, как будто вздрогнешь или кто-то подтолкнёт тебя локтем. Новый взгляд, новые мысли… Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека!» (1, I). Угрюмый Петербург и соответствующее душевное состояние преображаются от луча мартовского солнца. Так строится художественная реальность в чувствительном горизонте. Город — искусственная (и «угрюмая») ограда, которой человек сам себя отлучает от природы. Нарушение же этой границы описывается в сентиментальном произведении как проясняющее и воскрешающее жизнь человека натуральное событие. Напомним известный текст Некрасова: В столицах шум, гремят витии, Кипит словесная война, А там, во глубине России, — Там вековая тишина. Лишь ветер не даёт покою Вершинам придорожных ив, И выгибаются дугою, Целуясь с матерью землёю, Колосья бесконечных нив… Приведённое произведение наглядно демонстрирует ценностную демаркацию сентиментального истолкования: стихотворение резко противопоставляет «столичный» поверхностный слой жизни и «глубину России». По грамматической структуре высказывания можно понять, что лирическое слово звучит из неназванного «здесь», то есть сам субъект относит себя именно к столичному пространству. Отрицательный образ слова как «шума» («грома») характерен именно для сентиментального видения. Это бессмысленные, хаотичные и бесплодные звуки цивилизации, на фоне которых открывается творческая тишина природы, созревания зерна, за чем стоит оппози13 Л. Ю. ФУКСОН ция городского образованного сословия и народа-земледельца. Сама поэзия уходит из образа столичной жизни: высокопарное слово «витии» звучит иронично в соседстве с «шумом» и громом словесных битв. Между тем интонация серьёзного поэтического любования относится именно к изображению крестьянской России: поэзия там, где природа, земля. Повествователь в самом начале романа А. Н. Толстого «Хождение по мукам» представляет собирательный образ человека, который, приезжая в Петербург, испытывает «сложное чувство умственного возбуждения и душевной придавленности» (I). Обращает на себя внимание контраст «умственного» и «душевного»: в Петербурге душе тесно, а уму просторно. Именно от дефицита естественности и простоты страдает человек — «маленький», «придавленный» в сентиментально увиденном большом городе. Иногда такая уменьшительная чувствительная оптика открывается уже в самих названиях соответствующих художественных произведений: «Крошка Доррит» Диккенса, «Маленький оборвыш» Гринвуда, «Мальчик у Христа на ёлке» Достоевского, андерсеновская «Дюймовочка», «Мальчики» Чехова, «Малыш» Чаплина, «Маленький принц» Экзюпери, «Маленькая хозяйка большого дома» Джека Лондона и так далее. Выражение «безыскусная простота», употреблённое, например, Гумбольдтом по отношению к художественному миру поэмы Гёте «Герман и Доротея» (В. Гумбольдт. Язык и культура. М., 1985. С. 203), предполагает чисто сентиментальную негативную оценку искусственности и сложности. Название повести Флобера «Простая душа» обозначает именно этот существенный атрибут сентиментальной художественности. Простая — бесхитростная. Имя героини Фелисите — удачливая, счастливая — выражает горькую иронию. Это олицетворение несчастной, безответной любви. В конце I главы произведения Флобера Фелисите с её постоянной молчаливостью и неторопливыми движениями сравнива14 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА ется с автоматом и с деревянной статуей, что является исходным пунктом чувствительной художественности — образом бездушного человека в соответствующем окружающем мире. Поэтому начало II главы, обещающее рассказ о любви, настраивает как раз на сентиментальное событие оживания деревянной статуи и автомата. Правда, любовь с Теодором быстро прерывается, но она лишь открывает целый ряд сердечных привязанностей Фелисите: дети хозяйки, племянник Виктор, сама хозяйка, больные холерой, поляки, умирающий папаша Кольмиш, попугай Лулу и, наконец, его чучело. Этот образный ряд развёртывает символ жизни, которая держится именно и только любовью. Обратимся к эпизоду произведения, наглядно характеризующему наивную бесхитростность героини. Когда Фелисите попросила поверенного хозяйки господина Буре показать на географической карте Америки дом племянника Виктора, по которому она скучала, «такое простодушие привело его в восторг; но Фелисите не поняла, чему он смеётся; быть может, она надеялась даже увидеть портрет своего племянника — до того она была неразвита» (перевод Е. А. Любимовой) [Г. Флобер. Собр. соч. в 4 тт. Т. 4. М., 1971. С. 50]. В приведённом фрагменте соотносятся громадный масштаб равнодушного, бесконечно далёкого мира, зафиксированный в географическом атласе; масштаб, в котором оказывается невидимым жилище отдельного человека, тем более, его лицо, и, с другой стороны, — масштаб человеческий — домашний, единственно пригодный для встречи близких людей. Читатель слышит несобственно-прямое слово учёного персонажа, для которого простодушие — знак смешной неразвитости, но одновременно ощущает присутствие сентиментального горизонта автора, в котором простодушие, наоборот, мера человеческого достоинства. Типично сентиментальное событие открывается в просьбе Фелисите отдать ей шапочку умершей дочери хозяйки: «Они посмотрели друг на друга, и глаза их наполнились слезами; хозяйка протянула руки — служанка бросилась в её объятия; они крепко обнялись, их горе излилось в поцелуе, и поцелуй урав15 Л. Ю. ФУКСОН нял их» (с. 55). Любовь, растворяющая социальное неравенство, — чувствительное преодоление отчуждения, что образует типичную схему сентиментального сюжета. Когда умирающая героиня смотрит на икону, изображающую Крещение, то она замечает сходство образа Святого Духа с чучелом своего попугая (с. 61). Это парадоксальное сближение повести даёт сентиментальную формулу святости — любовь, сила которой побеждает жестокосердие мира и даже бесчувственную неподатливость мёртвых вещей. Бахтин в своём наброске о Флобере, сравнивая «Простую душу» Флобера и «Муму» Тургенева, писал о «невинности, чистоте, простоте и святости» элементарного бытия, которое «глубоко доверчиво, оно не подозревает о возможности предательства (Муму, виляющая хвостиком)» (М. М. Бахтин. Собр. соч. Т. 5. М., 1996. С. 133). Преграда между близкими людьми (а люди в сентиментальном — идиллическом — мифе «субстанциально» близки все) — это пропозиция слёзного события, суть которого заключается в «смывании» всех преград. Однако необходимо понять конкретно смысл таких препятствий. Выражение «половодье чувств» даёт в какой-то мере ключ: роль указанных преград могут играть любого рода рассудочные «дифференциалы», связанные не с природой, а с социальной сферой. Таково, например, бесчеловечное, с сентиментальной точки зрения, понятие незаконного рождения — свидетельство резкого конфликта природы и общества. Так возникает провоцирующий сочувствие читателя образ незаконнорождённого: Том Джонс, герой романа Филдинга; незаконнорождённая дочь, адресат стихотворного послания Р. Бёрнса (The Poet’s Welcome to His Love-Begotten Daughter); Эстер Саммерсон из романа Диккенса «Холодный дом»; тургеневская Ася; герой романа «Подросток» Достоевского. Ещё вид общественной аномалии, болезни, выявленной в сентиментальном изображении, — феномен ненужности, отверженности человека. Например, социальные аутсайдеры из романа Гюго «Отверженные» или из пьесы Горького «На дне». 16 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА Существенное место в сентиментальном семантическом комплексе занимает вообще тема социального неравенства: «Рай богачей создан из ада бедняков» (В. Гюго. Человек, который смеётся. II, XI). Этот момент развёрнут, например, в стихотворении Фёдора Сологуба: Тепло мне потому, что мой уютный дом Устроил ты своим терпеньем и трудом: Дрожа от стужи, вёз ты мне из леса хворост, Ты зёрна для меня бросал вдоль тощих борозд, А сам ты бедствовал, покорствуя судьбе. Тепло мне потому, что холодно тебе. Сологуб продолжает некрасовскую тему сословной вины и изображает как бы пробуждение человека в дворянине. «Я» и «ты» в его произведении: дворянин, представитель привилегированного сословия, и крестьянин — трудящийся; богатый и бедный; живущий в «уютном доме» и дрожащий от холода. Причём это не просто две различные участи: первое объясняется вторым («потому»). Аналогичное сентиментальное напоминание человеку о том, что он человек, звучит в стихотворении «Фабрика» Блока. Но там усилен отрицательный момент: И в жолтых окнах засмеются, Что этих нищих провели. В повести «Капитанская дочка» препятствием для реализации «человечности» является, прежде всего, сословная вражда, находящаяся в центре сюжета. Но не только. Узнав, что у Гринёвых триста душ крестьян, Василиса Егоровна восклицает: «…ведь есть же на свете богатые люди! А у нас, мой батюшка, всего-то душ одна девка Палашка; да, слава богу, живём помаленьку» (глава III). Капитанша Миронова сетует на отсутствие приданого дочери, и Гринёв, взглянув на Марью Ивановну, замечает: «она вся покраснела, и даже слёзы капнули на её тарелку. Мне стало жаль её, и я спешил переменить разговор». Это пример имущественных преград. 17 Л. Ю. ФУКСОН С той же темой имущественного неравенства связано то, что жестокосердие может представать в образе скупца. Например, Смит из «Униженных и оскорблённых» Достоевского или Скрудж из «Рождественской песни в прозе» Диккенса. Дух Рождества ведёт Скруджа путём воспоминания. Возвращение в детство — одна из дорог возвращения потерявшегося человека к самому себе — воскресения чувств. Это событие нравственной метаморфозы является дифференциальным признаком сентиментального диккенсовского образа скупца на фоне сатирического (Гарпагон, Плюшкин, Гобсек) или трагического (пушкинский Барон). К полюсу сентиментальной смерти (то есть состояния бесчувственности) следует отнести образы научной бесстрастной объективности, цифр, чисел и, вообще, сведения качества к количеству (например, денежного), перевеса множества над единством, механизации жизни и её распада. Здесь много примеров можно найти в творчестве Достоевского. «Бернары» Мити Карамазова, «арифметика», о которой говорят герои «Преступления и наказания»: «Одна смерть и сто жизней взамен — да ведь тут арифметика!» (1, VI). Или рассуждение Раскольникова по поводу погибающих детей: «Это, говорят, так и следует. Такой процент, говорят, должен уходить каждый год… куда-то (…). Процент! Славные, право, у них эти словечки: они такие успокоительные, научные. Сказано: процент, стало быть и тревожиться нечего» (1, IV). К этой теме у Достоевского примыкают фигуры ростовщиков: Ракитин из «Братьев Карамазовых», герой повести «Кроткая» и так далее. Сентиментальная тема изнасилования природы идеей развёртывается в романах «Преступление и наказание» и «Подросток». Последний пронизан неслучайными многочисленными отсылками к пьесе «Горе от ума» (см.: Л. Ю. Фуксон. Горе от ума в романе «Подросток» // Вестник НГУ. 2022. Серия Филология. Т. 21, №2). Преступление Раскольникова («по теории») настолько противно всему его естеству, что, как проницательно заметил Иннокентий Анненский, «наказание в романе чуть что не опережает преступление» (И. Ф. Анненский. Книги отражений. М., 1979. С. 191). 18 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА Вопрос о сентиментальном либо трагическом в романах Достоевского можно перефразировать как вопрос о маленьком человеке или, наоборот, о сверхчеловеке. По всей видимости, его романы о человеке, безуспешно пытающемся стать сверхчеловеком. Марсель писал о том, что идея сверхчеловека «надломила» Ницше (См.: Г. Марсель. Трагическая мудрость философии. М., 1995. С. 123). Не подобный ли надлом можно наблюдать у героев Достоевского? Образ Катерины Ивановны Мармеладовой построен на надрыве, но подразумевается не просто её физическая измождённость («Уездили клячу!.. Надорвала-а-сь!»). Чахотка героини, отхаркиваемая кровь — метафора надрыва чувства справедливости. Муж называет её «гордой», а дочь Соня говорит: «…Она справедливости ищет…» и далее: «Она справедливая! Справедливая!» На идее «справедливости» — «закона», а не «благодати» — жизнь надрывается — таково её слёзное истолкование. Слова Катерины Ивановны о боге, который «должен простить», выражают идею справедливости, воздаяния по заслугам, рассудочного равновесия. А «пьяненький» муж её просто просит прощения и надеется на чудо. Прощение — милость, незаслуженный дар, а не справедливость, не награда достоинств. Подобный конфликт мы видим в «Капитанской дочке», но при этом Маша Миронова, наоборот, ищет «милости, а не правосудия» (XIV). В романе «Война и мир» Платон Каратаев афористически замечает: «Где суд, там и неправда» (4, 1, XII). В истории судебного разбирательства Соломона, когда оспариваемого двумя женщинами ребёнка предлагается разрубить пополам, истинная любовь открывается лишь при условии отказа от своих законных прав (3 Книга Царств, 3, 22–27). Решение Соломона эти права возвращает, и его мудрость как раз состоит в уходе от формальной, бессердечной справедливости. Для «пасхальной» сентиментальности (о которой подробнее скажем ниже) имеет большое значение формула христианской этики: «милость превозносится над судом» (Послание апостола Иакова 2, 13). Эта тема априорной неправедности суда основа19 Л. Ю. ФУКСОН тельно художественно разработана в «Воскресении» Л. Толстого. Г. Д. Гачев писал о воскресении Нехлюдова как о «слиянии с бесконечной человечностью, живущей в каждом человеке как его сущность и лишь персонифицируемой в боге» (Г. Д. Гачев. Образ в русской художественной культуре. М., 1981. С. 73). Прощение составляет основу события воскресения в романе. Ведь воскресение относится не только к Нехлюдову, но и к Катерине Масловой, которая возвращается к новой жизни именно в ходе прощения. Типологически сходны финальное примирение героев «Воскресения» и последнее слово «Бедной Лизы»: «Теперь, может быть, они уже примирились!» Это предполагаемое посмертное «примирение» героев в финале карамзинской повести, по сути, означает и примирение рассказчика с Эрастом (ср.: «Сердце моё обливается кровью в сию минуту…»). Можно заметить аналогичное изменение отношения повествователя-резонёра к своему герою в романе «Воскресение». Это великодушие, способность прощать, конечно, не имеет ничего общего с требованием справедливости. Рассмотрим немного подробнее сентиментальный роман Марка Твена «Принц и нищий». В «Предисловии» к роману развёрнута цепочка преемственности поколений, передающих представляемую историю от отца к сыну, с чем перекликается посвящение книги детям. Всё это сразу намечает сентиментальную парадигму начинающегося повествования: главное в истории и жизни не изменчивость, не социальная мода, а традиция, никогда не устаревающая, а точнее, вечно обновляющаяся мудрость родового единства. Принц и нищий — это предельные значения социальной дистанции, которая выражает бесчеловечное состояние изображаемой жизни, так как в сентиментальном мире бесчеловечно всё то, что отделяет и отдаляет человека от человека. Это крайности, с одной стороны, почти животного существования и, с другой стороны, совершенно искусственного. [Можно попутно вспомнить названия произведений, аналогичные названию рассматриваемого романа Марка Твена: «Барышня-крестьянка» 20 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА (Пушкин), «Волки и овцы» (А. Островский), «Хозяин и работник» (Л. Толстой), «Толстый и тонкий» (Чехов), «Денщик и офицер» (Гаршин), «Богач, бедняк» (Ирвин Шоу), «Блек энд уайт» (Маяковский). Игра противоположностями такого типа, по сути, отбрасывает их, как шелуху, открывая субстанциальное ядро — «человечность»]. Сюжетная симметричность родившихся нищего и принца подчёркивает ценностный контраст названия романа: один из них был «совсем не нужен» семье, в которой появился, а второй был нужен не только своей семье, «но и всей Англии» (глава I; мы пользуемся переводом К. И. Чуковского и Н. К. Чуковского). Отчуждённость человека от человека является исходным и преодолеваемым состоянием в сентиментальном событии. Место детства Тома Кенти называется Двор Отбросов. Том Кенти играет в принца: ему интересно то, что совершенно отсутствует в его реальной жизни. Но принца, в свою очередь, наоборот, увлекают рассказы Тома о мальчишеских играх во Дворе Отбросов. Параллельное построение повествования высвечивает то, что оба героя чувствуют противоположного рода обделённость: одному недостаёт достоинства жизни, другому — её естественности. Переодетый принц для окружающих сразу же перестаёт быть принцем (глава III), приобретя новый — «нищенский» — статус. Он будто по инерции продолжает вести себя как принц на Дворе Отбросов. Но постепенно сюжет вынуждает его спуститься с королевских высот к нуждам и страданиям простого народа. А Том Кенти, со своей стороны, прилагает привычный для себя масштаб Двора Отбросов к королевскому дворцу. Обязанности короля и вообще политика, увиденные глазами обычного мальчишки, претерпевают eo ipso сентиментальную переоценку. Обоюдное сближение, поверка одной сферы жизни другой, противоположной, и открывает спрятанную изначальной разделённостью, отчуждённостью субстанцию человечности. Таков механизм сентиментального истолкования жизни. 21 Л. Ю. ФУКСОН Когда Тому во дворце не дают самому разуться, он сетует: «… Как ещё эти люди не возьмутся дышать за меня!» (VI). Столкновение желания почесать нос с необходимостью соблюдать строгий церемониал (VII) — чисто сентиментальная коллизия. Аналогичное происходит с принцем: «Он решил позабыть о своём высоком сане и подружиться с телёнком» (XVIII). Высокое общественное положение мешает герою согреться, что невозможно без сближения с другим живым существом. Похожий эпизод — взаимная снисходительность юного короля и хозяйки фермы за завтраком (XIX). Именно такое сокращение дистанции и делает представителей различных сословий людьми. В этом же образном ряду находится пожелание Майлса Гендона разрешить ему сидеть в присутствии короля (XII) — оно означает возвращение к естественной человечности, жест преодоления холода социального отчуждения. В романе наблюдается чисто чувствительная трактовка проблемы доверия. Маленькая девочка не сомневается в словах Эдуарда, что он король, несмотря по его «скверную» одежду: «Если ты вправду король, я тебе верю» (XIX). То же самое Гендон слышит от юного короля: «Я не сомневаюсь в тебе, — сказал король с детской простотой и доверчивостью» (XXV). В то же время взрослые, наоборот, не верят героям и судят о них исключительно по внешнему виду: они уже привыкли к обману, потеряв свою исходную бесхитростность, «простоту и доверчивость». Повествование заставляет будущего короля увидеть и испытать на себе все жестокости порядков его королевства, чтобы привести его (а заодно и читателя) к воскресению чувств: «Свет плохо устроен: королям следовало бы время от времени на себе испытывать свои законы и учиться милосердию» (XXVII). Что касается нищего в облике принца, то мать возвращает его к себе самому в тот момент, когда Тому грозит самозабвение и моральная гибель самозванства. Узнавание матери сына по особому, лишь ей одной известному жесту — характерный сближающий перевод художественного изображения в уменьшительно-ласкательный, интимный план как определяющий и спасительный для героя (XXXI). 22 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА А. С. Ромм очень верно писала о сказочной основе романа Твена: «Вещий шёпот сказки то и дело пробивается сквозь оболочку исторического романа» (А. С. Ромм. Марк Твен. М., 1977. С. 97). Исследовательница резюмирует: «это история глазами ребёнка» (с. 103). Можно считать этот тезис сентиментальной формулой романа «Принц и нищий». 23 ДЕТСКИЙ МИР. ОБРАЗ ДОМА Апология естественной простоты чаще всего предполагает образ ребёнка — центральный для сентиментального мироощущения. «Простота» — перифраз детской непосредственности и доверчивой открытости. Социальные форматы проводят границы отчуждения, но детское сознание ещё не отформатировано. Само взросление, его неизбежность являются в «слёзных» текстах грустным свидетельством потери исходной открытости, доверия к миру. Ведь опора на рассудок требует постоянного (декартовского) сомнения и обязательного удостоверения, бесконечного опосредования аргументации. Но эта дурная верификационная бесконечность есть отрицательный предмет слёзного истолкования жизни. Граница детского и взрослого типов сознания глубоко прочерчена в сентиментальных произведениях Чехова. Приведём несколько примеров. Описание столовой в рассказе «Гриша» акцентирует темнеющее на ковре «пятно, за которое Грише до сих пор грозят пальцами». Эта деталь перекликается с финалом рассказа, когда мама Гриши, видя его возбуждение и жар после дневной прогулки, решает, что он «вероятно, покушал лишнее», и даёт ему «ложку касторки», то есть слабительное. Жест недовольства («грозят пальцами») объединяется с выражением непонимания, ошибочного диагноза: пятно на ковре должно быть истолковано внимательным читателем как закономерное следствие такого «лечения». Повествователь упоминает часы, которые существуют «для того только, чтобы махать маятником и звонить». Налицо так называемая несобственно-прямая речь самого юного героя и его детский взгляд, не знающий измерения и подсчёта времени, превращающий часы в игрушку. Точно так же Грише неизвестен товарный смысл и денежная мера стоимости апельсинов, один 24 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА из которых он просто берёт у торговки, за что нянька хлопает его по руке и обзывает дураком. Повествование открывает пропасть обоюдного непонимания между персонажами рассказа: ребёнок не может взять в толк, почему апельсин нельзя брать, а нянька не понимает простоты и непосредственности детского видения мира. В самом начале рассказа «Событие» подчёркивается физическая граница детского (малого) и большого мира: «Сквозь льдяные кружева, покрывающие оконные стёкла, пробивается в детскую яркий солнечный свет». Слово «пробивается» свидетельствует об определённом препятствии. Узоры из льда на пути солнечного света — малозаметная деталь, которая a priori должна быть связана с сюжетом произведения. Читатель может увидеть в рассказе репрезентацию этой физической преграды, этого льда — холодную бесчувственность взрослых на пути освещающего детское существование натурального события. Изображаемая повседневная жизнь в своей бессобытийности и тем самым безжизненности воспринимается юными героями как повторяющийся каждый день регламент: умывание, одевание, молитва, чаепитие — всё это дети считают, по словам повествователя, «прозаическими повинностями». Но рождение котят напоминает о жизни самой по себе — натуральной живой жизни. «Обычные занятия и игры уходят на самый задний план». Это действительное событие, радость и поэзия которого оказывается взрослым совершенно недоступной. Когда дети находят котятам «отца» — игрушечную «лошадь с оторванным хвостом», то произносят наставление в стиле взрослых: «Стой тут и гляди, чтобы они вели себя прилично». Читатель видит: роль взрослых состоит лишь в том, чтобы стоять на страже приличий. Главный блюститель приличий — папа: котята пачкают ему гербовую бумагу на столе, мешают обедать. Когда дети вбегают в гостиную с радостным известием, то их мама, увидев детей «неумытых, неодетых, с задранными вверх подолами», конфузится в присутствии «чужого человека». Сама жизнь исходно «неприлична» и показывается оттесняющейся 25 Л. Ю. ФУКСОН в мире рассказа, который, как и предыдущий («Гриша»), развёртывает пропасть между детьми и взрослыми: то, что для детей страшно и обидно, для взрослых забавно, смешно. В рассказе «Кухарка женится», начиная с названия, повествование тоже строится на контрастном соотнесении взрослой и детской точек зрения на происходящее: «В кухне происходило нечто, по его мнению, необыкновенное, доселе не виданное». Вводная конструкция «по его мнению», относящаяся к «Грише, маленькому, семилетнему карапузику», здесь как раз и проводит границу между детским удивлением и взрослым восприятием замужества как чего-то вполне обычного. Не случайно всё происходит за столом, «на котором обыкновенно рубят мясо и крошат лук». Взрослому читателю внятен обряд сватовства, вся его рассудочная риторика. Гриша же воспринимает более остро волнение, испуг кухарки, а её «принуждённое хихиканье» он объясняет тем, что жениться «ужасно совестно». Всё это замужество, представляющееся взрослым героям необходимым, видится ребёнку как горе: «Ему страстно, до слёз захотелось приласкать эту, как он думал, жертву человеческого насилия. Выбрав в кладовой самое большое яблоко, он прокрался на кухню, сунул его в руку Пелагее и опрометью бросился назад». На фоне этого наивного детского порыва ясно обнаруживается грубая и бесчувственная реальность жизни. Оборот «как он думал» подчёркивает, как и во всех подобных случаях, разницу детской и взрослой точек зрения. Именно детская незамутнённость удивлённого взгляда и непосредственность чувства помогает увидеть то, что взрослые персонажи перестали замечать. Таково сентиментальное открытие. Образ ребёнка очень существенен для романов Достоевского: сюжетная линия Алёши и мальчиков, а также сон Мити («дитё» как символ предельного страдания) и «слезинка замученного ребёнка» у Ивана в «Братьях Карамазовых»; история Мари в романе «Идиот» (1, 1, VI); событие рождения младенца на фоне убийства Шатова в «Бесах» (3, 5); рассказ Макара Ива26 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА новича Долгорукова о купце и мальчике в «Подростке» (3, 3, IV) и так далее. В. С. Пушкарёва высказала очень верную мысль о том, что дети у Достоевского — это суд, мера оценки окружающего (В. С. Пушкарёва. Дети и детство в творчестве Ф. М. Достоевского и русская литература второй половины XIX века. Белгород, 1998. С. 89). Добавим, что дети — мера человечности в сентиментальном мире вообще, а не только у Достоевского. Детскость — главная сентиментальная мера человеческого достоинства. Поэтому «уменьшительно-ласкательный» образ человека — это прежде всего фигура ребёнка. Ребёнок — центр дома. На полотне К. С. Петрова-Водкина 1934 года «1919 год. Тревога» самый «спокойный» участок мира картины — образ спящего младенца, максимально ценностно удалённого от «тревожной» зоны окна, границы домашнего (внутреннего) пространства. Коль скоро степень натуральности (а следовательно, сентиментального достоинства) человека — это степень его детскости, то можно утверждать как типичное качество чувствительного образа даже взрослого персонажа его инфантильность. Примерами могут служить дядя Тоби Шенди, Илья Ильич Обломов, Алёша Валковский из «Униженных и оскорблённых», Пьер Безухов, целый ряд героев романов Диккенса: мистер Пиквик («Посмертные записки Пиквикского клуба»), Тутс («Домби и сын»), Ричард Карстон («Холодный дом»), мистер Дик («Жизнь Дэвида Копперфилда…») и другие. Для характеристики художественного изображения этого типа взрослого ребёнка подходит описание Шиллера в его знаменитой работе: подразумевается сентиментальный взгляд на наивное как на позитивную ценность (Ф. Шиллер. Собр. соч. Т. 6. М., 1957. С. 388–390). Ближайшее пространство ребёнка в сентиментальном произведении — дом. Башляр писал: «прежде чем быть „заброшенным в мир“, как учат скороспелые метафизические теории (камень в огород Хайдеггера? — Л. Ф.), человек покоится в колыбели дома» (Г. Башляр. Избранное: Поэтика пространства. М., 2004. С. 28). Обратим внимание на само слово «колыбель», которое ука27 Л. Ю. ФУКСОН зывает на колебание при укачивании младенца, что, однако, вовсе не означает некую неустойчивость. Ритмичная повторяемость этого движения и укачивает, то есть успокаивает. Колебание колыбели — круг вечного возвращения. Так как ребёнок — это сердцевина семейной жизни, то отсюда вытекает центральный характер образа колыбели — этого дома в доме. По мнению Шютца, дом «есть исходная точка, а также конечная цель. Это нулевая точка системы координат, которую мы приписываем миру, чтобы сориентироваться в нём» (А. Шютц. Смысловая структура повседневного мира. Очерки по феноменологической социологии. М., 2003. С. 209). Дом — зона устойчивого покоя и центр существования (коль скоро он «нулевая точка системы координат» нашей картины мира). Уютность дома — прежде всего топологическая характеристика, которая указывает на обжитой характер пространства, родного для обитателя. Как считал Честертон, само слово уют «… говорит о том, что маленькое предпочитают большому и любят именно за то, что оно мало» (Г. К. Честертон. Чарльз Диккенс. М., 1982. С. 109). Габриель Марсель пишет об «отчаянии, которое может охватить ребёнка во время путешествия или просто переезда», и о «печали, всеми нами испытанной в некоторых гостиницах, когда у нас было чувство, что мы, собственно говоря, ни у кого не находимся» (Г. Марсель Опыт конкретной философии. М., 2004. С. 73). Приведённое наблюдение следует, вероятно, понимать так, что ребёнок острее переживает чуждость внедомашнего мира, чем взрослый. Это объясняется тем, что он в гораздо большей степени укоренён в доме по сравнению со взрослым. Поэтому для сентиментальной литературы вполне типичен образ бездомного сироты: Золушка, Козетта из романа «Отверженные», Настенька, героиня сказки «Морозко», Оливер Твист, Неточка Незванова, Реми из повести Гектора Мало «Без семьи», «беспризорные» персонажи советских книг и фильмов, образы стихотворения «Русь бесприютная» Есенина и так далее. О единстве места как важной черте идиллического хронотопа писал Бахтин: «Идиллическая жизнь и её события неотдели28 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА мы от этого конкретного пространственного уголка, где жили деды и отцы, будут жить дети и внуки… Единство места сближает и сливает колыбель и могилу (тот же уголок, та же земля), детство и старость (та же роща, речка, те же липы, тот же дом), жизнь различных поколений, живших там же, в тех же условиях, видевших то же самое» (М. М. Бахтин. Собр. соч. Т. 3. М., 2012. С. 473). Так, герой «Записок моего прадеда» Адальберта Штифтера приезжает в старый родительский дом после долгого отсутствия, как будто возвращаясь в своё детство, и находит там рукопись далёкого предка, которая восстанавливает временно утраченную связь поколений. Акцент сентиментального изображения на постоянстве, точнее на преемственности времени, объясняет особое отношение к вещественной, материальной стороне дома. В чувствительной оптике происходит как бы её идеализация. Домашние вещи хранят дорогие воспоминания. Поэтому с возрастанием значения образа дома связано своего рода возвышение домашнего быта, его «просвечивание», поэтизация. Общий план изображения вытесняется крупным, для которого характерно любовное внимание к деталям. Сентиментальный предмет приближается к читателю, происходит своего рода интимизация коммуникативного пространства художественного события. Например, в рассказе Чехова «Мальчики» авантюрный проект юных персонажей развёртывается на идиллическом фоне описаний домашних бытовых деталей, предстающих в нарядном предрождественском горизонте любования. Книжный, псевдоромантический кругозор героев охватывается сентиментальным умилением повествователя. Трогательность подробностей быта дома Турбиных в романе Булгакова «Белая гвардия» подчёркивается хрупкостью и беззащитностью тёплого семейного мирка в распадающемся на части огромном холодном мире социального неблагополучия (война, революция). По приведённым примерам можно заключить, что сентиментальное событие обычно разворачивается на границе родной 29 Л. Ю. ФУКСОН и чужой пространственных зон. Покидание родины (дома) или возвращение на родину (домой) — важнейшие темы сентиментальной художественности. Возвращение на родину представляет собой единство нескольких взаимосвязанных существенных мотивов: 1) преодоление чуждости родством; 2) победа кругового движения жизни над линейным, встречи — над разлукой; 3) смена открытого топоса пути закрытым топосом дома; 4) воспоминание юности (детства), ретроспекция. (Покидание же родины или дома дают, соответственно, комплекс противоположных моментов). Евангельская притча о блудном сыне, содержащая оба эти направления (ухода и возвращения), служит сюжетной схемой для многочисленных сентиментальных произведений: Баратынский. Судьбой наложенные цепи…; Я возвращуся к вам, поля моих отцов… Пушкин. Станционный смотритель. Гейне. Снова на родине. Мопассан. Возвращение. Образ Блудного сына у Чехова (см.: Л. Ю. Фуксон. Толкования. Кемерово, 2018. С. 137– 145). Ибсен. Пер Гюнт. Есенин. Возвращение на родину. Платонов. Возвращение. И так далее. Приезд Николая Ростова из армии домой описывается повествователем романа Л. Толстого как возвращение детских переживаний: «Ростов почувствовал, как под влиянием этих жарких лучей любви Наташи, в первый раз через полтора года, на душе его и на лице распускалась та детская и чистая улыбка, которою он ни разу не улыбался с тех пор, как выехал из дома» (2, 1, I). Но впоследствии Ростов возвращается в свой полк с тем же чувством: «Полк был тоже дом, и дом неизменно милый и дорогой, как и дом родительский» (2, 2, XV). Мы видим, что для Николая Ростова, где бы герой конкретно ни находился, именно дом — главный способ быть в мире. Коль скоро именно ребёнок — смысловой центр дома, то зачастую ситуация прощания с родным домом совпадает с концом детства. Следует обратить особое внимание на событие конца детства в сентиментальном мире. В «Капитанской дочке» Гринёв отправляется в дорогу из родительского дома, «обливаясь 30 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА слезами» (I). Он вернётся домой уже взрослым человеком. Диккенсовский Дэвид Копперфилд прощается дважды — с матерью (IV) и с Пёготи (V), — лишь второе прощание оказывается подлинным. В романе «Обломов» тоже противопоставляются два прощания с родным домом юного Штольца (2, I) — без слёз («бесчувственное» немецкое прощание с отцом) и со слезами («Но вдруг в толпе раздался громкий плач…»). В конце первой части трилогии Л. Толстого рассказчик признаётся: «Со смертью матери окончилась для меня счастливая пора детства и началась новая эпоха — эпоха отрочества» [Детство (XXVIII)]. Дети на войне — образ оборванного, то есть искусственно прекращённого, детства. В «Войне и мире» Денисов, глядя на убитого Петю Ростова, вспоминает, как тот угощал офицеров за столом: «Я привык что-нибудь сладкое. Отличный изюм, берите весь» (4, 3, XI). Другой вариант оборванного детства — преждевременно повзрослевшие дети военной прозы А. Платонова («Домашний очаг», «Ветер-хлебопашец», «Страх солдата») или герой рассказа «Иван» В. Богомолова. В определённом смысле пределом слёзного элегического видения мира является тема смерти ребёнка. Нелл умирает в финале романа Диккенса «Лавка древностей», как и Нелли из «Униженных и оскорблённых». Причина тоски кучера Ионы, героя рассказа Чехова «Тоска», — смерть его сына, о чём можно рассказать только лошади. В рассказе «Гостинец» Л. Андреева подарок, приготовленный умирающему ребёнку, не успевает до него дойти. Во-первых, детская смерть — свидетельство противоестественного, патологического движения времени вспять, во-вторых, это символ ухода из изображаемого мира (подобия мира реального) основных сентиментальных ценностей — простоты, доверчивости и искренности. Название рассказа Л. Андреева «Ангелочек» сразу указывает на тему детства, так как имеется в виду ёлочная рождественская игрушка. Но эта тема развёртывается в своём отрицательном модусе — дефицита любви. Поэтому хотя в рассказе много 31 Л. Ю. ФУКСОН детей, в центр изображения помещён ребёнок, лишённый детской наивности и доверчивости, похожий на «волчонка», мстящий жизни, по слову повествователя. Ближайшим предметом этой ненависти в мире произведения являются «богачи Свечниковы», фамилия которых и изображение художественно производны от описываемых праздничных свечей: «Ёлка ослепляла его своей красотой и крикливым, наглым блеском бесчисленных свечей, но она была чуждой ему, враждебной, как и столпившиеся вокруг неё чистенькие, красивые дети…». Эпизод знакомства Сашки с маленьким сыном хозяев Колей показывает основу этой отчуждённости, идущей от взрослых, что обнаруживается в обращении Коли к Сашке: «Ты неблагодарный мальчик?.. Мне мисс сказала. А я холосой». Поэтому, когда Коля доверчиво даёт Сашке своё игрушечное ружьё, а тот стреляет Коле прямо в нос, он тем самым как бы подтверждает свою репутацию «неблагодарного мальчика». Рождественское время рассказа обозначает домашний праздник, причём смысл его оказывается посторонним юному герою, который чувствует себя в своём доме бездомным: «… у него есть отец, мать, свой дом, а выходит так, как будто ничего этого нет и ему некуда идти». Однако отчуждённость как обычная сентиментальная пропозиция уже в первом предложении рассказа развёртывается более глобально — по отношению ко всему существованию: «Временами Сашке хотелось перестать делать то, что называется жизнью…». И с этим перекликается вторая тема названия, связанная со значением слова «ангел» — вестник. Вот как описывается ёлочный ангел: «Он был бесконечно далёк и непохож на всё, что его здесь окружало. Другие игрушки как будто гордились тем, что они висят, нарядные, красивые, на этой сверкающей ёлке, а он был грустен и боялся яркого назойливого света, и нарочно скрылся в тёмной зелени, чтобы никто не видел его». Кроме указанной семантики, следует заметить в названии «свёрнутое» событие произведения — услышанное известие об ином, лучшем, мире и метаморфозу героя. В игрушке было 32 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА то, «чего не хватало в картине его жизни и без чего кругом было так пусто, точно окружающие люди были неживые». Что же было в ангелочке такого, чего не хватает в описанной произведением жизни? Это любовь — воистину сентиментальная весть (евангелие), преображающая героя: «И перед сиянием его лица словно потухла сама нелепо разукрашенная, нагло горящая ёлка (…). И в этот короткий момент все заметили загадочное сходство между неуклюжим, выросшим из своего платья гимназистом и одухотворённым рукой неведомого художника личиком ангелочка». Сентиментальное событие открывает субстанцию человека, как бы спрятанную в уродливом в своей бездушности мире. Таким образом, основная сентиментальная тема рассказа — утраченная объединяющая человечность, которую во что бы то ни стало надо отыскать. Это можно увидеть, например, в эпизоде созерцания игрушечного ангела: «Отец и сын не видели друг друга; по-разному тосковали, плакали и радовались их больные сердца, но было что-то в их чувстве, что сливало воедино сердца и уничтожало бездонную пропасть, которая отделяет человека от человека и делает его таким одиноким, несчастным и слабым». Последние абзацы рассказа, описывающие, как восковая игрушка тает и начинается новый день, возвращают читателя к жестокой и холодной повседневности, говоря об эфемерности и хрупкости счастья, но тот, иной, мир уже приоткрылся, что и является сентиментальным событием произведения. Значительность образа дома для «слёзной» литературы с необходимостью вызывает вопрос о жанре сентиментальных путешествий, где как раз изображаемый мир организован не характерными для чувствительного мироощущения линейным временем и открытым пространством. Уменьшительно-ласкательная эстетика, конечно, исходит из домашних ценностей как приоритетных. В связи с этим жанр сентиментального путешествия выглядит как топологический парадокс: сентиментальный герой оказывается «не в своей тарелке». Не случайно поэтому се33 Л. Ю. ФУКСОН тование в самом начале карамзинских «Писем русского путешественника»: «Расстался я с вами, милые, расстался! Сердце моё привязано к вам всеми нежнейшими своими чувствами, а я беспрестанно от вас удаляюсь и буду удаляться!» (Н. М. Карамзин. Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 5). Дорога, направленная вдаль, воспринимается в чувствительном кругозоре как нечто неорганичное — противоестественное «удаление». В «Сентиментальном путешествии по Франции и Италии» Л. Стерна делается акцент не на достопримечательностях посещаемых мест, а на случайных встречах — пище для сердца, а не для ума. Сам объективный маршрут и его туристические ценности для «чувствительного путешественника» Стерна ничто, и, мысленно сопровождая его, читатель лишь изредка вспоминает о географической стороне изображаемой реальности. Поэтому Бахтин совершенно точно определял книгу Стерна как «путешествие без путешествия» (М. М. Бахтин. Собр. соч. Т. 6. М., 2002. С. 401). На переднем плане произведения находятся душевные перипетии повествователя и открывающаяся в интроспекции сложность человеческой природы, с чем связано то, что Стерн, как это ни странно, очень риторичен. Значительная часть очарования его книг состоит не столько в рассказываемом событии, сколько в событии рассказывания. Возможно, в переносе акцента с первого на второе и состоит главное его художественное открытие. Такой акцент на говорящем субъекте и производит интроспективный поворот рассказа: в прозе Стерна осуществляется своеобразная сентиментальная рефлексия. У Радищева жанр путешествия — способ открыть социальный мир неблагополучия, вопиющего неравенства как бесчеловечности. «Путешествие из Петербурга в Москву» — своего рода «хождение по мукам», перемещение в чуждой для сентиментальности зоне. Поэтому основная интонация книги — критическая. У Радищева громче всего до Некрасова звучит сентиментальная тема сословной вины: «Страшись, помещик жестокосердый, на челе каждого из твоих крестьян вижу твоё осуждение» (А. Н. Радищев. Путешествие из Петербурга 34 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА в Москву. СПб., 1992. С. 11). Не случаен вердикт императрицы, прочитавшей книгу Радищева: «бунтовщик хуже Пугачёва». При этом, с одной стороны, повествователь утверждает, что бедствия человека «происходят от человека», а с другой стороны — находит утешение в нём же самом, для чего необходимо снять «завесу с очей природного чувствования» (с. 6). Эта природная мера человеческого достоинства и придаёт социальной критике «Путешествия из Петербурга в Москву» сугубо сентиментальный характер. 35 ПАСТОРАЛЬНАЯ И ПАСХАЛЬНАЯ СЕНТИМЕНТАЛЬНОСТЬ Можно наметить, правда лишь в самых общих чертах, следующие историко-типологические вариации уменьшительноласкательного изображения: во-первых, пасторальная сентиментальность (от лат. pastoralis — пастушеская) — греческая идиллия (Феокрит), римская поэзия — буколическая (Вергилий) и элегическая (Овидий) — и, во-вторых, начатая сентиментализмом XVIII века «пасхальная» сентиментальность. Более поздний пример последней — Диккенс, создатель жанра святочного рассказа («Рождественская песнь в прозе» — 1843 г.) и автор ряда сентиментальных романов. К традиции пасхальной чувствительности принадлежат многие произведения русской классики XIX века: «Станционный смотритель», «Шинель», поздние пьесы А. Островского и т. д. В пасторали образ природы художественно развёртывается почти исключительно в телесном плане — вокруг, вне человека, а сам человек при этом — её сугубо телесная часть. Это воистину при-рода. «Пасхальная» же сентиментальность большей частью апеллирует к природе в самом человеке — к его чувству. Поэтому можно сказать, что пасхальное мироощущение транспонирует сентиментальность в духовный план. Это открытие природы внутри человека, а вместе с тем — чувствительной событийности. Классическим примером пасторального литературного произведения является греческий роман «Дафнис и Хлоя», само название которого указывает на центральную — эротическую — тему. Любовь его героев развёртывается в благоволящем ей натуральном мире, а также чуждом — социальном, поделённом на рабов и свободных, бедных и богатых; в мире, где разбойни36 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА чают пираты, где возникают войны. Гёте очень точно писал о романе Лонга: «Все напасти, извне вторгающиеся в счастливую жизнь, как-то: набег врагов, разбой и война — быстро преодолеваются и почти не оставляют следов. Порок здесь удел горожан…» (И. П. Эккерман. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. М., 1981. С. 423). Пастухи воспитывают подброшенных разорившимися родителями детей. Тем самым социальные границы оказываются в романе несущественными, «снятыми». При этом чувствительные ценности подвергаются у Лонга испытанию. Козопас Ламон, найдя брошенного младенца в богатом убранстве, вскармливаемого козой, хотел поначалу забрать лишь дорогие вещи, а ребёнка бросить, но затем «устыдился, что козы он даже безжалостней» (1, 3; перевод С. П. Кондратьева). В симметричном эпизоде пастух Дриас, нашедший девочку, которую кормила овца, назван «овцой наученным жалостью к ребёнку». А жена Дриаса «матерью стала ребёнку, стала его ласкать и любить, как бы боясь в нежности овце уступить» (1, 6). Так в мире романа природа изображается не просто спасающей, но и обучающей человека жалости и любви (собственно, именно в этом прежде всего и состоит сентиментальное спасение). Дафнис и Хлоя, помещённые в центр повествования, физически взрослеют, но внутренне остаются инфантильными. Несколько раз упоминается их простодушие, бесхитростность (1, 32; 3, 18–19). Эта черта, на что мы указывали ранее, вполне отвечает чувствительному идеалу человека. Для брака героев возникает социальное препятствие (бедность), которое устраняется природными богинями, нимфами, помогающими Дафнису найти богатство. Новое препятствие в виде каприза господ преодолевается вестью о высоком происхождении Дафниса, что опять создаёт преграду — социальное неравенство влюблённых. Поэтому Дафнис сетует: «Насколько счастливее был я, пока был рабом!..» (4, 28). Боги во сне дают совет настоящему отцу Дафниса, и тот находит отца Хлои, который оказывается тоже не только знатным, 37 Л. Ю. ФУКСОН но и богатым, причём боги обещают, что снова отцом его сделает овца (4, 35). Таким образом, читатель романа видит, что всеми событиями управляют сентиментальные божества. Пасторальные боги в романе (Пан и нимфы) — это олицетворённая сила Природы. Но главный бог — Эрот, «крылатый мальчик», которого увидели во сне сначала пастухи, а затем Дафнис. Не случайно имя старика, который рассказывает об Эроте и благословляет влюблённую пару, — Филет. Эрот в романе называется богом, который старше самого Кроноса (2, 5). Существенно для понимания сентиментальной природы романа то, что Дафнис и Хлоя после своего социального возвышения возвращаются в деревню, так как «не могли они вынести жизни в городе» (4, 37). Устраивается «пастушья свадьба», и вся дальнейшая жизнь героев протекает в деревне в почитании сельских богов. Таков типично пасторальный вариант сентиментального художественного изображения. Вильгельм фон Гумбольдт отмечал описательность поэмы Гёте «Герман и Доротея». Это черта именно пасторальной сентиментальности. Философ описывает жизнь, изображённую в произведении Гёте: «Где царит простодушие и невинность, туда и переносит нас поэт — в детство человечества, в мир пахарей и пастухов» (В. фон Гумбольдт. Язык и философия культуры. М., 1985. С. 244). Одно из существенных отличий пасторального типа сентиментального мироощущения состоит в том, что пастораль не знает бесчувственного, ненатурального состояния. Поэтому в пасторальных произведениях отсутствует событие воскресения чувств, важнейшее для пасхальной чувствительности. Вот откуда её преимущественно описательный (по сути, бессюжетный) характер, на который проницательно указал Гумбольдт. Готовый, или естественный, миропорядок является основным предметом сентиментального пасторального любования. Таковы, например, произведения Михаила Пришвина: «Женьшень», «Глаза земли» и другие. Приведём вполне пасторальное стихотворение Пушкина «Домовому»: 38 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА Поместья мирного незримый покровитель, Тебя молю, мой добрый домовой, Храни селенье, лес и дикий садик мой, И скромную семьи моей обитель! Да не вредят полям опасный хлад дождей И ветра поздного осенние набеги; Да в пору благотворны снеги Покроют влажный тук полей! Останься, тайный страж, в наследственной сени, Постигни робостью полунощного вора И от недружеского взора Счастливый домик охрани! Ходи вокруг его заботливым дозором, Люби мой малый сад, и берег сонных вод, И сей укромный огород С калиткой ветхою, с обрушенным забором! Люби зелёный скат холмов, Луга, измятые моей бродящей ленью, Прохладу лип и клёнов шумный кров — Они знакомы вдохновенью. Несмотря на название, в произведении Пушкина открывается не домашний интерьер, а окружающее пространство (селенье, лес, поля, луга, холмы), куда вписан «домик» героя. Уже в этом выражается то, что в изображаемом мире главную роль играет природа. И атрибуты человеческого существования — сад, забор — даны как часть существования природного, вовлечены в ход натурального времени: сад — «дикий», а забор — «обрушенный». Поэтому домовой, на обращении к которому строится текст, предстаёт здесь прежде всего природным «покровителем» героя. «Вдохновенье» героя- поэта сближается с видами природы, а его «бродящая лень» согласуется с её покойным состоянием: не случаен в стихотворении образ «сонных вод». В таком отождествлении человека с природой выражается главная специфическая черта пасторальной эстетики даже и при отсутствии непосредственно пастушеской темы. 39 Л. Ю. ФУКСОН Образ леса как нетронутой природы может иметь пасторальный смысл. Например, дворец и лес в комедии Шекспира «Как вам это понравится?» противопоставлены как зоны интриг и прямодушия: «Разве лес не безопаснее, чем двор коварный?» — восклицает старый герцог. Конечно, «пастушеская жизнь», о которой забавно рассуждает шут Оселок (III, 1), в пьесе изображена как вынужденное и временное состояние изгнания. Но именно лес задаёт натуральную меру человеческого достоинства, утерянного во дворце. Генри Торо в своей книге «Уолден, или Жизнь в лесу» пишет: «Каждое утро радостно призывало меня к жизни простой и невинной, как сама природа». Герой романа Гамсуна «Пан» признаётся: «… только в лесу всё во мне затихало, я чувствовал себя сильным, здоровым, и ничто не омрачало душу». В центре повести В. К. Арсеньева «Дерсу Узала» (и её экранизации А. Куросавы) читателю (зрителю) открывается образ человека, для которого лес был родным домом и который чувствовал себя в городской квартире как в ящике. Можно вспомнить, к тому же, обе Книги джунглей Киплинга, а также романы Э. Р. Берроуза о Тарзане, целую серию их экранизаций и их разнообразные «дериваты» типа фильма «Данди по прозвищу Крокодил» Питера Файмана и т. п. На развитие темы натурального человека как меры ценности культуры и цивилизации оказал, конечно, огромное влияние Руссо, которое «дотянулось» до XIX и XX веков и не ослабевает в XXI веке. Необходимо сделать оговорку: уже по приведённым примерам видно, что пасторальность возможна и позднейшая. Пасторальность и «пасхальность» — это не хронологические, а именно историко-типологические категории (в частности, «Старосветские помещики» и «Обломов» — образцы пасторальной, а не «пасхальной», чувствительности). Произведения же Штифтера, Диккенса, Достоевского, Л. Толстого представляют «пасхальную» сентиментальность, так как развёртывают по большей части момент внутреннего очерствения героя, преодолеваемого в сюжете. Таково, например, построение образа мистера Домби в романе 40 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА Диккенса или Андрея Болконского в «Войне и мире» (при всех очевидных различиях этих фигур). В основе тезиса о том, что человек — попечитель, «пастух бытия» (как выразился Хайдеггер в «Письме о гуманизме»: М. Хайдеггер. Время и бытие. СПб., 2007. С. 279), лежит именно пасторальное представление, утверждающее и воспевающее прелесть готового («естественного», натурального) миропорядка. В «пасхальном» же горизонте природа воспринимается спрятанной, как бы заживо погребённой внутри. Поэтому ей суждено воскреснуть: ожесточённое, застывшее (обиженное) сердце должно растаять. «Пасхальный» сюжет — сюжет прощения и — одновременно — воскресения. Героиня романа Диккенса «Большие надежды» мисс Хэвишем с разбитым сердцем, остановившая часы на миге своей обиды и с тех пор больше никогда не видевшая солнца, — образ смерти при жизни. Но, в отличие от сатирической трактовки, душевная смерть героини Диккенса не окончательная, если вспомнить её финальный возглас раскаяния: «Что я наделала!» (XLIX). Событие прощения находится в центре романа «Униженные и оскорблённые»: «– Он был злой и её не прощал… — Завязка целого романа так и блеснула в моём воображении…» (2, XI). Симметричные истории деда Нелли и отца Наташи содержат общий сюжетно исходный образ ожесточённого сердца. В стихотворении Некрасова «Зелёный шум» тема обиды («думы лютой») и прощения, тема несостоявшейся мести художественно разработана как победа весны над зимой. Один из главных героев сентиментальных художественных произведений — раскаявшийся грешник: фигура «падшей женщины» («…кто из вас без греха, первый брось на неё камень» — Иоанн 8, 7), образы кающейся Марии Магдалины и Блудного сына в живописи, фольклорный разбойник Кудеяр, Жан Вальжан из романа В. Гюго, толстовский Нехлюдов, беспризорник Мамочка из фильма Г. И. Полоки «Республика ШКИД», герой повести Ю. П. Германа «Операция «С Новым годом!»» и её экранизации «Проверка на дорогах» А. Ю. Германа. Фамилия Лазарев отсылает 41 Л. Ю. ФУКСОН к евангельской притче о воскрешении (Иоанн 11, 38–45). С типом раскаявшегося грешника вообще как раз связан сюжет прощения как воскресения. О блудном сыне отец говорит: «…был мёртв и ожил…» (Лука 15, 24). Основное содержание сентиментального события «пасхального» типа — внутренняя перемена, воспринимающаяся как чудо. Это нелогичное, неожиданное событие. Тема чуда органична, например, для «пасхального» жанра святочного рассказа (Диккенс, Достоевский, Чехов, Андреев, Куприн). Итак, пасторальность и «пасхальность» (кавычки означают то, что мы вполне осознаём некоторую искусственность, условность такого обозначения) — это два этапа и две различные грани обнаружения природы, красоты натурального миропорядка. Пастораль воспевает родство человека с окружающим миром как лоном, а «пасхальная» художественность открывает спрятанное поначалу родство человека с самим собой, победу над «бесчеловечными» внутренними преградами. Обратимся к «слёзному» произведению Акутагавы «Мандарины», где читателю открывается сентиментальная метаморфоза, происшедшая с рассказчиком. Исходное настроение героя («невыразимая усталость и тоска»), по его же собственному признанию, полностью соответствует описанию окружающего его мира: пустой «полутёмный» перрон вокзала. Но такое соответствие читатель может заметить ещё в первом предложении рассказа: «Стояли угрюмые зимние сумерки» (мы пользуемся переводом Н. И. Фельдман). Определение «угрюмые» — проекция внутреннего состояния героя. Просматриваемая рассказчиком вечерняя газета, «набитая банальными статьями», как будто обосновывает его тоску и уныние: газета — окно в социальный мир — расширяет горизонт восприятия жизни как «непонятной, низменной, скучной». Сумеречное время — обещание темноты, мрака, с чем, как замечает читатель, гармонирует настроение героя. Но название рассказа сулит нечто противоположное. Поэтому читательское ожидание концентрируется на встрече персонажей, которая находится в центре сюжета. 42 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА Портрет крестьянской девочки, вошедшей в вагон, организован интонацией отчуждения. На рассказчика героиня производит неприятное впечатление, и его раздражает «её тупость, с которой она не могла понять даже разницу между вторым и третьим классами». Так в художественном образе человека намечаются дифференциалы: города и деревни, имущественной состоятельности и бедности — то, что разделяет людей. Эпизод с открыванием окна обнаруживает разного рода напряжение: во-первых, это лежащее на поверхности физическое напряжение усилий девочки опустить «тяжёлую раму»; во-вторых, в душе рассказчика борются «сочувствие» и «суровость»: «Я холодно смотрел, как обмороженные ручки бьются, пытаясь спустить стекло» (курсив наш — Л. Ф.). Внешний (физический) холод объединяется с внутренним. Но уменьшительно-ласкательное слово «ручки» выдаёт душевную теплоту сочувствия. Аналогичное напряжение можно заметить в описании спора городского и деревенского запахов, проникающих в открытое окно. Вначале это «удушливый дым», а затем — «запах земли, сена, воды». С усилием открываемое окно актуализирует важный для рассказа образ преграды, закрытости. Не случайно ещё вначале рассказчик упоминает жалобное тявканье «запертой в клетку собачонки». В основе эпизода, в котором девочка в ответ на приветствие своих младших братьев бросает им из окна мандарины, лежит принцип визуального контраста. Окружающий мир предстаёт в тёмном колорите «пасмурного неба», под которым «повсюду грязно и тесно жались убогие соломенные и черепичные крыши» «угрюмого предместья». На этом фоне описание мандаринов, которые рассказчик называет «золотыми», выглядит как яркая вспышка, что подчёркивается внезапностью их появления. Тёплая и солнечная окраска мандаринов вызывает сердечный трепет героя и «какое-то ещё непонятное светлое чувство». Поэтому вместе с выходом на первый план семейного родства (сестры и её младших братьев, которые пришли её проводить), что напоминает о глубинной чувствительной основе жизни, 43 Л. Ю. ФУКСОН необходимо также заметить внутреннюю метаморфозу рассказчика. Это событие предстаёт как символически многомерная (хоть и временная) победа: света над тьмой, тепла над холодом, сочувствия над равнодушием, открытости над закрытостью, единства над разобщённостью, надежды над усталостью и скукой, смысла над бессмысленностью существования. Дом как топологический архетип отвечает в большей степени именно «пасхальному» пространству, хотя и в пастушеской песне важна топологическая локализация — лужайка, укромный уголок, куда нет доступа ничему (и никому) постороннему. У Петрова-Водкина есть два варианта сентиментальной картины «Мать» — 1913 и 1915 годов. Первый вариант демонстрирует пасторальный топос — луг, а второй — «пасхальный» — дом (причём там в окне виден ещё один дом). В первой картине фигура женщины, кормящей грудью ребёнка, выделяется из мира различными оттенками насыщенного красного цвета одежды: она тем самым как бы придаёт всему окружающему смысл — помещая в центр бытия таинство материнства. Во второй картине наблюдается своего рода несловесный диалог геометрии «мягкого» круга и «жёстких» прямых линий: округлые очертания облика героини и младенца на фоне дощатой стены, кувшина и чашки — на фоне оконных рам. В этом обнаруживается визуальный спор чувствительности и рассудочности, характерный именно для «пасхальной» художественной оптики. Хотя дом, конечно, искусственная постройка, но это не самый существенный момент при развёртывании уменьшительноласкательного образа мира, так как здесь подразумевается «обжитая» территория любви, душевного «строительства», что и делает искусственное помещение домом. Сентиментальность понимает само бытие как дом — отгораживание интимной зоны, «построенное» любовное объятие. Причём важна хрупкость, ранимость, уязвимость этого бытия. Любить можно лишь нечто невозвратное, уходящее, смертное. Необъятность и вечность поражают или пугают, но их трудно, если вообще возможно, любить. В сентиментальной сказке Андерсена символический 44 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА смысл получает слово «вечность», которое пытается сложить из льдин Кай, маленький мальчик с оледеневшим сердцем, потерявшийся и забывший себя в чертогах Снежной Королевы. Но когда его находит и воскрешает (горячими слезами) Герда, они возвращаются в родной дом, где «часы говорили „тик-так“». Таким образом, воскресение в сказке сопровождается перемещением героя из холодной и бесчувственной (мёртвой) вечности в тёплое время жизни. Как можно увидеть, необъятность и вечность в сентиментальном мире ассоциируются с безжизненностью как бессердечностью. Сам любовный жест — обымание малых пределов любимого смертного существа. Можно говорить о символической топологии объятия, внутри тёплого круга которого находится самое дорогое и любимое и которым оно отделяется (и оберегается) от всего холодного, безразличного, постылого снаружи. Луг и дом — пасторальное и «пасхальное» объятия человека — чада готового миропорядка. Если выражение «лоно природы» вполне пасторальное, то ему соответствует русский «пасхальный» топологический аналог: «как у Христа за пазухой». 45 ЭЛЕМЕНТЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО КОСМОСА Сентиментальная символика в основном — символика воды («половодье чувств»), преимущественно влажный космос. Отсюда выражения чёрствое сердце, сухарь в значении бездушный, безжалостный человек. Не случайно выражения чувств называются излияниями. Подразумевается глобальный «слёзный аспект мира» (Бахтин). Вода, конечно, ценностно амбивалентна и способна означать не только жизнь, но и смерть: потоп, омут, пруд, в котором утопилась героиня Карамзина, наводнение («Медный всадник»). Но это относится ко всем первоэлементам, могущим иметь не только позитивную, но и негативную модальность: воздух в виде бурана, урагана; земля в образе могилы; огонь как пожар или орудийная стрельба. По мнению Гастона Башляра, вода — «объект одной из величайших символических ценностей, когда-либо созданных человеческой мыслью: архетипа чистоты» (Г. Башляр. Вода и грёзы. М., 1998. С. 33–34). Вода — исходная бесформенная субстанция, в которой отсутствуют различия: «Погружение в воду служит символом возвращения к предшествовавшему формам состоянию, символом полного обновления, очищения, второго рождения…» (М. Элиаде. Трактат по истории религий. Т. I. СПб., 1999. С. 347). Субстанция человечности, открывающаяся глубже всех форм и различий, как раз соответствует этому элементу художественного космоса. Символичен, в связи с таким «предшествовавшим формам состоянием», «пластичный» образ ребёнка. Составляет контраст по отношению к воде камень, имеющий твёрдую, безнадёжно окончательную (и потому «мёртвую» с сентиментальной точки зрения) форму. Отсюда выражение: «сердце не камень». С этим ассоциируется образ льда, в котором предстаёт отрица46 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА тельный предел затвердения и застывания воды, превращения её в неподвижный камень (что мы наблюдаем в сказке Андерсена «Снежная королева»). Некрасову принадлежит типичная сентиментальная картина, в которой главный элемент — вода: Стихи мои! Свидетели живые За мир пролитых слёз! Родитесь вы в минуты роковые Душевных гроз И бьётесь о сердца людские, Как волны об утёс. Здесь описывается своего рода поэтическая сентиментальная атака на людское равнодушие, которая запечатлена в виде спора воды и камня. Слёзы и стихи принадлежат одной — водной — субстанции, в то время как «утёс» представляет собой метафору окаменевших, то есть бесчувственных, людских сердец. Вода в качестве текучей субстанции передаёт зачастую саму подвижность бытия, жизнь на фоне мёртвой неподвижности. Приведём фрагмент стихотворения Фёдора Тютчева, в котором конфликт жизни и смерти репрезентируется спором жидкого и твёрдого состояний изображённого мира: Поток сгустился и тускнеет, И прячется под твёрдым льдом, И гаснет цвет, и звук немеет В оцепененье ледяном, — Лишь жизнь бессмертную ключа Сковать всесильный хлад не может: Она всё льётся и, журча, Молчанье мёртвое тревожит (…). Событие умирания в мире произведения предстаёт как наступление бесчувственности — погасание цвета, онемение звука, замерзание. Смерть потока изображается как замирание его движения — затвердение, «оцепененье» и одновременно при47 Л. Ю. ФУКСОН ход состояния несвободы («скованности»). Свобода же в этой картинке находится на полюсе «бессмертной жизни» ключа. Это выражение указывает на духовный план — благодаря человеческому горизонту видения, с необходимостью запечатлённому в поэтическом слове. Многие произведения с весенней темой развёртывают чисто сентиментальное ощущение причастности жизни человека ритмам природного существования. Причём эти произведения отнюдь не случайно наполнены образами воды. Возьмём в качестве такого «весеннего» примера стихотворение А. К. Толстого: Вновь растворилась дверь на влажное крыльцо, В полуденных лучах следы недавней стужи Дымятся. Тёплый ветр повеял нам в лицо И морщит на полях синеющие лужи. Ещё трещит камин, отливами огня Минувший тесный мир зимы напоминая, Но жаворонок там, над озимью звеня, Сегодня возвестил, что жизнь пришла иная. И в воздухе звучат слова, не знаю чьи, Про счастье, и любовь, и юность, и доверье, И громко вторят им бегущие ручьи, Колебля тростника желтеющие перья. Пускай же, как они по глине и песку Растаявших снегов, журча, уносят воды, Бесследно унесёт души твоей тоску Врачующая власть воскреснувшей природы! В мире произведения А. К. Толстого запечатлена смена двух состояний природы и человека. И вокруг каждого из них собирается ряд взаимосвязанных характеристик. «Недавняя стужа» зимы закономерно соединена с «минувшей» теснотой и закрытостью, огнём камина — всё это знаки отгороженности человека 48 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА от природы. На смену приходит прямой контакт героя с естественным теплом весеннего ветра и светом «полуденных лучей», с чем связан образ растворившейся двери, а также звонкая весть жаворонка о том, «что жизнь пришла иная». Вторая половина произведения переносит природное (поначалу «внешнее») событие во внутренний, душевный план. На это указывает появление слов, обозначающих соответствующие весеннему состоянию природы чувства. Сердце человека откликается на природное событие, но, с другой стороны, и бегущие ручьи «громко вторят» словам «про счастье и любовь, и юность, и доверье». Таким образом, «внешняя весна» в стихотворении дополняется «внутренней». Например, чисто материальный образ растворившейся двери символически представляет душевную открытость («доверье»). Тоска души, об исчезновении которой идёт речь в финале, — это репрезентация внешних, физических зимы, холода, закрытости, а также болезни и смерти, что вытекает из определения весны как «врачующей власти воскреснувшей природы». Воскресение природы и человека связано у А. К. Толстого с преодолением их взаимной отчуждённости. Эта победа отгороженности человека от природы — чисто сентиментальное событие, которое сопровождается обычным для весны появлением образов воды начиная с первого стиха, где упоминается «влажное крыльцо», и заканчивая водами «растаявших снегов». Вода изображается сугубо весенней, обновляющей субстанцией. С образом земли соединяются символы материнства и плодородия. Земля как сентиментальный элемент может быть или живой — ближе к воде и воздуху — или мёртвой — ближе к камню и огню. Например, в произведении Мандельштама «Чернозём» развёрнут образ земли в её живом, творческом состоянии: (…) В дни ранней пахоты черна до синевы, И безоружная в ней зиждется работа (…) 49 Л. Ю. ФУКСОН В этих стихах искусственные усилия не противопоставлены естественным процессам, а объединены с ними: работа вооружённого плугом пахаря способствует «безоружной работе» самой земли. В сказке А. Платонова «Неизвестный цветок» соотносятся по принципу контраста два образа — «чёрной доброй земли» и «голого каменного пустыря». В стихотворении Н. Заболоцкого «Ходоки» крестьянское угощение называется «скудным даром истерзанной земли». В «Песне о Земле» В. Высоцкого земля во время войны горит, чернеет «от горя», у неё «раны» воронок от взрывов, но она не умерла, а «затаилась на время» войны. В начале романа Л. Толстого «Воскресение» описывается весна в Петербурге: Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место несколько сот тысяч, изуродовать ту землю, на которой они жались, как ни забивали камнями землю, чтобы ничего не росло на ней, как ни счищали всякую пробивающуюся травку, как ни дымили каменным углем и нефтью, как ни обрезывали деревья и ни выгоняли всех животных и птиц, — весна была весною даже и в городе. Солнце грело, трава, оживая, росла и зеленела везде, где только не соскребли её, не только на газонах бульваров, но и между плитами камней, и березы, тополи, черемуха распускали свои клейкие и пахучие листья, липы надували лопавшиеся почки; галки, воробьи и голуби по-весеннему радостно готовили уже гнёзда, и мухи жужжали у стен, пригретые солнцем. Веселы были и растения, и птицы, и насекомые, и дети. Но люди — большие, взрослые люди — не переставали обманывать и мучать себя и друг друга. В этой картине, открывающей роман, все натуральные характеристики группируются вокруг земли, а всё искусственное, как будто препятствующее приходу весны, связано с городом, с камнем. Обращает на себя внимание ценностный спор однокоренных слов «забивали» и «пробивающуюся». Первое обозна50 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА чает внешнее насильственное действие со стороны города, сближающееся с убийством; второе отсылает к внутренним творческим силам природы. Сам город есть место умерщвляющего отгораживания от натуральной открытости жизни. И для повествователя это место уродования земли. Вместе с тем, животворящая мощь земли оказывается непобедимой. Финал фрагмента переводит описание во внутренний, душевный, план, где наблюдается то же самое ценностное напряжение: радость весеннего возрождения жизни противостоит непрерывным мучениям и обману. Причём дети в приведённом фрагменте поставлены в один ряд с растениями и животными, а взрослые как будто выводятся за пределы самого природного естества и его темпорального циклического ритма — за пределы весеннего воскресения. Взрослый герой романа — моральный калека, нуждающийся в лечении, и патологичным показано само его городское существование, оторванное от земли. Присмотримся к описанию героя романа Гамсуна, который сеет хлеб: …есть ячмень или нет ячменя — это жизнь или смерть. Исаак шагал с непокрытой головой, призывая имя Иисуса, и сеял; он был похож на чурбан с руками, но душой был ровно младенец. Старательно и нежно кидал он в землю пригоршню, был кроток и смиренен. Ведь прорастут эти ячменные глазки и превратятся в колосья с множеством зёрен, и это происходит повсюду на земле, где сеют ячмень. В Иудее, в Америке, в долине Гудбрансдаль — как же огромен мир, а крошечный кусочек земли, который засевает Исаак, — в центре всего сущего… (К. Гамсун. Плоды земли 1, III — перевод Н. Н. Фёдоровой). Земля в романе Гамсуна — главный элемент мира. При этом очень важно заметить характер изображения человека на земле: акцентируется его младенческая кротость. Несмотря на то, что земледельческий труд — расчистка земли, её вспашка и т. д. — требует огромных усилий и терпения, активность, исхо51 Л. Ю. ФУКСОН дящая от человека, в приведённом фрагменте изображается сведённой к минимуму. Это нежное старание. Подчёркивается то, что основная творческая, рождающая миссия принадлежит самой земле. Глубокое осознание этого и объясняет смирение крестьянина. Повествователь напоминает об огромности мира, перечисляя различные его места, но тут же возвращается к «крошечному кусочку земли», как бы показывая единственно верный ракурс изображения — с близкого расстояния. Это чисто сентиментальная, уменьшительно-ласкательная, оптика, позволяющая разглядеть то, что находится «в центре всего сущего» — где бы этот центр ни находился — единство человека и природы; жизни, которую даёт земледельцу земля, и любви к земле, идущей от земледельца. Огонь же в чувствительном мире должен не обжигать, но согревать: это укрощённый, очеловеченный огонь домашнего очага: «Бьётся в тесной печурке огонь…» А. Суркова, «Огонёк» М. Исаковского, «Русский огонёк» Н. Рубцова. Вот типичный образчик из стихотворения А. Апухтина «Огонёк»: …Вдруг яркий огонёк блеснул в лесу глухом, Гостеприимная открылась дверь пред нами, В уютной комнате, пред светлым камельком, Сижу обвеянный крылатыми мечтами (…) Неслучайна, конечно, в последних приведённых примерах уменьшительно-ласкательная форма слова «огонь». Очаг, по слову Честертона, — это «алое сердце дома». Можно вспомнить в связи с этим чувствительный образ печи в доме Турбиных романа Булгакова, которая «грела и растила Елену маленькую, Алексея старшего и совсем крошечного Николку» (1, 1). Напротив, например, в мире военных рассказов А. Платонова или прозы Ю. Бондарева огонь чаще фигурирует как главная «бесчеловечная» субстанция войны: образы огня и земли открывают спор войны и мира, смерти и жизни, пути и дома. Ветер (холодный) и дыхание (тёплое) — ценностно противоположные образы воздуха (мёртвый, чужой и живой, родной). 52 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА В начале повести «Бедная Лиза» можно прочесть: «Страшно воют ветры в стенах опустевшего монастыря». Так же «воет ветер» в финале произведения в опустевшей хижине после смерти героини и её матери. Похожий образ ветра у Фёдора Сологуба: Ветер в трубе / Воет о чьей-то судьбе… Ветер ассоциируется часто с дорогой («Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» Мандельштама), при том, что он может быть как попутным, так и сбивающим с пути («Метель» Пушкина). Это образ движения («ветер в голове», «ветреность» означают переменчивость, непредсказуемость, авантюрность). Дыхание же ощущается в малом домашнем пространстве и выражает доверчивую близость (тёплое дыхание лошади в финале рассказа Чехова «Тоска»). Или в концовке стихотворения Фета: «…Мне дыхание скажет, где ты». Однако и наоборот — сам ветер может предстать дыханием, как, например, в начале стихотворения В. Жуковского «Певец»: В тени дерев, над чистыми водами Дерновый холм вы видите ль, друзья? Чуть слышно там плескает в брег струя; Чуть ветерок там дышит меж листами (…). В этой картинке ветер теряет свои обычные характеристики, поэтому не случайно он назван «ветерком» и одушевляется, оживает («дышит»). Слово, «брошенное на ветер», обычно не доходит по адресу, оказывается бесплодным (например, как в рассказе Чехова «Шуточка»). Однако в знаменитом романсе на стихи Гейне (в переводе Л. Мея) герой мечтает о том, что брошенное на ветер слово донесётся до далёкого сердца: Хотел бы в единое слово Я слить мою грусть и печаль И бросить то слово на ветер, Чтоб ветер унёс его вдаль. 53 Л. Ю. ФУКСОН И пусть бы то слово печали По ветру к тебе донеслось, И пусть бы всегда и повсюду Оно тебе в сердце лилось! (…) Сам образ ветра в стихотворении вполне органично соединён с грустной далью непреодолимой разлуки. Однако в данном случае в желании героя ветер как раз эту разлуку и должен преодолеть. 54 ИДИЛЛИЯ И ЭЛЕГИЯ Отдельно следует поставить вопрос о сентиментальных художественных модификациях элегии и идиллии, которые были описаны ещё Шиллером. Слово «идиллия» образовано от эйдос (вид, картина) путём прибавления уменьшительного суффикса. Иначе говоря, это «картинка», что содержит указание на определённую условность: ограниченное самим любующимся взглядом созерцателя зрелище. Подчёркивается локализация изображаемого, что вполне соответствует уменьшительно-ласкательной сентиментальной образной логике. Уменьшительная форма слова «картинка», обозначающего жанр, отсылает к героико-эпопейному — гиперболически увеличивающему — «фону», на котором по принципу контраста происходит становление идиллии и идиллического мироощущения. Для эпохи эллинизма, породившей идиллию, характерен рост как философского, так и художественного интереса к частной жизни (см. об этом: Поэтика древнегреческой литературы. М., 1981. С. 107). В противовес эпическим поэмам подражателей Гомера «возникает и пышно расцветает поэзия „малых форм“» (М. Е. Грабарь-Пассек. Буколическая поэзия эллинистической эпохи // Феокрит. Мосх. Бион. Идиллии и эпиграммы. М., 1958. С. 194). При этом важно учесть то, что понятие малого, относящееся здесь к внешней форме — к словесным объёмам жанра идиллии, размерам текста, характеризует и сам предмет изображения. Если героическая эпопея повествовала о грандиозных событиях и великих («богоравных») героях, то идиллия изображает «обычных людей в их повседневной жизни» (там же, с. 211). Как писал Бахтин, в сентиментальном изображении происходит отказ «от больших пространственно-временных охватов, уход в микромир простых человеческих переживаний» (М. М. Бахтин. Собр. соч. Т. 6. М., 2002. С. 401). Правда, XXV 55 Л. Ю. ФУКСОН идиллия Феокрита «Геракл — убийца льва» демонстрирует, на первый взгляд, именно гиперболическую поэтику эпопеи, однако битва героя с Немейским львом даётся в ретроспективном горизонте, и в момент рассказа шкура льва послушно покрывает плечи рассказчика. Героический эпизод прошлого деактуализируется и как бы «оседает», в идеальном («снятом») виде воспоминания вплетается в повествование о владениях Авгия, где описываются многочисленные стада и цветущие пастбища, то есть развёрнуты виды не суровой борьбы человека с природой, а, наоборот, их мирного пасторального единства. Героическое прошлое дано тем самым с точки зрения идиллического настоящего. В XI идиллии циклоп Полифем изображён не кровожадным великаном, как в IX песни «Одиссеи», а пастухом, который пением успокаивает страдания своей безответной любви к Галатее. Переходя от героической эпопеи к пастушеской песне, мы видим, как внешнее напряжение поединка силы и хитрости сменяется внутренним напряжением любовного чувства и его эстетической сублимацией. В соответствии с таким архитектоническим заданием гиперболическое слово поэмы уступает уменьшительно-ласкательному слову идиллии. Фридрих Шиллер, видящий в идиллии прежде всего не жанровую, материальную, форму, а определённый «господствующий строй чувств», подчёркивает предметную сторону этого «рода поэзии» — «изображение невинного и счастливого человечества» (Ф. Шиллер. Собр. соч. Т. 6, М., 1957. С. 440). Это состояние «гармонии и мира с самим собой и с внешнею средою» (там же). Достаточно очевидна опора Шиллера на Руссо в понимании натуральной невинности. Т. В. Попова писала о буколическом изображении природы у Феокрита: «Умиротворённость и статичность придают пейзажу несколько условный идиллический характер; тем самым как бы внушается мысль о том, что сельская природа — прекрасное убежище от зла и пороков городской цивилизации» (Поэтика древнегреческой литературы. М., 1981. С. 141). Идиллия находит такое «невинное» натуральное 56 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА состояние в основном в докультурную эпоху — в прошлом. По этой причине чаще всего она несёт «лишь печальное чувство утраты, но не радость надежды» (Ф. Шиллер. Собр. соч. Т. 6, М., 1957. С. 441–442). Можно поэтому, отчасти забегая вперёд, утверждать, что изображение идиллического состояния предполагает элегический («жалобный») горизонт: это состояние чаще всего отнесено в безвозвратное прошлое. У Аполлона Майкова есть стихотворение «Пейзаж»: Люблю дорожкою лесною, Не зная сам куда, брести; Двойной глубокой колеёю Идёшь — и нет конца пути… Кругом пестреет лес зелёный; Уже румянит осень клёны, А ельник зелен и тенист. Осинник жёлтый бьёт тревогу; Осыпался с берёзы лист И, как ковёр, устлал дорогу… Идёшь, как будто по водам, — Нога шумит… а ухо внемлет Малейший шорох в чаще, там, Где пышный папоротник дремлет, А красных мухоморов ряд, Что карлы сказочные, спят… Уж солнца луч ложится косо… Вдали проглянула река… На тряской мельнице колёса Уже шумят издалека… Вот на дорогу выезжает Тяжёлый воз — то промелькнёт На солнце вдруг, то в тень уйдёт… И криком кляче помогает Старик, а на возу — дитя, И деда страхом тешит внучка; 57 Л. Ю. ФУКСОН А, хвост пушистый опустя, Вкруг с лаем суетится жучка, И звонко в сумраке лесном Весёлый лай идёт кругом. Само название произведения — перифраз «идиллии» (картинки), для которой природа — главный предмет изображения, а человек составляет её органичную часть. То, что обычно отделяет человека от природы, — дорога как образ целенаправленности и метафора любых рассудочных планов — в мире стихотворения получает уменьшительно-ласкательное наименование «дорожка», а главный атрибут дороги — направление — снимается: герой стихотворения бредёт «не зная сам куда». Тем самым ценностная граница между человеком и природой оказывается стёртой. В мире стихотворения Майкова человек включён в жизнь природы также в темпоральном плане. Течение времени открывается в «румяных клёнах» и жёлтых осинах, осыпающихся листьях берёзы, противопоставленных зелени ельника. Различные стадии времени запечатлены и в системе персонажей произведения: «старик, а на возу — дитя», а также «кляча», везущая «тяжёлый воз», и — в пару ей — «весёлая жучка» (оппозиция старости и молодости). Таким образом, «Пейзаж» охватывает всю жизнь в целом — её начало и её завершение, закат. При этом жизнь природы идёт по кругу, что является эмблемой целостности, полноты. Не случайно последнее слово текста — «кругом» и «жучка» суетится «вкруг». В образе мельницы, вписанном в «пейзаж», тоже видится единство человека и природы, искусственного приспособления и плодов земли. *** Упомянутый нами ранее образ ребёнка — самый подходящий предмет для идиллической трактовки жизни. Форма умиления непроизвольно соотносит предмет с собственным прошлым умиляющегося. Как говорит русский поэт, «…что пройдёт, то будет мило». Умиление соединяет любование с осознанием неиз58 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА бежной утраты, временности, хрупкости такого идиллического состояния гармонии. Этот момент обнаруживается в перечислении М. М. Бахтиным основных сторон сентиментального образа мира: «Культ слабости, беззащитности, доброты и т. п. — животные, дети, слабые женщины, дураки и идиоты, цветок, всё маленькое и т. п.» (М. М. Бахтин. Собр. соч. Т. 6. М., 2002. С. 400). Само определение идиллического предмета Шиллером как состояния невинности и счастья указывает на отделённость этого предмета от созерцателя: состояние невинности можно ощутить лишь извне, лишь выйдя за пределы этого состояния. Вот почему не только элегия (выражение утраты, жалоба), но и сама идиллия является слёзным истолкованием жизни. Если использовать терминологию Ф. Шиллера, то можно сказать, что в структуре идиллии важна разница «наивного» изображаемого бытия и «сентиментального» угла зрения, сентиментальной «рамы» развёртываемой «картинки». Возьмём в качестве примера произведение Чехова. Мир рассказа Чехова «Детвора» развёртывается именно как «картинка» с обычной для идиллии описательностью. Лишь один эпизод — с гимназистом Васей — прочерчивает сюжетно значимую границу «семантического поля» (Ю. М. Лотман). В данном случае детская игровая «неконвертируемая валюта» (копейки) сталкивается со взрослой системой ценностей, в которой «рубль во всяком случае дороже копейки». Однако когда Васю принимают в игру на детских условиях, эта коллизия как бы поглощается описательным ходом повествования, возвращающегося к мирному ходу игры. Поэтому художественное резюме произведения Чехова — развёртывание идиллического невозмутимого состояния жизни, в центре которого находится ребёнок. Уже начало рассказа ставит читателя на детскую точку зрения: «Папы, мамы и тёти Нади нет дома. Они уехали на крестины к тому старому офицеру, который ездит на маленькой серой лошади». Причём «картинка» рассказа не просто устраняет взрослых, но отсылает их к событию, в центре которого находится опять же ребёнок («крестины»). Финаль59 Л. Ю. ФУКСОН ное же «Спокойной ночи!», звучащее над заснувшими детьми, подчёркивает умиляющуюся точку зрения не вмешивающегося в детский мир взрослого повествователя. Налицо как раз сентиментальный любующийся взгляд на наивное состояние жизни, о чём и писал Ф. Шиллер. Как уже отмечалось, даже если герой идиллии по возрасту не ребёнок, он инфантилен по своему характеру. Таковы гоголевские старосветские помещики, и не случайно наиболее полно развёрнутый идиллический строй бытия в романе «Обломов» изображается в девятой главе первой части, где герой застаёт себя во сне именно ребёнком и видит свою ещё живую мать: «у него, у сонного, медленно выплыли из-под ресниц и стали неподвижно две тёплые слезы» (И. А. Гончаров. Обломов. Л., 1987. С. 85). В обоих этих примерах идиллическое состояние дано в элегическом горизонте, то есть отнесено в безвозвратное прошлое. Итак, идиллия описывает идеальное состояние полного единства человека с природой, благодаря чему все отрицательные моменты вынесены за скобки: границы идиллического состояния по сути совпадают с границами изображения. Отсюда проистекает некоторая условность, утопичность «картинки». По сути, идиллическое состояние достигается ценой природного уединения человека, выведения его по ту сторону сложного социального существования. В повествовании о Филемоне и Бавкиде из VIII книги «Метаморфоз» Овидия, истории, на которую не случайно ссылается повествователь «Старосветских помещиков», идиллическая черта изображённой жизни проявляется в награждаемом богами гостеприимстве героев, открытости и щедрости их дома. Натуральность этого жизненного уклада подчёркивает, во-первых, отсутствие слуг, то есть какой-то социальной иерархии: «Всё-то хозяйство — в двоих; всё сами: прикажут — исполнят» (637. Перевод С. В. Шервинского). Во-вторых, боги осуществляют пожелание стариков умереть в один день. Тем самым срок жизни уравнивается со сроком любви, что открывает чисто сентимен60 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА тальное представление. И, наконец, после смерти герои превращаются в деревья с одним корнем (715–721). Таким образом, человек художественно уравнивается с природой. Гумбольдт писал об идиллии следующее: «Под словом «идиллия» обычно понимают ту часть поэзии, которая описывает не столько жизнь в широком круге, сколько домашнее, семейное бытие…» (В. фон Гумбольдт. Язык и философия культуры. М., 1985. С. 244). Жизнь «в широком круге» означает для Гумбольдта, по всей видимости, социальное существование. Своего рода ограниченность идиллии «домашним, семейным бытием» позволяет, по мнению философа, лучше проявиться «родству человека с природой» (с. 245). Идиллию Гумбольдт рассматривает на фоне героической эпопеи, но оговаривается, что слово «идиллия» означает не только поэтический жанр: «им пользуются также для того, чтобы указать на известное настроение ума, на способ чувствования» (с. 244). Можно заметить близость мысли Гумбольдта об идиллии шиллеровскому понятию «господствующего строя чувств. Подходящим примером идиллии является произведение Пастернака: Как кочегар, на бак Поднявшись, отдыхает, — Так по ночам табак В грядах благоухает. С земли гелиотроп Передаёт свой запах Рассолу флотских роб, Развешанных на трапах. В совхозе садовод Ворочается чаще, Глаза на небосвод Из шалаша тараща. 61 Л. Ю. ФУКСОН Ночь в звёздах, стих норд-ост, И жерди палисадин Моргают сквозь нарост Зрачками виноградин. Левкой и Млечный Путь Одною лейкой полит И близостью чуть-чуть Ему глаза мозолит. В странном на первый взгляд сравнении первой строфы открывается картина сближения человека и природы в состоянии покоя, разворачивающаяся в стихотворении. Вначале эта картина строится вокруг корабля, пришвартованного к берегу, что означает его остановку, переход от движения к покою, от пространственной формы пути к устойчивому локусу дома. «Развешанные» робы, солёные от пота, указывают на состояние отдыха, сменяющее тяжёлую работу. Другой идиллический центр произведения — фигура садовода (начиная с III строфы). Состояние успокоения наблюдается и в описании ночного сада, однако используется морской термин («стих норд-ост»), напоминающий в IV строфе о «морском» начале стихотворения и предшествующем движении. Образ палисадника прочерчивает границу дороги и дома, важную для всего произведения Пастернака. Разговорные слова приземляют небесные («возвышенные») образы. Встрече земли с небом в мире стихотворения (левкоя и Млечного Пути) соответствует стилистическое сближение низкого с высоким («тараща», «мозолит» — «небосвод»). Такое же «приземление» можно обнаружить во второй строфе: греческое слово «гелиотроп», обозначающее красивый цветок, рифмуется с русским «роб», отсылающим к грубой трудовой сфере жизни. Общая ситуация, описываемая в стихотворении Пастернака, — слияние, объединение культуры и натуры, малого и большого, верхнего и нижнего, ближнего и дальнего и т. д. Окончание пути, успокоение, отдых — как раз то состояние, которое стирает 62 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА грань между человеком и природой. Трапы соединяют воду и землю. С отдыхом кочегара ассоциируется образ погасшего огня, который как будто вытесняется образами воды. Огонь здесь — знак Прометея, цивилизации, а вода — природная стихия. В стихотворении дан взгляд человека на мир и — встречный взгляд мира. Такова идиллическая, описательная, разновидность сентиментальности. Стоящим особняком в уменьшительно-ласкательной литературе нам видится стихотворение Фета: Чудная картина, Как ты мне родна: Белая равнина, Полная луна, Свет небес высоких, И блестящий снег, И саней далёких Одинокий бег. Прежде всего бросается в глаза здесь не характерный для идиллической оптики так называемый общий план, создающий не «уменьшительную», а «увеличительную» перспективу. «Чудное» (как чудесное) — синоним чего-то незнакомого, редкого, а «родное» — наоборот — привычного. В таком соединении несоединимого можно почувствовать то же напряжение, что и в других фетовских стихах: «… В моей руке — какое чудо! — / твоя рука…». Привычное и близкое в обоих случаях воспринимается как чудо в горизонте любви. Отмеченное внутреннее, психологическое напряжение коррелятивно внешнему, пространственному. Коль скоро мир стихотворения утверждается как открытый («высоких», «далёких»), то дорога — единственно соразмерный топос. Но в образе дороги здесь важно заметить ожидание возвращения домой: большое пространство дано как преодолеваемая протяжённость разлуки. 63 Л. Ю. ФУКСОН «Свет небес» отражается в «блестящем снеге». Поэтому можно сказать, что верх и низ изображаемого мира как будто «хотят встретиться». Но в горизонтальной плоскости художественного пространства читатель тоже находит аналогичное стремление. Сани «далёкие», во-первых, по отношению к наблюдателю. «Картина», которой он любуется, демонстрирует, как мы заметили, общий план: она увидена с большой дистанции эстетического любования. Во-вторых, «далёкие» сани указывают на неохватность мира, на долготу пути, на движение вдаль (для того, кто в санях). Чтобы преодолеть «одиночество», нужен «бег» (скорость, пропорциональная расстоянию). У большого пространства соответственная разлучающая сила. Поэтому в любующемся горизонте видения с появлением слова «одинокий» приходит печальное восприятие этого пространства, в котором легко потеряться именно в силу его устремлённости вдаль. И любовное желание обнять противостоит здесь необъятности. Одиночество, которое стремится преодолеть «бег», соединено с ожиданием встречи, что и образует чувствительное напряжение «картины» стихотворения. Элегия — противоположный вариант чувствительного образа мира, сетование на утрату идиллического состояния. Можно вспомнить в связи с этим, например, название и интонацию сожаления повествователя «Старосветских помещиков». По этой повести видно, что идиллическое состояние изображаемой жизни дано как самодостаточное, а элегический взгляд и сам его носитель отделён от изображаемого резкой границей. Жалобный тон определяется взглядом на изображаемое состояние извне — как на утраченное — и означает элегическую установку. Элегия знаменует распад идиллического мироощущения. Это печальное свидетельство разрыва бесконечного циклического хода бытия, круга объятия — чувство неумолимого «охлаждения» жизни. Таким образом, идиллия и элегия суть не что иное, как положительный и отрицательный модусы уменьшительно-ласкательного образа мира, понятые как архитектониче64 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА ские, а не композиционные, формы (Бахтин). В точных терминах В. И. Тюпы это прежде всего типы художественности, а не только типы литературности — жанры (см.: В. И. Тюпа. Художественность литературного произведения. Красноярск, 1987). Напрашивается параллель элегических произведений XX и XIX веков «Доктор Живаго» и «Обломов». В обоих романах налицо влюблённость героев в готовый миропорядок жизни в противовес её переустроителям (фигурам Обломова и Штольца соответствует пара Живаго — Стрельников). С эпизода рыданий мальчика на могиле отца как образа трещины идиллического состояния мира начинается роман «Доктор Живаго». Произведение Гончарова также не что иное, как развёрнутая элегия. Это роман о герое, жизнь которого «началась с погасания», роман-жалоба. Идиллическое состояние человеческой жизни у Гончарова изображено или в форме сна о детстве героя (как известно, из этой главы, опубликованной в 1849 году в «Современнике», и вырос роман), или как засыпание-умирание Ильи Ильича на Выборгской стороне — картина идеального, счастливого строя бытия, неумолимо уходящего в прошлое. Символична закономерная смерть героя в мире романа, где остаётся живым и здоровым его бодрый и деловитый друг. Эта смерть Обломова показана в романе как невозвратный уход из жизни самой сентиментальной «человечности» (мы обратимся к произведению Гончарова позже в связи с вопросом о формах сентиментального художественного времени). Элегическую тему неумолимого разрушения идиллии затрагивал Бахтин (М. М. Бахтин. Собр. соч. Т. III, 480–481). А. Л. Зорин и А. С. Немзер писали о «разрушении идиллического мира усадьбы Лариных», связанном с появлением Онегина (Столетья не сотрут… Русские классики и их читатели. М., 1989. С. 26). Поэтому не случайно строфы седьмой главы романа, в которых Татьяна прощается с родными местами, организованы именно элегической интонацией. 65 СЕНТИМЕНТАЛЬНОСТЬ И ГЕРОИКА В определённом смысле сентиментальная уменьшительноласкательная художественная формула мира является антитезой возвеличивающей и прославляющей установке героических произведений. При переходе к возвышающему, героизирующему ракурсу от умаляющего и умиляющегося мальчик (то есть маленький, на что указывает не только лексическая семантика, но и суффикс) получает в сказке Аркадия Гайдара имя Мальчиш. У юного героя рассказа Юрия Олеши «Лиомпа», который олицетворяет победу творчества над бессмысленностью жизни, «увеличивающее» взрослое имя мальчик Александр. Две поэмы Гомера представляют именно возвышенное, героическое состояние мира, для которого требуется покинуть дом, выйти за пределы своей частной жизни, и его завершение — наоборот — как возвращение домой, что означает возврат героя к естественности, к тому, чтобы быть наконец всегонавсего только самим собой. Однако в «Одиссее», поэме возвращения, как будто «по инерции» работает сугубо героическая логика. Гомеровский герой прибывает в Итаку неузнаваемым (по воле Афины), в виде нищего странника: его родина стала для него чужой и наполненной врагами. Узнал его лишь преданный пёс Аргус, природное существо, лучше чующее скрытую от всех людей суть, а затем — верная служанка узнаёт героя по рубцу на ноге. Жена устраивает герою проверку, основанную на том, что только Одиссей знал об устройстве брачного ложа (своего рода домашний пароль). Таким образом, возвращение героя домой из зоны чуждости чужбины соединяется с событием трудного узнавания, на чём много веков позже будет построена чувствительная новелла Мопассана «Возвращение». 66 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА «Одиссея» — это, конечно, тоже возвышенная поэма, гиперболизация человека и мира. Но конец войны и обратное путешествие домой есть именно завершение героической эпопеи. Поэтому в финале дана последняя битва Одиссея на пороге дома с женихами, обступившими его жену. Это сражение есть не что иное, как прощание, резюме героического сюжета. Как только последнее препятствие на пути домой устранено — героическая эпопея заканчивается. Порог дома является границей самого произведения: домашняя территория, лишь намеченная в финале поэмы, — зона уже исключительно приватной жизни и уменьшительно-ласкательных ценностей (можно сравнить это с началом «Капитанской дочки», о которой пойдёт речь особо). Стихотворение Бродского «В городке…» говорит о таком же переходе: Настоящий конец войны — это на тонкой спинке венского стула платье одной блондинки (…) В этом утверждении лирического героя можно почувствовать полемическую интонацию. Иной («ненастоящий», с сентиментальной точки зрения) конец войны мог быть увиден как раз в героической оптике, скажем, провозглашения подписания акта «о полной и безоговорочной капитуляции» или праздничного, победного салюта. В картинке же стихотворения Бродского показывается крупным планом сугубо приватная (не героическая, но идиллическая) жизнь, в которой просто нет места даже самой мысли о войне. Фигура разгорячившегося Тараса Бульбы, который решает незамедлительно везти сыновей на Запорожье и ехать сам, разбивая домашние горшки и фляжки, подчёркивает ту же самую границу войны и мира. Но герой повести Гоголя переступает её в противоположном направлении — в героическую зону Сечи из дома — из сферы сентиментального существования: «Чтоб я стал гречкосеем, домоводом, глядеть за овцами да бабиться с женой…». Здесь, как мы видим, в отрицательном модусе развёрнуты главные стороны отвергаемого героем пасторального образа бытия. 67 Л. Ю. ФУКСОН В стихотворении Блока «Петроградское небо мутилось дождём…» (1914) героический энтузиазм отправляющихся на фронт солдат находится, если можно так выразиться, на поверхности художественного изображения. Запеваемые новобранцами «Варяг» и «Ермак» — знаки героической воодушевлённости, с которой спорит в произведении «слёзная» интонация лирического наблюдателя, создающая своего рода сентиментальный «аккомпанемент». С громким и весёлым молодым голосом соединяется тихий и печальный «подголосок»: И кричали ура, и шутили они, И тихонько крестилась рука. Природные реалии изображения: дождь, закат, дымные тучи, осеннее время года — всё это приближено к сокровенной чувствительной истине. Именно природа оказывается в стихотворении причастной его тайнам, с чем связана коллизия ясности и смуты: «мутилось», «дымные», «чёрная», «замигал», «заплакал», «охрипший», «дождливые». Образы неопределённости, неясности выражают сокровенность печальной истины стихотворения. А в противовес этому ясность ассоциируется с весельем и бодростью, с юношеской наивностью героев: И под чёрною тучей весёлый горнист Заиграл к отправленью сигнал. «Весёлый горнист» здесь не видит «чёрной тучи» над собой — её должен увидеть читатель. Сентиментальный (авторский) горизонт стихотворения Блока охватывает героические тона (план героя), что можно услышать в контрастных рифмах: «ура» — «пора», «сталь» — «печаль» и т. д. Смерть в мире чувствительного произведения, в отличие от героики, не имеет смысла. У этого прощания нет никакого «ради чего». Герои исчезают во «мгле». Другой перифраз смерти — «даль». Она в мире произведения, во-первых, «закатная», а во-вторых — «дождливая». Налицо ситуация окончательной, 68 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА безнадёжной разлуки, героический порыв, помещённый в эстетический (сентиментальный) горизонт оплакивания. У Андрея Платонова, например, рассказы «Родина электричества», «Одухотворённые люди» — примеры героической версии мира и человека, а «Юшка», «Сухой хлеб» и многие другие — сентиментальной. Образ «маленького человека» — наглядное свидетельство антитезы героических («возвышенных», «великих») и сентиментальных («обычных», «малых») ценностей. Необходимо уйти от узкой, сугубо социологической, трактовки этого понятия в русской критике. Герой Феокрита — маленький человек, в отличие от героя Гомера, но без какой бы то ни было социальной приниженности. То же самое можно сказать, например, об изображении «маленького» человека в романе Оливера Голдсмита «Векфилдский священник». В связи с оппозицией великого и малого категория народ по отношению к уменьшительно-ласкательному образу мира оценивается как минимум двойственно. С одной стороны, это понятие однокоренное с «природой». Оно означает то, что само (естественно) народилось помимо более рассудочного — социального (искусственного) — устройства: нация, класс, государство. С другой стороны, народ — нечто соразмерное героическому, а не чувствительному толкованию мира и человека. Поэтому, например, в сентиментальной «Капитанской дочке» образ народа тяготеет к анонимной «толпе», а идеальные отношения возникают в показанных крупным планом дружеских или любовных переживаниях близких людей. Изображение персонажа чувствительной повести строится в направлении ухода от великого и глобального к малому, домашнему. В «Войне и мире» — «развёрнутой версии „Капитанской дочки“» (впервые сравнил эти произведения Н. Н. Страхов) — образ народа связан как раз с героическим масштабом повествуемых исторических событий («дубина народной войны», «всем народом навалиться хотят» и т. п.), но, например, в описании мужицкого бунта в Богучарове неслучайно фигу69 Л. Ю. ФУКСОН рирует слово «толпа» (3, 2, XI). Важно оговориться, что сама героическая тема в толстовской эпопее дана как предмет, а не как формальный способ изображения, не как героизация, коль скоро «война» увидена в оптике «мира», аналогично «Капитанской дочке», а также, например, в поэме Твардовского «Василий Тёркин». (Подробнее мы остановимся на романе Толстого и повести Пушкина ниже). Принципиальная разница героического и сентиментального способов художественного видения открывается в масштабах образа человека. Адальберт Штифтер соотносит большую — политическую — и малую — семейную — истории: «…А ведь как незначительна подобная история; она восходит лишь к деду или прадеду, повествует лишь о крестинах, свадьбах, погребениях, о родительской заботе — и всё же как много любви и страдания в её малой значимости! В той — большой — истории заключено не больше, она, в сущности, лишь обесцвеченное обобщение этих малых картин — обобщение, в котором опущена любовь и всё внимание отдано кровопролитию» (А. Штифтер. Лесная тропа. М., 1971. С. 34. Перевод Р. М. Гальпериной). Это сравнение весьма точно отражает сентиментальный образ мира «Капитанской дочки» и романов XIX–XX веков, построенных по модели пушкинской повести: «Война и мир», «Тихий Дон», «Доктор Живаго», «Жизнь и судьба» и других. При учёте того, что, как это было замечено ещё в русской критике, пушкинская повесть продолжает традиции Вальтера Скотта, можно увидеть аналогичную формулу пересечения «большой» и «малой» историй и в западных романах типа «Отверженных» В. Гюго или «Прощай, оружие!» Э. Хемингуэя. Дифференциацию героической и сентиментальной модальностей художественного изображения поясняет эпизод рассказа Л. Толстого «Из записок князя Д. Нехлюдова. Люцерн»: Седьмого июля 1857 года в Люцерне перед отелем Швейцергофом, в котором останавливаются самые богатые люди, странствующий нищий певец в продолжение получаса пел пес70 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА ни и играл на гитаре. Около ста человек слушало его. Певец три раза просил всех дать ему что-нибудь. Ни один человек не дал ему ничего, и многие смеялись над ним. Рассказчик с возмущением торжественно запечатлевает этот «бесчеловечный факт», которому он сам был свидетелем, но при этом противопоставляет его политическим «фактам, записываемым в газетах и историях», иначе говоря — противопоставляет малую и большую истории как глубину и поверхность человеческого существования. Налицо чисто сентиментальный взгляд. Попробуем прочесть в свете затронутой темы стихотворение Мандельштама (1922): Кому зима — арак и пунш голубоглазый, Кому душистое с корицею вино, Кому жестоких звёзд солёные приказы В избушку дымную перенести дано. Немного тёплого куриного помёта И бестолкового овечьего тепла; Я всё отдам за жизнь — мне так нужна забота, — И спичка серная меня б согреть могла. Взгляни: в моей руке лишь глиняная крынка, И верещанье звёзд щекочет слабый слух, Но желтизну травы и теплоту суглинка Нельзя не полюбить сквозь этот жалкий пух. Тихонько гладить шерсть и ворошить солому, Как яблоня зимой, в рогоже голодать, Тянуться с нежностью бессмысленно к чужому, И шарить в пустоте, и терпеливо ждать. Пусть заговорщики торопятся по снегу Отарою овец и хрупкий наст скрипит, 71 Л. Ю. ФУКСОН Кому зима — полынь и горький дым к ночлегу, Кому — крутая соль торжественных обид. О, если бы поднять фонарь на длинной палке, С собакой впереди идти под солью звезд И с петухом в горшке прийти на двор к гадалке. А белый, белый снег до боли очи ест. М. Л. Гаспаров в своей статье, посвящённой этому произведению «Мандельштамовское „Мы пойдём другим путём“…» (Новое литературное обозрение, 2000, №41), напоминает о понятии «домашнего эллинизма», которое ввёл поэт в статье 1922 года «О природе слова» (См.: О. Э. Мандельштам. Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1990. С. 181–182). Это понятие точно схватывает акцент эллинистической культуры на частном существовании человека и является, по сути дела, перифразом сентиментального мироощущения. Кроме того, открывающиеся в мире стихотворения его ценностные полюса — жестокости и нежности — тоже позволяют опознать именно чувствительную кодировку. Понятие соли, связанное в тексте с жестокостью (I строфа) и с обидами (V), репрезентирует слёзы. На полюсе «жестокости» находятся звёзды, то есть «верхняя зона» изображённого мира (что может читаться и как «равнодушная природа», и как суровое политическое время по ассоциации с кремлёвскими звёздами). М. Л. Гаспаров связывает с образом звёзд кантовский нравственный императив, что вполне соответствует понятию «приказы». Сюда же относится холод (тоже и природный, зимний, и человеческий — холод отчуждения). Образ заговорщиков, кажется, на первый взгляд, тоже отсылает к верхней (государственной, политической) сфере жизни. Тем более, заговор — нечто рассудочное, чуждое для чувствительной точки зрения. Однако сравнение с отарою овец ставит заговорщиков в положение жертв, идущих на заклание. Кроме того, говорится о «бестолковом овечьем тепле» (II строфа). По верному наблюдению М. Л. Гаспарова, заговорщики ассоциируются не только с декабристами, но и с совре72 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА менником Мандельштама Николаем Гумилёвым, расстрелянным в 1921 году. В сентиментальном горизонте «торжественные обиды» отвергаются с позиции безусловной ценности жизни (см. II строфу). «Тянуться с нежностью бессмысленно к чужому» (IV) — такова противоположная — «слёзная» — установка, в которой нежность глубже и важнее смысла, так как на ней держится сама жизнь. То, что в ином контексте воспримется как нечто отрицательное — бестолковость, слабость, жалкость, бессмысленность, — в мире чувствительного стихотворения оказывается на «тёплом» полюсе нежности, и лишь она может победить отчуждение (обиды). Если обратить внимание на выражение «шарить в пустоте», то можно увидеть в нём указание на сентиментальный жест ожидания тесного контакта, касания, сближения — жест печальный в своей безответности (образ пустоты). Холод и тепло в мире произведения Мандельштама символически репрезентативны соответственно рассудочному и чувствительному, большому и малому измерениям бытия. Холодному свету звёзд, например, составляет ценностную оппозицию тёплый свет «фонаря на длинной палке», а также целый ряд «домашних» образов (например, во II и IV строфах). Приведённые соображения свидетельствуют о том, что можно понять стихотворение Мандельштама как сентиментальную, «слёзную» трактовку героической темы. [Следует принять во внимание истолкование этого текста в основательной статье И. А. Есаулова, посвящённой идиллической художественности в поэзии Мандельштама (И. А. Есаулов. Идиллическое у Мандельштама // Творчество Мандельштама и вопросы исторической поэтики. Кемерово, 1990. С. 38–57). Уже сама постановка вопроса об идиллическом содержании произведения представляется нам глубоко верной]. Необходима следующая оговорка. При всей противоположности героики и чувствительности между ними есть точка соприкосновения в их общей оппозиции рассудку, о чём мы ещё скажем позже. Ограничимся здесь одним примером — стихо73 Л. Ю. ФУКСОН творением Пастернака («Не плачь, не морщь опухших губ (…»), где есть такие строки: Быть женщиной — великий шаг, Сводить с ума — геройство (…). Речь идёт о высоком с-ума-сшествии — перед лицом любви, не признающей никаких резонов, подобно безумству храбреца перед лицом опасности. Вот откуда неуместная здесь, казалось бы, тема героизма. Стихи поэта открывают по ту сторону «ума» более глубокую сферу — чувства. Поэтому «геройство» в данном случае подразумевается особое — сугубо женское. Такова сентиментальная трактовка женского призвания. *** Мы пытаемся описывать героическую и сентиментальную версии жизни как совершенно взаимно незаменимые и равноценные эстетические формы. Однако их противоположность может вызывать соблазн утвердить одну из них за счёт другой. Уже говорилось об отрицательной оценке чувствительности Гегелем. Аналогично судил сентиментальность Ницше, настроенность которого против сострадания и, соответственно, против сентиментальной установки объясняется, во-первых, тем, что философ видел в сострадании род эмоционального заражения и простой мультипликации страдания (см.: Ф. Ницше. ПСС. Т. 6. М., 2009. С. 113). Следует упомянуть в связи с этим полемические соображения Макса Шелера, понимающего сострадание как переживание страдания другого человека, что отсутствует при эмоциональном заражении [М. Шелер. Сущность и формы симпатии // Horizon 6 (2) 2017. С. 318]. Во-вторых, нужно учесть то, что критика Ницше сострадания осуществляется с «возвышенной» позиции. Неслучайны его систематические нападки на христианство, а также на Руссо. Неприятие Ницше «маленького человека» открывает именно непреклонную героическую установку, согласно которой человек должен «превзойти» себя, стать сверхчеловеком (Übermensch). 74 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА В уменьшительно-ласкательном мире человек возвращается к себе самому. На противоположном героическому полюсе находится, например, этика сострадания Шопенгауэра. С другой стороны, характерна апология чувствительности у М. Н. Эпштейна, который, в противоположность Ницше, критикует героические ценности с позиции сентиментальных: литоты против гипербол, мещане против большевиков (М. Н. Эпштейн. Чик и ек… // Слово / Word 2010, №66). Такая необъективная критика тоже лежит во всяком случае вне эстетической плоскости: у неё явная «мещанская», вульгарно социологическая подоплёка. Типы художественности вообще нельзя оценивать: они абсолютно равнодостойны, как все девять муз свиты Аполлона. Обычно чувствительность понимается преимущественно в отрицательном модусе — как жалость, сострадание, хотя смех — это тоже выражение чувства (радости). Между тем философы (Аристотель, Бергсон) небезосновательно говорят о «бесчувственности» смеха, подразумевая чужеродность для смеха моментов сострадания. По этой причине нам, например, кажется совершенно неверным определение пьесы «Горе от ума» как комедии — уже в свете его названия. Ведь слово «горе» здесь не содержит никакой иронии. [Подробнее о границе сентиментальности и юмора, слёз и смеха см: Л. Ю. Фуксон. Смех как способ истолкования. Кемерово, 2016 (гл. 4)]. Тем не менее слёзы, так же как и смех, если вспомнить глубокое слово Ницше, есть лишь «там, где есть победа». Причём в обоих случаях подразумевается победа жизни над смертью, хотя и различающаяся как серьёзная либо, наоборот, несерьёзная, весёлая. Слёзное или смеховое восприятие, как известно, зависит от дистанции между нами и воспринимаемым, о чём писал, например, Х. Плеснер: «Если наша дистанция в отношении вещей и ситуаций не уничтожена, мы смеёмся. Но если мы лишены всякой дистанции, мы плачем» (цитируем по изданию: Н. И. Ищенко. Хельмут Плеснер: смех и плач // Философские науки. 2014, №12. С. 72). 75 Л. Ю. ФУКСОН Необходимо различать также сентиментальность и трагизм. Трагический образ, по суждению Аристотеля, вызывает «ужас и сострадание», а чувствительный — только сострадание. Дистанция между читателем и героем сентиментального произведения стремится к нулю (ср. с юмором), в то время как трагический герой предстаёт всегда на котурнах своего величия (можно снова вспомнить в связи с этим трактовку Аристотелем трагедии: подражание людям лучшим, чем мы). В своей возвышенности трагический образ человека соизмерим с героическим. 76 ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ РОМАН «ВОЙНА И МИР» В 1905 году Лев Толстой откликнулся на предложение стать членом Общества Жан-Жака Руссо: «Руссо был моим учителем с 15-летнего возраста. Руссо и евангелие — два самые сильные и благотворные влияния на мою жизнь. Руссо не стареет. Совсем недавно мне пришлось перечитать некоторые из его произведений, и я испытал то же чувство подъёма духа и восхищения, которое я испытывал, читая его в ранней молодости» (Л. Н. Толстой. ПСС в 90 т. Т. 75. М., 1956. С. 234). О влиянии Руссо на Толстого давно известно, однако это может являться лишь косвенным свидетельством сентиментальной установки его художественных произведений. Прямым же свидетельством могут быть лишь они сами. Следующие наблюдения показывают, как уменьшительно-ласкательный модус художественного изображения, оформившийся в русле отечественной сентиментальной традиции и отчасти под влиянием идей Руссо, обнаруживается в романе «Война и мир». В открывающем произведение Толстого описании салона Анны Павловны Шерер (1, 1, II–IV) живая фигура Пьера Безухова с его «умным и вместе робким, наблюдательным и естественным взглядом» противопоставлена остальным посетителям и их беседе, сравнивающейся с работой прядильных веретён. Начало романа, как мы видим, сразу даёт читателю определённую эстетическую формулу: натурализация и механизация — таков способ сентиментальной оценки изображаемого как естественного либо искусственного, живого либо мёртвого. Простодушие, откровенность Пьера противостоит здесь тонким светским условностям и маскам. Когда Болконский говорит другу, что нельзя, дескать, «везде всё говорить, что только думаешь» (1, 1, V), он 77 Л. Ю. ФУКСОН имеет в виду именно эту салонную игру и её правила. Князь Андрей сам прекрасно знает язык света и умеет скрывать свои подлинные мысли и чувства. В персонажах романа читатель обнаруживает характерный для сентиментальной традиции спор чувств и рассудка. Например, переписку княжны Марьи и Жюли Карагиной (1, 1, XXII) старый князь Болконский насмешливо сравнивает с эпистолярным романом Руссо, называя Жюли Элоизой. Эта переписка содержит, в частности, два противоположных мнения о Пьере, которые характеризуют самих героинь и показывают сентиментальность подруги княжны Марьи фальшивой маской. То же впечатление искусственности производит обмен меланхолическими сентенциями в духе Шатобриана между Борисом Друбецким и Жюли Карагиной (2, 5, V) и чтение ими вслух «Бедной Лизы». Повесть Карамзина, осуждающая брак Эраста по расчёту, контрастно проецируется на брак по расчёту самих её читателей — Бориса и Жюли. Аналогично параллелизму изображения приятельниц Марьи Болконской и Жюли Карагиной построены «симметричные» образы ровесников Николая Ростова и Бориса Друбецкого — олицетворений чувствительности и рассудочности. Так создаётся художественный контраст сентиментального романа. Это то дифференциальное представление, которое обозначает ценностные полюса изображаемого мира произведения Толстого. Например, описание встречи Николая Ростова и Бориса Друбецкого в Тильзите (2, 2, XIX) показывает, что Ростов не может так быстро, как Борис, переменить своё отношение к французам. Друбецкой же в этом отношении напоминает пушкинского Швабрина: он всегда в курсе политической моды и держит нос по ветру. Сцена тильзитского дипломатического примирения, увиденная глазами Николая, соединяется в романе с его посещением госпиталя, где лежит Денисов, и приводит героя к грустной мысли: «Для чего же оторванные руки, ноги, убитые люди?» (2, 2, XXI). Но Ростов эту мысль прогоняет: «Мы не чиновники дипломатические, а мы солдаты…». Здесь под чиновником он как раз подразумевает своего бывшего приятеля детства Бориса Друбецкого. 78 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА В сентиментальном мире романа образ денег и денежных отношений находится на отрицательном рассудочном полюсе отчуждения. Первый пример такой оценки — описание суеты и интриг вокруг наследства умирающего графа Безухова, где подчёркнуто особняком показан Пьер, который совершенно не берёт в толк, что означает выражение «блюсти его интересы» (1, 1, XIX), и вообще ничего не понимает в происходящем вплоть до момента обмена взглядами с умирающим отцом: «… и слёзы затуманили его зрение» (1, 1, XX). В этом описании ценностно противопоставлены «интересы» и чувство сострадания, маски и лицо. Слёзы выражают здесь, как и во всех аналогичных случаях, рассудочную неясность зрения, туманность. Однако одновременно они — знак чувствительного прояснения, мгновенного понимания родственной близости и горестного смысла события. Второй пример сентиментальной трактовки темы денег в романе — карточный проигрыш Ростова Долохову (2, 1, XIV) — очень напоминает проигрыш Гринёва Зурину в «Капитанской дочке». Эпизод, в котором Николай просит деньги у отца, можно сравнить с тем, как Гринёв обращается за деньгами к Савельичу, взяв «на себя вид равнодушный». Стыд героя прячется под маской бесчувственности. То же самое происходит с Николаем Ростовым: «Ему хотелось бы целовать руки своего отца, на коленях просить его прощения, а он небрежным и даже грубым тоном говорил, что это со всяким случается» (2, 1, XVI). В сентиментальном мире деньги, служа мёртвым посредником между людьми и чисто количественным мерилом ценностей, обычно показаны в отрицательном свете, так как несут холод отчуждения. Военное состояние изображаемой жизни описывается в романе Толстого как противоестественная национальная разобщённость, как патологическая враждебность людей. Приведём несколько примеров сентиментального преодоления такой разобщённости. Описание утренней встречи Николая Ростова с немцем в австрийской деревне демонстрирует часто повторяющуюся в романе «Война и мир» ситуацию встречи лицом 79 Л. Ю. ФУКСОН к лицу изначально чужих людей, разделённых социальными катаклизмами и обнаруживающими неожиданно человеческую близость: «Хотя не было никакой причины к особенной радости ни для немца, вычищающего свой коровник, ни для Ростова, ездившего со взводом за сеном, оба человека эти со счастливым восторгом и братскою любовью посмотрели друг на друга, потрясли головами в знак взаимной любви и, улыбаясь, разошлись…» (1, 2, IV). Те же сентиментальные акценты читатель романа может увидеть в эпизоде помощи Николая Ростова семейству старика-поляка (2, 2, XV), а также в описании знакомства Пети Ростова и пленного французского мальчика (метаморфоза его имени для русских солдат: Vincent — Весенний — Висеня — путь превращения чужого в своего [IV, 3, VII]). В том же ряду находится встреча Пьера Безухова с капитаном Рамбалем, спасение француза от пули, рассказ ему о своей любви — всё это уничтожает патриотический план Пьера убить Наполеона: он чувствовал, что «прежний мрачный строй мыслей о мщенье, убийстве и самопожертвовании разлетелся, как прах, при прикосновении первого человека» (3, 3, XXIX). Так героическая («мрачная») установка как фальшивая вытесняется сентиментальным «прикосновением человека». Аналогично описан взгляд маршала Даву на Пьера: «В этом взгляде, помимо всех условий войны и суда, между этими двумя людьми установились человеческие отношения. Оба они в эту одну минуту смутно перечувствовали бесчисленное количество вещей и поняли, что они оба дети человечества, что они братья» (4, 1, X). Чувствительное понятие «человека» отменяет границу русского и немца, русского и француза, а также само состояние вражды. В романе Льва Толстого делается акцент на преодолении национальной чуждости человечностью, аналогично тому, как в «Капитанской дочке» изображалось преодоление сословной вражды. Примирению как концу войны в романе художественно эквивалентно примирение отдельных героев. Первоначальная невозможность для Болконского простить Наташу Ростову, о чём он говорит Пьеру (2, 5, XXI), — пропозиция чувствитель80 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА ного события. То же самое можно увидеть у Пьера, который «до сих пор в душе своей упрекал и старался презирать её; но теперь ему сделалось так жалко её, что в душе его не было места упрёку» (2, 5, XXII). Выражение «старался презирать» открывает спор рассудка и чувства, в котором последнее одерживает победу. Смертельно раненный Болконский говорит Наташе, которая просит его простить её: «Я люблю тебя больше, лучше, чем прежде» (3, 3, XXXII). «Прежде» означает — до эпизода с Анатолем Курагиным. Но почему «больше, лучше»? Подразумеваются побеждённые гордость и самолюбие. Событие прощения как преодоление обиды даёт «лучшую» любовь — не любовь просто мужчины, а любовь человека, из которой «вынуты» гордость, самолюбие, обида, и, тем самым выявляется чувствительная «субстанция» любви, залегающая глубже всех дифференциальных, обособляющих моментов. Таким образом, война и мир — это не просто соседство различных состояний, но их очерёдность в сентиментальном событии преодоления чуждости родством, примирения, прощения. Это главное событие романа относится не только к политическому состоянию Европы, России, к примирению народов, но и к отношениям между отдельными персонажами. Многозначность слова «мир», отмечаемая исследователями творчества Толстого (например, С. Г. Бочаровым в его замечательной работе, посвящённой роману), не отменяет того обстоятельства, что сближение этого слова и слова «война» в названии высвечивает основное значение, а также сюжетную схему романа (войну и мир как последовательность состояний изображённой жизни) — событие примирения. Одна из значительных тем для сентиментального изображения вообще и, в частности, для романа Толстого — тема ума, репрезентированная по большей части образом семейства Болконских. Культ ума и порядка в Лысых Горах у Николая Андреевича Болконского объясняет его прозвище — «прусский король» (1, 1, XXII). Этот представитель екатерининской эпохи — центр темы ума в романе. При этом важно заметить, что образ 81 Л. Ю. ФУКСОН старого князя строится во многом как безуспешная попытка героя скрыть свои чувства, например, в сцене проводов сына в армию. Предсмертное его прощание с дочерью тоже демонстрирует сбрасывание маски рассудочного контроля и описывается как приход глупой телячьей нежности (3, 2, VIII). Характер Николая Андреевича Болконского напоминает о Гринёве старшем. В частности, напутствие старого князя Болконского сыну (I, 1, XXV) в определённом смысле повторяет прощальное наставление Андрея Петровича Гринёва. Отношение старого князя к желанию сына жениться на Наташе Ростовой (2, 3, XXIII) тоже можно сравнить с отповедью Гринёва-отца в его письме в Белогорскую крепость. Болконские отец и сын похожи, и их изображение развёртывается как трудная победа чувства над желанием его скрыть и жить исключительно рассудком (сама эта вера в разум — наследие просветительского XVIII века, откуда родом характер старого князя). В описании всех внешних впечатлений князя Андрея во время поездки к Илье Андреевичу Ростову в Отрадное как к местному предводителю дворянства часто повторяется слово «глупый»: «глупый, бессмысленный обман» (мысли дуба, приписанные ему князем); «глупая, но весёлая и счастливая жизнь» встретившейся девушки (Наташи Ростовой); «глупый старик» (о графе Ростове). Первое, что спрашивает князь Андрей о Наташе: «она умна?» Ум в романе ассоциируется со старостью и утраченными надеждами, а глупость — с молодостью и счастьем. После невольно подслушанного князем Андреем разговора Сони и Наташи повествователь замечает: «В душе его вдруг поднялась такая неожиданная путаница молодых мыслей и надежд, противоречащих всей его жизни…» (2, 3, II). Когда княжна Марья спрашивает Пьера о Наташе Ростовой как невесте своего брата, умна ли она, то в этом вопросе она сестра своего брата и дочь своего отца. Пьер отвечает: «Она не удостаивает быть умной» (2, 5, IV). В ответе Пьера читатель романа чув82 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА ствует достоинство чего-то гораздо более существенного, чем ум. К той же теме имеет прямое отношение знакомство Болконского со Сперанским: «…главная черта ума Сперанского, поразившая князя Андрея, была несомненная, непоколебимая вера в силу и законность ума» (2, 3, VI). Эта сюжетная линия, как и с образом Наполеона, построена на разочаровании героя. Итоговое сентиментальное отношение к разуму в мире романа Толстого читатель находит в финале, в словах повествователя-резонёра: «Если допустить, что жизнь человеческая может управляться разумом, — то уничтожится возможность жизни» (Эпилог 1, I). В русских романах XIX и XX веков, созданных по образцу «Капитанской дочки», образ человека строится с помощью чередования общего и крупного планов, в которых герой показан то участником или свидетелем событий «большой» истории, то в гуще семейной, личной жизни. Сентиментальная установка тяготеет к уменьшительно-ласкательной оптике. Поэтому общий и крупный ракурсы изображения в названных произведениях оказываются как бы поверхностной и глубокой версиями жизни. Повествователь «Войны и мира» несколько раз указывает на то, что Наташа даже не замечает присутствующего на балу государя (2, 3, XVI–XVII). Тем самым роман ставит значительность первого бала в жизни юной девушки выше значительности первого в социальном плане лица. В кругозоре Болконского происходит то же самое, когда он на другой день после встречи на балу с Наташей Ростовой слушает новость о заседании Государственного совета и думает: «Разве всё это может сделать меня счастливее и лучше?» (2, 3, XVIII). С этим же связано разочарование князя Андрея в законодательной работе после встречи со Сперанским: «… он живо представил себе Богучарово, свою поездку в Рязань, вспомнил мужиков, Дрона-старосту, и, приложив к ним права лиц, которые он распределял по параграфам, ему стало удивительно, как он мог так долго заниматься такой праздной работой» (2, 3, XVIII). «Большое» здесь 83 Л. Ю. ФУКСОН судится «малым», а ум — чувством. [Грамматическая ошибка повествования («… приложив… ему стало…») здесь, как и во многих подобных случаях, тоже служит сентиментальному видению, в котором учёная правильность отступает перед формально заблуждающейся, но находящей истинный путь стихией жизни (Наташа и Николай Ростовы, Пьер Безухов, Марья и Андрей Болконские — ошибающиеся и меняющиеся и тем самым — подлинные герои романа)]. В кругозоре Пьера, как и при построении образа князя Андрея, контрастно соотносятся государственные, политические события, показанные как бессмысленные, и то бесконечно более важное, что происходит в его собственной жизни: «Ну и пускай такой-то обокрал государство и царя, а государство и царь воздают ему почести; а она вчера улыбнулась мне и просила приехать, и я люблю её, и никто никогда не узнает этого» (3, 1, XIX). Ещё одна типичная для сентиментального мироощущения тема романа Толстого — природа и искусство. Повествователь описывает голос Наташи Ростовой, который, по мнению «знатоков-судей», был «не обработан, но прекрасный голос, надо обработать» (2, 1, XV). Таков неправый суд искусства над природой. «В то же время, когда звучал этот необработанный голос с неправильными придыханиями и с усилиями переходов, даже знатоки-судьи ничего не говорили и только наслаждались этим необработанным голосом, и только желали ещё раз услыхать его» (там же). В словах повествователя, наоборот, природа судит искусство: ведь голос прекрасен именно потому, что не «обработан». Наташа Ростова на своём первом балу «постаралась принять ту величественную манеру, которую она считала необходимой для девушки на бале. Но, к счастью её, она почувствовала, что глаза её разбегались; она ничего не видала ясно, пульс её забил сто раз в минуту, и кровь стала стучать у её сердца. Она не могла принять той манеры, которая бы сделала её смешной, и шла, замирая от волнения и стараясь всеми силами только скрыть его. 84 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА И это-то была та самая манера, которая более всего шла к ней» (2, 3, XV). «Сердце» здесь руководит действиями героини и побеждает искусственную, рассудочную и смешную попытку казаться «величественной». К тому же спору натурального и искусственного поведения относится преображение княжны Марьи любовью: «M-lle Bourienne, бывшая в гостиной, с недоумевающим удивлением смотрела на княжну Марью. Сама искусная кокетка, она сама не могла бы лучше маневрировать при встрече с человеком, которому надо было понравиться» (4, 1, VI). Природа оказывается и здесь вернее искусства. Сентиментальное понимание медицины (аналогично образу военной науки) можно увидеть в описании болезни Наташи Ростовой, которая выздоравливает не благодаря усилиям врачей, а «несмотря на» эти усилия: «молодость брала своё» (3, 1, XVII). Аналогично предстаёт в романе болезнь Пьера: «Несмотря на то, что доктора лечили его, пускали кровь и давали пить лекарства, он всё-таки выздоровел» (4, 4, XII). Выздоровление героев романа как натуральное событие напоминает эпизод с исцелением Гринёва в повести Пушкина — благодаря тому, что лекарь «не умничал». Характеристика представления в опере (2, 5, IX), на котором присутствует Наташа Ростова, подчёркивает сугубо внешний, вещный план (доски, полотно, «крашеные картоны», «девицы в красных корсажах и белых юбках…»), отвлекаясь от внутреннего содержания спектакля: «Все они пели что-то». Описываются не герои произведения, а актёры, которые «изображали влюблённых»: «девица в белом», «мужчина в шёлковых в обтяжку панталонах на толстых ногах…». Тем самым на первый план в этом описании выходит искусственность искусства. Кроме того, существенно то, что так спектакль увиден глазами Наташи Ростовой, когда она была «в серьёзном настроении» после неудачного визита к Болконским. И на фоне «серьёзного» переживания героини «всё это было так вычурно-фальшиво и ненатурально, что ей становилось то совестно за актёров, то смешно на них». Причём все остальные не замечают никакой 85 Л. Ю. ФУКСОН фальши и ненатуральности. Отсюда идёт впечатление театральности, лицедейства самой публики. Перемена же настроения Наташи называется повествователем опьянением, и её кокетливая улыбка Борису сравнивается с улыбкой Элен. Театр — единственное место в романе, где сближаются эти противоположные полюса натуральности и искусственности — Наташа Ростова и Элен Курагина, — что подготавливает дальнейшие события с Анатолем. Знакомство Элен и Наташи описывается на фоне продолжающегося спектакля, который изображён так же — как нечто нелепое: «…мужчина с голыми ногами стал прыгать очень высоко и семенить ногами. (Мужчина этот был Duport, получавший шестьдесят тысяч рублей серебром за это искусство)». Однако к концу спектакля «Наташа уже не находила этого странным». И после разговора с Анатолем происходившее на сцене «уже казалось ей вполне естественным» (2, 5, X). Таким образом, вся последующая история бегства героини с Анатолем Курагиным воспринимается читателем в этом фальшивом театральном свете. Здесь тоже уместна параллель с «Капитанской дочкой». Когда Гринёв, получив грозное письмо от отца, предлагает Маше Мироновой «кинуться в ноги» её родителям и обвенчаться без отцовского благословения, та отказывается: «Без их благословения не будет тебе счастия» (V). И хотя Наташа Ростова как раз решается на авантюрный побег с Анатолем, однако побегу этому (сулящему несчастье) закономерно препятствуют близкие люди. С важным для «Войны и мира» образом полководца связана тема дегероизации. Рассуждения повествователя о стихийности и бессознательности истории («роевой жизни человечества»), для которой цари и полководцы являются лишь слепыми орудиями, составляют начало третьего тома «Войны и мира». Эти мысли примыкают к генеральной для романа Толстого линии невозможности устроения жизни на рассудочном начале, олицетворение которого — образ Наполеона: «Видно было, что уже давно для Наполеона в его убеждении не существовало возможности ошибок и что в его понятии всё то, что он делал, было хорошо 86 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА не потому, что оно сходилось с представлением того, что хорошо и дурно, но потому, что он делал это» (3, 1, VII). Эгоцентризм личности — отрицательный полюс сентиментальной безличной установки. Фигура Наполеона в изображении Толстого демонстрирует ничтожность рассудка перед жизнью. Диспозиция Бородинского сражения заключала в себе «четыре распоряжения. Ни одно из этих распоряжений не могло быть и не было исполнено» (3, 2, XXVII). В Наполеоне роман воплощает образ полководца как такового: он типичный полководец, в то время как Кутузов — нетипичный. При этом Наполеон у Толстого — пародия на само искусство полководца: «Вы знаете ли, Рапп, что такое военное искусство? — спросил он. — Искусство быть сильнее неприятеля в известный момент» (3, 2, XXIX). Пространные рассуждения повествователя о том, что на войне выходит всегда не так, как запланировано, имеют целью показать жизнь более широкой и непредсказуемой, чем умственный расчёт. В изображении Наполеона подчёркивается именно неоправданная претензия на контроль всех событий, поэтому он сравнивается с ребёнком, «который, держась за тесёмочки, привязанные внутри кареты, воображает, что он правит» (4, 2, X). Описание бегства Наполеона дано как дегероизирующее развенчание, после чего следует резюме повествователя: «… нет величия там, где нет простоты, добра и правды» (4, 3, XVIII). Параллель Кутузова и Наполеона у Толстого (4, 4, V) — оппозиция простоты и высокопарности, самоотверженности и гордыни, человечности и жестокости, «народного чувства» и индивидуализма, что видно, например, из описания речи Кутузова: «… — Вот что, братцы, — сказал он, когда замолкли голоса… И вдруг голос и выражение лица его изменились: перестал говорить главнокомандующий, а заговорил простой, старый человек, очевидно что-то самое нужное желавший сообщить теперь своим товарищам (…). — Пока они были сильны, мы себя не жалели, а теперь их и пожалеть можно. Тоже и они люди. Так, ребята?..» (4, 4, VI). В карикатурном стиле изображаются немецкие полководцы-теоретики, черты которых объединил портрет Пфуля (3, 1, 87 Л. Ю. ФУКСОН X). Главное для них — вера в науку, в отвлечённую идею, отход от которой реальной жизни заслуживает, по мнению Пфуля, презрения. Как мы видим, образ полководца в романе Толстого развёртывается в связи с темой ума, причём фигура Кутузова контрастна по отношению к остальным военачальникам: «…очевидно было, что Кутузов презирал ум, и знание…» (3, 2, XV). Князь Андрей успокаивается после разговора с Кутузовым насчёт общего хода дел: «У него не будет ничего своего. Он ничего не придумает, ничего не предпримет…, но он всё выслушает, всё запомнит, всё поставит на своё место, ничему полезному не помешает и ничего вредного не позволит» (3, 2, XVI). Слова Кутузова передаются «во все концы войска», и «смысл его слов сообщился повсюду, потому что он вытекал не из хитрых соображений, а из чувства, которое лежало в душе главнокомандующего, так же как и в душе каждого русского человека» (3, 2, XXXV). Описание споров и предложений планов военной кампании при государе Александре, демонстрирующее хаос, подаётся как рассудочное фиаско. Не случайно повествователь подчёркивает, что полководцы говорят буквально на разных языках: «Паулучи, не знавший по-немецки, стал спрашивать его по-французски. Вольцоген подошёл на помощь своему принципалу, плохо говорившему по-французски, и стал переводить его слова, едва поспевая за Пфулем…»; «…Паулучи и Мишо в два голоса нападали на Вольцогена по-французски. Армфельд по-немецки обращался к Пфулю. Толь по-русски объяснял князю Волконскому» (3, 1, XI). Это вавилонское разноречие, показанное глазами недоумевающего Болконского, подводит к отрицанию самой военной науки: «лучшие генералы, которых я знал, — глупые или рассеянные люди». Прошлое стремление князя Андрея приблизиться к центру принятия решений закономерно сменяется нежеланием оставаться при государе, когда он просит «позволения служить в армии» (3, 1, XI). Налицо душевное (и физическое) перемещение героя из зоны «ума» (рассудочных планов) в зону «чувства», как показывает беседа Болконского с Пьером нака88 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА нуне Бородинского сражения: «Успех никогда не зависел и не будет зависеть ни от позиции, ни от вооружения, ни даже от числа… — А от чего же? — От того чувства, которое есть во мне, в нём, — он указал на Тимохина, — в каждом солдате» (3, 2, XXV). И Пьер, наблюдая приготовления людей к смерти, думает о «скрытой теплоте патриотизма» (3, 2, XXV). Эта скрытая теплота противопоставляется громким, показным патриотическим речам в Дворянском собрании в Москве (3, 1, XXII–XXIII). В романе Толстого осуществляется последовательное снижение героического ореола войны. «Напыщенный» рассказ о «подвиге Раевского» дан в горизонте Николая Ростова, который «знал по собственному опыту, что, рассказывая военные происшествия, всегда врут…» (3, 1, XII). Николай Ростов думает о бессмысленности жертв и о том, что не пустил бы под пули не только своего младшего брата Петю, но и юного Ильина. Когда он берёт в плен французского офицера, то, представленный к награде, испытывает «какое-то неприятное чувство, сжимавшее ему сердце» (3, 1, XV). Ростов ударяет саблей француза «сам не зная зачем», по словам повествователя. Так осуществляется снижение пафоса войны, которая изображена чем-то автоматическим. «Неприятное чувство» как раз открывает горькую истину — бессмысленность убийства. В набросках, посвящённых сентиментальной литературе, Бахтин писал о характерном для неё «развенчании грубой силы, величия, героизма» (М. М. Бахтин. Собр. соч. Т. 5. М., 1996. С. 304). Это как раз то, что постоянно наблюдается в «Войне и мире» Л. Толстого. Одно из многозначительных образных соседств, развёртывающих тему дегероизации, — знакомство капитана Тушина и князя Андрея. Первая встреча Болконского с капитаном Тушиным описана так: «Князь Андрей ещё раз взглянул на фигурку артиллериста. В ней было что-то особенное, совершенно не военное, несколько комическое, но чрезвычайно привлекательное» (1, 2, XV). Этот портрет противостоит типичному возвышенному представлению о героическом характере: уменьшительно-ласкательное «фигурка», комизм и, главное, несоответствие военной ситу89 Л. Ю. ФУКСОН ации. Весьма существенно здесь то, что Тушин увиден именно глазами Болконского, мечтающего о славе Наполеона. Это создаёт необходимое напряжение дегероизации. Фамилия Тушина тоже противостоит огню войны, при том, что он артиллерист. Хотя кроме «тушить» здесь ещё работает семантика придуманного Достоевским слова «стушеваться». Тушин — классический «маленький человек». Рассказ о его героическом поведении при Шенграбене сопровождается такими характеристиками: «маленький человек, с слабыми, неловкими движениями…»; «маленькая ручка»; «слабый, тоненький, нерешительный голосок». При этом сам «он представлялся себе огромного роста, мощным мужчиной, который обеими руками швыряет французам ядра» (1, 2, XX). В образе капитана Тушина можно увидеть определённое сходство с его литературным предком — комендантом Белогорской крепости Мироновым. Фигуры Дохтурова и Коновницына находятся в том же образном ряду: Дохтуров «скромный, маленький»; «маленький, тихенький» (4, 2, XV). Коновницын предстаёт в ночном колпаке, с шерстяными чулками на ногах. «На всё дело войны он смотрел не умом, не рассуждением, а чем-то другим…». Он «никогда не делал проектов сражений, но всегда находился там, где было труднее всего…» (4, 2, XVI). Можно считать всё это собирательным образом подлинного героя войны 1812 года, причём показанного именно с сентиментальной, а не героической точки зрения. Рассказ об атаке, в которой убивают лошадь Николая Ростова, построен по той же формуле дегероизации: от лихого «Ну попадись теперь кто бы ни был» — до «Ему вспомнилась любовь к нему матери, семьи, друзей, и намерение неприятелей убить его показалось невозможно». Когда он, раненый, убегает от французов, повествователь сравнивает это с тем, как бежит заяц от собак (1, 2, XIX). Сентиментальное произведение совершает обмен ролями охотника и жертвы для открытия того, что их объединяет, — человек как живое, природное существо, испытывающее страх смерти. 90 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА Мечтавший о славе Болконский, раненный в сражении при Аустерлице, слышит своего кумира, говорящего о нём: «Вот прекрасная смерть». В словах повествователя можно услышать несобственно-прямую речь самого героя: «Он знал, что это был Наполеон — его герой, но в эту минуту Наполеон казался ему столь маленьким, ничтожным человеком в сравнении с тем, что происходило теперь между его душой и этим высоким, бесконечным небом с бегущими по нём облаками» (1, 3, XIX). Налицо, как мы видим, типичное для романа Толстого событие дегероизации: «Ничего, ничего нет верного, кроме ничтожества всего того, что мне понятно, и величия чего-то непонятного, но важнейшего!» (1, 3, XIX). Образ неба «с бегущими по нём облаками» — это натуральный образ, развенчивающий фальшивую в своей высокопарности фразу Наполеона, но также он соотнесён здесь с метафизическим небом, с образком, который княжна Марья надела на шею брата при разлуке. Героическая установка князя Андрея уничтожается. При этом одновременно оттесняется понятное непонятным, которые в данном случае являются перифразом плоского рассудка и глубоких чувств. Эпизоду ранения князя Андрея противостоит в романе описание родов маленькой княгини, о которых повествователь говорит: «Таинство, торжественнейшее в мире, продолжало совершаться» (2, 1, VIII). Слово повествователя открывает значимость именно сентиментально увиденного события. В чувствительном горизонте наполеоновская фраза о «прекрасной смерти» звучит фальшиво, а на первый план выводится чудо и красота жизни. Толстой делает свидетелями события рождения людей, привыкших скрывать свои чувства, что и создаёт сюжет сентиментальной победы: «Когда он [князь Андрей — Л. Ф.] вдруг понял всё радостное значение этого крика, слёзы задушили его, и он, облокотившись обеими руками на подоконник, всхлипывая, заплакал, как плачут дети» (2, 1, IX). В этой же главе старый князь «молча старческими, жёсткими руками, как тисками, обхватил шею сына и зарыдал, как ребёнок». Слёзы сопровождают — и адекватно выражают — горе вести о возможной гибели сына, 91 Л. Ю. ФУКСОН радость встречи, ужас смерти маленькой княгини и счастье рождения внука. В определённом смысле это самые откровенные эпизоды чувствительного произведения, в котором событие рождения ребёнка как бы освобождает всё детское во взрослых людях, презирающих чувства и пытающихся жить исключительно умом. Письмо от Билибина с вестями о надвигающейся новой войне и параллельное выздоровление сына князя Андрея (2, 2, IX) — соразмеряемые повествованием события. Большое здесь, как во многих аналогичных случаях, поверяется и судится малым. Для Пьера Безухова Бородинское сражение начинается с восхищения «красотою зрелища» (3, 2, XXX), данного общим планом, который впоследствии сменяется планом крупным, а вместе с тем меняется и настроение Пьера. (Можно сравнить это с приведённой ранее фразой Наполеона, эстетизирующей войну: «Вот прекрасная смерть!»). Солдат удивляется Пьеру: «И как это вы не боитесь, барин, право!.. Ведь она не помилует. Она шмякнет, так кишки вон. Нельзя не бояться…», — таков естественный, «неиспорченный» взгляд на войну. Чуть позже Пьер видит этого солдата убитым и думает: «Нет, теперь они оставят это, теперь они ужаснутся того, что они сделали!» (3, 2, XXXII). Налицо последовательное развенчание войны и смерти как чего-то «прекрасного». Картина поля Бородина, «прежде столь весело-красивого», а теперь покрытого трупами, подаёт войну как убийство, то есть осуществляет её дегероизацию и деэстетизацию. К этому же относится эпизод военного совета в Филях (III, 3, IV), с которым можно сравнить описание Пушкиным военного совета в Оренбурге (Капитанская дочка X). «Фальшивая нота» в словах Бенигсена, назвавшего Москву «священной древней столицей России» (3, 3, IV), вызывает естественный гнев Кутузова, видящего гибель армии за этой высокопарной фразой. Ранение князя Андрея тоже переводит героическую ситуацию в сентиментальный план: «Отчего мне так жалко было расставаться с жизнью? Что-то было в этой жизни, чего я не понимал и не понимаю» (3, 2, XXXVI). Понимание приходит к Болконскому, 92 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА когда он прощает Анатоля Курагина и со слезами думает о сострадании и любви: «…вот отчего мне жалко было жизни…» (3, 2, XXXVII). Героическая ситуация выводит смысл за пределы жизни. Ради этого смысла жизнь и отдаётся. В сентиментальном же мире смысл имманентен самой жизни. К финалу романа «Война и мир» все войны и героические порывы, означающие в сентиментальном горизонте произведения противоестественное состояние бытия, затихают и на первый план выходят чувствительные («мирные») — подлинные — ценности. Причём это обнаруживается не только в социальнополитическом плане, но и в сфере частной жизни. Например: «Безумие Пьера состояло в том, что он не дожидался, как прежде, личных причин, которые он называл достоинствами людей, для того, чтобы любить их, а любовь переполняла его сердце, и он беспричинно любя людей, находил несомненные причины, за которые стоило любить их» (4, 4, XIX). Это толстовский перифраз совершенно сентиментальной поговорки: «Не по хорошу мил, а по милу хорош» — «беспричинное» чувство подсказывает причины. «Безумие» героя состоит в его послушании требованиям «сердца». Это благое сентиментальное безумие. Повествователь замечает, что там, где в беседе мужа с женой начинаются рассудочные доводы, близится ссора (Эпилог, 1, XVI). И наоборот: «в этом общении, противном всем законам рассудка, последовательны и ясны не речи, а только чувство, которое руководит ими» (там же). Эпилог произведения Толстого — типичная сентиментальная «картинка» (идиллия), успокоение и примирение жизни после всех бурь. Причём такой итог выявляет более глубокое — субстанциальное — её состояние. 93 СЛЁЗЫ — ТИП ЧИТАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ В. В. Бибихин писал: «Слово — весть события» (В. В. Бибихин. Язык философии. М., 2002. С. 112). Это положение, конечно, вполне относится и к слову художественному. Но стоит задуматься: какое событие имеется в виду? Изображаемое? Если учесть то, что художественное слово не всегда повествует о событиях, то напрашивается другой смысл: художественное слово, как и любое другое, это прежде всего событие самого оклика. Слово призывает, обращается, просит ответить — не обязательно словом же. Иначе говоря, слово затрагивает бытие. Поэтому подразумевается не событие, о котором говорит слово, а событие, происходящее между адресатом — слушателем, читателем, созерцателем — и говорящим. Это событие встречи и имеется в виду. Так мы понимаем тезис Бибихина. Художественное слово возвещает о событиях: смеха, трагических ужаса и сострадания, героического воодушевления, слёз, романтического явления тайны. Это всё суть виды читательского поведения. Здесь нас интересует именно слёзное поведение. Многочисленные приведённые примеры художественных чувствительных ситуаций свидетельствуют о том, что слёзы как необходимое событие восприятия жизни в уменьшительно-ласкательном изображении рождаются не как непосредственное выражение сентиментальности, а как ответ на препятствие, затруднение свободного излияния чувства. Такое препятствие на пути любовного умиления носит в сентиментальном мире, как уже было отмечено, обычно «разумный» характер. Повседневная опора человека почти исключительно на рассудок представляется исходным состоянием, которое необходимо превозмочь, в чём и состоит смысл сентиментального сюжета. Фе94 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА номенология слёзного события заключается, по всей видимости, в описании перехода границы отчуждения, разделённости частей целого человека как родового существа. Всевозможные перегородки между людьми (сословные, имущественные, расовые, моральные, должностные, возрастные) преодолеваются в событии открытия «вещества человеческого» (А. Платонов). Чеховская формула «человек в футляре» носит, в связи со сказанным, вполне сентиментальный смысл. Не случайно в русском языке слово «человечность» как калька с немецкого Menschlichkeit (или с французского humanite) появилось именно у сентименталиста Карамзина. В ХХI веке Юнна Мориц вводит в поэтический оборот слово «человекость», освобождая от тривиальности ценностно девальвировавшееся сентиментальное выражение «человечность». Именно к разумному пониманию в сентиментальном художественном мире апеллируют любые названные препятствия (дифференцирующие, «расщепляющие» человека как такового): они должны выглядеть как объективные, необходимые и т. п. Причём конфликт в изображаемом плане переносится в план рецептивный: в спор вступают рассудочность и чувствительность самого читателя. Иногда на пути любви в сентиментальном произведении в качестве отчуждающей силы встаёт ненависть, как, например, в ситуации вражды семейств влюблённых Ромео и Джульетты. Тем не менее сам этот принцип вендетты носит у Шекспира не личностный, а тоже во многом рассудочный характер: изображён некий долг мести, а не непосредственное чувство. Неслучайно сам конфликт показан едва тлеющим, и лишь в основном Тибальт его поддерживает, изображаясь как своего рода резонёр мести. Попутно встаёт вопрос: почему эта пьеса не трагедия — вопреки традиционному пониманию. Как проницательно писал Л. Е. Пинский, «по чисто любовному („природному“) сюжету веронская трагедия ближе к комедиям, чем к зрелым трагедиям Шекспира» (Л. Е. Пинский. Шекспир. М., 1971. С. 115). Бросается в глаза отличие названия пьесы от остальных трагедий: 95 Л. Ю. ФУКСОН в центре не Ромео и не Джульетта, а то, что между ними (аналогично названиям: «Дафнис и Хлоя», «Повесть о Петре и Февронии», «Орфей и Эвридика» и т. п.). Чем «ужас и сострадание» трагедии радикально отличается от слёз сентиментальной драмы? Здесь-то как раз и важен образ маленького человека, совершенно невозможный для трагической ситуации. В пьесе «Ромео и Джульетта» нет внутреннего и безысходного спора равновеликих, равнодостойных начал, как в трагедии, на что указывает финал примирения враждебных семейств. Поэтому, конечно, «нет печальней повести на свете» и драма вправе рассчитывать на сострадание читателя (зрителя), но, конечно, не на трагический безысходный «ужас». Рассматривая рецептивный аспект уменьшительно-ласкательной художественности, мы бы хотели специально обратить внимание на фигуру свидетеля в апеллятивной структуре сентиментального произведения — это чаще всего именно обращённое к читателю приглашение разделить его чувства. Например, прощание юного Штольца с отцом в романе «Обломов» (2, I) наблюдают и комментируют («…ни слезинки!») любопытные соседи. В толстовском рассказе «После бала» свидетелем жестокой сцены наказания татарина, всхлипывающего «Братцы, помилосердуйте», оказывается кузнец, который говорит: «О господи». Это означает: он тот, кто расслышал просьбу о милосердии, и та же просьба передаётся как раз через фигуру сочувствующего свидетеля к читателю. В качестве ещё одного примера введения фигуры свидетеля сентиментального события укажем на рассказ Шолохова «Судьба человека», в котором типичный сентиментальный сюжет победы чуждости родством реализуется в выдаче героем себя за отца сироты. По сути, происходит преодоление обоюдного сиротства. Но это событие не открыто читателю непосредственно, а передаётся в виде доверительного рассказа героем своей жизни случайному попутчику. Прежде всего обратим внимание на художественное время произведения. Повествование, начинаясь с фиксации настояще96 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА го времени («первая послевоенная весна»), продолжается воспоминанием героя о прошедших горестных событиях. Описание весеннего бездорожья, с которого открывается рассказ, сближает природный и исторический планы происходящего. Недавно закончившаяся война ассоциируется с уходящей зимой. Событие потепления, возрождения связывает настоящее с прошлым. Для такой картины мира и органична форма воспоминания, в котором настоящему весеннему возрождению предшествует время гибели, умирания природы и человека. В ретроспекции воспоминания развёртывается обычная для сентиментального произведения сюжетная пропозиция — состояние отчуждения, «расчеловечивания». В «Судьбе человека» это разлука с семьёй, плен, в котором герой, по его признанию, отвыкает «от человеческого обращения», известие о гибели жены и дочерей, а потом — и сына. Всё родное, любимое забирается у человека как угроза потери самой способности любить, и эта угроза равнозначна опасности смерти при жизни, омертвения сердца. Таково типичное исходное состояние сентиментального события. Решение героя усыновить сироту описывается как закипевшая «горючая слеза»: «Не бывать тому, чтобы нам порознь пропадать!» Сентиментальное понимание жизни состоит именно в том, что люди «порознь» пропадают, что жизнь держится на любви, то есть на преодолении разрозненности, отчуждённости. Рассказчик в конце произведения говорит о герое: «чужой, но ставший мне близким человек…». Эта фраза обнаруживает ещё один существенный план события произведения: происходит сближение не только между двумя сиротами, потерявшими своих родных и нашедшими друг друга, но также между ними и свидетелем — сочувствующим им рассказчиком, так как на его «жгучей и скупой мужской слезе» вся история заканчивается. Таким образом, здесь можно заметить обычную для сентиментального произведения слёзную апеллятивную структуру, провоцирующую слёзы читателя. Сюжет97 Л. Ю. ФУКСОН ному событию соответствует (от слова «ответ») событие рецептивное. Однако фигура свидетеля сентиментального события может выполнять и отрицательную функцию. Вспомним в связи с этим рассказ «Мальчик у Христа на ёлке», обращая специально внимание на его чувствительную апелляцию к читателю. Произведение Достоевского композиционно делится на две главы. Первая — публицистическая — о типичном социальном явлении, вторая — художественная — об индивидуальном происшествии. Об этом же говорят и их разные названия — «Мальчик с ручкой» и «Мальчик у Христа на ёлке». Это две различные версии — проблемно-публицистическая и художественно-чувствительная — одного и того же. Социальное явление и сентиментальный образ; аристотелевские «история» и «поэзия»: то, что случалось («факты»), и то, что «могло случиться» — как будто взаимно дополняют друг друга. Многозначительна самая первая фраза: «Дети странный народ, они снятся и мерещатся». Повествование, заявив о странности детей, сразу переводит внимание с предмета на особенность его восприятия. «Странность» детей состоит в том, что они предстают не прямому («внешнему») взгляду, а как бы изнутри — во сне или умозрительно. Это похоже на укол совести. Зрелище детского несчастья и силуэт «мальчика с ручкой» — больная совесть взрослых, лучшее свидетельство неправильного устройства мира. Такой внутренний план представления героя как раз адресован читателю. При этом взрослые в мире рассказа предпочитают избегать прямого взгляда на страдания ребёнка. Так можно объяснить эпизод, в котором мимо героя «прошёл блюститель порядка и отвернулся, чтоб не заметить голодающего и замёрзшего мальчика». Сам существующий «порядок», на страже которого находится взрослый герой, характеризуется как бездушный, формальный, бесчеловечный. Герой, отворачиваясь, избегает роли свидетеля горя, как бы дезертирует с позиции сочувствия. Сюда же относится образ барыни, которая подошла к ребёнку 98 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА «поскорее и сунула в руку копеечку, а сама отворила ему дверь на улицу». Героиня откупается от неприятного для её совести зрелища. Такого рода детали имеют максимально интенсивный апеллятивный, «окликающий» характер: покинутая взрослыми точка зрения сочувствия провоцирует читателя занять эту позицию и тем самым вернуть вытесненное из мира сострадание. «Мальчик с ручкой» — образ превращения живого ребёнка в застывшую фигуру попрошайничества, нищеты. Сначала говорится о типе таких мальчиков-попрошаек, которые «завывают что-то заученное», а затем — о мальчике, который «не завывал и говорил как-то невинно и непривычно и доверчиво смотрел мне в глаза — стало быть, лишь начинал профессию». Эта коллизия живого и автоматического перекликается с дальнейшими образами кукол в витрине, о которых юный герой подумал, «что они живые, а как догадался совсем, что это куколки — вдруг рассмеялся…». Позже, когда герой замерзает во сне, он снова вспоминает про куколок, которые «как живые», и усмехается. Зрелище куколок, которые «как живые», имеет печальный сентиментальный смысл: это механическое бездушное подобие жизни за стеклом. В рассказе Достоевского присутствует обычная для сентиментального представления человека и мира коллизия малого и большого: огромный город; большая собака, которой ребёнок боится; улица «ох какая широкая!»; большое стекло (витрина) — эмблема иллюзорного счастья (что подчёркнуто смехом героя). «Большой злой мальчик» (большой грамматически и семантически уравнивается со злой). Сам же замерзающий и голодный мальчик «очень маленький». Его описание и окружающее, увиденное его глазами, — всё пронизано уменьшительно-ласкательными выражениями: одетый в «халатик»; «корочка», «пальчики», «картузишко», «куколки», «маленькие лошадки», «девочка с мальчиком», «ножки», «копеечка», «старичок», «скрипочки», «головки», а в конце — «трупик». «Огромный город» и «ужасный мороз» сближаются по смыслу: огромное — синоним ужасного и холодного. Пар изо рта 99 Л. Ю. ФУКСОН подчёркивает резкую границу тёплого островка жизни и окружающего холода. Тема холода очень важна в произведении: «ужасный мороз», «холодный подвал», «холодная стена», холодный труп матери. Такова вообще предстающая в рассказе жизнь. Это её главная характеристика. Физический холод мира — метафора холода бесчувственности окружающих юного героя людей. Умирание же (замерзание) сопровождается, наоборот, ощущением потепления. Смерть изображена освобождающей от горестей жизни, и мучительность жизни делает смерть благом. Причём это, конечно, не является отличительным свойством рассказа Достоевского. Вспомним последние слова «Бедной Лизы» — о посмертном примирении героев («Теперь, может быть, они уже примирились!»). Они имеют тот же смысл: в этом жестоком мире не может быть счастья при жизни. У Марфы, жены Якова Бронзы из чеховской «Скрипки Ротшильда», перед смертью выражение лица «было счастливое, точно она видела смерть, свою избавительницу…». Лука в пьесе Горького «На дне» советует Анне помирать «с радостью»: «Смерть, я те говорю, она нам — как мать малым детям…» («На дне», 2). В финале романа Гамсуна «Виктория» письмо умирающей героини содержит безоговорочное признание в любви, ранее невозможное: с самой жизнью уходят все условные социальные препятствия между «сыном мельника» и дочерью «хозяина замка». Поэтому смерть здесь также имеет освобождающий смысл. Уже с названия рассказа Достоевского заявляется тема праздника. Причём праздник изображён поначалу как нечто недоступное: праздник, смысл которого — объединяющий, помещён за стекло и дан как чужой, неприступный: «Ух, как на него закричали и замахали!» Это составляет контраст с тем, как героя приняли у Христа на ёлке. Подлинный праздник в мире рассказа может состояться только по ту сторону жизни. Таков его печальный (элегический) итог. *** 100 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА Симпатия, по-видимому, является преобладающим тоном сентиментального изображения. Это греческое слово означает буквально сострадание, что отсылает к исходной почве — пропозиции слёзного истолкования — патологическому (болезненному) состоянию погружённости в «бесчеловечную» противоестественную отчуждённость. Само страдание — именно сентиментальная тема. Как точно выражается автор глубокой статьи «О наивной и сентиментальной поэзии», на которую мы уже ссылались, «наше чувство природы напоминает чувство больного к здоровью» (Ф. Шиллер. Собр. соч. Т. 6. М., 1957. С. 403). Рассмотрим рассказ Андрея Платонова «Маленький солдат» как пример слёзной интерпретации жизни, провоцирующей чувствительное читательское поведение. Само по себе выражение «маленький солдат» может нести как героический смысл (с акцентом на втором слове), так и сентиментальный. Поэтому название не столько анонсирует какой-то определённый художественный формат, сколько создаёт герменевтическую и рецептивную интригу. Слово «солдат» произносит ещё майор Савельев в эпизоде, когда юный герой заплакал: «… держись, солдат!» Но в основном рассказчик употребляет слова: «мальчик», «мальчуган», «ребёнок», «мальчишка». Приведём начало произведения, намечающее не только очертания изображаемого мира, но и органично связанную с ними апеллятивную интонацию: Недалеко от линии фронта внутри уцелевшего вокзала сладко храпели на полу красноармейцы; счастье отдыха было запечатлено на их усталых лицах. Художественный мир рассказа открывается читателю указанием на «линию фронта», черту, разделяющую красноармейцев и врагов. Таким образом, перед нами разорванный (немирный) мир. Мирное состояние дано как временное — краткость делает этот миг отдыха «счастьем». Усталость лиц красноармейцев — 101 Л. Ю. ФУКСОН более исходная и постоянная характеристика — следствие давно идущей войны. Начальное описание отсылает к предшествующему грохоту сражения, сменившемуся «счастьем отдыха» и тишиной, в которой слышны лишь звуки храпа и шипения «котла горячего дежурного паровоза» (звуковой аккомпанемент стихшего боя). Позже упоминаются «гулкие мёртвые звуки» зениток. Мирная картина изображена как эфемерная, хрупкая. Напряжение войны и мира топологически выражается в споре двух типов пространства — «давно покинутый дом» и путь. Не случайно сказано, что солдаты спят на полу «внутри уцелевшего вокзала». Этот общий план описания сменяется крупным, в котором появляются персонажи, освещённые изнутри, психологически. Аналогично краткосрочности описываемого состояния отдыха как непродолжительного перерыва между боями, состояние сердечной привязанности героев тоже изображено как временное, неустойчивое: мальчик — сирота и расстаётся с майором Савельевым, который ненадолго заменил ему родителей. Смена опекунов — выражение непостоянства жизни, развёртывающейся именно как дорога, а не дом, событие неумолимого отчуждения: «Руку одного майора ребёнок не отпускал от себя, прильнув затем к ней лицом, а от руки другого осторожно старался освободиться». Так телесно выражается контраст родного и чужого, сил притяжения и отталкивания. Вообще сюжет рассказа — разлука, разрыв. Распадающийся на части мир, изображённый общим планом как фон военного времени, здесь репрезентирован образом распада семьи ребёнка, показанного крупным планом. Этот сюжет постоянных потерь — вплоть до последней, когда юный герой исчезает в итоге на дорогах войны, уходя «бог весть куда», — запускает рецептивный слёзный механизм сострадания. Образы «близкого» и «далёкого» являются в рассказе перифразами «дома» и «пути». В мире произведения близость и даль, или родное и чужое, — это сентиментальные бытие и ничто: сердце ребёнка хочет быть вблизи от человека, с которым 102 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА он успел сродниться, «а не вдалеке». Удаление, разлука здесь напрямую ассоциируется со смертью, с войной, откуда «трудно вернуться друг к другу». Это то же самое, что распад, раскол (сюда же по смыслу относится образ осколка, которым была смертельно ранена мать Серёжи). С другой стороны, сближение, любовь — синоним жизни. Такова чувствительная пространственная логика произведения Платонова. С точки зрения вероятного присутствия в рассказе не только сентиментальной, но и героической художественной установки, о чём мы упоминали в связи с названием, важно понять, как показаны военные подвиги Серёжи Лабкова. Рассказ майора, описывающего, как мальчик препятствует взрыву склада и как ему удаётся разведать расположение батарей неприятеля, а также убить немца на пару с ординарцем отца, кажется, подразумевает военную пользу, которую приносит юный герой. Однако при этом майор Бахичев смотрит на подвиги Серёжи неодобрительно — так же, как родители. Полковник поручает сына ординарцу «для неотлучного наблюдения за ним», и мать, «видя такого сына…, решила отправить его в тыл». В словах рассказчика о мальчике, что тот «близко принимал к сердцу войну», «характер его втянулся в войну», звучит, помимо любования, сожаление от противоестественности самого соседства ребёнка и войны. То, что Серёжа подговорил ординарца полковника убить немца, рассказчик называет «совращением». Эта подробность, конечно, не случайна. Читатель может соотнести её с описанием спящего мальчика: Серёжа Лабков всхрапывал во сне, как взрослый, поживший человек, и лицо его, отошедши теперь от горести и воспоминаний, стало спокойным и невинно счастливым, являя образ святого детства, откуда увела его война. С одной стороны, приведённый фрагмент перекликается с началом рассказа, где описывается недолгое «счастье отдыха» и «сладкий» храп спящих красноармейцев. Маленький солдат 103 Л. Ю. ФУКСОН сравнивается с «большими» солдатами. С другой стороны, в картине спящего ребёнка война с её пафосом ненависти воспринимается здесь, помимо всего прочего, как утрата счастливой невинности «святого детства», как преждевременное вынужденное повзросление. Всё это указывает на то, что произведение Платонова развёртывает не героическую, а именно сентиментальную версию жизни. При восприятии героического произведения читатель как будто сам погибает в своём сопереживании гибнущему герою и одновременно любуется этой смертью. В сентиментальном мире рассказа «Маленький солдат» смерть деэстетизована. Ранение и смерть полковника, отца Сергея, показаны не как героический подвиг («… бой-то, говорят, был слабый»), а как непоправимое событие: «А потом случилось горе…». Особенно же заметна установка дегероизации в изображении гибели матери мальчика — как чего-то противоестественного: она была «поувечена двумя осколочными ранениями, одно было в полость…». Образ женщины на войне здесь дан через отталкивающий контраст красоты и увечья. Но кроме того, ранение «в полость» отсылает к семантике гибели материнского лона, предназначенного для деторождения. Побег юного героя в финале рассказа сопровождается сентиментальными мотивировками рассказчика: «…бог весть, куда он ушёл, томимый чувством своего детского сердца к покинувшему его человеку — может быть, вослед ему, может быть, обратно в отцовский полк, где были могилы его отца и матери». Это уход в никуда — без надежды восстановления утраченной близости. Сердце мальчика, по словам рассказчика, «не могло быть в одиночестве, оно боялось, что, оставшись одно, умрёт». Эта наивная детская точка зрения оказывается тем не менее горизонтом истины сентиментального произведения. Опасение сердца не обманывает: в одиночестве оно действительно умирает. Налицо расколотый мир, превращённый в осколки, и сам герой-сирота — осколок распавшейся семьи. В рассказе Плато104 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА нова развёртывается образ кратковременности и хрупкости счастья — и самого детства. Чаще всего об этом и «плачет» сентиментально настроенный читатель. Чтение открывает печальный перевес отчуждения над родством, распада над сближением, разлуки над встречей, смерти над жизнью. Происходит как будто горестное событие вытеснения любви из мира, изображение которого представляет собой апелляцию к слезам читателя. Если описывать слёзы как событие рецептивное, а не сюжетное, то следует принять в расчёт состояние читателя, предшествующее слезам. Чем в целом характеризуется установка открывающего сентиментальную книгу? Слёзному поэтическому переживанию предшествует обычное прозаическое настроение, которое в общем можно охарактеризовать как безусловный перевес рациональности над чувствительностью. Если смех прекращает серьёзное положение дел, то слёзы — рассудочное. Как определить такой рассудочный формат существования до его крушения, то есть до встречи с «вымыслом», над которым читатель обливается слезами? — Деловая озабоченность повседневности. Метафоры языка говорят о слезах как об «увлажнении» «сухого», «зачерствевшего» сердца. Как смех есть преодоление в самом читателе инерции серьёзности, так и слёзы суть преодоление читателем его собственной инерции деловитой озабоченности, рассудочного настроя каждодневного прозаического существования. Поэтому мы не только смеёмся «над самими собой» (Гоголь), но и плачем над самими собой. Слёзное событие знаменует возвращение самого читателя из «бесчувственного» состояния обыденной жизни к натуральному, подлинному (с эстетической, в данном случае — сентиментальной, точки зрения) состоянию. 105 СЛОВО КАК ПРЕДМЕТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ Слово в слёзном мире подвергается своеобразной редукции: оно тяготеет к размыванию готовой семантики и чёткой артикулированности. Чувствительное слово дано как затихающее и вообще — в пределе — замолкает. Грамматика уменьшительно-ласкательных суффиксов берёт на себя основную содержательную нагрузку высказывания. Лексическое же значение оказывается «под подозрением» как рассудочный и холодный момент слова. Поэтому сентиментальное выражение по большей части тяготеет к нечленораздельным звукам: «того» Акакия Акакиевича или «тае» Акима из «Власти тьмы», мычание немого Герасима («Муму»), лепет (речь ребёнка), «воркование» (звуки, издаваемые голубями: можно вспомнить в связи с этим «голубиную нежность» Обломова), «сюсюканье». Положительный предел такой редукции — междометие («ах!» повествователя «Бедной Лизы»), непосредственное излияние эмоций. Этим объясняется особая близость людей и животных в чувствительном мире, например собак, понимающих преимущественно интонацию речи. Глубоко неслучайны образы бессловесных героев в сентиментальной литературе: толстовский «Холстомер», «Каштанка» Чехова, «Белый клык» Джека Лондона, «Хозяин и собака» Т. Манна, «Корова» Есенина, рассказы «Белый пудель» и «Пиратка» Куприна, «Снежок» Акутагавы. Животное в сентиментальном мире — напоминание о естественной, внесловесной и внерассудочной стороне жизни, оттеснённой на задний план. Например, рождение котят в рассмотренном ранее нами рассказе «Событие» Чехова. Его же рассказ «В Москве на Трубной площади» описывает зоологический ры106 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА нок, при подходе к которому «слышно разноголосое пение птиц, напоминающее весну». В рассказе Куприна «Слон» больная девочка выздоравливает, когда к ней приводят живого слона и к ней возвращается утраченная способность удивляться. На вопрос Нади слон «вытягивает хобот и дует в самое лицо девочки тёплым сильным дыханием», отчего её волосы «разлетаются во все стороны», и юная героиня «хохочет и хлопает в ладоши»: ей понравился такой бессловесный ответ. Всё главное в сентиментальном мире совершается хотя и посредством слов, но «мимо» слов и вопреки словам, о чём говорится, например, в поэзии Фета: «Друг мой, бессильны слова, — одни поцелуи всесильны…». Или: «…О, если б без слова / Сказаться душой было можно!» Типично сентиментальное признание в несказанности чувства содержит стихотворение А. К. Толстого: (…) Весело и горестно сердцу моему, Молча твои рученьки грею я и жму, В очи тебе глядючи, молча слёзы лью, Не умею высказать, как тебя люблю. В сентиментальной ситуации на место бессильных слов приходит тактильное тепло (вторая строка) и «слёзы» как наиболее релевантные способы выражения любви. Во всех подобных случаях мы имеем дело с парадоксом: налицо высказывание о неумении высказать чувства. Рассмотрим стихотворение Ахматовой «Первая песенка» на ту же тему: Таинственной невстречи Пустынны торжества, Несказанные речи, Безмолвные слова. Нескрещенные взгляды Не знают, где им лечь. И только слёзы рады, 107 Л. Ю. ФУКСОН Что можно долго течь. Шиповник Подмосковья, Увы! при чём-то тут… И это всё любовью Бессмертной назовут. Читатель произведения сразу может заметить, что оно переполнено отрицательными определениями, «неопределённостями», которые, тем не менее, не оставляют нас в абстрактной беспредметности, а ведут к тому, что находится как бы «поблизости», за границей отрицаемого. Весь этот ряд определений выражает попытку заглянуть по ту сторону событийности и активности — к состоянию неосуществлённых (таящихся) желаний (встречи, взгляда, слова). Это состояние означает либо предшествование ожидаемому действию, либо отказ от него. В любом случае несостоявшейся встрече и «безмолвным словам» соответствуют «слёзы» — самое подходящее выражение для чувствительной основы непроизошедшего события. В отрицательной, почти беспредметной реальности стихотворения обнаруживается лишь один вполне определённый образ с конкретной пространственной локализацией — «шиповник Подмосковья». Он указывает как на красоту, так и на её неприступность и, одновременно с этим, боль, страдание (благодаря шипам). Причём сама его уместность проблематична: «…при чём-то». Он-то и является эмблемой невыразимого чувства, бессмертного, как сама природа, и столь же бесцельного. Это пример типично сентиментального мироощущения. Лихтенберг писал: «Чего нет в сердце, то на языке. Я часто находил это более верным, чем противоположное мнение» (Г. К. Лихтенберг. Афоризмы. М., 1964. С. 102). Противоположное мнение, упомянутое Лихтенбергом, во-первых, можно найти в латинском выражении Pectus est quod disertos facit (Сердце делает красноречивым), а во-вторых — в Новом завете, в словах Иисуса: «… от избытка сердца говорят уста» (Матфей 12, 34; Лука 6, 45). Как мы видим, эпоха чувствительности, в которую жил 108 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА Лихтенберг, в противовес более ранним свидетельствам, смотрит с недоверием на красноречие и, вообще, на всё, что «говорят уста». По крайней мере, между «сердцем» и «языком» с сентиментальной точки зрения обнаруживается «разногласие». Тему невыразимости чувства развёртывает стихотворение Есенина: Я спросил сегодня у менялы, Что даёт за полтумана по рублю, Как сказать мне для прекрасной Лалы По-персидски нежное «люблю»? Я спросил сегодня у менялы Легче ветра, тише Ванских струй, Как назвать мне для прекрасной Лалы Слово ласковое «поцелуй»? И ещё спросил я у менялы, В сердце робость глубже притая, Как сказать мне для прекрасной Лалы, Как сказать ей, что она «моя»? И ответил мне меняла кратко: О любви в словах не говорят, О любви вздыхают лишь украдкой, Да глаза, как яхонты, горят. Поцелуй названья не имеет, Поцелуй не надпись на гробах, Красной розой поцелуи веют, Лепестками тая на губах. От любви не требуют поруки, С нею знают радость и беду. «Ты — моя» сказать лишь могут руки, Что срывали чёрную чадру. 109 Л. Ю. ФУКСОН Сентиментальное поведение читателя вовсе не предполагает буквальные его слёзы, печальный характер излагаемой истории либо прямое воспроизведение слёз персонажа. Это определённая образная логика, порождающая особый чувствительный образ мира и провоцирующая победу чувств как главное событие. Мы видим, что в стихотворении Есенина на пути чувства стоит преграда — затруднение его выразить, что подчёркивается границей иностранной (иноязычной) чуждости. Таково назначение персидского имени Лала, а также подражания ориентальному цветистому стилю сравнений. Сюда же следует отнести образ чёрной чадры. Но это препятствие оказывается мнимым. «Как назвать…», «как сказать…» — безуспешная попытка перевода с одного языка на другой — носит рассудочный характер, в то время как для любви не существует самих границ — национальных и речевых. Кстати, меняла (купец) — тоже своего рода «переводчик», посредник. Деньги — чисто рассудочный (мёртвый) эквивалент в данном случае чего-то находящегося по ту сторону купли-продажи. Да и туман становится странно исчисляемым. В этом фантастическом образе как раз подчёркивается невозможность обмена. Знаковый, условный характер денег уподобляется искусственности слов. К этому же ряду относится понятие неуместной рассудочной «поруки» (здесь это обещание либо некие гарантии). Попытка «назвать» и «сказать» не случайно сравнивается с «надписью на гробах». Слово годится только для эпитафии, оно может сказать лишь о прошлом, мёртвом. Стихотворение Есенина освобождает живой смысл любви от всего рассудочного, и это то самое событие воскресения чувств, которое составляет основу любого слёзного произведения. Следует специально отметить, что в героическом мире тоже происходит, как правило, редукция слова — и по той же причине — недоверия рассудку. При этом героическая трансформация речи происходит в противоположном направлении — не затихания, а, наоборот, нарастания громкости и патетиче110 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА ского возвышения, скажем, боевой клич русских воинов ура! и т. д. Можно вспомнить, в связи с темой героического недоверия к слову, например, противостояние Одиссея и велеречивого Терсита (Илиада 2, 212–277) или прямодушного Роланда и коварного Ганелона (Песнь о Роланде). Показательна разница характеров сыновей Тараса Бульбы: кто хитрее, изобретательнее и красноречивее, тот оказывается предателем — такова героическая оценка косноязычного безрассудства храбрецов и изворотливого ума краснобаев. Не случайно в жанре американского кинобоевика злодея наказывает не служба правопорядка, а охваченный чувством справедливости герой, то есть не красноречие и аргументы судопроизводства, а рискованный поединок. Именно героическую форму поединка принимает судебный процесс над Ганелоном в «Песни о Роланде»: на почве рассудка хитроумного злодея никак не победить. На отрицательном полюсе, противоположном и чувствительности, и «безумству храбрых», находится рассудочное слово как подчиняющий человека готовый социальный формат, как риторическая либо логическая искусность, иезуитская изощрённость и т. п. Излюбленный в чувствительном художественном мире отрицательный предмет — высказывание юридическое («Холодный дом» Диккенса, «Воскресение» Толстого и др.). Это максимально аргументированное и регламентированное, казённое, тотально чужое, «сухое», «холодное» слово, слово закона, а не благодати. «Громкий» либо «тихий» типы высказывания соответствуют социальному или домашнему масштабам человека, и для чувствительного образа мира подлинный — второй (здесь опять же антипод — героика). У Маяковского присутствуют оба полюса слова (громкий и тихий): «орущее» (героизирующее современность) слово («Мир огромив мощью голоса…») и контрастное к нему: «… Дай последней нежностью выстелить / Твой уходящий шаг» (элегия «Лиличка»). Или: «Расцветают глаза твои, два луга, / Я кувыркаюсь в них, весёлый ребёнок» (поэма «Война и мир») — здесь присутствует весь идиллический пасторальный комплекс. 111 Л. Ю. ФУКСОН Отдельно, по-видимому, следует сказать о письменном слове в чувствительном художественном мире. Сентиментальная отрицательная оценка образа письма предопределена его ролью посредника. Письменное слово находится ещё дальше в своей отчуждённости от непосредственного выражения чувств, чем даже слово устное. Приведём несколько примеров: суровое письмо Гринёву от отца и контрастное к нему письмо Савельича; письмо Пёгготи Давиду Копперфилду в пятнах от слёз (XVII); письмо Обломова к Ольге Ильинской; аббревиатура в объяснении Левина и Кити в «Анне Карениной»: слово сокращается, превращаясь в намёк, уступая догадке непосредственного чувства; письма у Чехова: «Письмо», «После театра». Так, отрицательно, оценивается в сентиментальных текстах именно изображаемое, объективированное слово, которому противостоит изображающее — авторское. Первое-то как раз и выражает свою беспомощность. Рассказ Чехова «На святках», например, демонстрирует противоположность бессильного, редуцированного слова героев (о котором ведётся рассказ) и слёзного слова самого рассказа. Положительные примеры неофициального чувствительного слова, которому удаётся-таки всё выразить: «Бедные люди», письма в «Евгении Онегине», в эпистолярных романах («Страдания юного Вертера», «Юлия, или Новая Элоиза» и т. п.), — нуждаются в отдельном анализе. Но можно предварительно заметить, что в перечисленных случаях граница между изображаемым и изображающим моментами слова оказывается стёртой, несущественной. При этом эпистолярная разновидность жанра вполне соответствует сентиментальной парадигме: форма письма — это принципиально приватное слово, в котором интимная обращённость лица к лицу «запечатывается», укрывается от внимания чужой, «бесчувственной» публики. В рассказе К. Паустовского «Снег» такая запечатанность, закрытость слова от чужих безразличных глаз нарушается именно как событие неравнодушия и душевного участия, когда героиня вскрывает и читает письмо, адресованное отцу героя, который 112 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА уже не мог его прочесть. Поэтому письмо не остаётся безответным: Татьяна Петровна устраивает всё в доме умершего хозяина так, как выразил своё пожелание в письме его сын. Если обратить внимание на название произведения, то следует учесть, что снег ближайшим образом обозначает зимнее время: «пришла зима и завалила» снегом городок. Проснувшейся ночью Татьяне Петровне «снега тускло светили в окна», а затем вспорхнувшая птица стряхнула с ветки снег, который «долго сыпал белой пылью, запорошил стёкла». Аналогичная деталь: когда приехавший домой Потапов открыл калитку, она скрипнула, и «сад как бы вздрогнул», а «с веток сорвался снег». Можно заметить здесь противопоставление статичного состояния зимней картины и его нарушения, что связано с сюжетом рассказа, с возвращением героя домой. Особое упоминание снега находится в письме Потапова к отцу, где он вспоминает родной дом: «Зима, снег, но дорожка к старой беседке над обрывом расчищена…». Поэтому героиня посылает утром дочь расчистить дорожку, сближая тем самым прошлое ожидаемого героя с настоящим: она предчувствует, что сыну умершего хозяина дома «будет тяжело встретить здесь чужих людей и увидеть всё совсем не таким, каким он хотел бы увидеть». В картине, воображаемой Потаповым, снег скрывает родное место, а расчищенная дорожка, наоборот, открывает, точнее, сохраняет его в запомнившемся виде (при ещё живом его отце). Снег в мире рассказа как бы «работает» против памяти и одновременно обозначает внедомашнюю зону изображаемой реальности: перед тем как зайти в дом, Татьяна Петровна «постучала ногами, чтобы сбить снег с ботиков». Ещё одна «снежная» деталь: «На её ресницах и щёках таял снег, осыпавшийся, должно быть, с веток». Здесь акцентируется граница холода и тепла, которая связана с очень значимой для рассказа границей родного и чужого. Возвращение Потапова домой — пересечение границы чужого и родного, войны и мира, равнодушия и сердечной отзывчивости. Причём знакомство героев рассказа открывается тоже 113 Л. Ю. ФУКСОН как будто в модусе возвращения, так как для Потапова Татьяна Петровна — девушка, которую он как будто видел в юности. И героине тоже кажется, что они раньше встречались. То, что в действительности это не так, не имеет значения, как думает героиня в финале произведения. Для Татьяны Петровны, эвакуированной из Москвы в провинциальный городок, это поначалу чуждое место вдалеке от друзей, работы в театре; чужой дом, к которому пришлось привыкать. Поэтому чувствительный сюжет перехода от чужого к родному касается не только героя, но и героини: «– Пишите. Мы теперь как родственники. Правда?» — говорит она в финале. Татьяна Петровна, распечатывая чужое письмо и «трогая чужие вещи» (исправляя дверной колокольчик, настраивая рояль), что она запрещала дочери, нарушает указанную границу. Героиня как будто откликается на оставшееся безответным письмо, осуществляя пожелания Потапова. В упомянутом в письме романсе, ноты которого Татьяна Петровна специально кладёт на рояль, речь тоже идёт о разлуке с родиной — отчизной дальней — и о намечаемом возвращении. С другой стороны, Потапов, сначала планирующий не заходить в дом, где живут уже «чужие люди», всё-таки заходит, с удивлением обнаруживая, что дом не стал чужим. Снег ассоциируется с холодом. В произведении Паустовского образ холода символически многозначен: холод физический («Наденьте фуражку… вы простудитесь»); холод отчуждения и равнодушия («Мысль о том, что в отцовском доме живут чужие, равнодушные люди, была невыносима»); холод забвения («… уехать и забыть о прошлом»); холод смерти старика героя (Потапов, узнав о смерти отца, вышел на улицу и увидел, как «между небом и землёй наискось летел редкий снежок») и, наконец, превозмогаемый холод военного положения. В рассказе линейное время ассоциируется с разлукой, старостью, забвением, холодом и смертью, неустойчивостью существования. Память же возвращает жизнь к вечным, фундаментальным её ценностям — неравнодушию, душевной чуткости, 114 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА теплу, любви. Тем самым налицо спор линейного времени и циклического в рассказе «Снег». Подробнее о линейной и циклической формах времени «слёзных» произведений скажем отдельно. Основное сентиментальное художественное событие преодоления чуждости между людьми акцентировано в произведении Паустовского в образе письма, вскрытого и прочтённого чужим человеком, который в своём сердечном участии перестаёт быть чужим. 115 СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» Для определения характера художественного произведения большое значение имеет его начало, задающее тон всему последующему, то есть заставляющее читателя «пойти» в совершенно определённом направлении. Повесть Пушкина «Капитанская дочка» начинается с упоминания о выходе в отставку с военной службы отца героя и о дальнейшем его проживании в своей деревне. Таким образом, граница мира произведения, куда мысленно «входит» читатель, прочерчивается демонстративным переводом изображаемой жизни из социального плана в домашний. С первым связано историческое лицо — граф Миних, «при» котором служил Андрей Петрович Гринёв, а со вторым — сообщение о его женитьбе «на девице Авдотье Васильевне Ю.». Начало «Капитанской дочки», как мы видим, вполне изоморфно его названию, первое слово которого, указывающее на воинский чин, обозначает социальный («служебный») аспект бытия, а второе — семейный, интимный — «уменьшительно-ласкательный». Такому переходу повествования из служебной сферы в домашнюю в связи с перемещением отца героя из города в деревню соответствует простонародное имя жены Андрея Петровича — Авдотья Васильевна. Причём говорится, что она из дворянской семьи. Поэтому с самого начала читатель может почувствовать также своего рода стилистическое сближение городской (дворянской) культуры и деревенской (крестьянской) натуры. То, что это не случайная деталь, показывает не только сам сюжет, демонстрирующий взаимную отчуждённость и ненормальный раздор этих сфер жизни, но и, например, давно замеченная особенность эпиграфов повести, объединяю116 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА щих два типа источников — фольклора и книжной словесности «золотого века» русского дворянства. Рассмотрим следующий фрагмент первой главы: «Матушка была ещё мной брюхата, как уже я был записан в Семёновский полк сержантом, по милости майора гвардии князя В., близкого нашего родственника». Выражение «был записан» относит образ человека к социальному формату существования, а «была ещё мною брюхата» — к натуральному. Причём натуральное рождение героя опережается «рождением» социальным. Поэтому ему суждено появиться на свет сразу сержантом Семёновского полка, что придаёт началу жизнеописания Гринёва комический (стернианский) тон, который также поддерживается самим этим ретроспективным словом рассказчика, звучащим вначале как будто из материнского живота. И название первой главы («Сержант гвардии»), описывающей беззаботное детство героя, тоже носит иронический характер. В приведённом высказывании акцентируется та же граница исторического и природного аспектов существования человека, которую мы отметили в самом начале повествования. С одной стороны, в нём фигурирует название знаменитого гвардейского полка, созданного ещё Петром Первым, с другой стороны — неказённое семейное участие, родственная протекция. Слово «матушка» указывает на тот домашний, «малый» масштаб человеческой жизни, который контрастно соотносится здесь с исторической деталью общенационального значения. В повести Пушкина эти оба формата — социальный и натуральный — показаны равно значительными. Хотя в начале произведения формы существования героя — в материнском животе и на бумаге — изображаются неравноценными как реальная и конвенциональная, тем не менее сама сословная идея служения здесь не отвергается, и это понятно: ведь в «Капитанской дочке» осуществляется эстетическое примирение реально враждующих сословий, то есть самое значительное для сентиментальной художественности событие преодоления чуждости родством. Поэтому в образе службы повесть делает акцент 117 Л. Ю. ФУКСОН не на сословных привилегиях, а на долге, и Андрей Петрович отправляет сына не в записанный гвардейский полк в Петербурге, где, по его мнению, можно научиться лишь «мотать да повесничать», а в Оренбург, где его сын «потянет лямку, да понюхает пороху, да будет солдат, а не шаматон». Соприсутствие названных различных форматов построения образа героя «Капитанской дочки» — натурального и социального — определяет своего рода челночную манеру повествования, как бы снующего между двумя соответствующими этим форматам кодировками. Например, казённая фраза «Я считался в отпуску до окончания наук» говорит о служебном призвании Гринёва. Но дальше «челнок» повествования поворачивает к реальной (небумажной) стороне жизни персонажа: «В то время воспитывались не по-нонешнему…». Описание прохождения «наук» под руководством стремянного Савельича и бывшего парикмахера француза Бопре даётся в ироническом тоне и сопровождается забавными подробностями домашнего быта и соответствующим ему стилем. Повествование переводит читателя от представления мосье Бопре, который не очень понимал значение слова «outchitel», к признанию Гринёва: «Другого ментора я и не желал». Русское слово дано латинскими буквами, а латинское слово «ментор» — наоборот — кириллицей. Повествование тем самым как бы «снуёт» между искусственным языком школы и естественным языком жизни. Так ткётся биполярная ценностная структура сентиментального текста. Если выход в отставку отца Гринёва означает, как уже было замечено, перемещение из казённой сферы в домашнюю, то периодическое чтение Придворного календаря, наоборот, напоминает Андрею Петровичу о службе, вызывая у него «удивительное волнение желчи». Гринёв старший как будто возвращается во времена молодости. И не случайно эти мысли о прошлой службе обращаются на сына, который «жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками». Суровое слово отца («… пора его в службу…») и слёзы Авдотьи Васильевны при «мысли о скорой разлуке» с сыном напоминают о той же границе служебного 118 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА и семейного планов бытия, которую замечает читатель с самого начала повести. Аналогично тому, как название первой главы произведения («Сержант гвардии»), накладываясь на описание беззаботного детства героя, порождает ироническую фигуру повествования, третья глава «Крепость» исходно настраивает Гринёва и самого читателя на нечто воинственное: «Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видал, кроме деревушки, окружённой бревенчатым забором…». Герой переводится «из гвардии в гарнизон» и видит на месте крепости «деревушку», а на месте комендатуры — «деревянный домик». Такой дегероизирующий переход от великого к малому вовсе не означает отрицательную оценку. Подразумевается совершенно иной, не менее значимый, тип ценностей — домашний, что резюмируется признанием Гринёва: «В доме коменданта был я принят как родной» (IV). В начале главы «Поединок» о коменданте и порядках Белогорской крепости рассказчик отзывается так: «Жена его им управляла, что согласовывалось с его беспечностию. Василиса Егоровна и на дела службы смотрела, как на свои хозяйские, и управляла крепостию так точно, как и своим домом». Беспечность коменданта — красноречивая подробность описания места службы («крепости») как домашнего хозяйства. Выдвижение на первый план домашних дел закономерно делает главной управительницей Василису Егоровну — до той поры, пока к стенам Белогорской крепости не подошло войско Пугачёва (глава VII). Комендант на валу крепости говорит жене: «Василиса Егоровна!.. Здесь не бабье дело; уведи Машу…», а комендантшу повествователь упоминает «присмиревшей под пулями». В изображении повседневных военных учений Ивана Кузьмича преобладает комическая интонация: «Комендант по собственной охоте учил иногда своих солдат; но ещё не мог добиться, чтобы все они знали, которая сторона правая, которая левая, хотя многие из них, дабы в том не ошибиться, перед каждым оборотом клали на себя знамение креста» (IV). Но пе119 Л. Ю. ФУКСОН ред лицом реальной военной угрозы описание фигуры коменданта становится совершенно серьёзным: «Близость опасности одушевляла старого воина бодростию необыкновенной». Слово, сопровождающее геройское поведение коменданта Белогорской крепости в главе «Приступ», обнаруживает не возвышенную риторику, а простоту и бесхитростность: «Что ж вы, детушки, стоите?… Умирать так умирать: дело служивое!» (здесь и далее курсив наш — Л. Ф.). Командир обращается к своим солдатам, как отец к детям. Тем самым государственная служба увидена как что-то родное, семейное, а не как внешний, формальный долг. То же самое можно заметить у Ивана Игнатьича, которого пытаются заставить присягнуть Пугачёву: «Ты нам не государь… Ты, дядюшка, вор и самозванец!» (VII). Савельич молит Пугачёва пощадить Гринёва: «Отец родной!.. Что тебе в смерти барского дитяти? Отпусти его; за него тебе выкуп дадут; а для примера и страха ради вели повесить хоть меня старика!» (VII). Готовность слуги пожертвовать собой для спасения «барского дитяти» выражается тоже фамильярным слогом. В повести Пушкина осуществляется своего рода постоянный перевод с языка событий государственных на язык домашних дел. При этом значительность этих событий не отменяется, но им придаётся семейный масштаб. Тем самым они будто «приближаются» к персонажам и к читателю, даются не «общим», а «крупным» планом. О погибшем капитане Миронове генерал в Оренбурге говорит: «… Жаль его: хороший был офицер. И мадам Миронов добрая была дама и какая мастерица грибы солить!» (глава X). Героическую эпитафию сопровождает домашняя подробность, лишая отзыв сухой официальности — таков общий сентиментальный художественный механизм произведения с названием «Капитанская дочка». Жена почтового смотрителя, с которой разговорилась Маша Миронова, прибывшая в Царское Село, «объявила, что она племянница придворного истопника, и посвятила её во все таинства придворной жизни» (XIV). Комизм этой подробности, как неод120 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА нократно в повести, порождает соседство высокой («придворной») и простонародной сфер (закулисная, сокровенная сторона жизни вершителей судеб, увиденная глазами истопника). Приведённая деталь примыкает к эпизоду, в котором Анна Власьевна, узнав о приглашении Маши Мироновой «ко двору», сетует: «Да как же вы, матушка, представитесь к императрице? Вы, я чай, и ступить по-придворному не умеете…». Повествование последней главы вообще всё строится на сближениях далёких сфер жизни: деревни (откуда приезжает Маша Миронова) и Царского Села, бедной сироты и императрицы, государственной политики и семейной истории. Государыня при первой встрече с Машей Мироновой остаётся инкогнито. Тем самым головокружительная социальная дистанция до какой-то степени сокращается, что облегчает откровенность героини: доброжелательной и участливой женщине рассказать всё проще, чем грозной главе государства. Не случайно, описывая ожидание встречи Маши Мироновой с Екатериной II, повествователь замечает: «Мысль увидеть императрицу лицом к лицу так устрашала её, что она с трудом могла держаться на ногах» (XIV). Описываемое великое расстояние отчуждённости и является пропозицией сентиментального события сближения, открытия субстанции «человечности». Портрет оренбургского генерала Андрея Карловича Р., товарища отца Гринёва, отсылает читателя к временам Анны Иоанновны и графа Миниха, когда друзья служили вместе. Эпизод чтения рекомендательного письма продолжает своего рода ценностный спор служебной (казённой) и дружеской (приватной) сфер жизни, которым соответствуют два различных языка: официальное обращение «ваше превосходительство» сменяется напоминанием о проказах юности и просьбой позволить «без чинов обнять себя… старым товарищем и другом…» (II). В оренбургском эпизоде после получения отчаянного письма от Маши Мироновой в разговоре Гринёва с генералом (X) тоже сталкиваются и спорят два противоположных языка — официальный и фамильярный, — показывающие как бы амплитуду 121 Л. Ю. ФУКСОН колебания дистанции между героями: «Ваше превосходительство» и «отец родной», «генерал» и «старик». Генерал как человек («изумлённый старик»), реагирующий с участием на исступлённый тон Гринёва, обращается к нему «батюшка», но вникнув в суть безрассудной просьбы, — «молодой человек». Когда же генерал узнаёт о влюблённости героя, то снова становится «стариком», а Гринёва называет «бедный малый». Перепад стиля повествования отражает напряжение взаимоотношений между героями — официально-должностного и человечного. Из того же ряда — описание прощания Пугачёва с Гринёвым: «Прощай, ваше благородие!» (XII). Здесь сталкиваются «пустое вы» и «сердечное ты». Традиционно для сентиментальной литературы соотносятся в повести «Капитанская дочка» чувство и рассудок. Обратим внимание на событие знакомства Гринёва с Зуриным в симбирском трактире и описание ссоры с Савельичем (I глава). Может показаться, что эпизод биллиардного проигрыша героя просто демонстрирует победу чувства над рассудком, однако следует принять во внимание то, что вся эта сцена строится на контрасте безрассудства Гринёва и расчётливости Зурина, который сыграл на мальчишеском азарте партнёра, подогретом пуншем, и на его неопытности: «Шары поминутно летали у меня через борт; я горячился, бранил маркёра…». Деньги здесь — безошибочное свидетельство искусственности и иллюзорности завязавшихся приятельских отношений. Они как раз показывают торжество рассудка. И не случайно проигранные сто рублей становятся поводом ссоры Гринёва с Савельичем, их временного отчуждения. Гринёв приказывает своему дядьке «не умничать», однако как раз в данном случае его собственный резонёрский тон больше похож на «умничанье». Сама размолвка строится как рассудочное проведение сословных и имущественных границ: «Я твой господин, а ты мой слуга. Деньги мои…». Предложение же помириться (в начале II главы), наоборот, разрушает эти границы и возвращает отношения героев обратно в человеческий план. В V главе Гринёв снова обижает 122 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА Савельича, обвиняя его после получения письма из деревни в шпионстве и доносительстве, а потом просит прощения. Можно заметить, таким образом, что дружеская, человеческая близость героев не дана в сентиментальном мире непосредственно, а подвергается определённому испытанию моментами различного рода отчуждения. Рассудочные мотивы поведения («умничанье») оцениваются в повести как ложные или даже губительные. Можно вспомнить, как чувство благодарности Гринёва по отношению к вожатому сталкивается с рачительностью Савельича, который недоволен намерением молодого барина подарить заячий тулуп: «– Ты видишь, что дитя ещё не смыслит, а ты и рад его обобрать, простоты его ради. Зачем тебе барский тулупчик? Ты и не напялишь его на свои окаянные плечища. — Прошу не умничать, — сказал я своему дядьке, — сейчас неси сюда тулуп“ (II). В конечном счёте простота и щедрость оказываются не просто благом, но и спасением человеческих отношений на фоне „умничанья“. То же самое обнаруживается в описании выздоровления Гринёва после поединка со Швабриным: „Меня лечил полковой цирюльник, ибо в крепости другого лекаря не было, и, слава богу, не умничал. Молодость и природа ускорили моё выздоровление“ (V). „Умничанье“, идущее против природы, представлено в этом замечании губительным. Савельич полагает, что в добром отношении Пугачёва сыграла роль его челобитная с педантичным перечислением ущерба: „… вору-то стало совестно…». Между тем эта бумага, наоборот, могла погубить Гринёва и его дядьку, и их спасло лишь то, что, по словам рассказчика, «Пугачёв был, видимо, в припадке великодушия» (IX). На самом деле причина участия Пугачёва в судьбе Гринёва совсем другая: «… я помиловал тебя за твою добродетель…» (VIII). Тема рассудка, «умничанья» связана в повести с фигурой Швабрина с самого начала его знакомства с Гринёвым: «Швабрин был очень неглуп. Разговор его был остёр и занимателен». Машу Миронову Швабрин описал Гринёву «совершенною дурочкою» (III). Не случайно по мере углубления знакомства с семей123 Л. Ю. ФУКСОН ством коменданта шутки Швабрина разонравились Гринёву и в конце концов привели к вражде. Сам ум Швабрина получает переоценку. Гринёв, узнав, что Швабрин сватался к дочери коменданта, замечает: «Слова, подавшие повод к нашей ссоре, показались мне ещё более гнусными, когда, вместо грубой и непристойной насмешки, увидел я в них обдуманную клевету» (IV). Пугачёв в главе «Сирота» велит Швабрину, укрывающему дочь покойного коменданта, не умничать (XII). Мы видим, что рассудок последовательно изображается в повести как разобщающая и отчуждающая сила. «Если он тебя государем не признаёт, так нечего у тебя управы искать», — резонно рассуждает Белобородов. Сам Гринёв признаёт «логику старого злодея» «довольно убедительною» (XI). Рассудочная логика в сентиментальном мире беспощадна. Это логика войны, отвечающая жестокостью на жестокость. Примирение же представляется совершенно неразумным, непоследовательным. Ю. М. Лотман, отмечая своеобразную симметричность композиции произведения Пушкина, писал: Пугачёв «милостив, следовательно, непоследователен, ибо отступает от принципов, которые сам считает справедливыми» (…). Екатерина не только императрица, которая «не может» простить Гринёва, «но и человек, и это спасает героя» (Ю. М. Лотман. Идейная структура «Капитанской дочки» // Ю. М. Лотман. Избранные статьи в 3-х томах. Т. 2. Таллинн, 1992. С. 425–427). Таким образом, Екатерина тоже обнаруживает непоследовательность милосердия, «симметричную» непоследовательности Пугачёва. Гринёв, столкнувшийся с требованием «признать бродягу государём», решает сказать Пугачёву бесхитростно «всю правду», и именно поэтому между ними возникает взаимопонимание: «Моя искренность поразила Пугачёва» (VIII). Этот эпизод совершенно аналогичен тому, что происходит в главе «Суд». Ожидая допроса, Гринёв «решился перед судом объявить сущую правду, полагая сей способ оправдания самым простым, а вместе и самым надёжным» (XIV). Прямодушие и простота здесь готовы противостоять юридической казуистике. Однако 124 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА в судебном разбирательстве решающую роль сыграло нежелание Гринёва приоткрыть личную подоплёку своей поездки из Оренбурга в Белогорскую крепость: «Судьи мои, начинавшие, казалось, выслушивать ответы мои с некоторою благосклонностию, были снова предубеждены противу меня при виде моего смущения» (XIV). Что вытекает из описания судебного процесса над Гринёвым? Человек погибает, если судить о нём сугубо извне, с точки зрения всем известных фактов. «На поверхности» люди разделены на врагов и союзников: кто не с нами, тот против нас. Спасти же героя может лишь раскрытие внутреннего («человечного») мотива его поступков. Это и происходит во второй половине XIV главы, во встрече Марьи Ивановны Мироновой с императрицей. Уже во втором абзаце произведения Пушкина читатель встречает слово «милость», которое вообще очень важно для «Капитанской дочки», как показывают несколько следующих наблюдений. Мать Гринёва напоминает мужу о письме князю Б. в надежде, что тот «не оставит Петрушу своими милостями». Вожатый, получив в награду от героя заячий тулуп, благодарит: «Век не забуду ваших милостей» (II). Андрей Петрович Гринёв заканчивает своё строгое письмо сыну: «Молю бога, чтоб ты исправился, хоть и не смею надеяться на его великую милость» (V). «Батюшка наш тебя милует», — говорят Гринёву, спасшемуся от казни благодаря заступничеству Савельича перед Пугачёвым (VII). Потом сам Пугачёв решает: «Казнить так казнить, миловать так миловать», отпуская Гринёва из захваченной Белогорской крепости в VIII главе, а затем — в XII: «Казнить так казнить, жаловать так жаловать: таков мой обычай». «Милую тебя на сей раз», — говорит Пугачёв Швабрину, валяющемуся у него в ногах (XII). Гринёв «великодушно извинял своего несчастного соперника» после дуэли (V) и позже «не хотел торжествовать над уничтоженным врагом» (XII). Маша Миронова говорит даме, в которой она ещё не узнала императрицу, что «приехала просить милости, а не правосудия» (XIV). 125 Л. Ю. ФУКСОН Во всех подобных случаях милость воспринимается как чтото неожиданное, даже чудесное, идущее вразрез с жестоким («беспощадным») ходом жизни. Отзвук сентиментального понятия «милость» повести Пушкина слышится в романе «Война и мир», когда, например, улан советует Денисову, обвиняемому в самоуправстве, «просто просить государя о помиловании» (II, 2, глава XVIII). — Это урок «Капитанской дочки». К теме милости относится, конечно, и восклицание резонёра рассказчика о «русском бунте, бессмысленном и беспощадном» (XIII). При этом существенно то, что во главе этого бунта стоит человек, наделённый в повести Пушкина милосердием. Если беспощадность сословной вражды ассоциируется с бессмысленностью, то милосердие «человечности» открывает, напротив, смысл сентиментального произведения. Причём мы видим, насколько сами смысл и бессмысленность в уменьшительно-ласкательной оптике отличаются от обычной рассудочной их трактовки. Комендантша, рассказывая о дуэли Швабрина, называет её «смертоубийством»: «…он, изволишь видеть, поехал за город с одним поручиком, да взяли с собою шпаги, да и ну друг в друга пырять; а Алексей Иваныч и заколол поручика, да ещё при двух свидетелях! Что прикажешь делать? На грех мастера нет» (III). Такое освещение дуэли Василисой Егоровной и сам язык её рассказа предвосхищает комическое несовпадение точек зрения на поединок чести в следующей IV главе, когда Гринёв соглашается дать Швабрину «сатисфакцию» и просит Ивана Игнатьича выступить в роли секунданта. Поручик же, отказываясь наотрез, советует иной вариант выяснения отношений: «Он вас побранил, а вы его выругайте; он вас в рыло, а вы его в ухо, в другое, в третье — и разойдитесь; а мы вас уж помирим. А то: доброе ли дело заколоть своего ближнего, смею спросить?». «Челнок» повествования, предлагая две версии намечающегося поединка, переходит от возвышенного лексикона дуэльного кодекса к выражениям, соответствующим простонародной драке. Причём в первой версии обещается смерть, а во второй — примирение. Вместе с тем, авторский смех подчёркивает ограниченность, односторонность 126 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА обеих. Даже сам Гринёв признаётся, что «не мог не засмеяться», когда Палашка, по приказу хозяйки, отнесла шпаги дуэлянтов в чулан. Дуэль Пьера и Долохова в «Войне и мире» (2, 1, V) напоминает дуэль Гринёва со Швабриным. В обоих случаях поединок дан в дегероизирующем плане (в повести Пушкина — с комической интонацией, а у Толстого — в плоскости ужаса возможного убийства, которое у Пушкина названо «душегубством»). К теме пересечения в пушкинской повести различных языков, отражающих сословную принадлежность (и человеческую ограниченность) говорящих, относится отзыв казака о Пугачёве: «…по всему видно, что персона знатная: за обедом скушать изволил двух жареных поросят, а парится так жарко, что и Тарас Курочкин не вытерпел… Нечего сказать: все приёмы такие важные…» (VIII). Таково наивное мужицкое представление о знатности. Однако авторская насмешка относится и к противоположному, также сословно ограниченному, языку. Книжное слово и «литературное» поведение являются знаком принадлежности к высшему, «культурному» сословию и тоже изображены в ироническом духе. Стихотворение Гринёва (IV глава), послужившее поводом ссоры со Швабриным, — стилизация галантной поэзии XVIII века. Неслучайны имена Сумарокова и Тредьяковского. В этом манерном, сугубо книжном тексте есть лишь одно живое слово — Маша. Издевательства Швабрина задевают как сомнительные поэтические достоинства «стишков», так и реальный повод их появления. Стрелы критика ранят поэтому не только самолюбие стихотворца, но и, главным образом, чувства влюблённого. В седьмой главе («Приступ») рассказчик описывает своё душевное состояние, когда ждёт с остальными штурма Белогорской крепости и ему улыбается «с усилием» дочь коменданта: «Я невольно стиснул рукоять моей шпаги, вспомня, что накануне получил её из её рук, как бы на защиту моей любезной. Сердце моё горело. Я воображал себя её рыцарем. Я жаждал доказать, что был достоин её доверенности, и с нетерпением стал ожидать решительной минуты» (VII). Здесь налицо книжное настроение и соответствующий 127 Л. Ю. ФУКСОН стиль, отсылающий к стихотворению Гринёва в IV главе, что контрастирует со страшной реальностью мгновенного захвата крепости. В рыцарской установке героя на первый план выходят именно сословные ценности, обнаруживающие в итоге свою узость по сравнению с масштабом «человечности», в котором имеют значение лишь жестокость либо милосердие. Этот подлинный масштаб и есть не что иное, как горизонт сентиментального целого повести. Образ бурана, застигшего героев («Я выглянул из кибитки: всё было мрак и вихорь» — II глава), представляет собой натуральный аналог социального катаклизма мира повести. Не случайно во сне Гринёва в той же главе соседствуют, с одной стороны, образы природной стихии, блуждание «по снежной пустыне» и, с другой стороны, комната, наполненная трупами и лужами крови, — картина «бунта бессмысленного и беспощадного». Сон Гринёва, как мы видим, создаёт художественное уравнение природного хаоса и социального, что делает потерю дороги метафорой утраты жизненного смысла. Обретение же смысла связано в повести с событием встречи. Важное значение в «Капитанской дочке» имеет коллизия великого и малого; гибнущего, распадающегося мира и человека, спасающего другого человека; ситуация потери пути и образ вожатого. Дружеская связь между людьми помимо их разделяющего социального катаклизма оказывается в мире повести спасительной. Причём это относится не только к найденной в буране дороге, но и к благодарности Гринёва в виде заячьего тулупа, который сыграет важную роль в дальнейших грозных событиях. Изображение массовых сцен повести, опосредованное взглядом Гринёва, тяготеет к оценке «народа» как стихии, «бессмысленной и беспощадной», анонимной «толпы», на фоне которой выделяются отдельные узнаваемые лица. Ряд образов толпы появляется в связи с описаниями бунтующего народа начиная с VII главы, хотя ещё в начале знакомства Гринёва с семейством капитана Миронова Василиса Егоровна говорит о «башкирцах»: «Как завижу, бывало, их рысьи шапки, 128 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА да как заслышу их визг, веришь ли, отец мой, сердце так и замрёт!..» (III). В главе «Приступ» на фоне «конных толп» и «множества людей, вооружённых копьями и сайдаками», выделяется Пугачёв, а в описании крепости крупным планом дано предсмертное сердечное прощание друг с другом членов семьи капитана Миронова (VII). Однако «толпа» в повести ассоциируется не только с бунтующими крестьянами. В главе «Арест» читаем: «Вдруг толпа гусаров окружила нас с ужасною бранью» (XIII). С образом толпы связана бессмысленность и жестокость готовящейся совершиться ошибки, встреча же с приятелем (Зуриным) изображается как спасительная. При вылазке осаждённых в Оренбурге, когда удалось «рассеять и прогнать довольно густую толпу» (X), Гринёв узнаёт в этой толпе знакомого казака, приветствуя его «Здравствуй, Максимыч…», хотя только что был готов ударить его «своею турецкою саблею». Это приветствие резко сближает героев (аналогично обращению «Савельич»), выделяя их из анонимной враждебной толпы. Так же фамильярно урядник обращается к Гринёву: «батюшка Пётр Андреич». Это колебание на границе вражды и дружбы подчёркивает оксюморонная деталь: «своею турецкою». В начале главы «Разлука» повествователь говорит: «Пугачёв увидел меня в толпе, кивнул мне головою и подозвал к себе» (IX). Аналогичные эпизоды: «Пугачёв, увидя в толпе Акулину Памфиловну, погрозил пальцем и мигнул значительно» (XII); Пугачёв узнал присутствующего на своей казни Гринёва «в толпе и кивнул ему головою, которая через минуту, мёртвая и окровавленная, показана была народу» (XIV). Налицо типичное образное соседство повести: безликая «толпа», на фоне которой выделяются лица узнающих и понимающих друг друга людей. «Толпа» — это бессмысленное хаотичное людское скопление, препятствующее естественному сближению и взаимопониманию одного человека с другим. Например: «Швабрин и народ, толпящийся около нас, помешали мне высказать всё, чем исполнено было моё сердце» (XII). 129 Л. Ю. ФУКСОН Глава «Сирота» начинается с описания приезда Гринёва с Пугачёвым в Белогорскую крепость: «Кибитка подъехала к крыльцу комендантского дома. Народ узнал колокольчик Пугачёва и толпою бежал за нами» (XII). В этой сцене, как и в предыдущих примерах, сближаются противоположные полюса мира повести — большое и малое: отсылки к социально значимому событию, захватывающему «народ» (образ «толпы»), и личная забота, ради которой Пугачёв едет с Гринёвым в Белогорскую крепость. Пугачёв фигурирует здесь как тот, кто стоит во главе «русского бунта, бессмысленного и беспощадного», и, вместе с тем, как благодетель, в руках которого находится хрупкое счастье Гринёва. Как показывают проведённые наблюдения, общий план изображения представляет образ толпы как хаотичного и враждебно настроенного анонимного скопления людских масс. Крупный же план выделяет, как будто выводит на свет лица конкретных людей, узнающих и понимающих друг друга. Эти различные способы видения обозначают ценностные полюса мира сентиментальной повести Пушкина. 130 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ В «СЛЁЗНЫХ» ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Коль скоро в основе сентиментального мироощущения лежит обязательная неотрывность человека от природы, то именно природное время и задаёт ценностный стандарт темпоральной модели «слёзных» произведений. Натуральное время образует цикл — будь то годовой или суточный круг, будь то ритм смены поколений человеческого рода. Бахтин описывал черты идиллического времени так: «сочетание чистого природно-сезонного времени (…) с временем биологического бытия — сон, бодрствование, труд, трапезы, отдых, рождение, рост человека, брак, деторождение, зрелость, старость, смерть — с циклическим временем сельскохозяйственного трудового процесса — посев, всходы, созревание, жатва и пр. со всеми циклами работ, и наконец, с временем культовым — празднеств — семейно-бытовых (именины, рождения, крестины, поминки по родне и пр.), культоворелигиозных (…)» (М. М. Бахтин. Собр. соч. Т. 3. М., 2012. С. 276). Таким образом, темпоральная норма сентиментально изображённого мира и человека не историческая линейная временность и преходящий, необратимый характер жизненных событий, а природная круговая вечность возобновляющегося существования. Такова же основа противопоставления линейной ограниченности индивидуальной жизни и циклической бесконечности рода. Смерть, с сентиментальной точки зрения, понимается не как окончательный итог, а как обновление жизни. Например, именно такой — служащей обновлению жизни — видит смерть читатель рассказа Л. Толстого «Три смерти», в мире которого не случайно появление образов детей умирающей героини в III главе, а также внутренняя метамор131 Л. Ю. ФУКСОН фоза кухарки Настасьи перед лицом смерти ямщика Фёдора (II глава). В финале произведения при описании срубленного дерева (третьей смерти) повествователь многозначительно замечает: «Деревья ещё радостнее красовались на новом просторе своими неподвижными ветвями». В притче о блудном сыне, служащей, как мы помним, сюжетной моделью множества сентиментальных произведений, разлука, покидание родного дома и само желание героя отделиться означает попытку начать жить в индивидуальном, «линейном» регистре времени. Однако возвращение означает победу циклического (родового) времени, в котором актуализируются все элементы пасхального семантического комплекса: раскаяние, прощение, воскресение (блудный сын, по словам своего отца «… был мёртв и ожил, пропадал и нашёлся» — Лука 15, 32). В начале романа Оливера Голдсмита «Векфилдский священник» описывается образ жизни рассказчика и его супруги: «Мы гуляли по окрестностям или находили себе занятие дома, навещали богатых соседей, помогали бедным; ни о каких переменах не помышляли, тягостных забот не ведали, и все наши приключения совершались подле камина, а путешествия ограничивались переселением из летних спален в зимние и из зимних — в летние» (Перевод Т. М. Литвиновой. О. Голдсмит. Избранное. М., 1978. С. 97). В приведённом описании обращают на себя внимание следующие существенные моменты. Эта картина жизни простирается в виде топологического круга, описывающегося маршрутом прогулок «по окрестностям» дома и чередованием зимних и летних спален. Аналогичный темпоральный круг образует ритм повторяющихся занятий героев. То, что они «ни о каких переменах не помышляли», придаёт употреблённым рассказчиком словам «приключения… подле камина» и «путешествия» ироничный смысл, так как описываемый рассказчиком пульс семейной жизни составляет контраст к авантюрному, направленному вперёд времени. Изображается именно бессобытийное по своей сущности время. 132 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА *** Время в «слёзном» мире как будто «хочет» постоянно течь по кругу, но это не всегда осуществимо, что демонстрирует ситуация разрушения идиллии, когда происходит непоправимое «похолодание» жизни. Вторжение линейного времени в идиллическую «картинку» как раз и объясняет элегическую интонацию многих сентиментальных произведений. В идиллическом образе мира круговращение времени, по сути, ощущается героями и читателем как его статичный, «стоячий» характер, потому что в постоянных повторениях стирается принципиальная разница между прошлым и будущим. Но линейное время, напротив, означает преходящий характер жизни, безвозвратность прошлого, о котором и «жалеет» элегия. В финале повести «Старосветские помещики», после смерти главных героев, появляется, как мы помним, наследник имения, которого повествователь называет «страшным реформатором» и который «так хорошо распорядился, что имение через шесть месяцев взято было в опеку…». Циклическое течение времени в повести Гоголя и её статичные картины жизни сменяются линейным, необратимым ходом событий. Разрушение идиллии является очень продуктивной темой литературы конца XVIII — первой половины XIX вв. (см., например: М. М. Бахтин. Собр. соч. Т. 3. С. 480–482). Круг циклического времени при этом размыкается, «вытягивается» в линейное — индивидуальное, историческое. Классический пример темы разрушения идиллии, закономерно сопровождающегося элегической интонацией, — роман Гончарова «Обломов». Главный герой в начале произведения изображён как будто поперёк течения времени: он утром не поднимается, а продолжает лежать, что подчёркивает вереница посетителей. Но контраст Ильи Ильича и окружающего составляет не только его горизонтальная поза, а и внутреннее состояние «беспечности» на фоне по-разному озабоченных его гостей. Такая рекомендация Обломова на «входе» читателя в мир романа задаёт на133 Л. Ю. ФУКСОН пряжённую структуру художественного времени произведения, определяющуюся своего рода спором «круговой» и «линейной» его форм. Причём первая связана с домашним пространством, в котором укоренён главный герой романа, а вторая — с рядом образов дороги. Поэтому зачастую конфликт линейного и кругового времени выражается в том, что в тёплое домашнее устойчивое и однообразное существование героя вторгаются извне какие-то новости, люди, которые побуждают его выйти из круга повторяющихся занятий. Повторяющаяся фраза Обломова всем посетителям «не подходите, не подходите: вы с холода!» проводит не только границу наружного и внутреннего участков пространства, но и обозначает разницу его спокойного ритма домашней жизни и публичной суеты (героя зовут на гулянье в Екатерингофе, делать различные визиты, читать журналы и т. п.). Причём линейное время ассоциируется в мире романа именно с холодом, но отнюдь не только с физическим. Это время дороги, то есть пребывания в постоянно новом, незнакомом состоянии отчуждения от самого себя. Очередное письмо «неприятного содержания» от старосты из деревни, затеянный хозяином квартиры ремонт и связанная с ним необходимость новоселья или посещение доктора, советующего поменять образ жизни, — всё это требует от Обломова что-то предпринимать, хлопотать, вносить в свою жизнь какието изменения, то есть подчиняться течению линейного времени. Именно линейное необратимое время обнаруживает, например, описание упадка дома Обломовых (См.: И. А. Гончаров. Обломов. Л., «Наука», 1987. С. 11. Все ссылки в дальнейшем даются по этому изданию. Цифры в скобках означают страницы). В линейном времени развёртывается мошеннический проект Мухоярова и Тарантьева по обворовыванию имения Ильи Ильича (четвёртая часть романа, главы I–III, V–VII). Эта сюжетная линия построена как раз в направлении необратимой деградации и разорения изображаемой жизни, пока на помощь Обломову не приходит его друг Штольц, что вполне в духе скорее авантюрного романа. 134 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА Спор различных форм времени в мире произведения можно заметить, когда мечты Ильи Ильича о будущей жизни в Обломовке, где «будет вечное лето, вечное веселье…» (62), — перебиваются городским шумом теперешней действительности (63). Неподвижное, «стоячее» время счастья противопоставляется подвижному времени нескончаемых и влекущих куда-то вперёд забот и волнений. Поэтому-то «счастливые часов не наблюдают»: они ощущают себя в вечности. Апофеоз идиллического кругового времени в романе — сон Обломова (1, IX), в котором он переносится в детство в родной деревне: «Правильно и невозмутимо совершается там годовой круг» (80). Описывается не то, что однажды случилось, а то, что «бывает». Иногда даётся какой-то отдельный случай, например: «Илья Ильич проснулся утром в своей маленькой постельке…» (85). Но потом об этом случае говорится: «И целый день, и все дни и ночи…» (86), и оказывается, что он приводился как типичный пример того, что всегда происходит. Поэтому повествователь специально отмечает: «Видит Илья Ильич во сне не один, не два такие вечера, но целые недели, месяцы и годы так проводимых дней и вечеров» (105). Эта повторяемость жизни и образует особый идиллический её ритм, в котором семейное время сливается с временем природным и который воспринимается жителями Обломовки как благо: «– Вот день-то и прошёл, и слава богу! — говорили обломовцы, ложась в постель, кряхтя и осеняя себя крестным знамением. — Прожили благополучно; дай бог и завтра так!..» (92); «Норма жизни была готова и преподана им родителями, а те приняли её, тоже готовую, от дедушки, а дедушка от прадедушки…» (97). «Готовой» норме жизни, готовому миропорядку соответствует именно циклическая форма времени, органичная для главного героя романа, но чуждая современной реальной действительности. Поэтому идиллический темпоральный пульс оттесняется в мире произведения Гончарова в область снов и грёз. Симметрично сну Обломова в первой части описана идиллия в доме на Выборгской стороне в финале романа, начинаю135 Л. Ю. ФУКСОН щейся словами: «Мир и тишина покоятся над Выборгской стороной…» (363). Здесь чувствуется как раз ритм повторяющихся («целые недели…»; «целые дни…»), ничем не омрачаемых событий домашней жизни, ритм, единый с ритмом природы: «В окна с утра до вечера бил радостный луч солнца, полдня на одну сторону, полдня на другую, не загораживаемый ничем благодаря огородам с обеих сторон» (366). В видении Ильи Ильича повторяются картины его детства, которые не случайно сливаются с его нынешней жизнью: время её идёт по кругу. Но как и сон Обломова в первой части, так и грёза в доме на Выборгской стороне в финале романа прерываются приездом Штольца: такова сюжетная функция этого персонажа — пробуждать от снов, от грёз. Призывы Штольца к другу изменить жизнь подкрепляются словами «теперь или никогда», в которых опознаётся черта именно линейного времени с неповторимостью каждого его мига («теперь»). Причём важно заметить, что в «объективном» времени нет никакого «теперь». Слово «теперь», употребляемое Штольцем, подразумевает личное переживание момента времени, личное участие в нём и персональную ответственность, от чего как раз пытается всегда уклоняться Илья Ильич, живущий именно в «объективном», сверхличном времени. Если существование Обломова подчинено круговому ритму воспроизводящегося готового, не зависящего от героя миропорядка, то, описывая жизнь Штольца, повествователь представляет прямую целенаправленную линию: он «всё шёл да шёл упрямо по избранной дороге» (130). Роман Ильи Ильича и Ольги Ильинской переживается героями в разных формах времени. Героиня побуждает Обломова к активности, как будто подталкивает его к жизни в линейном («поступательном» — от слова поступок) времени, однако самому Илье Ильичу его отношения с Ольгой Ильинской видятся «магическим кругом любви» (189). После размолвки, вызванной письмом героя, он умоляет Ольгу: «Пусть будет всё по-вчерашнему» (204). И после примирения он печально спрашивает себя: 136 УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА «Ужели и этот миг поблекнет?» (207). Мы видим, что история взаимоотношений Обломова и Ольги Ильинской развёртывается в напряжённой борьбе двух форм времени, и конец этих отношений, разлука героев означает победу линейного времени, при котором каждому мигу неизбежно суждено «поблекнуть». Такая же победа линейного времени наблюдается в финале романа, описывающего прежде всего перемены на Выборгской стороне. Но эти перемены не затрагивают главного героя, покоящегося «на ближайшем кладбище»: повествователь говорит о «дремлющих» ветках сирени над его могилой и о том, что «сам ангел тишины охраняет сон его» (376). Двум названным типам времени коррелятивны два типа сентиментального сюжета многочисленных произведений. С одной стороны, события обиды, ухода, разлуки, отчуждения, забвения, упадка и запустения. С другой стороны — прощение, возвращение, встреча, сближение, воспоминание, восстановление. В мире рассказа Андрея Платонова «Цветок на земле» время — это не авантюрная череда каких-то событий, а натуральная длительность самого существования: «Мне без трёх девяносто будет, глаза уж сами жмурятся. А тебе ещё мало времени, тебе без трёх первый десяток идёт», — говорит дед внуку. Два персонажа — дед и внук, — показанные в рассказе крупным планом, сближают конец и начало жизни. Причём старость и детство — это ещё и разница тёмного состояния дремоты (дед постоянно засыпает) и света бодрствования: «А тебе ведь темно спать», — говорит Афоня. Но свет открывает человеку то, чего он ещё не видел, а дед Тит «уж всё видел», «всё обдумал»: непоседливость любопытства, желающего знать «про всё», и спокойствие равнодушия тоже отличают в произведении Платонова детство и старость. Образ часов-ходиков, их монотонного, «скучного» тиканья — механическое овеществление ритма домашнего времени, который «баюкает» деда. Поэтому когда Афоня останавливает часы, дед просыпается: в наступившей тишине стали слышны звуки окружающего мира. 137 Л. Ю. ФУКСОН Выход «из избы наружу» здесь — событие познания («Пойдём сейчас белый свет пытать»). Это событие носит характер перехода юного героя — от состояния скуки (ощущения пустоты), с сообщения о которой начинается рассказ («Скучно Афоне жить на свете…»), — к состоянию осмысленности жизни. Но такая метаморфоза изображается как усвоение настоящим и будущим урока прошлого, как наследование: дед Тит, наставляя внука, передаёт ему «эстафету жизни». Диалог героев, на чём композиционно построен рассказ, демонстрирует соединение бессильного смысла и жизненной силы. Дед, связывая мёртвую, неорганическую природу и цветок, по сути, говорит о чуде жизни как о чёмто «самом главном». Цветок, по словам деда, обращённым к внуку, «из смерти работает жизнь». Но в произведении Платонова та же непрерывная работа осуществляется в жизни человека. Не случайно головка внука, которую гладит дед Тит, сравнивается с «цветком, растущим на земле». Жёлтые лекарственные цветы, сдаваемые Афоней в аптеку, по совету деда, служат той же «работе жизни». Два персонажа рассказа олицетворяют эту вечно возобновляемую «работу». Идея продолжения, непрерывности — в этом и состоит смысл их художественного соседства, сближающего смерть и жизнь. Такова именно сентиментальная (циклическая) исконная модель времени. 138 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ В описании «слёзной» художественной ситуации мы старались опираться на самые общие, повторяющиеся моменты, определяющие особенности уменьшительно-ласкательного истолкования человека и мира. «Кодировка» такого истолкования может быть представлена схематически в виде ряда ценностных оппозиций: природа — — — — — — — — — — — — — — — - социум деревня — — — — — — — — — — — — — — — — город малое — — — — — — — — — — — — — — — — — большое «сердце» — — — — — — — — — — — — — — — «ум» доверие — — — — — — — — — — — — — — — - знание интимность — — — — — — — — — — — — — официальность семья — — — — — — — — — — — — — — — — — государство круг — — — — — — — — — — — — — — — — — — линейность естественность — — — — — — — — — — — искусственность организм — — — — — — — — — — — — — — механизм «человечность» — — — — — — — — — «бесчеловечность» (сближение) — — — — — — — — — — — — (разобщение) милосердие — — — — — — — — — — — справедливость детское — — — — — — — — — — — — — — — - взрослое слабость — — — — — — — — — — — — — — — сила простота — — — — — — — — — — — — — — — важность тепло — — — — — — — — — — — — — — — — — холод земля — — — — — — — — — — — — — — — — — камень мягкость — — — — — — — — — — — — — — — твёрдость влажность — — — — — — — — — — — — — — сухость свежесть — — — — — — — — — — — — — — чёрствость жизнь — — — — — — — — — — — — — — — — — смерть 139 Л. Ю. ФУКСОН Такое схематическое описание сентиментального языка схватывает, конечно, лишь инвариантные характеристики слёзного истолкования жизни. Каждое отдельное чувствительное произведение привносит свои неповторимые, «окказиональные» вариации. Приведём конкретный пример. В романе Гроссмана есть эпизод, в котором маленький мальчик подходит вместе с колонной евреев к газовым печам: «издали эти прямоугольники с серыми стенами без окон напоминали Давиду огромные кубики, от которых отклеились картинки» (В. С. Гроссман. Жизнь и судьба II, 47). Если задуматься над тем, зачем здесь это сравнение, то можно сказать, что ребёнок, встретившись с сугубо взрослой реальностью, как бы переводит её на свой детский язык, объясняя незнакомое знакомым. Попробуем развернуть семантику этих соотносимых предметов, установив, в каких аспектах они сравниваются: кубики — — — — — — — — — — — — газовые печи игра — — — — — — — — — — — — — действительность детский мир — — — — — — — — — - взрослый мир цветной («картинки») — — — - — — серый (бетон) открытый — — — — — — — — — —закрытый (без окон) малый — — — — — — — — — — — — — огромный любовь — — — — — — — — — — — — — ненависть жизнь — — — — — — — — — — — — — — судьба (…) Сравниваемые мальчиком предметы и «шлейфы» характеристик, тянущиеся за ними, взаимно «отталкиваются», как, например, выражение «огромные кубики», в котором величина газовых печей спорит с уменьшительным суффиксом слова «кубики». В ценностном напряжении, выявляемом в приведённом эпизоде романа, нетрудно узнать особенности уменьшительноласкательного образа мира. Так общий сентиментальный ценностно-смысловой код преломляется в конкретном художественном высказывании. 140 ОГЛАВЛЕНИЕ Введение Природа и город, чувство и рассудок Детский мир. Образ дома Пасторальная и пасхальная сентиментальность Элементы чувствительного космоса Идиллия и элегия Сентиментальность и героика Чувствительный роман «Война и мир» Слёзы — тип читательского поведения Слово как предмет чувствительного изображения Сентиментальная повесть «Капитанская дочка» Художественная организация времени в «слёзных» произведениях Заключительные соображения 3 6 24 36 46 55 66 77 94 106 116 131 139 Л. Ю. Фуксон Уменьшительно-ласкательный образ мира Корректор Н. С. Мелькина Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero