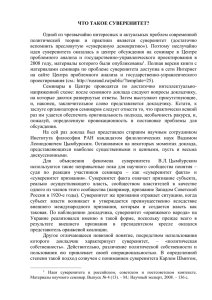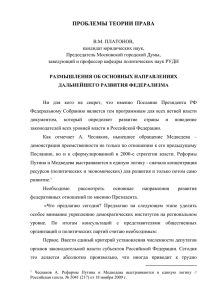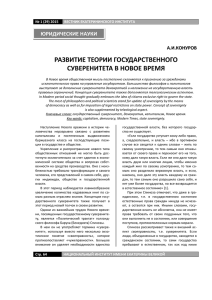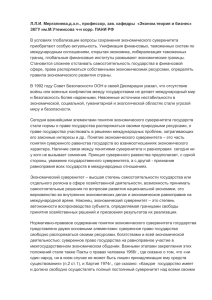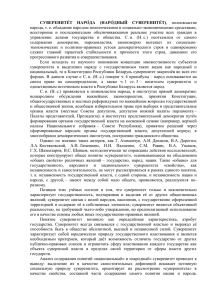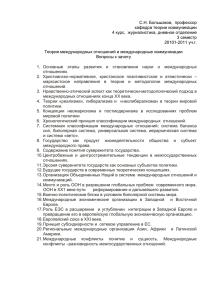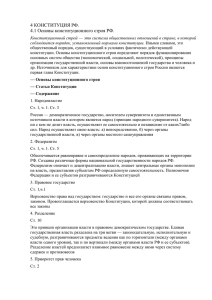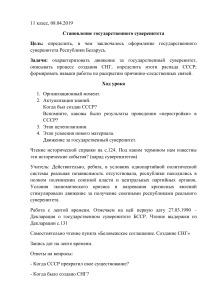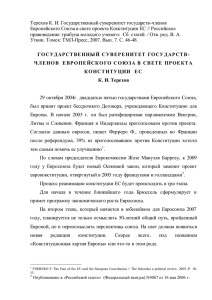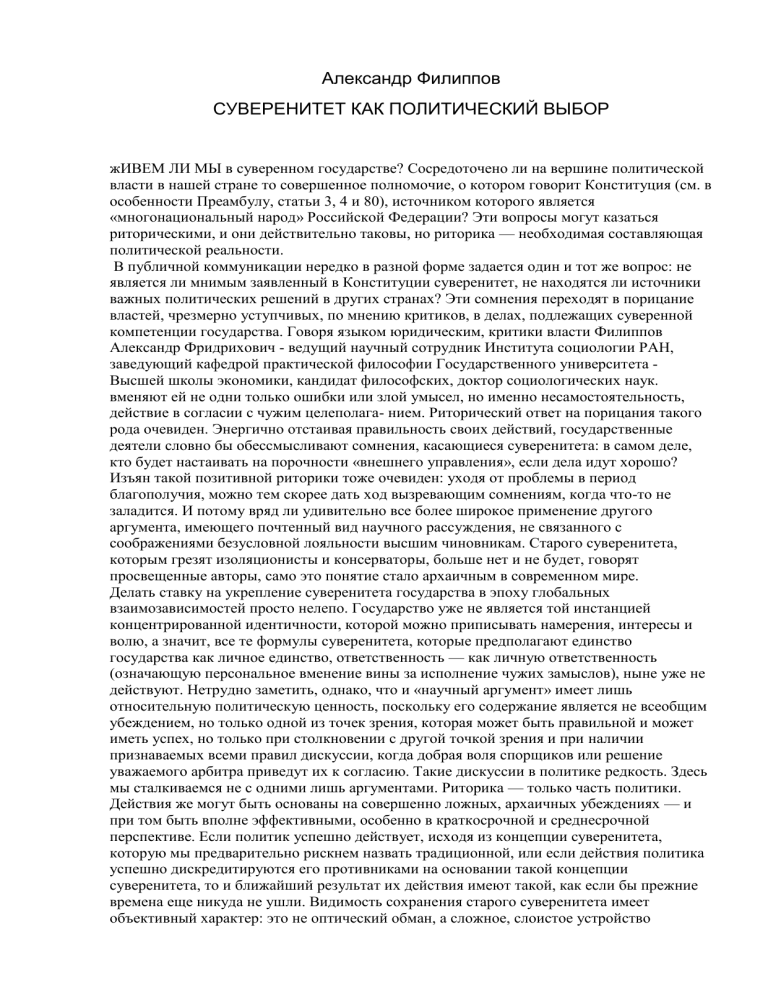
Александр Филиппов СУВЕРЕНИТЕТ КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЫБОР жИВЕМ ЛИ МЫ в суверенном государстве? Сосредоточено ли на вершине политической власти в нашей стране то совершенное полномочие, о котором говорит Конституция (см. в особенности Преамбулу, статьи 3, 4 и 80), источником которого является «многонациональный народ» Российской Федерации? Эти вопросы могут казаться риторическими, и они действительно таковы, но риторика — необходимая составляющая политической реальности. В публичной коммуникации нередко в разной форме задается один и тот же вопрос: не является ли мнимым заявленный в Конституции суверенитет, не находятся ли источники важных политических решений в других странах? Эти сомнения переходят в порицание властей, чрезмерно уступчивых, по мнению критиков, в делах, подлежащих суверенной компетенции государства. Говоря языком юридическим, критики власти Филиппов Александр Фридрихович - ведущий научный сотрудник Института социологии РАН, заведующий кафедрой практической философии Государственного университета Высшей школы экономики, кандидат философских, доктор социологических наук. вменяют ей не одни только ошибки или злой умысел, но именно несамостоятельность, действие в согласии с чужим целеполага- нием. Риторический ответ на порицания такого рода очевиден. Энергично отстаивая правильность своих действий, государственные деятели словно бы обессмысливают сомнения, касающиеся суверенитета: в самом деле, кто будет настаивать на порочности «внешнего управления», если дела идут хорошо? Изъян такой позитивной риторики тоже очевиден: уходя от проблемы в период благополучия, можно тем скорее дать ход вызревающим сомнениям, когда что-то не заладится. И потому вряд ли удивительно все более широкое применение другого аргумента, имеющего почтенный вид научного рассуждения, не связанного с соображениями безусловной лояльности высшим чиновникам. Старого суверенитета, которым грезят изоляционисты и консерваторы, больше нет и не будет, говорят просвещенные авторы, само это понятие стало архаичным в современном мире. Делать ставку на укрепление суверенитета государства в эпоху глобальных взаимозависимостей просто нелепо. Государство уже не является той инстанцией концентрированной идентичности, которой можно приписывать намерения, интересы и волю, а значит, все те формулы суверенитета, которые предполагают единство государства как личное единство, ответственность — как личную ответственность (означающую персональное вменение вины за исполнение чужих замыслов), ныне уже не действуют. Нетрудно заметить, однако, что и «научный аргумент» имеет лишь относительную политическую ценность, поскольку его содержание является не всеобщим убеждением, но только одной из точек зрения, которая может быть правильной и может иметь успех, но только при столкновении с другой точкой зрения и при наличии признаваемых всеми правил дискуссии, когда добрая воля спорщиков или решение уважаемого арбитра приведут их к согласию. Такие дискуссии в политике редкость. Здесь мы сталкиваемся не с одними лишь аргументами. Риторика — только часть политики. Действия же могут быть основаны на совершенно ложных, архаичных убеждениях — и при том быть вполне эффективными, особенно в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Если политик успешно действует, исходя из концепции суверенитета, которую мы предварительно рискнем назвать традиционной, или если действия политика успешно дискредитируются его противниками на основании такой концепции суверенитета, то и ближайший результат их действия имеют такой, как если бы прежние времена еще никуда не ушли. Видимость сохранения старого суверенитета имеет объективный характер: это не оптический обман, а сложное, слоистое устройство социальной жизни, в которой отжившее не исчезает в одночасье, но длит и длит свое существование, только с точки зрения просветителей утратившее актуальность. Утверждение об устаревании традиционных концепций суверенитета имеет, однако, несомненное достоинство в том отношении, что позволяет перенести рассмотрение вопроса в более продуктивную плоскость. Внимание! Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки.Узнать стоимость своей работы В самом деле, и критики уступчивого государства, и сторонники отказа от избыточного акцентирования его полномочий, в сущности, придерживаются сходных воззрений на характер происходящего. Они только оценивают его по-разному. Первые считают его признаком слабости российского государства, вторые — одной из примет современной эпохи, начавшейся уже сравнительно давно. Однако применительно к нашей нынешней ситуации их вердикты чуть ли не тождественны: по меркам традиционного понимания суверенитет России неполон. Надо или не надо его восполнять, чтобы приблизиться к стандартам суверенитета, — это уже вопрос другой. В русле таких описаний двигаться дальше просто некуда, потому что стандарты суверенитета, обоснованные применительно к реальностям совсем иного времени, сами по себе не пригодны не только для того, чтобы критиковать или защищать современную политику, но также и для того, чтобы объявлять совре менное стремление к суверенитету заведомо архаичным. Если с переменой эпох понятие не исчезает, то не стоит ли нам присмотреться к тому, что делает его попрежнему актуальным? Если времена переменились, но действия на основе представлений о суверенитете могут иметь успех, то не стоит ли нам присмотреться к тому, чем обусловлен он хотя бы в ближайшей перспективе? И во всяком случае, мы вправе задать простой вопрос: не может ли быть так, что даже самые радикальные изменения в существе современного суверенитета, если они вообще имеют место, все-таки означают не более чем его эволюцию, но отнюдь не отмирание? ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС ПЕРВЫЙ ЧАС РОЖДЕНИЯ СУВЕРЕННОГО ГОСУДАРСТВА пОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВА, говорил Карл Шмитт, конкретно и привязано к определенной эпохе. Она миновала, и то, что мы по привычке называем государством, походит на суверенные европейские державы времен разложения Священной Римской империи немногим больше, чем на греческий полис или цивитас латинян. Между тем, именно в эту эпоху зарождается и развивается понятие суверена и суверенитета. Это может показаться странным. В самом деле, мы привыкли к тому, что, начиная с описаний древности, большие державы, империи, царства, княжества и даже города именуются в исторических сочинениях государствами, и если эти государства не были покорены, если находились на вершине славы и могущества, то разве не был им свойствен тогда суверенитет? Ответ на этот вопрос весьма непрост. Говорим ли мы о полной независимости государства от других государств или же о способности его властителей принимать во внутренних делах любые решения, не ограниченные ничем, кроме собственного произвола? В первом случае нам пришлось бы забыть о всех международных договорах и соглашениях, практикуемых с давних пор. Во втором случае нам пришлось бы забыть о том, что произволу могут быть положены границы другими обладателями властных полномочий и действующими законами. Кроме того, помимо закона человеческого с древности признавался закон божественный, тот вечный закон, который нельзя преступить безнаказанно, хотя он и не всегда прописан в виде юридических формул. С самого начала здесь нужна полная ясность. Речь идет не о том, возможны ли были прежде, как возможны они и до сих пор, проявления безудержного самовластия вне и внутри могущественной державы. Речь идет о том, что устройство власти интерпретируется в обществе и представление о том, что даже и государю не все возможно, прочно укоренено в европейской истории, из которой мы и по сей день черпаем наши политические понятия. Если кто-то считает, будто в Средние века неограниченный произвол монарха подчинял себе «божественное право», то это ошибка, писал известный исследователь и критик суверенитета Бертран де Жувенель. Все как раз наоборот: верховная власть была разделена (ибо кроме короля была еще королевская курия, или совет — прототип позднейших парламентов), ограничена могуществом сеньоров и отнюдь не суверенна в делах законодательства. Слова апостола Павла о том, что нет власти не от Бога, трактовались в том смысле, что повиновение Богу (и церкви!) обязательно для властей. Такая трактовка неудивительна как раз потому, что средневековое мышление было пронизано принципом единства. Но речь шла о единстве всего человечества, которое выступало для мыслителей того времени как основанное Богом единое государство или империя, которое состоит, собственно, не из отдельных людей, но из меньших сообществ, сохраняющих относительную самостоятельность. Церковь и государство суть два порядка существования людей, которые не противоречат друг другу, но сочетаются в единстве устроенного Богом универсума. Правда, не так уж долог был век такого гармоничного воззрения на политическую жизнь. Одни исследователи полагают, что уже в самом начале XI века, когда папа Григорий VII объявил государство «делом дьявола и творением греха» (лишь церковь может освятить его!), был запущен тот процесс, который привел к разрушению всей конструкции: реакцией на попытки полностью подчинить государство церкви стала разработка концепции государства как сугубо светского учреждения. Другие авторы считают, что роковую роль сыграли попытки превратить империю в универсальное государство — независимо от того, предпринимались ли они папами или императорами Священной Римской империи. Главное здесь — коренное изменение картины мира, совершившееся в XIII—XIV веках: «Верхушка старого иерархического порядка, империя и церковь как мирская власть отступили на задний план и поблекли; определенные сообщества, стоявшие в иерархии союзов на более низкой, чем империя, ступени, уплотнились. Сверху, от империи, они притянули к себе совершенную власть и свободу политического действия и не признавали уже над собой никакого главы, никакой решающей инстанции. С другой же стороны, они впитали в себя сообщества, находившиеся ниже их, и уничтожили их собственную правовую жизнь; они присвоили себе исключительное право через войну или судебный приговор выносить решения о жизни и смерти людей». Вот что оказывается важным! Если в те времена, которые позже не очень справедливо окрестили «темными веками» средневековья, политическая мысль могла вдохновляться видением огромной империи, не просто охватывающей в перспективе все человечество, но и находящей свое место в устройстве мироздания, то попытки придать этой империи сугубо посюстороннее, мирское содержание или, наоборот, сугубо теологический смысл уже привели к существенным проблемам. Но эти проблемы обострились, когда наподобие империи стали трактовать заведомо ограниченные, не универсальные государства. Те полномочия, которые раньше могли приписываться только императору или папе, теперь обнаружились у королей («король является императором в пределах своих владений», гово рили юристы при дворах французского, испанского, английского королей), и этих полномочий оказалось слишком много, чтобы перед ними могла устоять самостоятельность многообразных сообществ и властей. Король становится сувереном, и подданный оказывается в конечном счете один на один с сувереном, без социального посредничества, поруки и защиты. Ибо суверен — это не просто человек. Это персонифицированное государство. Само слово «суверенитет» означает при этом не высшую власть среди множества существующих властей одного качества, хотя и разной силы. Суверенитет имеет характер экстраординарной, исключительной высшей власти. А первым, кто определил ее таким образом, является знаменитый французский юрист и богослов Жан Боден. ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС ВТОРОЙ ВОЛЯ МОНАРХА И ВОЛЯ НАРОДА в ТРАКТАТЕ «Шесть книг о государстве» (1576) Боден дал классическое, повсеместно цитируемое определение суверенитета как «абсолютной непрерывной власти государства». В начале XX века Карл Шмитт предложил следующую трактовку его рассуждений: «Он разъясняет свое понятие на множестве практических примеров и при этом все время возвращается к вопросу: насколько суверен связан законами и обязательствами перед сословными представителями? На этот последний особенно важный вопрос Боден отвечает, что обещания связывают, ибо обязывающая сила обещания покоится на естественном праве; однако, в случае крайней необходимости, обязательство, предписанное общими естественными принципами, прекращается. ...В определенном случае необходимо действовать вопреки таким обещаниям, изменять или совсем упразднять законы.». Поэтому для Бодена не был сувереном, например, римский диктатор, недолгое время обладавший абсолютной властью. При самых неограниченных полномочиях власть не суверенна, если не постоянна. Мы видим, что происходит: если в крайнем случае можно пренебречь велениями «естественного права» (формулы которого не только открываются здравому разуму каждого человека, но и вписаны уже в те времена в авторитетные своды законов и юридические толкования), то эта способность оборачивается для суверена специфической свободой по отношению к народу и его представителям. Откуда же берется эта свобода? Ведь одно дело — доказывать, подобно Бодену, что такова логика суверенитета, и совсем другое дело — обнаружить подлинный исток этой логики в самом устройстве политической жизни. Для нескольких последующих веков главным объяснением суверенитета стал общественный договор. Конечно, это отдельная и довольно трудная тема, но сказать несколько слов о ней мы все-таки должны. Долгое время распространено было такое представление: народ приглашает на правление государя и договаривается с ним. Понятно, в общем, что кого можно пригласить, того можно и прогнать, то есть расторгнуть договор. Конечно, для утверждения полновластия королей и новой трактовки суверенитета это было неприемлемо. Но если выводить нерушимость суверенной власти из «вечного закона» и «естественного права» становится все труднее, то на чем же еще может быть основана власть государя? Не традиционный, но вполне отвечающий духу новой европейской научности ответ на этот вопрос дает в середине XVII века Томас Гоббс, один из величайших политических мыслителей Запада. Никакого народа, заключающего договор с сувереном, нет до тех пор, говорит он, пока нет государства. Никакого государства нет, пока нет суверена. Никакие договоры не будут соблюдаться, пока нет гарантирующего их государства, то есть суверена. Никто не может гарантировать договор народа с сувереном, потому что единственным гарантом выступает он сам, и если его положение зависело бы от договора, то есть признания, то надежность таких гарантий была бы ничтожна. Это значит, что суверен хотя и обязан своим по м » 180 ? ^ ложением общественному договору, однако не является одной из сторон договора! Все выглядит совершенно иначе. В некотором гипотетическом, «естественном» состоянии, когда государства еще не было, у всех людей было равное право на самозащиту, так что, отстаивая свою жизнь или приобретения или даже из честолюбия, они должны были соперничать в борьбе за власть. «И причиной этого не всегда является надежда человека на более интенсивное наслаждение, чем уже достигнутое им, или невозможность для него удовлетвориться умеренной властью; такой причиной бывает и невозможность обеспечить ту власть и те средства к благополучной жизни, которыми человек обладает в данную минуту, без обретения большей власти». А поскольку их соперничество не могло быть урегулировано ни силой, ни авторитетом, естественным состоянием была война всех против всех. Но как можно добиться мира? Только через заключение договора. А что заставит соблюдать договор? Ведь если один из договорившихся нарушил договор, то он в более выгодном положении, чем тот, кто его соблюдал. Нужен страх гарантированного возмездия за нарушение договора. И потому необходим суверен, которому люди передают то, что они никак не могут доверить друг другу: право карать нарушение договора смертью. «Это больше, чем согласие или единодушие. Это реальное единство, воплощенное в одном лице посредством соглашения, заключенного каждым человеком с каждым другим таким образом, как если бы каждый человек сказал каждому другому человеку: я уполномочиваю этого человека или это собрание лиц и передаю ему мое право управлять собой при том условии, что ты таким же образом передашь ему твое право и будешь санкционировать все его действия». Это лицо или собрание лиц и есть суверен. Суверен - не только верховный властитель, но и верховный судья в вопросах веры и прочих суждений и мнений, могущих иметь значение для государства. Кажется, что суверен у Гоббса получился страшненький. Недаром, говоря о суверенном государстве в тоне осуждения, часто вспоминают название его знаменитого трактата «Левиафан». С Левиафаном была связана длительная и довольно скверная традиция мифологических трактовок, так что Гоббс, доказывал Карл Шмитт, серьезно промахнулся, избрав такое чудовище на роль наглядного символа. Но даже если и не придавать значения тому, как должны были мыслить себе Левиафана воспитанные в определенной духовной традиции европейцы, наше нынешнее впечатление от построений Гоббса может быть самым тяжелым. Нам, знакомым с историей позднейших авторитарных и тоталитарных режимов, легко представить себе суверена как стража абсолютной несвободы граждан. Ведь он может быть верховным властителем, только будучи верховным интерпретатором законов, верховным судьей и палачом, единственным, кто может карать смертной казнью. Граждане же не допускаются не только до публичного обсуждения суверена, но даже и до публичных дискуссий по неполитическим, духовным вопросам, если только это может навредить государству. Однако давно было замечено, что в намерения Гоббса вряд ли входило обоснование безграничного господства. Прежде всего полномочия суверена прекращаются за границами государства. Никакого государства государств нет, и суверены между собой находятся в естественном состоянии войны. Между прочим, это означает, что за границами государства кончается и безусловная лояльность гражданина: например, попав в плен на войне, он обязан быть верным тому, кто его пленил, Я не тому, кто послал его воевать. Во-вторых, внутри государства суверен все-таки интерпретирует естественный закон. Он отнюдь не свободен в выборе целей своего правления, потому что задача его — сохранение тела государства, где царят мир и благополучие. В-третьих, недостаток публичной свободы отчасти компенсируется свободой частной. Это в том, что каса ется мнений. Что же касается собственности, торговли, ремесел, то задача суверена в том и состоит, чтобы гарантировать надежность приобретений, сделанных путем «безопасным и безвредным для государства». Гоббс сам говорил, что основная задача его труда — показать взаимосвязь защиты и повиновения. Но подобно тому, как в Средние века не удалось в полной мере реализовать проект гармоничного сосуществования церковной и светской властей, так в новое время не удалось гармонизировать всевластие государства и надежность частного существования. Пожалуй, наиболее показательно здесь развитие идеи суверенитета в знаменитом сочинении Ж.Ж. Руссо «Об Общественном договоре». Руссо отказывается от идеи репрезентации — суверен един и не может быть никем представляем. А поскольку он образуется благодаря общественному договору, то суверенен именно народ, а не «лицо или собрание лиц». Суверен — это «политический организм», «коллективное существо», «условная личность». Он появляется в силу гипотетического «первого соглашения», благодаря которому народ конституируется как народ. С этого момента у народа и появляется неотчуждаемый суверенитет. Это значит, что, изъявив согласие безусловно повиноваться некоему правителю, т. е. отказавшись от суверенитета, он перестает быть народом. В свою очередь, власть политического организма, т. е. суверена, безгранична. «Подобно тому, как природа наделяет каждого человека неограниченной властью над всеми членами его тела, общественное соглашение дает политическому организму неограниченную власть над всеми его членами, и вот эта власть, направляемая общей волей, носит, как я сказал, имя суверенитета». Так что мы не вправе констатировать существование «политического организма», не добравшись до характеристик общей воли. Она «неизменно направлена прямо к одной цели и стремится всегда к пользе общества, но из этого не следует, что решения народа имеют всегда такое же верное направление. Люди всегда стремятся к своему благу, но не всегда видят, в чем оно». Общая воля, чтобы она была поистине таковой, «должна исходить ото всех, чтобы относиться ко всем» и не может устремляться «к какой-либо индивидуальной и строго ограниченной цели». Казалось бы, вмешательству политического организма в частные дела поставлен предел! Политический организм активирован общей волей, когда речь идет о политических, общих делах. Дела частные его касаться не должны. Но не так все просто. Индивидуальное благо каждого гражданина зависит от его представлений о достоинстве и свободе. Общественный организм образуется, по договору, посредством отчуждения части «силы, имущества и свободы» каждого человека, вступающего в соглашение. А сколько должно быть отчуждено и сколько ему оставлено, решает суверен, то есть общая воля. Суверен не может действовать против интересов общественного организма. Но не заблуждается ли суверен, не ошибается ли общая воля? Чтобы выяснить это, гражданин мог бы применить универсальный критерий «достоинства и свободы». Но что он должен понимать под этим? Свою естественную свободу он потерял, вступая в общество. Приобрел же он свободу политическую. Это значит, что он может сам не понимать своего счастья, и в таком случае задача суверена — «силой принудить его быть свободным». Вот здесь уже никаких сомнений быть не может. Суверен не просто всевластен в самых главных вопросах человеческого существования, поскольку оно детерминируется политическим организмом, он принуждает человека извне и изнутри, он проникает в глубины его сознания и воли, заставляет его смотреть на себя как бы со стороны — стороны суверенного общества. «Чистая воля как таковая, которая для самой себя есть цель своего исполнения, является истинным сувереном, — пишет замечательный немецкий историк Райнхарт Ко- зеллек. — Результатом является тотальное государство. Оно покоится на фиктивном тождестве гражданской морали и суверенного решения. Всякое выражение воли совокупности есть всеобщий закон, ибо она может желать лишь свою собст венную тотальность... Абсолютная общая воля, которая не знает никаких исключений, сама есть сплошь исключение. Тем самым суверенитет у Руссо разоблачается как перманентная диктатура. Он равноизначален с перманентной революцией, в которую превратилось его государство». Мы видим, к чему приводит последовательно развиваемая идея суверенитета: если уж ограничений нет, то нет их ни в чем. Тотальность политического невозможно смягчить или замаскировать. Но мало этого. Ее невозможно персонифицировать! Конечно, решения принимают конкретные люди, и сам Руссо, между прочим, возлагает большие надежды на аристократическое правление, «когда мудрейшие правят большинством». И все- таки даже в самой абстрактной теории нельзя не заметить разницу между личностью, которой можно вменить ответственность, и безличной, в существе своем незримой общей волей, на которую с большим или меньшим успехом ссылаются в своей политической деятельности самые разные интерпретаторы. Сочетание совершенного полновластия и столь же совершенной невменяемости общей воли делает проект Руссо одним из самых страшных в истории понятия суверенитета. Французская революция, последовавшая через несколько десятилетий после публикации трудов Руссо, с ее «Декларацией прав человека и гражданина», с ее формулами народного суверенитета, вписанными в несколько конституций, с ее попытками учредить новую, гражданскую религию (необходимость которой также обосновывал Руссо) и, конечно, с ее перманентностью и террором служит хорошей иллюстрацией этого вердикта. ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС ТРЕТИИ ВЕСТФАЛЬСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ зАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ТЕОРЕТИКИ суверенитета внутреннего мало что сказали о суверенитете внешнем, о взаимоотношениях между государствами. Очевидно, конечно, что с развитием идеи полновластия должны были уходить на задний план те классические формулы права народов (ius gentium), которые изначально, еще во времена кодификации римского права означали не более чем конкретизацию применительно к жизни человеческих сообществ естественного права, значимого для всех живых существ. Имперская регуляция, как мы видели, ослабевала, и после Тридцатилетней войны так называемый Вестфальский мир 1648 г. юридически закрепил независимость от империи ряда европейских стран. Несмотря на то что и поныне именование сложившейся системы суверенных государств Вестфальской является чуть ли не общим местом как в научной литературе, так и в публицистике, полезно все- таки иметь в виду, что к договорам 1648 г. ни политическая, ни юридическая реальность современного мира не имеет почти никакого отношения. исылки юристов на традицию, насчитывающую «три с половиной века», хороши только в качестве риторической фигуры. В самом деле, Вестфальский мирный договор — это (не считая массы сопутствующих документов Вестфальского мирного конгресса 1643—1649 гг.) не один, а два договора, «Гснабрюкский» и «Бюнстерский», заключенные между Священной Римской империей и королевствами Францией и Швецией. По этим договорам двум крупнейшим в тот момент европейским силам отходили земли, которые им далеко не всегда удавалось удерживать впоследствии, будь то Померания или остров Рюген для Швеции, или многострадальный французский Эльзас. По этим же договорам появлялся (дополнительно к семи, бывшим до тех пор) еще один, восьмой выборщик императора, получали существенные права многочисленные князья, герцоги, архиепископы — владетели политических единиц, названия которых давнымдавно ничего не говорят современному человеку. Никакой Вестфальской системы, о которой мы могли бы разумным образом рассуждать в современном мире, эти договоры, конечно, не создали. Однако риторическая фигура Вестфальской системы возникла, конечно, не на пустом месте. Прежде всего, впервые пол ш > 186 ? ш нота власти (именно так и называется «суверенитет» в латинском оригинале договора) на определенной, внятно обозначенной территории была определена и гарантирована международными соглашениями, с использованием юридических аргументов и терминов. Во-вторых, эта полнота власти определялась не для одного государства, но именно применительно к ряду государств, упомянутых в договоре (помимо империи, королевств и епископств, здесь говорится о status, входящих в империю разнокалиберных политических образованиях, преимущественно немецких княжествах). Наконец, в-третьих, Вестфальские договоры подтвердили права протестантов так называемого Аугсбургского вероисповедания. С одной стороны, подтверждалось действие знаменитого Аугсбургского религиозного мира, широко известного формулой «cujus regio illius religio» — «чья власть, того и вера». С другой стороны, прописывались права протестантского духовенства и верующих. Политическое единство империи окончательно уходило вместе с единством веры, на страже которой стоял не только папа, но и император. Однако намного важнее другое: в конструкцию Вестфальского суверенитета заложен территориальный принцип. Чтобы в будущем избежать политических столкновений, договор, официально названный «орудием мира» (instrumentum pacis), фиксировал право на неограниченное осуществление всех прерогатив, прав, свобод и привилегий за главами основных территориальных образований империи. Суверенитет - это территориальный суверенитет. Территории - это данные уже существующие территории, которые удостоверены прежде всего именно этой своей фактичностью, а не какими-то иными правовыми уложениями. Конечно, в такую конструкцию заложено напряжение, и о нем следует помнить всякий раз, говоря о Вестфальской системе. Ведь территории, о которых идет речь, возникли внутри империи. Договор, которым подтверждаются права глав этих территорий, — это договор империи с крупнейшими королевствами. Права глав территорий, гарантированные договором, — это суверенные права прежде всего немецких князей и только во вторую очередь — вольных имперских городов, но отнюдь не права народов. Именно поэтому современную систему могут именовать Вестфальской — не на основании содержания договоров, но на основании принципа, пережившего все последующие мирные конгрессы и конференции и установленные ими регуляции. Этот принцип состоит, грубо говоря, в том, чтобы придать фактическому положению дел значение, далеко выходящее за пределы фактичности. Если есть политические образования с фиксированной территорией, то полномочия властей на этих территориях являются исключительными в буквальном смысле слова, то есть не чрезвычайными, не абсолютными (хотя и это возможно), но именно исключающими любые действия извне. Поэтому такой суверенитет нельзя отождествлять ни с международным признанием, ни с внутренним суверенитетом, то есть полновластием правителей на территории государства. «Легальный международный суверенитет и Вестфальский суверенитет предполагают вопросы власти и легитимности, но не вопрос контроля, — пишет современный исследователь Стивен Краснер. — .Правило легального международного суверенитета состоит в том, что признание распространяется на территориальные единицы, имеющие формальную юридическую независимость. Правило Вестфальского суверенитета состоит в исключении на территории государства, будь то de facto или de jure, [действия] внешних акторов. Внутренний суверенитет предполагает как власть, так и контроль, как спецификацию легитимной власти в рамках политического строя, так и масштабы возможного эффективного исполнения этой власти». Но тогда дело оказывается совсем не простым! Одно только утверждение, что государство является суверенным, не означает, что его «суверен» (будь то государь или народ) пользует ш > 188 ? ш ся международным признанием. Международное признание не означает полновластия на данной территории. Фактическое допущение независимости не означает международного признания этой независимости в качестве законной, а легальный статус суверенного государства сам по себе не является гарантией от интервенции или иных форм вмешательства. Говоря о суверенитете, об угрозе суверенитету и о его сохранении, мы должны более точно определять, какого рода суверенитет мы имеем в виду. Ведь нам приходится иметь дело не столько с обоснованиями, сколько с последствиями определенного рода решений. Стивен Краснер предлагает в этой связи, вслед за Дж. Марчем и Дж. Олсеном, проводить различие между «логикой последствий» и «логикой уместности». В первом случае действия совершаются исходя из желания достигнуть определенных результатов. Во втором случае — исходя из того, какие нормы и правила регулируют поведение. По отношению к суверенитету это выглядит следующим образом. Конечно, нормы и правила, касающиеся межгосударственных отношений, существуют. Отрицать их значение было бы неправильно. И все- таки, если присмотреться более внимательно, обнаружится система организованного лицемерия: когда речь идет о том, чтобы достигнуть некоторого желаемого результата, руководители государств отбрасывают «логику уместности» и руководствуются «логикой последствий». «Правители, не государства — и не международная система! — совершают выбор относительно политики, правил и институтов. Уважается ли международный легальный суверенитет и суверенитет Вестфальский, зависит от того, какие решения принимают правители. Нет никакой иерархической структуры, чтобы удержать их от нарушения логики уместности, которая связана со взаимным признанием или исключением внешнего авторитета. Правители могут признавать или не признавать другое государство. Они могут признавать или не признавать образования, не имеющие юридической независимости или территории. Они могут вмешиваться во внутренние дела других государств или пойти на компромиссы в своей собственной политике». Если мы будем рассматривать эти слова не просто как описание положения дел, но как проблему, важную для тех, кто обеспокоен суверенностью своего государства, отсюда может следовать ряд важных выводов. Во-первых, поскольку признание политической системы суверенной de jure и признание территориально-политического образования суверенным de facto не обязательно совпадают, в прагматике политического действия всегда полезно иметь в виду последствия. Возможно, что фактическое положение дел будет легализовано (как это нередко случается с поначалу не признаваемыми государствами). Но возможно, что оно так и не будет легализовано, и когда столкнутся два принципа, легальность перевесит фактичность или послужит удостоверению новой фактичности. Нет и не может быть общего принципа, позволяющего автоматически делать ставку на фактическое положение дел или на его юридическое оформление. Во-вторых, апелляция к Вестфальской системе в настоящее время является приемлемым, действенным, но недостаточным аргументом в политическом дискурсе. Повторим еще раз: отсылка к голой фактичности территориального устройства, даже если она закреплена в договорах и освящена традицией, является слабым тезисом по сравнению с аргументами от права, справедливости, общественного мнения и воли народа. И нет никаких способов принудить нарушителей принципов Вестфальского суверенитета к следованию им в тех случаях, когда реализация интересов сопровождается ссылками на принципы, в наше время более широко принятые и более убедительно обоснованные. В-третьих, именно эта слабость внешних гарантий заста вляет присмотреться к ресурсам внутреннего суверенитета. Невмешательство внешних сил во внутренние дела может не быть связано со способностью власти реализовать все возможности контроля и управления на данной территории. Но вмешательство может внести свой вклад в ослабление или (как реакция) усиление внутреннего суверенитета. В свою очередь, международное признание может относиться к правительствам без контролируемой ими территории (например, польское правительство в изгнании в период Второй мировой войны); в признании может быть отказано тем, кто реально контролирует некую территорию (например, ряд государств на территории бывшего СССР); легальное представительство в международных организациях можно получить безотносительно к Вестфальскому суверенитету и потенциалу внутреннего контроля (например, представительство Белоруссии и Украины в ООН в период существования СССР). Все это может далее иметь позитивные или негативные следствия для установления более или менее эффективного внутреннего контроля. Внутренний контроль может быть эффективным политически (не только недопущение внешних политических инстанций к управлению, но и подавление оппозиции правителям), но неэффективным экономически: например, как часто пишут, малые страны вряд ли могут отстоять самостоятельность своего валютного регулирования или независимость от внешних рынков жизненно важных для них товаров. Тем более важно выяснить, чем в этом случае может быть внутренний суверенитет. Если контроль недостаточен или все больше ослабевает, если единства внутри страны нет или начинаются процессы дезинтеграции, если все больше и больше областей социальной жизни (будь то экономика, наука или средства информации) находятся в куда более тесной связи с такими же областями за пределами государственных границ, чем с иными областями внутри государства, тогда открываются возможности внешнего влияния, перехо дящего во вмешательство, а затем могущего привести к изменению территориального и/или легального статуса страны. Возможное, конечно, не всегда реализуется. А потенциал политического правления, представляющего собой единство, как показал уже Гоббс, основан на особой связи насилия и признания. В начале XX века Макс Вебер ввел понятие легитимного насилия. Рассуждение его можно свести к нескольким простым шагам: 1) если хотя бы два человека действуют с учетом поведения друг друга, то они могут быть либо в согласии, либо в борьбе; 2) согласие может быть просто солидарностью, но может означать готовность одного из них подчиниться другому; 3) тот, кто может навязать свою волю, обладает властью; 4) власть — это шанс навязать свою волю; 5) господство — это шанс не просто навязать волю, но заставить выполнять определенные приказы; 6) власть и господство называются шансами, потому что всегда возможно сопротивление; 7) шансы господства существенно повышаются, если оно считается легитимным, то есть признается таковым именно теми, над кем властвуют, а не просто обосновывается придворными юристами. Вот это признание господства законным, оправданным и позволяет говорить о легитимном насилии как особом средстве. В наши дни это средство, говорит Макс Вебер, монополизировало государство. На определенной территории именно оно располагает исключительным правом на легитимное насилие. Это значит, что, хотя власть и даже господство могут встречаться в самых разных социальных отношениях, положение государства — совершенно особенное. Однако эту мысль требовалось додумать до конца, чтобы соединить юридическое и социологическое понимание суверенитета, доказать, что совершенное полновластие имеет не только наибольший эффект, но и наивысшую юридическую силу. Эту задачу попытался решить Карл Щмитт. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И БЕЗЛИЧНАЯ ВЛАСТЬ Ж^УВЕРЕНЕН, — говорит Шмитт, — тот, кто принимает ^ х.>решение о чрезвычайном положении». Это можно понимать очень просто: есть прописанные в конституции полномочия; кто ими наделен, тот и суверен. Но Шмитт видит (в 20-е годы XX века!) «современные тенденции»: речь идет об «устранении» суверена как юридического понятия. В самом деле, если точно определить его полномочия в законах, к чему стремится либеральная наука о праве, суверен будет ограничен в своем решении. Между тем, подлинный суверен, по Шмитту, сам решает, наступили экстраординарные обстоятельства или нет; устранен повод к введению чрезвычайного положения или нет. Дело не только в регуляциях политической и правовой жизни в данном государстве в данное время. Дело именно в принципе. А принцип состоит в том, чтобы искать истину в крайностях. «Исключение интереснее нормального случая. Нормальное не доказывает ничего, исключение доказывает все; оно только подтверждает правило, само правило существует только благодаря исключению». Когда мы судим о рутине повседневной жизни, правильно понять существо дела можно, обращая внимание не на то, что повторяется (не на регулярности, не статистически фиксируемые закономерности), но на то, что может произойти редко. «Здесь весьма уместно слово «суверенитет», равно как и слово «единство». Оба они отнюдь не означают, что каждая частность существования каждого человека, принадлежащего к некоторому политическому единству, должна была бы определяться, исходя из политического, и подчиняться его командам, или же что некая централистская система должна была бы уничтожить всякую иную организацию или корпорацию. Может быть так, что хозяйственные соображения окажутся сильнее всего, что желает правительство якобы хозяйственно нейтрального государства; в религиозных убеждениях власть якобы конфессионально нейтрального государства равным образом легко обнаруживает свои пределы. Речь же всегда идет о случае кон фликта». В ситуации конфликта все очевидно: если государству удается реализовать свои притязания, то оно и есть то самое политическое единство, суверенитет которого подтвержден на деле. «Если противодействующие хозяйственные, культурные или религиозные силы столь могущественны, что они принимают решение о серьезном обороте дел, исходя из своих специфических критериев, то именно здесь они и стали новой субстанцией политического единства». А если, например, государство предполагает объявить войну, но силы, ему противодействующие, достаточно могущественны, чтобы ее предотвратить, но недостаточно — чтобы ее по своему разумению и критериям объявлять, то это свидетельствует лишь о том, что никакого политического единства больше нет. Говоря о политическом единстве, Шмитт настаивает на его личной репрезентации: решения принимает некое лицо, и это имеет юридическое значение, далеко выходящее за рамки просто фактического положения дел. «Для реальности правовой жизни важно то, кто решает. Наряду с вопросом о содержательной правильности стоит вопрос о компетенции». Иначе говоря, фактическая способность принять решение означает не только мощь насилия, но и наличие правовых последствий этого насилия. Не просто противоборство, но противоборство с правовыми последствиями. Не просто чрезвычайное положение, но чрезвычайное положение как правовой акт (а не голое насилие), которым отменяются нормы обычного времени. И эта способность персонифицирована, потому что решение принимает не безличное коллективное «мы», но конкретный человек, воплощающий суверенитет политического единства. Суверенное единство вовсе не означает ни всесилия государства или главы государства, ни тоталитарного подавления всех институтов и ассоциаций его граждан, имеющих также иные, совсем не политические интересы и склонности. Дело в другом. Сквозь рутину повседневности просвечивает, иногда лишь едва-едва, возможность исключительных случаев и крайних мер. В этом все дело! Пусть экономика идет своим чередом. Пусть религиозная жизнь не знает оглядки на государство. Пусть наука и мораль утверждают себя как автономные сферы. Все это не угрожает внутреннему суверенитету, пока возможным остается экстраординарное событие власти: поскольку власть есть способность самого крайнего насилия и поскольку она признается как таковая, можно говорить о политическом единстве, у которого есть власть. Фактически применяемое насилие, фактически вводимое чрезвычайное положение только делают видимыми обычно скрытую в повседневной рутине базовую рамку или, как принято говорить в современной социологии, фрейм власти. Это единство может быть не признано внешними силами, но говорить о том, что его вообще нет, можно не ранее, чем оно потеряет способность радикального суверенного решения относительно того, кто друг, а кто враг, с кем война, объявляется ли чрезвычайное положение и т. п. Но действительно ли Шмитт дает нам универсальный критерий суверенитета? Этот вопрос осложняется тем обстоятельством, что решение персонифицировано. Оно предполагает наличие причинно-следственных связей «решение — действие — результат». Насколько осмысленным является утверждение о существовании таких связей в наши дни? Уже много позже, в середине XX века, Шмитт написал «Диалоги о власти и о доступе к обладателю власти». Здесь речь идет о сложных взаимосвязях современной техники, которую создал человек, но которую он уже не может всецело контролировать. И эта техника «превосходит отношения защиты и повиновения. Еще в большей степени, чем техника, власть человека над человеком ушла из его рук». Действительность власти превышает действительность человека. Я не говорю, продолжает он, что власть человека над человеком хороша. Я не говорю, что она зла. Я только говорю, что власть сильнее, чем всякая воля к власти. Иначе говоря, какой бы властный акт мы ни исследовали, трудно быть уверенным в том, что источником его является исключительно то самое суверенное решение, которое принимает персонифицирующий политическое единство властитель. Есть человек, который может навязать свою волю другому человеку. Мы говорим, что у него есть власть. Но как быть в тех случаях, когда этот властитель засыпает? Или когда у него ослабевает память? Или в тех случаях, когда он заболевает? Или в тех случаях, когда речь идет о передаче властных полномочий от одного властителя другому? Или когда слишком много информации? Что тогда происходит? Конечно, доступ к обладателю власти важен; значит, кто имеет право доклада суверену, тот имеет власть. Но об этих проблемах знали еще много веков назад. Шмитт идет еще дальше. Человек, говорит он, нажавший некую кнопку, вызывает тем самым действия некоторого количества сил, просчитать которые он не может. То, что по старинке наблюдается как суверенное решение, в реальности имеет характер лишь одного видимого события в огромной невидимой взаимосвязи. Но если сомнительно суверенное решение, то не сомнителен ли любой видимый суверенитет? И не следует ли все-таки согласиться с теми, кто утверждает, что в наши дни это понятие устарело? СУВЕРЕНИТЕТ КАК ФОРМУЛА ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ в СВЯЗИ С ПРОБЛЕМОЙ суверенитета в последнее время часто вспоминают слова Д. Белла, сказанные почти двадцать лет назад: «В наши дни национальное государство слишком мало для больших проблем и слишком велико для маленьких». Действительно, политическим инстанциям чуть ли не любого государства сейчас не хватает мощности, чтобы реализовать сугубо суверенное решение. «Глобальные потоки финансов, медийных образов, рисков, образцов потребления, народонаселения и власти лишают устойчивости традиционное понятие национальных пространственных границ». В то же время эти мощности избыточны для решения проблем куда меньшей значимости, что и вызывает претензии таких критиков суверенитета, как уже цитированный нами выше Б. де Жувенель. Сомнения в продуктивности суверенитета могут усилиться, если под определенным углом зрения рассматривать историю суверенитета, фрагменты которой мы представили в этой статье. Мы видели, как внутренний суверенитет стал отождествляться с полнотой внутреннего контроля и внешней независимости, немыслимых в современном мире; мы видели, что уже Карл Шмитт, предложивший одну из самых радикальных версий суверенитета, не усматривал в нем возможностей столь совершенного контроля; мы видели, наконец, что можно говорить о многообразии суверенитетов, так что полнота контроля теперь не сопрягается с полнотой независимости. Не должны ли мы предположить, что самая идея суверенитета, как внутреннего, так и внешнего (в любом из указанных смыслов), — это некий проект, когда-то привлекательный, а в наши дни полностью исчерпавший свой потенциал? Судя по всему, дело все-таки не так просто. История учит нас, что фактическая неполнота суверенитета не является чем-то абсолютно новым. На суверенитет могли возлагаться большие или меньшие надежды, он мог быть реализован в большей или меньшей мере, во всех или только в некоторых аспектах. Но всякий раз это был процесс, движение, а не столкновение грубой реальности с логическими принципами и, как следствие, полное развенчание последних. Если воспользоваться одним старым философским различением, можно сказать, что суверенитет — принцип не конститутивный, а регулятивный. Апелляция к суверенитету означает не описание того, что есть, но некий необходимый модус совершения действий в определенных областях политики. В чем же состоит его необходимость? Прежде всего, невозможность суверенного контроля над всеми областями индивидуальной и социальной жизни не означает тотального невмешательства государства. Современная экономика устроена таким образом, что такое вмешательство не просто возможно, но и требуется самим характером «свободного рынка». И. Уоллерстайн указывает на несколько аспектов такого вмешательства государства: 1) ограничения импорта/экспорта, разного рода квоты и прочее того же рода, к выгоде одних предпринимателей и невыгоде других; 2) вложения в инфраструктуру, которая необходима для бизнеса, но стоит слишком дорого для каждого предпринимателя по отдельности; 3) расходы на возмещение причиненного предприятиями убытка, например, окружающей среде, которые также могут быть чрезмерно высоки; 4) создание монополистических преимуществ, хотя бы на некоторое время, для местных предпринимателей; 5) покровительство предпринимателям из других стран, которые стараются избежать контроля со стороны своих государств; 6) собственная экономическая активность государств на рынке в качестве покупателей или производите- леймонополистов. Вероятно, перечисление возможных операций такого рода тем самым еще не исчерпано. Очевидно, что одни из этих действий возможны благодаря внутреннему суверенитету, а другие — благодаря существованию межгосударственной системы взаимного признания в той или иной форме. Проблема состоит, однако, в том, что для совершения этих действий нужны институты государства, потенциал которых в меньшей степени связан с выполнением указанных функций, чем с признанием и поддержкой политической власти. В свою очередь, признание и поддержка связаны не с декларациями о суверенности государства, а с его реальным участием в тех областях повседневной жизни граждан, которые так или иначе предполагают политическое вмешательство. В этом, как известно, состоит один из основных парадоксов глобализации. Капитал перетекает в те места, где ему предвидится наиболь шая выгода, но создавая условия для получения выгоды, он в куда меньшей степени озабочен принятием на себя пролонгированных социальных обязательств, чем политические институты. Капитал приходит, капитал действует, капитал уходит, а возникающие или постоянные проблемы так и остаются проблемами местными, решение которых вменяется суверенной власти. Действия политических чиновников могут быть обусловлены разного рода обстоятельствами (от обязательств по международным договорам до коррупции), которые лежат вне сферы внутреннего суверенного контроля, но само пребывание их в должности обусловлено эффективностью такого контроля и потенциалом внутреннего признания. Поэтому как признание суверенитета, так и отрицание его являются не просто риторическими фигурами. Речь идет о формулах политической коммуникации, которые предполагают, что консолидация политических агентов (будь то граждане, официальные институты или репрезентанты самоорганизации, или иные значимые фигуры политики) предполагает и консолидацию суверенитета. Это значит, что для любого реально консолидированного как политическое или политически релевантное единство «мы», в конечном счете, безразлично, кто является подлинным источником решения и можно ли в определенных обстоятельствах вообще говорить о решении (а не безличной власти обстоятельств и событий). Если есть «мы», если есть внятная иерархия полномочий, то признание прав тех, кто находится на вершине иерархии, обусловлено их способностью (реальной или хотя бы демонстративной) принятия решений, вмешательства в рутинное течение событий. Вся проблема современного суверенитета состоит совсем не в том, есть ли такие консолидированные единства, функционируют ли такие иерархии и достаточно ли они эффективны. Дело в другом. Пределы возможностей и реальные источники легитимности суверенной власти могут не только не совпадать с границами признанных государств, но и прямо противоречить им. Нормальное функционирование внутреннего контроля, в немалой степени зависящее от внутренней поддержки и базиса легитимности, в реальности все чаще бывает поставлено под сомнение либо с одной, либо с другой стороны. Прагматика политического действия требует отчетливого понимания этих обстоятельств, куда более продуктивного, хотя и не гарантирующего успех, чем бесконечное повторение некогда живых, а ныне совершенно выхолощенных формул суверенитета.