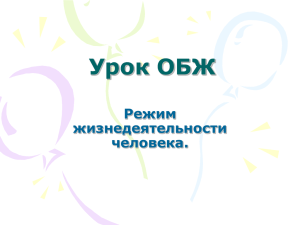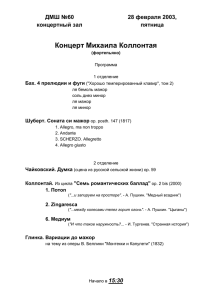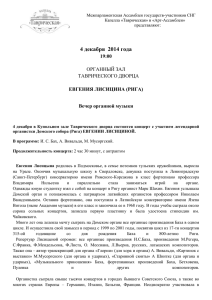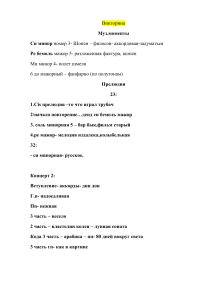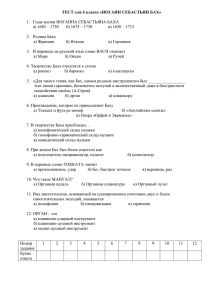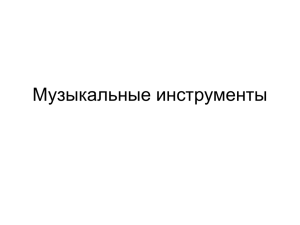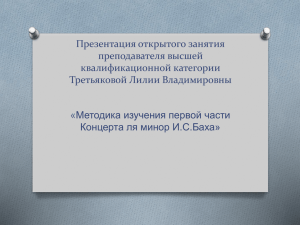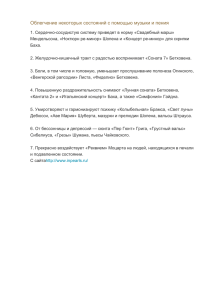Л Е Н И Н Г Р А Д С К А Я
О Р Д Е Н А
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я
имени
Н. А.
Л Е Н И Н А
К О Н С Е Р В А Т О Р И Я
Р И М С К О Г О - К О Р С А К О В А
mm.
^ а ш ш т т ш ,
И З Д А Т Е Л Ь С Т В О
Москва
1965
« М У З Ы К А »
Ленинград
Под редакцией
Л. А. БАРЕНБОИМА
и К, И. ЮЖАК
Авторы статей предлагаемого вниманию читателей сборника
;не ставили и не могли ставить своей целью рассмотреть вопросы
исполнения фортепианной музыки, написанной Бахом, Бетховеном, Дебюсси, Рахманиновым, Прокофьевым и Шостаковичем,
всесторонне и с достаточной полнотой. Их задача была значительно более скромной: осветить лишь небольшую часть или
одну сторону той или иной сложной проблемы. В своих статьях
они шли разными путями: одни обратились к анализу исполнительских указаний композиторов, другие т к исследованию авторских
исполнительских
трактовок, третьи — к
изучению
эстетических принципов Крупнейших отечественных и з а р у б е ж ных пианистов, сказавшихся в интерпретации ими сочинений
названных композиторов.
Но вместе с тем всех авторов объединяет общий подход
к явлениям музыкально-исполнительского искусства, который
может быть коротко изложен следующим образом:
1) исполнитель обязан самым тщательным образом изучить
объективное содержание музыкального произведения, но раскрыть это содержание он сможет только в своем индивидуальном варианте; богатство музыки— в многообразии исполнительских трактовок;
2 ) подлинно действенное исполнение как бы вбирает в себя
два момента: время, которое отражено в музыкальном произведении, и время, в котором живет интерпретатор; каждая эпоха
раскрывает великие' прЪизвё&ения искусства несколько по-иному,
поэтому с течением времени одна трактовка музыкального произведения нередко сменяется другой.
Сборник открывается статьей аспиранта Ленинградской и
преподавателя Латвийской консерватории В. Крастиня, посвященной интерпретации клавирной музыки Баха. В первой части
статьи автор останавливается на искусстве нескольких выдающихся пианистов X X века и обрисовывает различие их трактовок баховских произведений; затем — в о второй части статьи —
1*
3
используя свои характеристики, высказывает ряд соображений
о роли звучности, динамики, артикуляции, агогики и выбора
темпа в интерпретации музыки великого
немецкого полифониста.
По-иному построена статья преподавателя Ленинградской
консерватории А . Аронова, освещающая вопросы исполнения
фортепианной музыки Бетховена. В первой ее части автор охарактеризовал особенности динамических указаний Бетховена и
сделал попытки их истолковать, обратив внимание на их выразительное значение и, в частности,— на роль динамики как драматургического средства в построении сонатного цикла. Тема
второй части статьи А р о н о в а — артикуляция в фортепианных
сонатах Бетховена. Опираясь на общие -положения артикуляционной теории, созданной И. А . БрауДо, автор хвтел найти ответы на вопросы о том, что нового внесли фортепианные сочинения Бетховена в искусство произнесения мелодии и какие выводы должен отсюда сделать исполнитель. А р о н о в не ставил
своей задачей исчерпывающе ответить на эти вопросы. Н о отдельные его наблюдения над особенностями мотивного строения,
артикуляции Бетховена заинтересуют, вероятно, исполнителя и
педагога.
Г, Хаймовский, бывший аспирант Ленинградской, а ныне
и. о. доцента Горьковской консерватории, сосредоточился на
изучении музыки Дебюсси. А в т о р статьи привлек внимание
к той роли, которую играют метро-ритмические, темповые и агогические моменты в сочинениях французского композитора.
Н а конкретных примерах Хаймовский анализирует характерные
особенности темповых и агогических обозначений в фортепианных пьесах Дебюсси.
Статья преподавателя Ленинградской консерватории Н . Растопчиной посвящена интерпретации концертов Рахманинова.
Исследуя трактовку концертов самим Рахманиновым и их исполнение выдающимися советскими артистами, автор стремился показать различные пути, по которым идут пианисты, раскрывая
объективную сущность рахманинов-ской музыки.
Кандидат искусствоведения преподаватель Ленинградской
консерватории Л. Гаккель поставил своей целью обрисовать
историю исполнения фортепианных сочинений Прокофьева на
советской концертной эстраде. А в т о р прослеживает эту историю
с 20-х годов и до наших дней. П о ходу изложения подробно
анализируется истолкование отдельных прокофьевских произведений некоторыми советскими пианистами.
Статья И. Рубаненко (воспитанника фортепианного, а ныне
студента теоретико-композиторского факультета Ленинградской
консерватории)—фрагмент его большого очерка, посвященного
исполнению прелюдий и фуг Шостаковича разными советскими
пианистами. В публикуемой статье рассматривается один, заслу4
живающий особого внимания, вопрос: интерпретация прелюдий
и фуг самим композитором.
Почти все авторы статей опирались в своих работах на дисковые или магнитофонные записи игры пианистов. Конечно,
никакие записи — даже самые совершенные — не могут дать всех
красок жизни музыкального произведения в исполнительской
практике, не могут представить всех изгибов его эстрадной
судьбы, но взамен они дают ценнейшее — возможность детального анализа. М о ж н о ли пренебречь этим? Собственно говоря,
запись — единственный источник, дающий возможность исследователю во всех деталях проанализировать игру артиста и тщательно проверить свои наблюдения. Прослушивание в концерте,
чаще всего однократное, обычно позволяет обрисовать лишь
общий характер игры артиста и, в лучшем случае, отметить н е к о т о р ы е подробности исполнения. Изучение искусства пианистов прошлых лет, не зафиксированного ни на пластинках, ни
на магнитофонной ленте, приходится основывать лишь на субъективных отражениях его в различных литературных источниках.
А в т о р ы статей, обратившиеся к звукозаписям, столкнулись
с неожиданной, но непреодолимой трудностью: интереснейшие
интерпретации ряда известных советских пианистов — главным
образом ленинградцев — оказались незаписанными. М о ж н о отметить, что почти нет записей произведений Баха в исполнении
М . Юдиной, концертов Рахманинова в интерпретации П. Серебрякова и М . Хальфина, пьес Дебюсси и Прокофьева, сыгранных
В. Нильсеном и Н . Перельманом, и т. д. Ряд видных ленинградских исполнителей выпал из поля внимания авторов только потому, что отсутствовали звукозаписи их игры. Нельзя "не высказать сожаления по этому поводу и не посетовать на то, что
игра ленинградских пианистов записывалась и записывается
крайне редко.
Все статьи сборника написаны молодыми исследователями
пианистического искусства; некоторые из них впервые выступают в печати. Это определило характер редакторской работы автора настоящих строк, который выступает в данном
случае и в качестве научного руководителя. В основу работы
с коллективом молодых авторов был положен следующий принцип: при общих исходных методологических положениях, каждому автору предоставлялась возможность идти своим путем,
высказывать свою точку зрения, защищать свои оценки и выводы. Порой редактор рассуждал так: сам он кое-что сделал бы
по-иному — в одном случае, скажем, изменил бы композицию
статьи, в другом — по-иному охарактеризовал или оценил бы
игру того или иного пианиста, в третьем — сделал бы другие
выводы из наблюдений и т. п.; но имеет право на существование, на публикацию и, следовательно, на широкое обсуждение
и иная точка зрения, иной ракурс исследования, иная оценка
5
интерпретации того или другого артиста. Другими словами, редактор хотел, чтобы в статьях сохранилось индивидуальное лицо
каждого из молодых авторов. Вот почему он отказался от редакторско-педагогического рубанка, после обстругивания которым научные статьи молодых людей нередко становятся «безошибочными», но походят друг на друга как две капли воды.
З а ряд ценных советов авторы статей и редакторы благодарят всех тех, кто принимал участие в обсуждении сборника.
Л.
Баренбойм
В.
Крастинь
ОБ И С П О Л Н Е Н И И
КЛАВИРНОИ МУЗЫКИ Б А Х А
НА
ФОРТЕПИАНО
. . .Многолетнее общение с музыкой
Баха воспитывает и облагораживает ум
и душу.. . Его творение всякий раз выражает нечто иное: сегодня оно страстно
захватывает все твое существо, а назавтра ты можешь рассуждать о нем вполне
разумно; ты ищешь в нем красок,— оно
обладает ими, стремишься к чистым, архитектоническим формам,— ты находишь
их. И, изумленный, ты задумываешься над
загадкой этих творений, в которых сконцентрировано такое многообразие и которые столь многолики.
Эдвин
Фишер
Ц
ель этой статьи — показать, как многогранность
клавирной музыки Баха сказывается на истолковании его произведений разными пианистами, и привлечь
при этом внимание к некоторым частным вопросам исполнения
его клавирных сочинений — к вопросам звучания, артикуляции,
темпа, агогики и динамики.
Для того чтобы сопоставить различные принципы интерпретации баховской музыки, автор обратился к искусству четырех
пианистов X X века разных поколений, разных стран и разных
масштабов — к искусству Ф . Бузони, Э. Фишера, С. Фейнберга
и Г. Гульда. Остановиться на искусстве Ферруччо Бузони, деятельность которого началась еще в конце X I X века, казалось
нам необходимым- по той причине, что итальянский художник
был первым пианистом мирового масштаба, сосредоточившим
свое внимание на творчестве Баха и отдавшим много лет жизни
размышлениям об интерпретации его клавирных сочинений,
воплощению своих дум на фортепиано и изложению их в печати.
Пусть многое понимается сегодня по-иному, но никогда не следует забывать, что Бузони заложил фундамент нового понимания Баха. Эдвин Ф и ш е р — один из крупнейших немецких исполнителей клавирных произведений Баха нашего века — сумел, подойдя к его музыке с других позиций, найти в ней какой-то
романтический оттенок. 1 Самуил Евгеньевич фейнберг, на
1 Имена Ф . Бузони, С. Фейнберга и Г. Гульда х о р о р о знакомы нашим
читателям. Эдвина Фишера ( 1 8 8 6 — 1 9 6 0 ) знают мало, вероятно, потому, что
он у нас не выступал. Фишер — выдающийся швейцарский пианист, дирижер, педагог и музыкальный писатель, деятельность которого в течение
многих лет протекала в Германии.
7
протяжении своей творческой жизни неоднократно возвращавшийся к исполнению клавирных сочинений Баха, записавший, как
и Эдвин Фишер, на грампластинки оба тома « Х о р о ш о темперированного клавира» и выступавший с докладами, посвященными
интерпретации музыки Баха,— один из видных представителей
отечественной бахианы. Наконец, в интерпретации замечательно интересного молодого канадского пианиста Глена Гульда,
ряд своих концертов и грамзаписей посвятившего исключительно сочинениям Баха, проявились новые тенденции понимания Баха, характерные для исполнительского искусства последнего времени.
Само собой разумеется, что среди пианистов X X века есть
много других выдающихся исполнителей музыки Баха (достаточно вспомнить, если говорить только о советских пианистах,
имена М . Юдиной, М . Гринберг, С. Рихтера), и автор сознает,
что ему может быть брошен упрек в известной произвольности
выбора артистов для сопоставления. Поэтому следует подчеркнуть, что этот выбор обусловлен еще и тем, что каждый из названных четырех пианистов выступил со своей з а к о н ч е н н о й
к о н ц е п ц и е й понимания Баха, и в то же время эти концепции достаточно далеки друг от друга и позволяют показать разные пути истолкования баховской клавирной музыки.
И еще одно предварительное замечание: речь пойдет только
об интерпретации клавирных сочинений на ф о р т е п и а н о ; поэтому в статье не разбирается искусство клавесинистов X X века
и, в частности, такой замечательной клавесинистки, как В. Ландовска.
Анализ исполнения музыки Баха Фишером, Фейнбергом и
Гульдом основывается на грамзаписях. При рассмотрении же
интерпретации Бузони пришлось опираться на его редакции
сочинений Баха. А в т о р у казалось важным не столько разобрать
в деталях исполнительскую концепцию Бузони — тем более, что
грамзаписей его игры почти не существует,—сколько показать
связанный с его деятельностью поворот в интерпретации клавирной музыки Баха, наметившийся во второй половине X I X
века и окончательно назревший к концу его.
Прежде чем приступить к краткому разбору бузониевских
редакций и грамзаписей Фишера, Фейнберга и Гульда, хотелось бы напомнить о некоторых обстоятельствах, чрезвычайно
важных для понимания проблем и трудностей, которые возникают при интерпретации клавирной музыки Баха.
Во-первых, в баховских клавирных рукописях по ряду причин, рассмотрение которых не входит в нашу задачу, почти нет
никаких исполнительских указаний.
Во-вторых, клавесин и клавикорд, на которых играли в баховское время, коренным образом отличаются по своим инстру8
ментальным качествам и выразительным возможностям от современного фортепиано.
В-третьих, к началу X I X века традиции исполнения самим
Бахом его музыки были почти Совсем забыты; примерно в т о ж е
самое время и фортепиано окончательно вытеснило из музыкального обихода клавесин и клавикорд, в расчете на которые
она создавалась. 1 Во второй четверти X I X века после длительного забвения Баха интерес к нему возник снова. Одной из характерных черт этой эпохи «возрождения Баха» является то,
что исполнители не столько вникали в специфические особенности его музыки, сколько стремились «втиснуть» ее в свои представления, обусловленные классическим и раннеромантическим
музыкальным мышлением. Как документальные свидетельства
такого подхода к Баху сохранились « Х о р о ш о темперированный
клавир» в редакции Черни и мендельсоновские аккомпанементы
к скрипичным сонатам Баха.
Лишь во второй половине X I X (века начало постепенно созревать стремление играть Баха так, как того требует его музыка. К концу X I X — началу X X века накопилось уже так
много материала по этому поводу, что А . Швейцер смог сделать
в своем фундаментальном труде о Бахе 2 серьезные обобщения,
касающиеся не только самой его музыки, но и ее исполнения.
Многие из этих обобщений были подсказаны Швейцеру исполнительской практикой и теоретическими положениями Бузони. 3
1
М у з ы к у Баха Бузони играл и отлично знал с детства. О д нако к новым принципам интерпретации Баха он, по-видимому,
пришел в тот период своей жизни, когда, пользуясь его собственными словами, он осознал, что в его игре много несовершенного и ошибочного, и твердо решил «освоить искусство фортепианной игры с самых азов и на совершенно новой
основе». 4
«Новая основа», о которой писал Бузони, возникла как реакция против распространившейся в X I X веке «склонности
1 Клавесин вновь приобрел права гражданства в музыкальной практике
лишь в начале X X века, и здесь особенно велики заслуги В. Ландовской,
познакомившей широкие круги слушателей с этим инструментом.
2 A. S c h w e i t z e r .
I. S. Bach. Leipzig, 1908.
3 См. по атому поводу статью Г. М . К о г а н а
«Четыре книги о музыке
X V I I I в.» — «Советская музыка», 1935, № 9.
4 F.
B u s o n i . V o n der Einheit der Musik. M. Hesses Verlag, Berlin,
1922, S. 147.
9
к „элегантной сентиментальности"». 1 В этом процессе переоценки ценностей главными вехами для Бузони. становятся композиторы, чья музыка, по его мнению, не позволяет исполнению
приобрести слишком закругленные контуры, соскользнуть «в болото изнеженно-мелодического фразотворчества». 2 «Бах — основа пианизма, Лист — вершина. Эти двое откроют тебе подступы к Бетховену.. . » 3
Бах и Л и с т . . . Что объединяет в 'представлении Бузони столь
несхожие художественные индивидуальности? Да позволено будет высказать гипотезу: при всем бесспорном различии этих
музыкантов, их мелодики, гармонии *й композиционных принципов, Баха и Листа в сознании Бузони сближает, вероятно, один
момент — опора на речевые интонации, ораторско-декламационное начало, и момент этот казался итальянскому
пианисту
весьма существенным в его стремлении к мужественной простоте, высокой интеллектуальности и благородству. Быть может, если подойти к музыке этих художников с такой точки
зрения, дистанция, скажем, между темами некоторых баховских
фуг и основным материалом си-минорной сонаты Листа действительно покажется меньшей. О т с ю д а становится понятнее,
почему в своих поисках «новой основы» Бузони ищет путь
к Бетховену через Баха и Листа.
Требования, которые ставит их музыка перед исполнителями,
не могут быть решены с помощью арсенала выразительных
средств салонных виртуозов, который Бузони называл безнравственным и определял как «„прочувствованное"
набухание
фразы, кокетливые ускорения и замедления, слишком легкое
staccato, слишком вкрадчивое legato, педальные
излишества
и мн. т. п.». 4 Использование этого «арсенала средств» при интерпретации Баха Бузони считал оскорбительной ошибкой.
Исходя из этих положений, Бузони в своей работе — исполнительской и редакторской — над клавирной музыкой Баха необычайно обогатил пианистическое искусство в целом. Обратившись
к творчеству великого полифониста и глубоко изучив еГо, Бузони нашел возможности для создания новых выразительных
исполнительских средств и пианистических приемов.
В своих поисках Бузони опирался на «ритмическую определенность, значительную точность вступления, большую вескость
и отчетливость в пассажах. . . прозрачность в запутанных по1 Предисловие к I тому
« Х о р о ш о темперированного клавира». Цит. по
изданию: И.-С. Б а х . Клавир хорошего строя. О б р а б о т а л и пояснил, с присоединением примеров и указаний для изучения современной техники фортепианной игры, Ферруччио Бузони. Часть I. Н о в о е издание под редакцией
и с дополнениями Г. М . Когана. М у з г и з , М . — Л . , 1941, стр. X I I I .
2 Т а м же, стр. X I V .
3 «Рабочие правила пианиста», правило 7. Цит. по кн.:
«Исполнительское искусство зарубежных стран», вып. I. Музгиз, М., 1962, стр. 153.
4 И.-С. Б а х .
Клавир хорошего с т р о я . . ., стр. 203.
10
строениях»,' —. черты, присущие, по его мнению, фортепиано.
Уже из этого краткого перечисления сам собой напрашивается
вывод о том, что в бузониевской интерпретации и, естественно,
в бузониевских редакциях должны были приобрести большое
значение всевозможные приемы игры поп legato. И действительно, Бузони выдвинул известный и нередко превратно понимаемый тезис о поп legato как приеме игры, наиболее соответствующем природе фортепиано. Эта спорная мысль опровергается практически самим же Бузони. В его редакции I тома
« Х о р о ш о темперированного клавира» ремарка «legato» имеет такое же значение и занимает такое же место, как и обозначение
«поп legato». Да и в игре своей Бузони, по свидетельству современников, использовал не только несвязную артикуляцию, хотя
разного рода приемы поп legato и играли в ней весьма существенную роль, а к «влажному» legatissimo (термин И. А . Брауд о ) он, по-видимому, не прибегал. Думается, что мнение Бузони
о поп legato как об артикуляционном приеме, наиболее отвечающем природе фортепиано, следует понимать как острополемическое (а потому и неточное!) и направленное против тех, кто недооценивал роль разнохарактерной артикуляции в пианистическом искусстве и тем самым преграждал себе и другим путь
к пониманию некоторых характерных черт клавирных произведений Баха. Бузони, по всей вероятности, ясно осознавал, что
одного лишь legato недостаточно для того, чтобы передать речевые интонации и танцевальные элементы музыки Баха.
Эти взгляды Бузони сказались на его редакции I тома « Х о рошо темперированного клавира» ( 1 8 9 4 — 1 8 9 7 ) . Она резко отличается от других изданий Баха, вышедших в X I X веке, и
в первую очередь — от редакции Черни. В предисловии к своему
изданию I тома Бузони высказал отрицательное отношение
к черниевской редакции, но не дал fee подробного анализа и
предоставил сравнение обеих редакций на усмотрение тех, кто
будет ими пользоваться. Если провести это сопоставление, то
прежде всего бросится в глаза, что Черни чуть ли не своим долгом считает повсюду «оживлять» большие линии баховской музыки чрезмерно детализированной динамикой и артикуляцией.
Бузони же руководствуется принципом, что «исполнение
должно
быть прежде всего крупным по плану»,2 и подчиняет этому
принципу все детали. Таким образом, главное, но, конечно,
не единственное различие между редакциями Черни и Бузони
заключается в том, что первый делаёт акцент на деталях, а второй — на главных линиях.
В своем предисловии к I тому « Х о р о ш о темперированного
клавира» Бузони бросил фразу о редакциях Бишофа и Кролля,
1
s
И.-С. Б а х . Клавир хорошего строя. .., стр. 169.
Т а м же, стр. 203.
11
которые ограничиваются главным образом критической ревизией нотного текста. 1 Бузони поставил перед собой иную цель:
она заключалась в создании такой редакции, в которой нашел бы отражение его индивидуальный подход к интерпретации
клавирных произведений Баха в соответствии со стилем музыки. О б этом, в частности, говорят и строки, написанные Бузони спустя два десятилетия после выхода в свет I тома « Х о рошо темперированного клавира»: « Я бы предостерег ученика
от того, чтобы чересчур буквально следовать за моей «интерпретацией». Момент и индивидуум имеют свои собственные
права. М о е толкование может служить хорошей путеводной
нитью, которой не имеет нужды придерживаться тот, кто знает
иной хороший путь». 2
Наконец, последнее замечание. Индивидуальность свою Бузони проявляет, стараясь вникнуть в самую сущность баховской
музыки. А это означает решительный поворот в отношении
к ней по сравнению с X I X веком, точнее, с первой половиной
этого века: если Черни «подчинял себе» Баха, то для Бузони
проникновение в мир баховской музыки служит мощным творческим стимулом. Конечно, такое противопоставление в известной мере схематично, условно и не отражает всех нюансов
в подходе Черни и Бузони к Баху. Н о все же оно привлекает
внимание к тому сдвигу во взглядах, который в истории интерпретации Баха связан с именем Бузони.
2
« М ы никогда. . . не должны забывать,— писал Э. Ф и ш е р , —
что вся музыка возникла из пения. Выразительные возможности красивого, одухотворенного голоса всегда должны служить
образцом и для инструменталиста». 3
Грамзаписи, сделанные Э. Фишером, показывают, что « о б разцом» для него не послужили ни широкое итальянское bel
canto, ни утонченные декламационные приемы французской вокальной школы. Его привлекла та манера пения, которая свойственна интерпретации немецкой лирической песни (особенно ее
совершеннейших образцов в творчестве Ш у б е р т а ) , немецкой
Lied, связанной с народной музыкой и с народным музицированием.
В глубоких связях с этими традициями выработалось и «говорящее», задушевное и вместе с тем бесконечно многообразное
произнесение Фишером музыки Баха, Моцарта, Бетховена,
См. И.-С. Б а х . Клавир хорошего с т р о я . . . , стр. X V .
Предисловие ко второму изданию Инвенций. Цит. по кн.; «Исполнительское искусство зарубежных стран», вып. I, стр. 149.
3 Е. F i s c h e r .
I. S. Bach. Potsdam, 1945, S. 34.
1
2
12
ч
Брамса. У фишеровского Бетховена поэтому несколько сглажена
резкость контуров; его Моцарт несколько романтизирован —
быстрые последовательности и медленные фразы « п о ю т » , темпы
сдержанные (вслушайтесь, например, в запись Концерта ре минор, К . 466 1 ) ; Брамс у Фишера — «венский» или южнонемецкий, но не суровый «гамбургский».
Мелодическая линия в исполнении Фишера обычно расчленяется на сравнительно небольшие фразы, и произносятся они
живо — сложено он говорит. Его игра — это напевная немецкая
речь; так Э. Шварцкопф поет Шуберта. Под пальцами Фишера,
словно бы импровизационно, рождаются бесчисленные тембральные оттенки. Так, в ре-минорном Концерте Баха Фишер
играет тему в соль миноре иначе, чем в ре миноре; иная темброво-тональная окраска темы подсказывает пианисту и иную
ее трактовку, иной характер интонирования. 2
Принципы интерпретации Фишера заставляют его выдвигать
на первый план лирическое, песенное начало. Поэтому legato разных оттенков —• от sempre legatissimo, от «влажного» legatissiшо и до quasi legato — родная стихия Фишера. Наивысшее выражение его мастерство получило, например, в Прелюдиях и
Фугах до-диез минор и си-бемоль минор, в Прелюдии ми-бемоль
минор ( и з I тома « Х о р о ш о темперированного клавира»). 3 Интерпретация Фишером Фуги до-диез минор показывает, сколько
глубокого трагизма и философских раздумий кроется в этой
музыке. В его исполнении Прелюдии минбемоль минор каждая
фраза звучит эмоционально-насыщенно, словно бы она существует сама по себе, отдельно от других; и вместе с тем все
спаяно единым настроением скорби, раздумья.
* Фишеру удаются и жанровые пьесы Баха — не столько грубовато-простонародные, сколько грациозно-танцевальные, например Ф у г и До-диез мажор и Ми-бемоль мажор ( и з I тома
« Х о р о ш о темперированного клавира»). Как и в других пьесах
Баха, staccato Фишера здесь отличается сравнительной легкостью и прозрачностью. Гораздо реже использует он острое
staccato или более тяжелое detache — один из видов portamento.
Менее убедительной представляется нам интерпретация Ф и шером тех произведений, в основе которых лежат остро очерченные звуковые линии. Так, исполнение Фуги Ре мажор ( и з I тома
« Х о р о ш о темперированного клавира») с ее пунктированным
ритмом «в стиле барокко» оказывается значительно бледнее
истолкования многих других фуг Баха.
- ^
Тонко разработанная микродинамика, составляющая у Ф и шера >. характерную
сторону
напевно-речевого
произнесения
1
2
3
His Masters Voice, B L P 1066.
La V o i x de Son Maitre C O L H 15.
La V o i x de Son Maitre C O L H 46—50.
13
мелодии, цсегда подчинена у него крупным, весьма пластично
вычерченным динамическим линиям. В известной мере Фишер
оказывается здесь близок Бузони. 1 Неизменность основного
темпа у Фишера не исключает небольших отступлений от него
в отдельных эпизодах произведения.
Все это образует органически единый комплекс выразительных средств, который позволяет Фишеру исполнять музыку
Баха в соответствии с его эстетическими взглядами и особенностями его артистической личности.
3
Взгляды одного из выдающихся советских интерпретаторов
Баха С. Фейнберга кое в чем совпадают с фишеровскими: и он
придерживается убеждения, что фортепиано — инструмент, на
котором должно стремиться к воспроизведению выразительной
кантилены. «Современное фортепиано не столько ударный инструмент, сколько инструмент. . . «хора струн». . . он. может создать впечатление. . . звучания, подобного хоровой звучности
струнных и духовых, органа и, наконец, вокальных ансамблей» 2 .
Однако осуществленная Фейнбергом грамзапись обоих томов « Х о р о ш о темперированного клавира» 3 показывает, что его
пианистическому искусству, хотя оно и связано с вокальным
началом, присущи и ораторско-декламационные элементы. Ф и шера привлекают в первую очередь философская глубина музыки Баха и запечатленное в этой музыке своеобразное равновесие различных
эмоциональных состояний. Фейнберга же,
кроме всего этого,— проявление энергии, воли. Это сказывается
и в темпо-ритмической импульсивности, которая представляется
одной из характерных черт фейнберговской интерпретации, и
в довольно широком применении пианистом (наряду с тщательно отшлифованными разновидностями legato) четкого, порой
резковатого staccato, активного поп legato. Энергично и оживленно, иногда даже несколько угловато и «злобно», трактует
Фейнберг Прелюдию и, особенно, Ф у г у Ре мажор ( и з I тома
« Х о р о ш о темперированного
клавира»).
Фишер
сглаживает
в этой музыке черты мужественной величавости, Фейнберг же
играет ее, может быть и излишне, нервически-экзальтированно.
В Прелюдии ми-бемоль минор ( и з этого же тома) пианиста
1 Любопытно, что
редакция некоторых инвенций, сделанная Фишером
(Tonmeister Ausgabe. Ulstein, Berlin), весьма схожа с бузониевской их
редакцией.
2 См. статью В. Н а т а н с о н а
«Памяти Фейнберга».—«Советская музыка», 1963, № 1, стр. 90.
3 Всесоюзная студия грамзаписи, Д 0 5 2 6 8 — 7 3 (I т о м ) и Д 0 5 1 0 6 — 1 1
(II т о м ) .
14
больше
привлекает
декламационный
возможность
оттенок,
ких, с о с р е д о т о ч е н н ы х
нежели
придать
Музыке
раскрыть
в
Патетически-
ней
мир
глубо-
раздумий.
Естественно, что подчеркнутая экспрессивность игры Фейнберга вынуждает его пользоваться иными выразительными средствами по сравнению с фишеровскими. Он не стремится сохранить равномерность ритмической пульсации, а больше заботится
о выделении отдельных, нередко асимметрично расположенных
ритмических вершин. Акценты, которыми Фейнберг их подчеркивает, как бы «подталкивают» музыкальное развитие от одной
такой вершины до следующей.
Баховские темы в интерпретации Фейнберга часто приобретают своеобразную стремительность. Э т о связано, возможно,
с тем глубоким влиянием, которое оказало на музыкальное
мышление пианиста творчество Скрябина с характерными для
него мотивами-зовами. Некоторые «скрябинизмы», излишняя
стремительность ощущаются, например, в исполнении Фейнбергом Прелюдии и Фуги до-диез минор ( и з I тома).
В известной мере стремительными, «скрябинскими» являются
у Фейнберга динамика и агогика, неотделимая у пианиста от
динамики. З д е с ь — наиболее уязвимая сторона фейнберговской
интерпретации. Пианист иногда подчеркивает переломные моменты в развитии полифонической музыки с помощью довольно
значительных отклонений от основного темпа и соответствующих изменений в динамике. Если это оправдывается в произведениях импровизационного характера, то в фугах подобная агогика порой приводит, на наш взгляд, к неоправданной раздробленности целого. Так, в Ф у г е до-диез минор ( и з I тома) почти
все моменты утверждения новой тональности Фейнберг подчеркивает динамически и агогически. В Фуге М и мажор ( и з этого
же тома) возвращение светлой и ясной главной тональности
пианист подготавливает, пожалуй, неоправданно напряженно и
многозначительно — словно вот-вот вступит тема в минорном
ладу. В Ф у г е Д о мажор ( и з этого же тома) Фейнберг так растягивает ritenuto перед кодой, что развитие Ф у г и прерывается,
и кода не завершает форму, а становится каким-то дополнением
Фуги.
В связи со сказанным уместно вспомнить мысли А . Швейцера: !«очень часто вся пьеса у него 1[Баха] со всем своим развитием уже заложена в теме»; «Бах. . . не передает эмоциональное
состояние в виде драматического д е й с т в и я . . . И з этого ясно, как
ошибочно переносить на. Баха динамику, обычную для Бетховена и Вагнера: у них она подчеркивает изменения в гармонии,
которые одновременно являются и поэтическими, чего нет
у Баха». 1 И Т . Ливанова, подойдя к вопросу с иной позиции,
' А л ь б е р т
Швейцер.
1964, стр. 154, 349.
Иоганн
Себастьян
Бах.
«Музыка»,
М.,
15
пишет, по существу, о том же: о своеобразной черте музыкальной драматургии Б а х а — п р о т и в о р е ч и и «между предельным напряжением чувства и особого рода спокойствием», в чем «многие музыканты. . . видят главное и непреходящее обаяние музыки Б а х а » А г о г и к а Фейнберга нарушает это спокойствие,
и поэтому нам думается, что его импульсивная трактовка ряда
фуг не отвечает некоторым важным особенностям баховского
искусства.
Высказанное критическое замечание не снимает нашей общей
очень высокой оценки фейиберговской интерпретации Баха:
пианист выступил со своей цельной концепцией, со своими
весьма интересными принципами трактовки Баха, сумел найти
с в о е г о Баха.
4
Комплекс выразительных средств, который использует, интерпретируя Баха, Г. Гульд, представляется нам удивительно
органичным и цельным. Эти средства обусловлены своеобразным восприятием пианистом музыки Баха: Гульд слышит в ней
не только высокую мысль и богатство чувств, но и концентрированную волю, энергию, иногда — порыв. Благодаря этому его
игра отличается необычайной экспрессивностью.
В ритмическом отношении Гульд часто играет очень определенно, иногда даже резко. Нередко он настолько «обнажает»
ритмическую основу, что выявляется ее жанровая танцевальная
природа,— например в 18-й и особенно в 19-й вариациях гольдберговского цикли (последняя вариация в интерпретации пианиста приобретает ритм менуэта). 2
Ярко выделяя характерные ритмические особенности каждого произведения в целом и его отдельных эпизодов, пианист
порой создает этим путем резкие контрасты (например, в Т о к кате из Шестой партиты: контраст между rubato — в его исполнении — в крайних разделах и неуклонно равномерным движением в среднем, в фугато). 3
В лирических эпизодах Гульд нередко делает своеобразные
противопоставления: на время как бы всецело отдавшись импровизационной поэтической свободе, пианист несколькими четкими
акцентами организует затем музыкальное движение — с тем,
чтобы потом опять свободно -— rubato — продолжать излагать
лирическую мысль. Так, в Сарабанде из ми-минорной Партиты
1 Т. Л и в а н о в а .
Музыкальная драматургия Баха. М у з г и з , М.,
стр. 11.
2 Всесоюзная студия грамзаписи, Д 0 4 9 3 2 — 3 3 .
3 Всесоюзная студия грамзаписи, Д 5 0 3 6 ^ 3 7 .
16
1948,
Гульд играет мелодию очень свободно, а ритмические опоры
восстанавливают ощущение равномерной пульсации.
Н е чужд Гульду и давно известный способ применения rubato ( о нем писал еще Леопольд М о ц а р т ) : выдержанное в неизменном темпе мерное сопровождение, над которым, как бы независимо от него, развертывается мелодический рисунок главного г о л о с а ' ( 1 3 - я вариация гольдберговского цикла).
Может быть, эта своеобразная ритмическая определенность
исполнения и является одной из главных причин того, что игра
Гульда даже в самых импровизационно свободных лирических
эпизодах никогда не становится расплывчатой. Упругая ритмика — основа игры Гульда; ей, этой ритмике, подчиняются и
из нее вытекают другие выразительные средства. 1
Особенности ритмического замысла Гульда нередко обусловливают и избираемый им темп. Выбор этот зависит прежде всего
от характера движения: чем мельче дробление метра, чем короче его звенья, тем медленнее темп (пример — исполнение
25-й вариации из того же цикла).
Пианист свободно и стремительно играет фигурации, заполняющие промежутки между ритмическими опорами, которые порой находятся далеко друг от друга. Н о именно благодаря этим
опорам сохраняется общее спокойствие движения, присущее музыке Баха. Так, например, 5-ю, 20-ю и особенно 17-ю вариации
гольдберговского цикла Гульд играет очень быстро, а в то же
время благодаря ритмической равномерности в исполнении сохраняются уравновешенность и спокойствие характера.
Тонкая и многообразная шкала артикуляционных приемов
позволяет Гульду достичь необычайной ясности полифонической
ткани. Каждая мелодическая линия произносится как бы независимо от других, но вместе с тем так, что внимание слушателя
всегда концентрируется на самом существенном. Такого рода
задачи —привлечение
внимания к важнейшим моментам —
Фейнберг решает с помощью динамики и агогики, Фишер —
с помощью тембральных средств; Гульд использует для этого
приемы артикуляции.
Принципы артикуляции, а также динамики Гульда во многом сложились под воздействием характерных свойств клавесина. «Скованную» динамику приходилось возмещать средствами ритма, агогики и артикуляции. 2 Стремясь путем необходимых артикуляционных приемов передать «клавесинную»
1 Вспоминаются слова Асафьева о ритме: «ритм слышится как направляющая мысль, как действующая воля» (Б. В. А с а ф ь е в . Музыкальная
форма как процесс. М у з г и з , Л., 1963, стр. 2 7 7 ) .
2 Ч т о б ы лучше понять природу артикуляции Гульда, полезно сопоставить исполнение им — на фортепиано — и В. Ландовской — на клавесине —
синфоний (трехголосных инвенций) Баха (ср. пластинки: Всесоюзная студия грамзаписи, Д 7 1 3 3 — 3 4 , и Victor, L M 2 3 8 9 1
~
Баренбой^
17
11 j »< 1,1 j ),i 'ii к )cri. полифонических сплетений, пианист выработал
сноп самобытное, порой чуть резковатое, но чрезвычайно ясное и
четкое туше. « М н е кажется,— писал Гульд,— что существенный
прогресс в интерпретации Баха у последних поколений исполнителей характеризуется тем, что все более выкристаллизовывается мысль о необходимости пожертвовать колористическими
возможностями во имя ясности линий». 1
Действительно,, если отказаться от мягкого и «закругленного» туше ( б е з чего немыслимо, например, исполнение музыки
Ш о п е н а ) и резко очертить начало и конец фортепианного звука,
он приобретет «графическую» ясность, столь необходимую, по
мнению Гульда, для интерпретации многоголосной музыки.
Возможно, спою роль сыграло и увлечение Гульда современной музыкой-- по не теми се образцами, которые до некоторой
степени снизаны с «романтическим» звучанием фортепиано (например, сочинениями Мийо, Дютийс, Шимановского), а линеарпо задуманными произведениями (например, Сонатой № 3
Кшенека, 2 Вариациями В е б е р н а 3 ) , исполнение которых требует
«графичности» туше.
Точная, четкая игра Гульда вызывает ассоциации с рисунками пером. Пианист строго контролирует удар: звук начинается и кончается очень определенно. Туше Гульда заставляет
вспомнить слова Форкеля, отметившего, что «ясность удара»
являлась характерной особенностью игры'самого Баха: «Меня
часто удивляло то обстоятельство, что Ф . - Э . Бах в своем
«Опыте. . .» не описал детально эту высшую степень ясности
удара, так как. . . в этом заключается главное отличие баховской
манеры игры от всякой другой». 4 Видимо, этой «ясности удара»
требует музыка Баха, что Гульд отлично понял.
« Х о т я я и. . . не признаю,— писал канадский пианист,—
чрезмерностей в применении этой теории [речь идет о плоскостной динамике], 5 мне все же кажется, что, исполняя музыку Баха
на фортепиано, следует до известного предела сохранять террасообразную динамику клавесина». 6 Претворяя эту мысль на
практике, Гульд И в исполнении Гольдберговских вариаций и
в интерпретации сюит противопоставляет в отдельных вариациях или танцах forte и piano различной силы. Раз выбранной
динамической градации полностью подчиняется и микродинамика, значение которой в интерпретации Баха Гульдом сравниГульд в письме автору настоящей статьи от 3 января 1963 г.
Фонотека Ленинградской консерватории. Маг 3728.
3 Фонотека Ленинградской консерватории, М а г 2597.
4 I. N. F o r k e l .
Uber Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke. Leipzig, 1802, S. 29.
5 Гульд, очевидно, имеет здесь в виду тех пианистов, которые
применяют эту теорию догматически, отрицая всякую динамическую гибкость.
6 Гульд в том же письме.
1
2
18
тельно невелико. Создается впечатление, что динамика играет
здесь хотя и важную, но все же подчиненную роль — и полностью зависит от остальных средств выразительности.
5
« К т о раз слышал, как Ванда Аандовска играет Итальянский
концерт н а . . . клавесине... тому трудно представить себе, что
его можно сыграть и на современном рояле», 1 —пишет А . Ш в е й цер. Однако он тут же добавляет: «нельзя считать, что лозунг
«назад к клавесину» решил вопрос, на каком инструменте надо
играть Баха». 2 Выход Швейцер видит в создании специального
фортепиано, звучание которого стало бы снова «светлым и ясным, с металлическим вибрированием», 3 —то есть таким, каким
оно предстает в наши дни в игре Гульда. Швейцеру и в голову
не пришло предъявить такие требования к туше его современников-пианистов; создание нового инструмента представлялось
ему более реальным делом. Это только доказывает, насколько
неразрывно связано было в представлении музыкантов того
времени понятие «пианист» с определенными традициями —
теми, против которых боролся Бузони, и насколько дальновидной была его мысль о необходимости поисков новой звучности
фортепиано и новых приемов игры на нем для проникновения
в стиль музыки Баха.
'
Надо сознаться, что в мнении об ограниченности звуковых
возможностей, которые (фортепиано (в том виде, в каком оно
существовало) предоставляет интерпретаторам Баха, Швейцер
не был одинок. На рубеже X I X и X X веков немало музыкантов стало сомневаться в том, можно ли убедительно исполнять
на фортепиано клавирные сочинения Баха. Поэтому ряд артистов, среди которых выделяется В. Аандовска, открыл широкую
теоретическую и практическую кампанию за восстановление
в правах инструментов эпохи Баха, в особенности клавесина.
Это стремление и сейчас еще дает о себе знать. Отдельные
музыканты продолжают считать исполнение Баха на фортепиано
субъективистским произволом. В книге Хиндемита «Бах — наследие и обязанность» читаем: «Если мы хотим исполнять его
музыку в соответствии с его замыслами, следует полностью возродить характерные для той эпохи условия исполнения». 4 Практически это означает, что нужно не только заменить фортепиано
клавесином и клавикордом, но и возродить соответствующие им
' А л ь б е р т
Ш в е й ц е р . Иоганн Себастьян Бах, стр. 259.
2 Т а м же, стр. 260.
Т а м же.
4 P.
H i n d e r n i t h . I. S. Bach ~ Heritage and Obligation. New Hawen, 1952, p. 19.
3
2*
19
акустические условия, и, следовательно, отказаться от исполнения баховской музыки в больших помещениях. Уже из-за одного
этого требования, осуществление которого невозможно в современной концертной жизни, тезис Хиндемита представляется нам
неприемлемым.
Н о дело не только в этом. Возможно ли сейчас полное «возрождение» инструментария баховского времени, например клавесина? В настоящее время он делается с металлической рамой,
а для того чтобы воссоздать тембр клавесина эпохи Баха, рама
должна быть деревянной. Более того: в наши дни имеют весьма
приблизительное представление о том, как же этот инструмент
звучал, в действительности, как подготавливались необходимые
для его создания материалы и т. д. Ведь сохранившиеся в музеях инструменты более чем двухсотлетней давности вряд ли
могут дать ответ на эти вопросы.
С у т ь всех этих споров, конечно, не в инструменте как таковом, а в том, что они явились выражением несогласия с интерпретацией Баха, бытовавшей в конце X I X и в начале X X века.
Одним из первых об этом н е с о г л а с и и — в частности, с характером фортепианной звучности у пианистов — интерпретаторов
Б а х а — с к а з а л Бузони; но это не отразилось на его отношении
к самому фортепиано или, точнее, к возможностям- стилистически верно истолковывать на нем музыку Баха. Таково же было
и отношение к проблеме «клавесин и фортепиано» Фишера и
Фейнберга. Не только их высказывания (см., например, у Фейнберга: «свойства современного концертного рояля не только
не враждебны баховскому стилю, а, напротив, помогают выявить его основной с м ы с л » 1 ) ! но и вся их практическая деятельность решают этот долгий спор в пользу фортепиано. И Гульд
мог бы играть на клавесине, как э т о делают теперь многие артисты в Западной Европе и в Америке, но он выбирает фортепиано: « Я убежден, что фортепиано со своей звучностью и
возможностями регистровки. . . наиболее подходящий клавишный инструмент для исполнения музыки Баха». 2
Сейчас установлено, что клавирные пьесы Баха были предназначены как для клавесина, так и для клавикорда, но пока
еще нет полной ясности в том, какие именно произведения Баха
созданы для одного, а какие для другого инструмента. Как известно, в спорах по этому поводу своеобразную роль сыграла
опись имущества Баха, составленная после его смерти судебным чиновником. В этой описи фигурируют лишь клавесины
1 См. статью В. Н а т а н с о н а
зыка», 1963, № 1, стр. 90.
2 Гульд в том же письме,
20
«Памяти Фейнберга».— «Советская му-
различных габаритов. Основываясь на этом факте, некоторые
музыканты во главе с Ландовской стали оспаривать мнение
Форкеля, писавшего, что клавикорд был любимым инструментом Баха.1
В длительную полемику новое внес американский музыковед
и чембалист Э. Бодки. Указав, что «без тщательного осмотра и
без заглядывания под крышку нельзя утверждать, является ли
построенный в четырехугольной форме инструмент клавикордом
или спинетом», 2 Бодки не счел возможным делать выводы на
основе поверхностных наблюдений судебного чиновника.
В результате собственных продолжительных исследований
Бодки установил, что в эпоху Баха еще не знали педального
устройства для смены регистров клавесина. Следовательно, менять регистры во время игры можно было лишь тогда, когда
в партии какой-либо руки была пауза. Н о во многих клавирных
пьесах Баха таких пауз для смены регистров нет. Возникает
вопрос, почему в этих случаях Бах не обращался к другим приемам динамизации развития, встречающимся в практике клавесинистов,— хотя бы к известному со времен вёрджинелистов
уплотнению звуковой ткани путем добавления в кульминационные моменты новых голосов. 3 Отвечая на этот вопрос, Бодки
пишет: « Т о т факт, что Бах, блестяще владея техникой письма
для клавесина с двумя мануалами, все же сочинял произведения, в которых не использовал ни террасообразной динамики,
ни приемов вёрджинелистов, особенно показателен. М ы приходим к выводу, что появление в творчестве Баха этой совершенно
новой манеры письма может быть объяснено единственно тем,
что данные произведения задуманы для клавикорда». 4
Бодки считает, что под термином «Klavier» Бах подразумевал все клавишные инструменты, и напоминает, что известные
сборники Баха под общим названием «Klavieriibung» содержат
произведения для клавесина, клавикорда и органа. Если это так,
то подобным образом можно толковать и слова «Wohltemperiertes Klavier». Исходя из этого, Бодки утверждает, что оба тома
« Х о р о ш о темперированного клавира» задуманы не для одного
инструмента: часть прелюдий и фуг предназначена для клавесина, другие — для клавикорда, а некоторые — возможно, и
для органа. Например, по мнению Бодки, для клавикорда написаны Прелюдии и Ф у г и Д о мажор и До-диез мажор из I тома,
В основе этого мнения лежало свидетельство Ф . - Э . Баха.
Е. В о d к у. The Interpretation of Bach's Keyboard Works. Cambridge-Mass, 1960, p. 29.
3 См. у Кванца «Versuoh eiiner Anwaisung die Flote traversiere zu apielen», гл. 17, ч. 6, § 17: « Н а клавесине с одним манулом piano достигается
путем уменьшения количества голосов, mezzo jorte — удваивая голоса левой
руки, forte — пополняя бас соответствующими консонансами».
4 Е.
В o d к у. The Interpretation of Bac'h's Keyboard Works, p. 26.
1
2
21
а для клавесина —1 Прелюдии и Ф у г и Соль мажор и до минор
из этого же тома.
Распространяя свой метод анализа и на другие клавирные
произведения Баха, Бодки приходит к выводу, что для клавикорда предназначены, например, все французские сюиты, инвенции и симфонии.
Если согласиться с тем, что роль клавикорда в творчестве
Баха действительно более значительна, чем это до сих пор представлялось, то уменьшится и кажущееся противоречие между
характером музыки Баха и ее звучанием на современном фортепиано, ибо клавикорд со всеми его отличительными особенностями в известном смысле ближе к фортепиано, нежели клавесин.
Возможно, что эти рассуждения покажутся отвлеченными.
Н о на самом деле они теснейшим образом связаны с исполнительством. Недаром Фишер писал, что «задача музыкантов состоит в том, чтобы суметь отличить произведения для клавесина
от органных сочинений, нежные поэтические пьесы для клавикорда от блестящих клавесинных пьес в духе concerto grosso». 1
Это умение необходимо не для воспроизведения на фортепиано
звучания клавесина или клавикорда, а для понимания основного
замысла произведения.
Все же, как бы остро ни стоял вопрос о том, для какого
струнно-клавишного инструмента написана та или иная клавирная пьеса Баха, вопросу этому пристало лишь второстепенное
место. «Чисто музыкальный элемент произведения выше инструментального и всегда играет главную роль», 2 — эта мысль, сформулированная Казальсом и подтверждаемая практикой, остается
в силе и поныне.
6
«Исполняя свои сочинения. . . он (И.-С. Бах] умел. . . придавать интерпретации такое многообразие, что каждое произведение под его пальцами звучало подобно живой речи». 3 Инструменты в эпоху Баха обладали весьма ограниченными динамическими возможностями, и поэтому приведенное Форкелем
свидетельство Филиппа-Эммануила Баха об игре его отца заставляет нас обратить внимание на другие, исполнительские
средства, с помощью которых можно было достичь выразительности «живой речи»,— на артикуляцию и агогику.
В отношении артикуляции композитор не оставил в рукописях своих клавирных сочинений почти никаких указаний. « Н е т
Е. F i s с h е г. I. S. Bach, SS. 32—33.
X . М . К о р р е д о р. Беседы с Пабло Казальсом. Музгиз, Л., 1960,
стр. 172.
3 I. N. F o r k el. Ober I. S. B a d i s Leben, Kunst und Kunstwerke, S. 33.
1
2
22
почти никаких оснований надеяться,— пишет Бодки,— что когданибудь удастся полностью выяснить проблему артикуляции». 1
Поэтому Швейцер предложил для определения характера произнесения мелодической линии в этих произведениях руководствоваться теми штрихами, которые встречаются в партиях
струнных инструментов в Бранденбургских концертах и в других сочинениях для оркестра. « К т о изучит их, тот может уже
не сомневаться относительно фразировки клавирных произведений». 2 Этой теории единства приемов артикуляции наносит удар
сам же Швейцер, отмечая в другом месте, что темы Баха задуманы в соответствии с возможностями и особенностями того
или другого инструмента. 3
Ныне признано, что «между темами, используемыми в композициях для органа, клавесина или клавикорда, имеется существенное различие. . . темы вокальных й инструментальных произведений так же обладают своим характерным языком». 4 Если
сравнить структуры тем для разных инструментов и проанализировать немногие артикуляционные указания в кантатах,—
видно, что Бах не только задумывал темы для определенных
инструментов, но и менял произнесение одной и той же темы,
если она передавалась от вокалиста к инструменталисту (и нао б о р о т ) или от одного инструмента к другому.
В связи со сказанным артикуляция выдвигается в ряд проблем, при решении которых интерпретатору Баха бесполезно
рассчитывать на готовые и пригодные для всех случаев рецепты.
По-видимому, из-за этого И. Браудо в труде об артикуляции
уделяет особое внимание произведениям Баха и выдвигает ряд
положений об их исполнении. Н о тут же отмечает: «Положения
эти не дают непосредственных указаний, как надо артикулировать ту или иную мелодию: анализ не может претендовать на
то, чтобы подменять творчество. Практические выводы даются
не в форме: «исполняйте так-то», но в форме: «если вы в данном случае преследуете такую-то цель, то вам нужно избрать
такие-то средства» или „применяя такие-то средства, вы подчеркиваете такие-то моменты музыкальной структуры"». 5
Такой
подход знаменует новый поворот в постановке
1 Е. В о d к у.
The Interpretation of Bach's Keyboard Works, p. 204.
Н а этой же странице Бодки признает, что для понимания, например, фаминорной Инвенции очень много дают авторские лиги, которые сохранились
в Urtext'e, но тут же добавляет: « Е с т ь что-то сокрушительное в том факте,
что мы так никогда и не додумались бы до именно таких [артикуляционных]
решений».
2 А л ь б е р т Ш в е й ц е р . Иоганн Себастьян Бах, стр. 269.
3 Т а м же, стр. 280.
4 Е. B o d k y .
The Interpretation of Bach's Keyboard Works, p. 215.
5 И. Б р а у д о .
Артикуляция ( о произношении мелодии). Музгиз, Л.,
1960, стр. 46.
23
проблемы. И. Браудо отнюдь не стремится ограничить исполнителя обязательными, безусловными предписаниями. Главное он
видит во внимании к строению и основным закономерностям музыкальной речи, тогда как вытекающие из них детали исполнения предоставляются всецело на усмотрение самого исполнителя.
Э т о — почти единственный источник для интерпретации, а исторический момент играет здесь только вспомогательную роль.
«Искусство штрихов, необходимое для исполнения произведений
Баха, может быть выработано только путем длительной. . . работы над исполнением этих произведений. Между тем именно
практика.. . показывает, что. . . понимание мотивного строения
мелодии оказывается более прочной опорой в работе, чем уточнение штрихового приема». 1 Эта мысль Браудо резко отличается
от схоластических требований «абсолютной исторической объективности». Вместе с тем она помогает понять, почему столь различные артикуляционные приемы, как приемы Фишера ( « г о в о рящее» legato) и Гульда (острая ритмизация), могут рассматриваться как индивидуальное толкование тех или иных объективно
существующих и потенциально заключенных в нотном тексте
моментов.
7
Известный мексиканский композитор К. Чавез пишет: « Я
хотел бы подчеркнуть, что замена отдельных нотных знаков
наносит музыкальному произведению ущерб лишь в частностях,
в то время как неверный темп полностью искажает замысел,
форму и содержание произведения». 2
В справедливости этой мысли не приходится сомневаться;
она ежедневно подтверждается исполнительской
практикой.
И вместе с тем достаточно сравнить хотя бы интерпретации прелюдий и фуг Фишером и Фейнбергом, чтобы обнаружить в них
довольно заметные различия в темпе, причем, несмотря на это,
во многих случаях достаточно убедительны оба варианта.
Каждый артист использует в своей игре ряд исполнительских
средств выразительности — скажем, темп, динамику, агогику,
артикуляцию; но в разных интерпретациях возникают и различные соотношения этих средств. Даже небольшое перемещение акцента с одного из них на другое вызывает заметные
изменения в общей картине, во всем замысле. Отмеченная убедительность разных темпов у Фишера и Фейнберга объясняется
Тесной связью темпа с прочими средствами выразительности.
Чем ярче личность артиста, чем выше его мастерство, тем теснее
объединяются в единое целое в его интерпретации отдельные
1
2
24
И. Б р а у д о . Артикуляция, стр. 1 1 0 — 1 1 1 .
С. C h a v e z . Musical thought. Cambridge-Mass, 1961, p. 100.
выразительные исполнительские средства. Благодаря такому
единству и возможны случаи, когда различные в темповом отношении интерпретации кажутся в равной мере соответствующими характеру произведения.
Взаимосвязям темпа и артикуляции посвящены исчерпывающие строки в книге Б р а у д о : . «Определенный ш т р и х . . . своим
характером... обосновывает.. . темп, и вне определенного соответствующего ему артикулирования темп оказывается лишенным своего обоснования. Понятно поэтому, что поиски правильного темпа, понимаемого абстрактно — как некоей «правильной»
скорости, взятой вне связи с определенным произношением, часто бывают безрезультатными». 1 В то же время выбор приемов
артикуляции полностью связан с проникновением в содержание
и в основное настроение произведения. И з этого следует, что
тезис о взаимосвязи темпа и «аффекта» произведения, который
акцентировал в своем трактате Ф . - Э . Бах и который поддерживали его современники, по-прежнему остается в силе. Приведенная мысль Чавеза о решающей роли темпа в интерпретации произведения является правильной и в отношении произведений
Баха, но — с одной существенной оговоркой — в пределах одинакового исполнительского замысла.
Сказанное относится и к агогике. Практическое применение
тех или иных артикуляционных приемов влечет за собой в известном смысле отклонения от равномерной пульсации.
И сегодня встречаются исполнители и педагоги, которые
не признают никаких агогических отклонений в интерпретации
Баха. Тем самым, часто того не подозревая, они отказываются
и от использования артикуляционной выразительности. Если
«втиснуть» исполнение в рамки математически точной- пульсации, то оно становится мертвенным и вялым. Живая выразительная музыкальная речь всегда содержит отклонения от такой
«идеально точной» метрономной пульсации. Иногда эти отклонения еле заметны, но все же вполне реальны, и выдающиеся
а р т и с т ы — н а п р и м е р Гульд — умеют очень тонко пользоваться
ими, придавая именно этим жизненность и пластичность своему
исполнению.
Конечно, и в агогике существуют почти не поддающиеся словесному выражению пределы, выход за которые нарушает равновесие, искажает облик музыкального произведения того или
иного композитора. Искусство Баха особенно чувствительно к нарушению этих границ, и прав И. Браудо, указывающий, что
«сознательное отрабатывание. . . агогического приема легко приводит к утере правдивости игры. . . Очевидно, агогика меньше
всего должна осознаваться как таковая». 2
1
2
И. Б р а у д о . Артикуляция, стр.
Т а м же, стр. 113.
17—18.
25
8
Проблема динамики сравнительно мало занимала умы современников Баха, и инструменты «скованной» динамики вполне
их удовлетворяли. Когда же к клавирным произведениям Баха
обратились пианисты, возник вопрос — как использовать динамические ресурсы фортепиано. В редакции « Х о р о ш о темперированного клавира», сделанной Черни, отразились взгляды той
эпохи, когда нельзя было даже представить себе исполнение фортепианной музыки без постоянного использования волнообразной динамики. Несколько позже Лист и Рубинштейн внесли
в ицтерпретацию Баха характерную для органа широту перспективы. 1 Эта «органная концепция» стала исходным пунктом интерпретационных
поисков Бузони. О н
писал:
«Баховский
стиль. . . характеризуется прежде всего мужественностью, энергией, широтой и величием». 2 Или — почти четвертью века позднее: «Если монументальность и не всегда находит выражение
в клавирных произведениях Баха, то все же мы нравственно
обязаны — в соответствии с творческой сущностью мастера —
везде,, где возможно, подчеркивать эту черту». 3 По-видимому,
под словами «широта», «величие», «монументальность» кроется
глубоко осознанная Бузони особенность эмоциональной стороны музыки баховского времени, о которой говорил и Римский-Корсаков: «одна из отличительных особенностей склада
музыки композиторов той эпохи заключалась в том, что они
умели как'то особенно длинно и долго чувствовать одно и то же
и в этом (одном) настроении держаться без ослабления нередко
весьма продолжительное время». 4 Характерны также слова
Швейцера, сравнившего музыкальную драматургию Баха и Бетховена: « О н [Бах] изображает идею в статическом состоянии, но
не развивает ее в становлении и изменении. . . .напрасно мы будем искать у него переживание идеи, ее борьбу, отчаяние, умиротворение— все то, о чем говорят бетховенские произведения и
что хочет выразить послебетховенское искусство». 5 Конечно,
эти особенности искусства Баха требуют иного динамического
воплощения, нежели музыка классиков и романтиков. « П о э тому,— пишет Швейцер,— у него надо различать архитектони1 А . Рубинштейн писал: « М н е кажется, будто Бах всё мыслил органно,
за исключением своих танцев и, может быть, прелюдий». ( « М у з ы к а и ее
представители». Изд. Юргенсона, М., 1892, стр. 1 6 3 ) . Там же зафиксировано отрицательное отношение Рубинштейна к редакции Черни.
2 Предисловие к инвенциям, 1891. Цит. по кн. «Исполнительское искусство зарубежных стран», вып. I, стр. 153.
3 Предисловие
к «Маленьким прелюдиям», 1915. Цит. по тому же
источнику, стр. 153.
4 Цит.
по кн.: Т . Л и в а н о в а .
Музыкальная драматургия Баха,
стр. 10.
5 А л ь б е р т
Ш в е й ц е р . Иоганн Себастьян Бах, стр: 348,
26
ческую динамику больших линий и рядом с нею
ную
динамику, о д у х о т в о р я ю щ у ю
эти
Деталйзйровай-
линии».1
Как реакция против использования «волнообразной» динамики в начале нашего столетия возникло направление, сторонники которого (пианисты и педагоги, стремившиеся к объективной интерпретации) отказывались при исполнении клавирных
пьес Баха от естественной интонационной микродинамики. Основываясь на том, что на клавесине невозможно было постепенно
усиливать или ослаблять силу звука, они стремились бережно
сохранять идеально ровные динамические «террасы». Только
в новом разделе произведения разрешалось изменить «этаж» динамики. К этим попыткам буквально воспроизвести на фортепиано характерные особенности клавесинной динамики следует
подходить с такой же меркой, как и к другим попыткам искусственной архаизации.
Детали и главные линии, динамика больших отрезков музыки
и микродинамика — все это находится в исполнении больших
артистов в живой диалектической взаимосвязи. У одного — интерпретация музыки Баха основана на инструментальном претворении вокально-пластического начала. В этом случае игре его не
свойственны резкие динамические контрасты; движение динамических линий закругленно; крупные линии вырастают как сумма
более мелких, важную роль играет микродинамика. Таковы характерные черты динамики Фишера.
У другого артиста в основе исполнения лежат не только вокально-напевные, но и остро и резко подчеркиваемые декламационные моменты. Таким артистом нам представляется Фейнберг. В его исполнении крупный план в известном смысле преобладает над микродинамикой. И в то же время взятая в целом
динамика Фейнберга прежде всего связана с характерной для
него стремительностью и с его пониманием музыкальной формы.
Если ритм в интерпретации выдвигается на первый план,
становится едва ли не главным носителем эмоционального тонуса, то роль микродинамики соответственно уменьшается — она
служит тогда, главным образом, для оттенения артикуляционных
моментов. Что касается крупных динамических линий, то они
при таком остро ритмизованном исполнении группируются,
как правило, по принципу контраста, и смена нюансов происходит не постепенно, а довольно резко, в «поворотных пунктах», и
это иногда придает новому разделу другой колорит. Вероятно,
именно так очень часто возникают динамические решения Гульда.
Это, конечно, относится к произведениям в равномерном и быстром движении; в медленных пьесах (например, в сарабандах),
где в гульдовском исполнении господствуют декламационные
' А л ь б е р т
Швейцер.
Иоганн Себастьян Бах, стр. 267.
приемы, соотношение между ритмикой и микродинамикой меняется в пользу последней.
Сравнивая динамические решения, например, Фишера и
Гульда, хотелось бы подчеркнуть разную роль динамики при
различном понимании ритмики. Несомненно, ритм составляет основу и музицирования Фишера. Н о для него — в отлитие от
Гульда — новая тембрально-динамическая окраска при повторных проведениях темы — например при интерпретации I части
Концерта ре минор ( №
1052 по Указателю произведений
И.-С. Баха В. Ш м и д е р а ) — по-видимому, важнее ритмической
«точности» произнесения. 1
Таким образом, и в отношении дйнамики можно сделать лишь
очень общие выводы, использование которых на практике тесно
связано с конкретным исполнительским замыслом и определенным выбором средств выразительности.
9
« Н а протяжении двух столетий, прошедших со времени Баха,
каждое следующее поколение рассматривало его искусство с собственной точки зрения». 2 Правильность этих слов Хиндемита
лишний раз подтверждается всем тем, что до сих пор говорилось
об интерпретации клавирной музыки Баха. Действительно, если,
скажем, обратиться к Фишеру и Гульду, то оба пианиста опираются в своей игре на объективные стилистические особенности
этой музыки. И все же трудно представить себе большую дистанцию между субъективным истолкованием этих особенностей
названными пианистами, между их исполнительскими замыслами. . .
Возникает в связи с этим вопрос: а как отнестись к традициям в интерпретации клавирного творчества Баха?
Пожалуй, нет другого композитора, в отношении исполнения
музыки которого было бы высказано такое количество^ псевдохудожественных и псевдонаучных догм. Всевозможные «табу» по
поводу применения в клавирных сочинениях Баха rubato, динамики и т. д. уместны лишь в рамках какого-либо определенного
1 О том, что в игре Гульда обнаруживается существенно новый подход
К ритмике, свидетельствует и неоднократно проводившийся автором настоящей статьи эксперимент. Группе слушателей (студентов консерватории) проигрывались записи Концерта ре минор Баха в исполнении Фишера ( В с е союзная студия грамзаписи, Д 7 8 2 7 — 2 8 ) , Гульда (фонотека Ленинградской консерватории, Маг 2 1 8 5 ) и снова Фишера. Интерпретацию Фишера,
очень цельную, убедительную и оцененную вначале по достоинству, при
повторном воспроизведении — после знакомства с гульдовским
исполнен и е м — слушатели даже не узнавали сразу и реагировали довольно резко:
« Т а к нельзя играть, это же неритмично!».
2 P. Н i п d е m i t h.
I. S. Bach — Heritage and Obligation, p. 8.
28
исполнительского замысла; они могут иметь предупреждающее
значение при соблазне выйти за пределы, допустимые стилистическими особенностями произведения. Н о запрещения не должны
претендовать на роль всеобщих, обязательных правил: это противоречило бы мысли об органическом единстве выразительных средств исполнителя,' которую мы стремились доказать.
Если, например, пианист придерживается артикуляции, характерной для Фишера, выверяет темпы по записям Фейнберга,
а динамику распределяет так, как это делает Гульд,— его ожидает жестокая неудача. И так — в любой комбинации средств и
приемов. Т о , что убедительно у одних,— у других становится
карикатурой. Знания, в том числе и знание традиций исполнения, должны служить лишь исходным пунктом для самостоятельных поисков. Эту бесспорную и общеизвестную истину при исполнении клавирных произведений Баха нередко забывают. Пианист, неспособный понять стилистические закономерности его
музыки и особенности его полифонического мышления, чувствует
себя неуверенно, теряет творческую инициативу и в конечном
счете подпадает под влияние манеры игры того или иного признанного авторитета. Вместо оригинальной интерпретации возникает копия, а свою художественную совесть исполнитель успокаивает пустой фразой об «уважении к традициям».
О каких же традициях может идти речь? Подлинные традиции рождены выдающимися исполнителями, нашедшими свое
понимание музыки Баха в длительном творческом процессе. 1
Точных и конкретных сведений об исполнении музыки самим
Бахом или его современниками не существует. Приходится примириться с тем обстоятельством, что о характере баховской интерпретации сохранились лишь самые общие высказывания и
что возможность открытия новых существенных фактов в этой
области ныне уже, по-видимому, маловероятна. Что касается
клавирных сочинений, то традиции их исполнения вообще могли
бы сохраниться лишь в опыте клавесинистов и клавикордистов.
Перенесение же клавирных произведений Баха на фортепиано
ставит перед исполнителем, как уже отмечалось, новые проблемы.
Н о есть в этом вопросе другая, и, может быть, самая главная сторона. Даже если бы современные пианисты имели абсолютно точное представление об игре самого Баха, это не освободило бы их от необходимости творчески подходить к интерпретации его музыки: ибо сильное воздействие на слушателей
оказывает только та интерпретация, которая -неразрывно связана со своей эпохой. «Великие. . . музыканты. . . в своем исполнительском творчестве выражают важнейшие темы своей эпохи,
1 Вспомним хотя бы П. Казальса, который изучал сюиты Баха 12 лет
и только после этого решился исполнить их публично (см. X . - М . К о р р е д о р . Беседы с Пабло Казальсом, стр. 4 9 ) .
29
и именно это делает их искусство понятным, близким и жизненно
важным для современников». 1 Музыку Баха мы воспринимаем
иначе, чем его современники; вполне вероятно, что нас привлекают в ней моменты, быть может, мало занимавшие людей два
столетия назад и существовавшие тогда в творчестве Баха лишь
потенциально. Преувеличение роли традиций, к тому же не
имеющих прямого отношения к авторскому- исполнению, не
только парализует творческую инициативу исполнителя, но и мешает ему ощутить дыхание эпохи, делает его интерпретацию
чуждой и ненужной слушателю. « У музыкального произведения
существует известная доля гибкости стиля, сохраняющая его актуальность для новых поколений, новых вкусов и новых художественных требований... Вся с и л а . . . произведения обнаруживается только тогда, когда находится артист, умеющий перевоссоздать замысел автора, связать его с устремлениями нового
времени, переосмыслить его в своем индивидуальном восприятии,
связать его со своей личностью». 2
Как часто пианисты, обращаясь к истолкованию музыки одного стиля, бездумно используют привычные для них выразительные средства, выработанные на изучении и исполнении музыки других стилей! В той или иной форме на это не раз обращали внимание и отечественные, и зарубежные музыканты.
Сред них — и упоминавшийся уже Чавез. Перу последнего принадлежат
следующие
слова, обращенные к
исполнителям:
« Я предлагаю исполнителям использовать весь свой талант и
знания, чтобы глубоко проникнуть... в замысел композитора.
Ставя вопрос именно так, исполнитель не будет приспосабливать
произведение к своим техническим возможностям и эстетическим
устремлениям, но будет подчинять эти возможности и устремления замыслу композитора». 3
Если так понимать задачу исполнителя, то станут на свои
места важнейшие компоненты, определяющие характер интерпретации,— записанный автором нотный текст, индивидуальность
исполнителя и исполнительские традиции ( т о есть опыт истолкования музыки артистами предыдущих поколений). Никогда
нельзя забывать, что только тогда, когда на первый план выдвигается не исполнитель, а музыкальное произведение, когда пианист использует свое умение, чтобы как можно бережнее донести
до слушателя замысел композитора или, точнее, объективное содержание произведения,— рождается интерпретация, в которой
индивидуальность музыканта раскрывается во всей ее широте,
зрелости, правдивости и естественности. Подчиняя себя произве' Л. Б а р е н б о й м. А . Г. Рубинштейн, т. 1, М у з г и з , Л., 1957, стр. 333.
С. Ф е й н б е р г .
А р т и с т и з м и мастерство неразделимы.— «Советская музыка», 1963, № 1, стр. 88.
3 С. C h a v e z .
Musical Thought, pp. 105—106.
2
30
дению, исполнитель, если он талантлив, неминуемо проявляет
свое творческое 'лицо, и чем оно ярче — тем сильнее оно раскрывается.
В отношении произведений Баха этот процесс подчинения
авторскому замыслу иногда затрудняется рядом специфических
обстоятельств. Подавляющее большинство современных исполнителей воспитано на творчестве главным образом классиков и
романтиков, и поэтому необходимое для постижения Баха искусство полифонического мышления им часто приходится осваивать
дополнительно. Н о без основательного знания самобытных приемов баховской музыкальной драматургии немыслимо успешное
проникновение в мир его искусства. Более чем где бы то ни было
здесь необходимо умение «не только чувствовать музыку, но и
подкреплять свое чувство пониманием». 1 Этому должно способствовать широкое знакомство с творчеством Баха: только «путем
изучения многих произведений Б а х а . . . у современного интерпретатора баховской музыки может развиться то, что мы называем
„ощущением стиля"». 2 К этому следует присоединить и все доступные нам исторические сведения с вытекающими из них выводами, и опыт исполнителей — современных и прошлых поколений. Н о все это лишь подготовит почву для появления собственных творческих замыслов.
Конечно, мы знаем много такого, чего не знали во времена
Баха; но коль скоро мы играем Баха,— мы должны знать то,
что было известно и чем владели его современники. Поэтому
крайне желательно хотя бы частично возродить традиции баховской эпохи, не знавшей разделения творческой деятельности на
композиторскую и исполнительскую.
И чем усерднее и основательнее исполнитель углубится
в творческую лабораторию Баха, тем совершеннее отразятся
в его игре простота, одухотворенность, благородство и глубокая
человечность искусства этого великого композитора.
1 Г. Н е й г а у з. О б искусстве фортепианной игры (Записки педагога).
М у з г и з , М „ 1958, стр. 295.
2 Е. F i s c h e r .
I. S. Bach, S. 33.
А.
Аронов
Д И Н А М И К А И АРТИКУЛЯЦИЯ
В ФОРТЕПИАННЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
БЕТХОВЕНА
В
исполнительских указаниях композитора сказываются особенности его музыкального мышления. Изучение этих указаний помогает постичь авторский музыкальный стиль, а если речь идет о композиторе-пианисте —
позволяет до известной степени восстановить черты его исполнительского искусства.
Н и у нас, ни за рубежом почти нет работ, в которых авторские исполнительские ремарки подвергались бы специальному
истолкованию. Даже титаническая фигура Бетховена в этом
смысле не привлекала до сих пор внимания исследователей.
Между тем пианистическая практика нуждается в таких трудах:
они могли бы дать исполнителям объективную основу для индивидуальной интерпретации.
ДИНАМИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ БЕТХОВЕНА
1
Динамика в музыке — одно из средств выражения. Перечислить выразительные значения каждого из динамических указаний, конечно, невозможно. Pianissimo, например, может придать
музыке задушевнейший тон, характер воспоминания, указать на
отдаленность действия. Fortissimo может свидетельствовать и
о крайней степени выражаемого музыкой эмоционального состояния, и о напряженности действия. Crescendo и diminuendo
соответственно могут выражать эмоциональные подъем и спад,
приближение и -удаление (движение в пространстве).
32
Динамика может служить и средством музыкальной «изобразительности». Нам представляется, например, что crescendo в лябемоль-мажорном эпизоде похоронного марша из Сонаты Лябемоль мажор, ор. 26, помогает созданию иллюзии барабанного
боя (в частности, благодаря этому данный отрывок воспринимается как этап похорон героя — отдание воинских почестей). 1
Динамика фиксируется в нотном тексте с помощью соответствующих знаков. В музыке используются три типа динамических указаний: обозначения различных степеней силы звучания
(динамические уровни), 2 обозначения постепенных изменений
силы звучности (динамические ^эволюции), обозначения акцентов.
Сила звучности, ее постепенные нарастания и спады находят
в нотном тексте относительное отражение. Своими обозначениями композитор указывает лишь основную характеристику
динамических явлений. На долю исполнителя выпадает сложнейшая задача — он должен найти м е р у
динамического выражения.
Динамика композитора столь же индивидуальна, как и другие выразительные средства его музыки — мелодия, гармония,
ритмика, фактура и т. д. Особенностью бетховенской динамики
является контрастность. Динамику Бетховена можно охарактеризовать как неожиданную, внезапную, как «dinamica subita». Наиболее типичные для Бетховена динамические приемы — сопоставление контрастных динамических уровней, акцентировка и нюанс
р < р ( т о есть crescendo,
которое в кульминационной точке
внезапно обрывается piano). Эмоциональная напряженность музыки Бетховена часто находит свое выражение сразу во всех
этих видах динамического контраста. 3
Бетховен придавал динамике исключительное значение. О б
этом свидетельствуют прежде всего детально разработанная им
1 История исполнительского искусства знает не одну попытку истолкования выразительного смысла динамики. Укажем хотя бы на образные
объяснения рр, р, mezza voce, f и ff, принадлежащие Карлу Черни. Приводим несколько его высказываний: « М о ж н о считать, что каждая из пяти
главных разновидностей forte и р&апо выражает определенный х а р а к т е р . . . » ;
«Pianissimo. .. имеет таинственный, мистический характер, при совершенном
исполнении может произвести на слушателя чарующее впечатление музыки,
звучащей издали, э х а . . . » ; «Fortissimo. . . выражает подъем радости до ликот
вания, страдания до неистовства, блеска до бравурности» ( С . С ъ е г п у.
Vollstandige
theoretisch-practische
Pianoforte-Schule...,
op. 500, T, 3,
SS. 4—5, W i e n ) .
2 А в т о р отдает себе отчет в том, что понятие «динамический
уровень»
условно, ибо в исполнении небольшие динамические колебания в пределах
одного и того же «уровня» неизбежны.
8 См.
например, Сонату Ля мажор, ор. 101, II часть, такты 1—8, или
Сонату Си-бемоль мажор, ор. 106, I часть, такты 1 1 2 — 1 2 1 . Если отнять
от этой музыки неожиданные взлеты и падения силы звучности ( / — р ;
jf—р;
sf—р; < р ) , — она в значительной степени потеряет свою неукротимую энергию, свой бодрый и активный характер.
33
система динамических обозначений 1 и та тщательность, с которой он выставлял в тексте знаки динамики.
Проверяя переписку своих произведений, композитор очень
сердился, когда видел, что знаки динамики выставлены неточно.
Так, в письме к К . Гольцу, 2 говоря о такой неаккуратной переписке, Бетховен делает частное замечание о том, что у него «знак
стоит иногда нарочно после нот, например
При подготовке произведения к печати Бетховен не устает
исправлять ошибки в обозначениях динамики. В одном из писем
к Брейткопфу и Гертелю он пишет: «Представьте себе, нахожу
вчера, что при исправлении ошибок в виолончельной сонате
я сам сделал новые ошибки. Так, в Scherzo, Allegro molto в самом начале остается f f . . . только в девятом такте на первой ноте
должно быть выставлено piano».3 В другом письме к тем же
издателям, говоря о партитуре Пятого концерта для фортепиано
с оркестром, Бетховен уточняет: «Заметьте, что в моей корректуре концерта в партии первой скрипки в первом allegro страница 5, строчка 7, такт 1
piano обозначено под этими нотами
JZ
а не под скрипичными». 4
Бетховен считал, что исполнитель его музыки обязан точно
выполнять в с е авторские динамические предписания. О б этом
можно судить хотя бы по следующему эпизоду из жизни композитора. Возмущенный тем, что на репетициях «Фиделио» оркеСм. об этом дальше.
Цит. по кн.: В. Д . К о р г а н о в . Бетховен. Биографический этюд.
С П б . — М., стр. 789. Речь здесь идет о Квартете ля минор, ор. 132.
3 L. van Beethovene samtliche Brief е. Herausgegeben von Emerich Kastner. V o l l i g ungearbeitete und wesentlich vermehrte Neuausgabe von Dr.
Julius Kapp. Leipzig, 1923, S. 144. В этом письме речь идет о II части Сонаты для фортепиано и виолончели Л я м а ж о р , ор. 69.
4 Ibid., S. 189,
1
2
34
странты и певцы проявляли небрежное отношение к айтбрскИМ
динамическим указаниям, Бетховен отказался в один из дней
репетировать оперу. « П о крайней мере это будет для меня меньшим испытанием, чем если б пришлось вблизи слушать с в о ю
изуродованную м у з ы к у » , — мотивирует он свое решение в записке к певцу С . Мейеру. И далее в этой же записке композитор
с горькой иронией пишет: «Вели вычеркнуть из моей оперы все
рр, cresc., все decresc. и все / , ff; ведь они все" равно н е в с е
исполняются. Я теряю всякую охоту писать, потому что вынужден слушать свое произведение в таком виде!» 1
К этому можно прибавить слова Ф . Риса, который рассказывает о том, как Бетховен работал с ним над исполнением Вариаций Ф а мажор, ор. 34: « . . . Е с л и у меня были некоторые неточности в пассаже, если я фальшиво исполнял ноты или с к а ч к и . . .
он редко что-нибудь говорил; если же я что-нибудь опускал
в выразительности, crescendo и т. п. или в характере пьесы, то
он раздражался и говорил: первое — случайность, второе — недостаток понимания, чувства, внимания». 2
Таким образом, осуждая небрежное отношение к авторским
динамическим указаниям, Бетховен требует не только точного,
но прежде всего выразительного их исполнения. Т е м самым композитор обращает внимание исполнителя на выразительный
смысл динамических обозначений. Последние, как б ы они ни
были детализированы, не могут исчерпать всего богатства оттенков выразительности, которое кроется в музыке: каждый динамический знак может иметь множество выразительных значений
2
Приводим обозначения динамических уровней, которые использовались Бетховеном в записи фортепианных произведений:
ррр; piii рр; рр; piu р; р; тр; mezza voce; sotto voce; mf; f;
piu f; ff.3
Указанный перечень знаков отражает историческое завоевание Бетховена — расширение границ силы звучности фортепиано.
Вспомним, как указывали динамику до Бетховена. Композиторы, писавшие музыку для клавесина, употребляли обычно
лишь два обозначения: forte и piano.
L.
F.
w i g van
3 В
1
2
van Beethovens samtliche Briefe, S. 91 (разрядка наша. — A . A . ) .
G. W e g e l e r und F. R i e s. Biographische Notizen tiber LudBeethoven. Berlin und Leipzig, 1906, S. 113.
рукописях Бетховен часто пишет не знак, а слово полностью, на-
пример: piano, pianissimo или sempre piano, sempre pianissimo и т. д.
35
Много нового в области динамики было открыто композиторами мангеймской школы и Ф . - Э . Бахом. Творчество последнего
особенно привлекало внимание Бетховена. Ф . - Э . Бах широко использовал выразительные возможности динамики; в частности,
его излюбленным приемом был яркий динамический контраст.
О б эТом можно судить по текстам его произведений для клавикорда, в которых динамические указания нередко выставлены
весьма подробно.»
У Моцарта forte и piano остаются основными знаками динамики в текстах не только клавесинных, но и фортепианных произведений, хотя в последних он изредка уже употребляет / / и pp.
Чем можно это объяснить? Не привычкой ли Моцарта к обозначениям / и р, поскольку он с детского возраста много лет играл
на клавесине? Возможно, что это и имело некоторое значение.
Однако главное — в другом. Вдумаемся в эстетическое credo
Моцарта, высказанное им в письме к отцу: « . . .Страсти, какими
бы сильными они ни были, никогда не должны выражаться в отвратительной форме, и музыка, передавая самые ужасные ситуации, никогда не должна оскорблять ухо, а, напротив, еще услаждать его при этом, следовательно, всегда оставаться м у з ы к о й . . . » '
Разве из этих строк не следует, что Моцарт и в исполнении должен был избегать динамических крайностей?
Моцарт очень любил фортепиано. Как никто до него, он исключительно одухотворенно и выразительно играл на этом инструменте. Ограниченные динамические возможности тогдашнего
фортепиано ему не мешали. Сочиняя для фортепиано, он не испытывал потребности в расширении границ силы звучности. 2
Динамический-диапазон от piano до forte был по душе Моцарту,
и в рамках этого диапазона он, надо думать, находил неисчерпаемое количество градаций. И от оркестра Моцарт не требовал
звуковой мощи, хотя из его писем известно, что он знал большие симфонические составы. Так, имея в виду оркестр Венского
музыкального общества, Моцарт писал: «Оркестр состоит из
180 человек». 3 Однако, судя по другому письму, он готов довольствоваться значительно ' меньшим составом: « . . .Теперь я
должен поговорить о здешней м у з ы к е . . . Оркестр — очень хороший и сильный; на каждой стороне от 10 до 11 скрипок, 4 альта,
2 гобоя, 2 флейты и 2 кларнета, 2 рожка, 4 виолончели, 4 фа-
! Die Briefe W. A. Mozarts und seiner Familie. Erste kritische Gesamtausgabe. Herausgegeben und eingeleitet von L. Schiedermair. Munchen —
Leipzig, 1914, В. II, S. 122.
2 Само собой разумеется, что сравнительно узкий динамический диапазон музыки Моцарта не означает, что по содержанию она беднее бетховенской.
3 Цит.
по кн.: Е v a und P a u l B a d u r a - S c o d a .
Mozart-Inter1
pretation. Wien, 1957, S. 31.
36
'
гота, 4 контрабаса и трубы и литавры. М о ж н о создавать прекрасную м у з ы к у . . . » 1
Бетховенская динамика отличается от моцартовской. Новая
эпоха — новые эстетические нормы. Бетховена уже не может
удовлетворить сила звучности, которую в состоянии дать «моцартовский» оркестр и тем более фортепиано конца X V I I I , — начала X I X века. Ему нужны большие звуковые «мощности». 2
Он насыщает инструментальную музыку идеей героизма и
активного действия. Это вызывает к жизни новые средства выражения, в том числе в области динамики. Диапазон от piano до
forte для Бетховена слишком узок. Напряженный драматизм его
произведений требует расширения динамики звучания от ррр
до ff.
Оркестр становится для Бетховена тем «инструментом», который более всего отвечает его творческим требованиям. Второе
место в этом смысле занимает фортепиано: по богатству выразительных возможностей оно приближается к оркестру. Бетховен
чутко ощущает его «симфоническую природу». Расширяя динамические границы оркестра, композитор делает это и в отношении фортепиано.
Приведенный в начале этого раздела перечень знаков свидетельствует о стремлении композитора возможно точнее обозначить в тексте градации силы фортепианной звучности. Так,
кроме рр, Бетховен находит еще два обозначения слабейших
звучностей — piu рр и ррр; между рр и р — piu р; между р и
/—тр, mezza voce, sotto voce, mf; между f и ff — piu /.
He все знаки одинаково часто встречаются в бетховенском
тексте. Постоянно используются обозначения рр, р, f и ff. Промежуточные динамические уровни — piu р, piii рр и piu f — встречаются значительно реже и почтй всегда являются динамическими ступенями в длительных процессах crescendo или diminuendo. Редко указывается и ррр.3
С годами менялось отношение Бетховена к использованию
звучностей средней силы (тр, mezza voce, sotto voce, mf). В ранний венский период и в особенности в период творческой зрелости,
когда
окончательно
оформился
героико-драматический
стиль его музыки, Бетховен почти не дает в текстах сольных
Die Briefe W. A. Mozarts. . . , В. I, S. 104.
Расширение динамического масштаба продолжится и после Бетховена.
Немного пройдет времени после его смерти, и зазвучат оркестр Берлиоза,
рояль Листа, которые по силе звучности превзойдут оркестр и рояль творца
«Героической» и «Аппассионаты». Однако линия, намеченная Бетховеном,
не является единственной в X I X веке. Путь, указанный Моцартом, также
приводит к высочайшим художественным достижениям. Вспомним хотя бы
творчество Шопена,
\
3 В фортепианных сонатах ррр указывается: в III
части Сонаты М и бемоль мажор, ор. 7, в I части Сонаты фа минор, ор. 57, в III части С о наты Си-бемоль мажор, ор. 106, в III части Сонаты Д о мажор, ор. 53.
1
2
37
фортепианных Произведений этих обозначений. Так, в фортепианных сонатах первых двух периодов тр и mezza voce вовсе не
встречаются, a mf указывается лишь дважды ( в Сонатах ор. 2
№ 2, I V часть, и ор. 26, II часть).
В поздний период творчества, который характеризуется поворотом Бетховена к углубленному психологизму, его интерес
к звучности mezza voce (sotto
voce) усиливается. 1 Все чаще
можно встретить в последних сонатах обозначения mezza voce
(Сонаты ор. 106 и ор. 109), mf (Соната ор. 101), тр ( С о ната ор. 111).
Возможно, что указание mezza voce связывается Бетховеном
с использованием левой педали (обозначение una corda). В начале Adagio sostenuto из Сонаты Си-бемоль мажор, ор. 106, он
пишет для всей первой темы ( 2 6 тактов): «una corda, mezza
voce». В то же время для последнего аккорда этого Adagio Бетховен указывает: «ррр tutte le corde». Таким образом, в одном
случае Бетховен требует извлечь аккорд с минимальной силой
звучности (ррр), но без левой педали, а в другом — предлагает
исполнить тему «вполголоса» ( т о есть сильнее, чем ррр), но с левой педалью.
Если повышенный интерес к звучности mezza voce характерен
для «позднего» Бетховена, то тяготение к ярким динамическим
контрастам остается типичнейшей чертой творческого облика
композитора на протяжении всей его жизни. Бетховен по-разному сопоставляет динамические уровни: рр и / / , р и / / , / / и р,
f и р и т. д. Динамика такого типа имеет столь большое значение для исполнения произведений Бетховена, что истолкованию
ее смысла посвящается специальный (третий) раздел этой главы.
Бетховен широко использует новые динамические возможности, которые фортепиано ( в отличие от клавесина, инструмента
«скованной» динамики) предоставило музыкантам. О н подробно
выставляет в тексте обозначения постепенных изменений силы
звучности.
Приводим перечень обозначений «динамических эволюции»,
встречающихся в текстах Бетховена: crescendo, piii crescendo,
росо crescendo, рос о а росо crescendo, rinforzando,
decrescendo,
diminuendo,
piii diminuendo,
calando,
smorzando,
mancando,
1 О б этом можно судить не только
ным и симфоническим произведениям.
2 В
основном Бетховен употребляет
diminuendo и графические знаки. Calando,
зуются редко. Приблизительно до ор. 51
ослабление звучности словом decrescendo.
ребляется термин diminuendo.
38
по фортепианным, но и по камертермины'
smorzando,
Бетховен
После ор.
crescendo,
decrescendo,
mancando и др. испольуказывает постепенное
51 почти всегда упот-
Очень точно указывает он место и продолжительность cresce*
ndo и diminuendo, определяя их пунктирной линией ( в рукописях
композитор обычно пишет двойную пунктирную линию, то есть
=* = = = = = = ). Если линия не выписана, то окончание crescendo и diminuendo все же легко узнать, так как эти нюансы
обязательно приводят либо к какому-нибудь определенному динамическому уровню, либо к акценту. Иногда crescendo продолжается до обозначения diminuendo (и наоборот). Как и в отношении динамических уровней, композитор стремится указать
меру crescendo и diminuendo.
Часто Бетховен требует от пианиста даже усиления (crescendo) одного звука или аккорда, что лишний раз доказывает
оркестровый характер его мышления. Этот нюанс он указывает
тремя обозначениями: словом crescendo, его графическим знаком
(«вилочкой») и термином rinforzando.1
(Largo, con gran espresslone)
1 Rinforzando—•
итал. «усиливая». В толковании этого_термина, различными музыкальными словарями имеются расхождения. Rinforzando
трактуют и как знак акцента (Г. Мендель), и как обозначение сильного
crescendo ( Г . Риман). В словаре А . Гарраса, например, сказано:
«Rinforzamento, rinforzando. . . усилить вдруг звук ноты или усилить целый
пассаж, переходя постепенно от piano к forte или от forte к
fortissimo».
(Карманный музыкальный словарь. Музыкальная терминология А . Гарраса, исправленная и умноженная князем В. Ф . Одоевским. И з д . П. Ю р генсона, М . , 1895, стр. 104). Бетховен использует этот термин и как о б о значение динамического уровня (см. Сонату Д о мажор, ор. 53, II часть,
такты 9 — 1 2 ) , и как обозначение crescendo ( ( с м . Сонату фа минор, ор. 57,
] П часть, такты 2 2 6 — 2 2 7 ) , и как знак акцента.
39
М о ж н о ли считать, что Бетховен такими нюансами требует
невыполнимого? Конечно, crescendo одного звука или аккорда,
вполне возможное на струнных и духовых инструментах, на фортепиано исполнить нельзя. Однако если пианист после извлечения звука будет внутренне слышать его постепенно усиливающимся, то это позволит ему следующий звук взять с той мерой
силы, которая будет восприниматься как завершение crescendo
предыдущего звука или аккорда.
В произведениях Бетховена встречается обозначение calando,
которое употреблял и Моцарт. В словаре Римана этот термин
трактуется следующим образом: «Calando (итал.), стихая, уменьшая силу и скорость; слово это, таким образом, соединяет значение diminuendo и ritardando»}
Против подобного толкования calando у Моцарта выступают
Ева и Пауль Бадура-Скода. Они пишут: « В автографах М о царта иногда попадается слово calando. У него оно означало
только «тише», а не «тише и медленнее», как в более поздние
времена. . . Если бы «calando»
обозначало также «медленнее»,
за ним следовало бы «tempo», как Моцарт обычно помечал, скажем, после „rallentando"». 2
У Бетховена уже в произведении, обозначенном как ор. 1
( Т р и о для фортепиано, скрипки и виолончели, Соль мажор),
calando означает и ослабление звучности, и замедление движения, так как вслед за calando выставлено указание a tempo.3
Однако иногда Бетховен выставляет слово calando только
в качестве обозначения ослабления звучйости.
Рассмотрим два примера:
( A l l e g r o assalV
„
•г-
2
40
г
Г. Р и м а н. Музыкальный словарь. И з д . П . Юргенсона, М „ 1896,
581.
Е v a und P a u l B a d u r a - S c o d a.' Mozart-Interpretation, S. 35.
3 См. последние такты финала этого Т р и о .
1
стр.
r-s
В отрывке из Сонаты ор. 2 № 3 в начале первой фразы
указано calando, а в начале второй — ralle.nta.ndo. Видимо, первая фраза должна исполняться с постепенным ослаблением звучности, а вторая — с замедлением. Какой был бы иначе смысл
в противопоставлении calando и rallentando?
В отрывке из Сонаты ор. 10 № 1 Бетховен объединяет
calando и ritardando. Это говорит о том, что и в данном случае
Бетховен не рассматривает calando как обозначение замедления.
Очевидно, термин calando всегда означает у Бетховена ослабление звучности, но не всегда замедление. В подтверждение
этого можно указать и на коду Вариаций Ре мажор, в которой
calando употребляется лишь в значении decrescendo,
так как
замедление выписано соответствующей ритмикой.
Бетховен записывает в тексте не только те crescendo и diminuendo, характер которых легко поддается объяснению с точки
зрения драматургии произведения (длительное нарастание эмоциональной напряженности, спад ее; приближение и удаление
и т. д.). Он достаточно тщательно обозначает crescendo и diminuendo, обусловленные деталями мелодического или гармонического развития музыки.
Композитор нередко указывает в тексте crescendo и diminuendo, относящиеся к интонированию м е л о д и и . 1
Естественными нюансами, вытекающими из звуковысотных соотношений,
1 Такие
crescendo и diminuendo Бетховен указывает чаще всего графическими знаками, то есть
~ — .
41
являются crescendo при восходящем движении мелодии и diminuendo при нисходящем. У Бетховена немало таких нюансов. О д нако давно замечен большой выразительный эффект противоположных динамических решений, когда crescendo сопровождает
движение мелодии вниз, a diminuendo — вверх. Объективным
обоснованием для этих нюансов часто являются особенности
гармонии или ритма. Такие crescendo и diminuendo применялись
Моцартом. Они выразительно используются и Бетховеном.
Композитор часто отмечает crescendo и diminuendo, обусловленные логикой г а р м о н и ч е с к о г о
развития. 1 Укажем на
некоторые случаи взаимодействия динамики и гармонии, встречающиеся в произведениях Бетховена. Crescendo нередко связано
с гармоническими отклонениями и модуляциями, a diminuendo —
с возвращением в тональность. В модуляциях композитор обозначает crescendo иногда д о тоники новой тональности, иногда до
каданса. В последних случаях переход к новой тонике нередко
сопровождается diminuendo. Иногда смысл указанного в тексте
crescendo определяется движением к диссонансу, после которого
наступает ослабление звучности.
Бетховен употребляет crescendo и diminuendo и для построения большой фразы. Для этого часто используется динамика
следующего типа: — = : = = - -2 Иногда с помощью такой динамики
объединяются в одно целое две одинаковые небольшие фразы,
следующие одна за другой:
( Vivacissimamente)
Уже говорилось, что одним из трех основных приемов контрастной динамики у Бетховена является нюанс типа
Огромное значение этого нюанса для исполнения музыки Бетховена отмечал ряд музыкантов, в частности Ф . Лист и его ученик Г. Бюлов. 3 Нюанс
р служит Бетховену сильнейшим
средством выражения сложных психологических состояний.
1 М н о г о интересного в этом смысле исполнитель найдет хотя бы в финале Сонаты ре минор, ор. 31 № 2.
2 См. Сонату Си-бемоль мажор, ор. 106, II часть, такты 4 9 — 5 4 .
3 Г.
Бюлов пишет следующее: «Исполнительский нюанс «cresc. р »
со всеми его возможными градациями столь присущ стилю мастера, что
произвольное исполнение этого нюанса или его пропуск следует считать
грубой погрешностью против бетховенского д у х а . . . » (См. Beethoven's Werke
ftir Pianoforte Solo v o n op. 53 AN in kritischer und instructiver A u s g a b e
mit erlauternden Anmerkungen fur Lehrende und Lernende v o n Hans von
Biillow. Stuttgart, 1872, S. 4).
42
Вот один из примеров динамики этого типа:
Иногда посредством этого нюанса достигается тонкая «речевая» интонация, например:
(Andante espresslvo)
ь tempo
A *
*
Приводим
перечень обозначений динамических
акцентов
Бетховена: mfp; >; f; fp; rf; sf; fz; sfp; sfpp; sff; ff; ffp.1
Большое количество обозначений говорит об исключительном значении, которое придавал Бетховен акцентировке. Он
был беспощаден в оценке исполнения, если слышал неверную
акцентировку. Примером тому может служить его суровый отзыв о Черни: « В игре Черни нет связности, и он неверно
акцентирует». 2
Сам Бетховен в исполнении широко пользовался акцентировкой. На это обращали внимание многие его современники.
Ж.-Б. Крамер и М . Клементи, по словам Шиндлера, единодушно
отмечали три особенности исполнения композитора: спокойное
положение: рук и корпуса, связный стиль (legato) и, сверх того,
примечательную акцентировку. 3
Ряд сведений об акцентировке Бетховена сообщает Ш и н д лер.4 Он пишет, что акценты композитора были, по преимуществу, «ритмическими». «Мелодические» акценты делались им
«по необходимости». П о словам Шиндлера, Бетховен в гораздо
большей степени, чем это делали другие пианисты, акцентировал
1 Говорить
о том, какой акцент сильнее — sf или ff, mfp или ^, f
или f p —• не имеет смысла. Знаки акцентов используются Бетховеном S различных регистрах, динамике, темпах; эти знаки выставляются и к одной
ноте, и к аккорду. Следовательно, сила звучания акцентов в одном контексте может быть совсем иной, чем в другом.
2 A.
S o h a n d l e r . Biographie vion L. van Beethoven. Miinster, 1860,
В. II, S. 236.
3 Ibid., s. 234.
4 Ibid., ss. 236—237.
43
задержания, особенно малые секунды в певучих эпизодах. Благодаря этому его игра приобретала характерную выразительность, далекую от гладкой и плоской игры тех, кто в своем искусстве никогда не подымался до выразительности музыкальной речи.
Т р у д н о сказать, что имел в виду Шиндлер под понятием
«ритмический акцент». Это определение можно объяснить и как
динамическое усиление сильного времени (или даже каждой метрической доли такта), и как акцентирование того или иного
звука ритмическими средствами. 1
Оркестровый характер мышления Бетховена сказывался и
в обозначениях акцентов. Ведь знаки fp, ffp, sfp и т. п. пришли
в фортепианную музыку из практики игры на оркестровых инструментах. О том, как исполнять такие динамические указания
на скрипке, говорит Леопольд Моцарт: «. . .после того, как вы
сильно взяли ноту, не нужно, как это очень неловко делают
некоторые, отнимать смычок от струны, а надо продолжать вести им, следовательно, звук должен быть еще слышен, но при
этом уже спокойно замирать». 2 Того, о чем пишет Леопольд
Моцарт, возможно В какой-то мере добиться на рояле лишь
в медленных темпах, когда время позволяет услышать естественное угасание фортепианного звука. В быстром движении эти
акценты можно рассматривать как forte, относящееся к одному
звуку (аккорду) на общем уровне piano..
Исследование бетховенских текстов позволяет сделать следующий вывод: композитор, как правило, акцентирует в нотном тексте! «неустои» — мелодические (главным образом, хроматизмы), 3 гармонические (главным образом, диссонансы), 4 ритмические (слабые времена, синкопы). 5 Часто акцент попадает на
звучание, являющееся «неустоем» во всех трех отношениях. 6
В акцентировке диссонансов Бетховен является продолжателем традиций Ф . - Э . Баха, который писал: «Все диссонансы
обычно играют сильнее, чем консонансы, так как диссонансы
подчеркивают и увеличивают страсти, консонансы же их успокаивают». 7 У Бетховена акцентирование диссонансов и хроматизмов действительно «подчеркивает и увеличивает страсти», то
есть, выражаясь современным языком, служит средством усиле1 Последнее может
быть осуществлено или ритмической
оттяжкой
звука, или его4 некоторым удлинением.
2 L.
Mozart.
Griindliche Viiolmschule. Frankfurt und
Leipzig,
1791, S. 256.
3 См., например, Сонату
Ми-бемоль мажор, ор. 7, III часть, такт 19.
4 См., например, Сонату Ре мажор, ор. 28, II часть, такт 13.
6 См., например, Сонату Ми-бемоль мажор, ор. 7, III часть, такт
16.
0 См., например, Сонату Си-бемоль мажор, ор. 22, II часть, такт 27.
7 С. - Р h. - Е. B a c h .
Versuch iiber die wahre Art das Klavier zu spielen. Leipzig, 1925, В. I, S. 92. Цит. по кн.: А . Д . А л е к с е е в . Клавирное
искусство. Музгиз, М . — Л., 1952, стр. 200.
44
ния эмоциональной напряженности.
Акцентирование
слабых
времен иногда выражает у Бетховена своеобразие действия, специфику танцевального движения 1 и т. д. Акценты Бетховена
в ряде случаев имеют то же значение, что и в Ораторском искусстве, то есть подчеркивают характерной интонацией отдельные
музыкальные «слоги».
Как отмечалось, динамические указания Бетховена в его фортепианных произведениях свидетельствуют об оркестровом характере музыкального мышления композитора, 2 об его стремлении к расширению динамического диапазона фортепианной звучности.
О специфике использования Бетховеном фортепиано образно
говорит П. Беккер: «Мысли Бетховена разрастаются далеко за
пределы фортепианного выражения. С о звоном рвутся струны,
и кажется, будто под руками демонического виртуоза рушится
инструмент, который способен дать лишь отдаленный намек на
то, чего добивается от него творческая воля. Сердито захлопывает Бетховен крышку рояля: ,,Он все-таки остается несовершенным инструментом"». 3
Говоря о расширении границ силы звучности фортепиано, не
надо забывать, что и кроме Бетховена были в то время пианисты, исполнительский стиль которых отличался большим динамическим диапазоном. Таким пианистом был, например, Клементи, которому принадлежат слова: «Прогресс фортепианной
игры заключается в стремлении возможно лучше подражать оркестру». 4 Почему же расширение динамических границ фортепиано связывается все-таки с именем Бетховена? Потому, что
достижения виртуозов в отношении нового использования инструмента навеки закрепляются только в гениальных музыкальных
произведениях. Художник, которому удается создать такие произведения, становится знаменосцем нового направления. Этот
жребий выпал Бетховену, который был и великим пианистом-новатором и гениальным композитором. Его фортепианное творчество обусловило возникновение пианизма нового типа,
одной из стилевых черт которого явился симфонический характер динамики. 5
1
См., например, Квартет
до
минор,
ор.
18
№ 4,
III
часть,
такты
1—8.
2 О б оркестровом характере мышления Бетховена свидетельствуют, разумеется, не только динамические указания.
3 П. Б е к к е р .
Бетховен, часть 2. М., 1913, стр. 3.
4 Цит. по кн.: В. Д . К о р г а н о в. Бетховен, стр. 88.
5 Бетховен
утверждал новый принцип использования фортепиано не
только своими произведениями и исполнительской практикой. Рейхард пи-шет, что фортепианный фабрикант Штрейхер «вместо мягкости, податливости и .отрывистости венских инструментов, по совету и желанию Е«т*(»вена
45
8
Перейдем к рассмотрению динамически-контрастных сопоставлений в произведениях Бетховена — рр и f f , ff и р, рр и / и т. п.
Для удобства дальнейшего изложения этот важнейший прием
бетховенской динамики условно обозначим формулой р — / . '
Выразительный смысл р — / может быть истолкован по-разному: и как «динамическое вторжение», и как «динамический
диалог», и как «динамика света и т е н и » . . . Эти понятия выражают характерные для творчества Бетховена типы сопоставления музыкальных образов.
Что такое «динамическое вторжение»? Э т о конфликтное
столкновение образов. О н о всегда связано не только с динамическим, но и с другими контрастами — ладовым, тональным, ритмическим, фактурным, регистровым и т. п. Характерной чертой
«вторжения» является внезапность. В произведениях Бетховена
«вторжение» нарушает плавное мелодическое развитие. Так, например, в Сонате фа минор, ор. 57, тихое звучание главной
темы (рр), выражающей состояние глубочайшей задумчивости,
неоднократно
нарушается
неукротимыми
гневными
вспышками ( f f ) :
(Allegro
ill'1
assal)
uibJ J i f f
П — Ч Р
придавал своим фортепиано силу сопротивления и эластичность — для того
чтобы виртуоз, играющий сильно и выразительно, обладал большей с в о б о дой в распоряжении инструментом, мог увеличивать и сокращать продолжительность звука. Э т о придало его фортепиано силу и разнообразие, так
что они должны более всякого другого инструмента удовлетворить виртуоза, который в игре ищет не только блестящих эффектов» (A. T h a y e r .
L u d w i g van Beethovens Leben. Leipzig, 1910, В. II, S. 556. Цит. по кн.:
П. Б е к к е р . Бетховен, часть 2, стр. 9 ) . Приведенное свидетельство покавывает, что Бетховен вмешивался в процесс производства роялей и с определенных художественных позиций указывал пути развития механики инструментов.
Этому вопросу посвящен раздел в статье Н . Фишмана « Л ю д в и г ван
Бетховен о фортепианном исполнительстве и педагогике».— С б . «Вопросы
фортепианной педагогики», вып. 1. М у з г и з , М . , 1963, стр. 1 1 8 — 1 2 5 .
1 Динамика такого типа характерна не только для фортепианной, но и
симфонической, и камерной музыки Бетховена.
46
Яркий пример «вторжения» имеется в Сонате Си-бемоль
мажор, ор. 106. В ней глубоко человечная, трепетно-взволнованная мелодия прерывается коротким маршем, после которого она
продолжает свое течение с того же места, где была прервана: 1
Ц"
( Allegro)
Л
м
Ч
•Ф-9-
^
Л
»
f
[-6—
г
'j
fP
-ф
-Jit*
лТ^
UJ""
[
ч
В ряде произведений Бетховена «вторжение» связано с возвращением ранее звучавшего образа. Так, в финале Сонаты
Ля мажор, ор. 101, короткий, энергичный мотив, представляющий собой трансформацию основного мотива главной партии,
внезапно сменяет мелодию, которой заканчивается экспозиция:
( G e s c h w l n d e , doch nicht zu s e h r . . )
1 Crescendo,
указанное в примере, не должно быть очень сильным.
П о существу, оно направлено к fp в такте 10 нотного примера, где этим
знаком отмечен аккорд, с которого возобновляется прерванное ранее мелодическое развитие.
47
a tempo
Во II части Сонаты Ля мажор, ор. 2 № 2, «вторжение» сопряжено с образным перевоплощением главной темы: 1
Столкновение образов, охарактеризованное словом «вторжение», часто подчеркивается композитором самым острым динамическим средством — сопоставлением рр и / / . Это видно
в некоторых, приведенных выше, примерах, число которых может быть легко увеличено.
Конфликт образов находит свое выражение в произведениях
Бетховена и в форме «динамического диалога», отличительными
чертами которого являются лаконизм реплик, их регистровый и
звуковой контраст.
Наличие диалогов в своих произведениях отмечал сам композитор. Вот что пишет об этом Шиндлер, пересказывая разговор с Бетховеном: «Уступив моей просьбе, он рассказал о содержании Largo из Сонаты Ре мажор, ор. 10, более обстоятельно.
Он высказался в том смысле, что время, когда писалось большинство сонат, было поэтичнее, чем настоящее ( 1 8 2 3 ) , поэтому
не было необходимости в указании идеи произведения. Каждый,
продолжал он дальше, угадывал в этом Largo изображение душевного состояния меланхолика со всеми нюансами света и тени
образа меланхолии, так же, как каждый в двух сонатах ор. 14
узнавал без надписи спор между двумя принципами в форме
диалога и т. д.» 2
Шиндлер разъясняет, что Бетховен, понимая «два принципа»
как противоположности, называл их «молящим» и «противящимся». 3
Э т о же происходит и во II части Сонаты Д о мажор, ор. 2 № 3.
A. S c h i n d l e r .
Biographie von L. van Beethoven, В. II, S. 222.
3 См. А . Ш m и t ц.
« Д в а принципа» Бетховена.— С б . «Проблемы бетховенского стиля». М у з г и з , М., 1932, стр. 127.
1
2
48
В произведениях Бетховена ярко отличаются друг от друга
два типа диалогов — «спокойное собеседование» и «спор». «Спокойное собеседование», в сущности, не принадлежит к типу «динамического диалога», так как беседующие голоса не находятся
в конфликтных отношениях и характеризуются поэтому общим
«динамическим уровнем». 1
«Динамический диалог» выражает у Бетховена столкновения
различного характера, вплоть до самого резкого конфликта.
Например, острый драматический конфликт между «молящим»
и «противящимся» выражен в I части Сонаты ре минор, ор.
31 № 2: 2
Мотиву баса, выражающему враждебную человеку силу (рок,
судьба), противопоставлен верхний голос, где интонация, поначалу «молящая», сменяется тремя односложными репликами —
«нет!».
«Динамический диалог» в" фортепианных произведениях часто воспринимается как имитация спора или оживленной беседы между разными группами оркестра. На фортепиано передать тембр инструментов оркестра невозможно, но тембровая
1
2
См. Сонату Соль мажор, ор. 14 № 2, I часть, такты 4 7 — 5 7 .
Т о же в Сонате Си-бемоль мaжop i ор. 106, I часть, такты 1 8 2 — 1 9 4 .
Баренбойм
49
характеристика
стровой: 1
мотивов
в
известной
мере восполняется реги-
Динамика придает этому диалогу характер спора, несмотря
на то, что участвующие» в споре говорят Как бы одни и те же
слова (ведь «говорят»-то они по-разному).
Бетховен в высокой степени развил тип «внутреннего динамического диалога» (имеется в виду тема, раздвоенная на драматургически конфликтные начала).
17
'
Mollo
Allegro е con
brio
V
X
' "J • -
Такие «внутренние диалоги» выражают столкновение противоречивых стремлений личности. 2 Волевым, призывающим
к действию интонациям противопоставляются мотивы, выражающие лирические чувства. «Героическое» Бетховен обычно связывает со звучностью forte или fortissimo,
«лирическое» — со
звучностью piano или pianissimo. Однако встречаются и противоположные динамические решения. Например, в главной теме
I части Третьей симфонии героические интонации, согласно требованию автора, должны звучать piano, а появление лирических
интонаций Бетховен отмечает crescendo. «Внутренний динамический диалог», выражающий «раздвоение единого»,— яркое проявление диалектичное™ мышления Бетховена.
1
2
50
Т о же в Сонате Си-бемоль мажор, ор. 106, I часть, такты 3 8 3 — 3 8 8 .
Т о же см. в Сонате ми минор, ор. 90, I часть, такты 1—8.
Контрастность динамики ярко проявляется в произведениях
Бетховена и в виде сопоставления «света и тени». 1 Это определение следует понимать
как характеристику динамически
контрастных
сопоставлений,
не
выражающих
конфликта. 2
( « С в е т у » в качестве антагониста противостоит не «тень», а
«тьма».)
Когда «свет и тень» распределяются между лаконичными
репликами, возникает своеобразный диалог, но не «спор»:
18
( N l c h t zu geschwind...)
(f)
•>/
Р
\ Т\и
.
f
»
р
В этом эпизоде контрастность динамики не создает «динамического диалога» (конфликта о б р а з о в ) : участвующие в диалоге «личности» выражают одну и ту же мысль, только первая
из них высказывается более непосредственно и пылко
(forte),
а вторая — более сдержанно и мечтательно (piano).
Конечно, преувеличив динамический контраст, пианист может исполнить этот отрывок как «спор» ( ч т о в данном случае
вряд ли будет правильно). Истолкование динамических указаний •— творческий акт. З д е с ь многое зависит от того, что исполнитель слышит в музыке. И б о между «вторжением», «динамическим диалогом», «светом и тенью» нет резкой грани. Если же
смягчить динамический контраст, то «вторжение» потеряет свой
специфический характер, и т. д. Исполнитель может, конечно,
давать разное истолкование динамических указаний. Однако необходимо, чтобы оно было основано на объективном материале,
то есть вытекало из характерных мелодических, гармонических,
фактурных, регистровых и иных сопоставлений.
Нередко динамически-контрастное сопоставление типа р — /
создает впечатление диалога между «оркестром» (tutti) и «солистом» (solo). 3 Э т о впечатление обычно обусловлено не только
динамическим, но и фактурным контрастом. В таких случаях не1 «Свет и тень» —• так называли сопоставление
jorte и piano в эпоху
клавирного искусства.
2 Ведь не все контрастно-динамические сопоставления являются
выражением конфликта музыкальных образов!
3 Диалог tutti. и solo характерен для произведений венских классиков —
Гайдна, Моцарта, Бетховена. Впрочем, он нередко встречается у Ф . - Э . Баха,
И . - Х . Баха и др. Замечательные образцы такого диалога дал и И.-С. Бах
в Итальянском концерте.
3*
51
трудно бывает отличить «оркестровую» фактуру от фактуры
«солирующего»
инструмента. Сопоставление «tutti» и «solo»
иногда воспринимается как диалог между оркестром и фортепиано, 1 иногда — как диалог между оркестром и скрипкой. 2
В отличие от таких понятий, как «динамическое вторжение»,
«динамический диалог», «динамика света и тени», выражение
«tutti и solo» не характеризует взаимоотношения образов. « О р кестр» может вести с «солистом» и «спокойное собеседование» и
спор; «инструментальный» монолог может быть прерваН «динамическим вторжением» оркестра и, наоборот, «вторжение» может
быть осуществлено «солистом»;
«собеседники» могут говорить
об одном и том же, но проявлять при этом разный темперамент
(«динамика света и тени»).
Обратим внимание на некоторые закономерности в использовании Бетховеном динамики как драматургического средства
в построении сонатного цикла.
В построении сонатного цикла одним из характерных для
Бетховена архитектонических приемов является контрастная динамика. Сопоставление динамики начала и конца частей сонат,
а также разделов сонатного Allegro часто определяется формулой р — / .
Нередко динамически контрастируют начало экспозиции и
начало репризы. Если для начала главной партии в экспозиции
Бетховен обычно указывает piano (сдержанность высказывания), то после разработки, которая в его произведениях особенно
богата «событиями», композитор нередко выявляет внутренн ю ю энергию главной партии: наступает «динамическая реприза», в которой главная партия предстает обогащенной средствами звуковой, а иногда и фактурной динамики.3
1 См. Сонату Д о мажор, ор. 2 №
3. В пользу такого толкования С о наты говорят не только характерные фактурно-динамические контрасты, но
и некоторые особенности формы этого произведения: монументальность, наличие в I части каденции «солиста». « S o l o » часто легко узнать и по виртуозности «фортепианной» партии.
2 См. Сонату Л я мажор, ор. 2 №
2. В пользу такого толкования С о наты говорят неизменно унисонная фактура мелодической линии этого произведения (за исключением тех эпизодов, в которых можно ощутить оркестровое «tutti»), скрипичный характер указанной автором
артикуляции,
скрипичный диапазон мелодической линии. Особенно «выдает» скрипичный
3
склад фактуры тема финала: скачок вниз ( м и — с о ль-диез')
чрезвычайно
характерен для скрипичной литературы.
3 Такие репризы имеются в следующих
Сонатах для фортепиано: фа
минор, ор. 2 № 1, I часть; Л я мажор, ор. 2 № 2, I часть; Ми-бемоль мажор, ор. 7, I часть; М и мажор, ор. 14 № 1, I часть; Соль мажор, ор. 31
№ 1, I часть; фа минор, ор. 57, I часть; Фа-диез мажор, ор. 78, I часть;
Си-бемоль мажор, ор. 106, I часть; Ля-бемоль мажор, ор. 110, I часть;
до минор, ор. 111, I часть.
52
Бетховен, конечно, не всегда идет по пути создания «динамической репризы»: часто в его сонатах реприза, подобно экспозиции, начинается piano. Однако, как известно, piano в репризе
воспринимается по-иному, чем в экспозиции: оно воспринимается уже не как сдержанность высказывания, а как характерная черта музыкального образа, который после всего «пережитого» в экспозиции и разработке сохраняет «свое лицб*».
Dinamica subita часто используется композитором и в сопоставлении динамических уровней конца одного раздела сонатного Allegro с началом соседнего. Такая динамика характерна
и для перехода от разработки к репризе. Эффект внезапности
наступления репризы Бетховен создает двумя приемами: контрастным сопоставлением динамических уровней конца разработки и начала репризы ( р — / ) 1 и динамикой типа р < р (конец
разработки — р < , начало репризы — р).2 Для усиления эффекта внезапности композитор иногда делает между разработкой и
репризой большую паузу. 3
Однако Бетховен использует и другие принципы перехода от
разработки к репризе, среди которых чаще всего встречается
«штурм» репризы, то есть мощное динамическое нарастание, которое возникает в конце разработки и увенчивается наступлением репризы (конец разработки — р < или р р < , начало репризы — / или ff).4
Очень мало у Бетховена сонатных Allegro, в которых переход
от разработки к репризе отличается плавностью (общностью
динамических уровней конца разработки и начала репризы, 5
либо постепенным динамическим спадом к репризе 6 ).
Динамика имеет большое значение и в создании кульминации. Кульминационными по силе звучностями в произведениях
Бетховена, как уже отмечалось, являются fortissimo и pianissimo
(иногда и ррр). Композитор экономно употребляет эти сильные
средства. Как правило, звучание на этих динамических уровнях длится недолго.
Тем не менее fortissimo и pianissimo встречаются в произведениях Бетховена неоднократно. Обычно это свидетельствует о
кульминации в экспозиции, в разработке, в репризе. Конечно,
в сонатных Allegro Бетховена имеется и главная кульминация,
1 См., например, Сонату Ре мажор, ор. 10 № 3, I часть; Сонату Соль
мажор, ор. 31 № 1, I часть; или Сонату фа минор, ор. 57, I часть.
2 См., например, Сонату Ми-бемоль мажор, ор. 31 № 3, I часть; С о нату Ми-бемоль мажор, op. 81а, III часть.
3 См., например, Сонату Ми-бемоль мажор, ор. 7, I часть.
4 См., например, Сонату фа минор, ор. 2 № 1 , 1 <1асть; Сонату Д о мажор, ор. 53, I часть; Сонату Ми-бемоль мажор, op. 81а, I часть; Сонату
ми минор, ор. 90, I часть; Сонату Си-бемоль мажор, ор. 106, I часть.
5 См., например, Сонату до минор, ор. 10 № 3, I часть.
6 См., например, Сонату ре минор, ор. 31 № 2, I часть.
которая большей частью приходится на конец разработки или
на коду.
Кульминации экспозиции и разработки, главной партии и
побочной и т. п. имеют разный выразительный смысл, следовательно, по силе звучания они не могут быть равными. Несмотря
на то, что их динамический уровень обозначается композитором
каждый раз одинаково (рр или / / ) , исполнитель должен найти
динамическое соотношение кульминаций, оправданное логикой
развития произведения, и тем самым обеспечить стройность музыкальной формы.
АРТИКУЛЯЦИЯ В ФОРТЕПИАННЫХ СОНАТАХ БЕТХОВЕНА
Н и один исследователь вопросов артикуляции не сможет
пройти мимо недавно опубликованной интереснейшей монографии И. А . Браудо «Артикуляция». В этой книге мастерски раскрыт ряд общих артикуляционных закономерностей, убедительно
показано богатство и многообразие выразительных функций
артикуляции; с большой проницательностью проведен анализ
произношения ряда мелодий.
А в т о р настоящей статьи во многом опирается на общие положения, сформулированные И. А . Браудо. При этом используется и принятая в исследовании Браудо терминология, например такие термины, как прямое, обращенное и частично
обращенное произношение, тон-мотив, предваряющая синкопа,
восьмушка и фанфара, мотивная цепь, мотивная опора, внутрии межмотивная цезуры и т. д. Однако специальное обращение
автора этой статьи к музыке Бетховена потребовало внесения
некоторых новых положений и новых, дополнительных терминов.
1
Бетховен уделял артикуляции большое внимание и тщательно обозначал ее в тексте. В 1825 году он писал К . Гольцу: 1
«Если над нотой стоит точка, то нельзя превращать ее в клин, и
наоборот. Это не одно и то же f f
f—или
там, где сейчас! Н е все равно — так - f f Г
1 А.
К а 1 i s с h е г.
№ 1131.
54
Beethovens
t i t • Связки нужны
или так fIlG»_g_£i
samtliche Briefe
В.
V.
Berlin,
1908,
Бетховенские артикуляционные указания дают исполнителю
ясное представление о воле автора и являются единственно возможными для исполнителя. Произведения И.-С. Баха нередко допускают различное произнесение определенных мотивных структур. Например, многие темы баховских фуг можно произносить
различно, сохраняя принятую артикуляцию на протяжении всей
фуги. У Бетховена иначе: его музыка оставляет исполнителю
некоторую свободу выбора, но лишь в пределах одной артикуляционной шкалы, то есть в пределах либо legato, либо поп legato,
либо staccato; эта музыка отказывает исполнителю в праве заменять одну артикуляционную шкалу другой. Композитор сам отмечает в тексте все случаи, когда хочет различного произнесения какой-либо фразы. Достаточно привести в качестве примера
артикуляционные модификации главной темы финала Сонаты
Ми-бемоль мажор, ор. 81а.
(Vlvacisslmamente)
Значение артикуляции в комплексе выразительных средств
у Бетховена очень велико. В одних случаях способ произнесения
определяет образный характер музыки. Стоит только исполнить
Скерцо из Сонаты Ми-бемоль мажор, ор. 31 № 3, не staccato,
как указано в тексте, a legato, и часть эта лишится своей фантастичности, юмора, искристости и т. д. Или, например, сыграть I
часть Сонаты до-диез минор, ор. 27 № 2, не legato, а поп legato,
и получится явная бессмыслица: вместо глубокого философского
размышления мы услышим нелепый гитарный аккомпанемент,
на фоне которого зазвучат бессвязные реплики.
В других случаях артикуляция помогает целостности произнесения. В произведениях Бетховена немало таких тем, целостность которых достигается взаимодействием сложного ритмического рисунка и манеры произнесения. Например, в теме I части
55
Сонаты Ля-бемоль мажор, ор. 26, мелодия необычайно пластична благодаря особому строению: ее начинают однотипные мотивы (трехсложные, 1 с опорой на втором «слоге»). Первый состоит из ровных восьмых:
Andante
и
в т о р о й — с ж а т : его опора и хореическое окончание
в одной восьмой:
умещаются
(Andante 1 )
п
в третьем — расширены затактовая и опорная части:
24
(Andante)
В этом мотиве хореическое окончание является тоном двойного
значения, так как оно служит и отчлененным затактом четвертого мотива. В результате такой искусной модификации мотивов мелодия «дышит» — сжимается, растягивается — и совершенно лишена квадратности. З а артикуляцией же остается функция упорядочения мотивной структуры посредством расстановки
цезур и связывания нот согласно правилам Арямого произношения.2
З д е с ь и в дальнейшем используется терминология, принятая в поэтической метрике. Трехсложный — состоящий из трех слогов. В данном случае — то же, что трехчленный мотив по классификации И. А . Браудо.
2 Напомним основные положения артикуляционной теории И. А .
Браудо. Прямое произношение — то, которое подчеркивает мотивную опору, отделяя ее внутримотивной цезурой от затакта, продлевая ее связыванием со
слабым окончанием:
J j J j Обращенное произношение осла,бляет мотив-
ную опору, связывая ее с затактом, отчленяя ее от
окончания:
J
| J
J
Частично обращенное произношение — артикуляция промежуточная по сравнению с вышеуказанными: она не изменяет полностью расположения в мотиве цезур
J IJ J
56
и лиг, и тем лишь
.
отчасти ослабляет
его опору:
J I
;
Чрезвычайно велика роль артикуляции в создании различных звуковых колоритов. Специфика артикуляционных приемов
в фортепианной музыке Бетховена нередко ведет к ассоциациям
с оркестровой звучностью: фортепиано допускает воспроизведение манер произнесения, свойственных различным оркестровым
инструментам. (Например, можно создать подобие pizzicato
струнных, legato кларнета, глубокого legato валторны, светлого
staccato флейты, ворчливого staccato фагота и т. д . ) . Бетховен
широко пользуется этими колористическими возможностями. Вот
несколько примеров.
Начало среднего эпизода финала Сонаты Ля мажор, ор. 2
№ 2, рождает представление о виртуозном скрипичном соло
с оркестровым сопровождением:
26
(Grazioso)
slaccato
scrnpre
Ji^jJ'tXT rjj-l
т
ff
f f
ft
Т р и хода басового голоса в первой вариации Сонаты Ля-бемоль мажор, ор. 26, напоминают характерное звучание фагота:
Начало связующей части финала Сонаты Ми-бемоль мажор,
ор. 27 № 1,— как бы диалог между tutti оркестра и группой деревянных духовых (см. пример 16 на стр. 5 0 ) .
Различные виды legato и различные штрихи позволяют «инструментовать» начало II части Сонаты Си-бемоль мажор,
ор. 22: в первых восьми тактах «поручить» мелодию «кларнету
solo», а в последующих двух — «струнным»:
Adagio con molta espressione
57
Такого рода примеры можно бесконечно множить — и оспаривать, ибо подобная «оркестровка» фортепианных сочинений питается, главным образом, воображением пианиста. Тембр рояля
даже у самого выдающегося фортепианного колориста никогда
не утратит своих характерных свойств и не будет тождествен
звучанию других инструментов. И все же — играя Бетховена,
нельзя забывать, что этот великий симфонист мыслил оркестровыми звуковыми категориями, и потому при использовании артикуляционных средств выражения исполнитель должен всегда
учитывать эту колористическую особенность его музыки.
Нельзя не вспомнить и. о вокально-речевых
интонациях
у Бетховена. В инструментальном воплощении этих интонаций
артикуляции принадлежит очень важная роль. Достаточно взглянуть на следующие примеры из Сонат Соль мажор, ор. 14 № 2,
ре минор, ор. 31 № 2, Ля-бемоль мажор, ор. 110, чтобы убедиться в этом:
Чуткая расстановка цезур и ясное, логичное интонирование
в этих отрывках позволяют исполнителю передать в одном случае нежно-уговаривающую речь, в другом — драматическую декламацию, в третьем — взволнованный лирический распев ариозо.
Наконец — и это, пожалуй, самое важное,— следует указать
на композиционную роль бетховенской артикуляции: речь идет
о роли средств произношения в создании, сопоставлении и развитии образов, в обострении или смягчении музыкальной напряженности. Чтобы раскрыть особенности этой функции артикуляции у Бетховена, необходимо подробно остановиться на его
«артикуляционном словаре», рассмотреть типы мотивов в бетховенской музыке и особенности их произношения. 1
1 Н е только теоретик, но и исполнитель, желающий проникнуть в закономерности бетховенской артикуляции, должен изучить мотивное строение
его музыки.
58
8
Мотивное строение мелодики Бетховена отличается богатством и сложностью. Мотивы, занимавшие в музыке Баха господствующее положение — ямб, хорей и трехчлен с ямбическим
затактом и хореическим окончанием,— в творчестве Бетховена
в ряде случаев трансформируются. У Бетховена появляются разнообразные мотивные структуры, содержащие по два неударных
тона подряд. Мотивы, которые И. А . Браудо трактует как расширенные (что вполне справедливо для Баха), у Бетховена зачастую приобретают самостоятельное значение. Речь идет не только
о формальном различии в терминологии, но и - о чем-то существенно более важном: обогащение мотивных структур ведет
к иной исполнительской трактовке музыки, к иному ее артикулированию.
Традиционное произношение «восьмушек» и «фанфар» встречается в произведениях Бетховена постоянно. Приведем лишь
несколько примеров.
В мелодии из Сонаты Ля мажор, ор. 2 № 2
четверти в тактах 2 и 4 и восьмые в такте 3 произносятся staccato; соответственно восьмые перед четвертями и шестнадцатые
перед восьмыми исполняются связно. Иными словами, более
длинные ноты артикулируются поп legato, более короткие — legato. Это — типичный прием «восьмушек». 1
В примере из Сонаты фа минор, ор. 2 № 1
Р
внутримотивными цезурами отделяются звуки-ступени, следующие по тонам аккорда. Э т о — прием «фанфар». 2
В произведениях Бетховена можно часто встретить на сильном времени такта отдельные звуки или аккорды, имеющие значение мотива. Как правило, они начинают часть или раздел и
служат исходным пунктом развития. Как и у Баха, такие одночленные мотивы обычно отделяются от последующих мотивов
1
2
См. об этом в кн.: И. А . Б р а у д о . Артикуляция, стр. 2 1 — 2 9 .
См. там же, стр. 2 5 — 2 9 .
59
цезурами. Приведем пример из Сонаты до минор, ор. 13, которая
начинается аккордом, имеющим значение мотива:
Grave
fp
Нередко композитор использует и последование таких односложных мотивов, выразительно охарактеризованное в книге
Браудо как «тезисное произношение». 1 Утвердительный характер
высказывания в сочинениях Бетховена зачастую подчеркивается
и усиливается равномерностью, метричностью такого последования, благодаря чему оно приобретает еще и значение «законодателя» темпа в данной части или разделе. В качестве примера
приведем два отрывка из Сонат Ре мажор, ор. 28, и М и мажор,
ор. 14 № 1:
Scherzo
Allegro vivace
Роль «законодателя» темпа выполняют и отдельные мотивы.
Так, Соната Ф а мажор, ор. 10 № 2. открывается сопоставлением
двух пар прямых ямбических мотивов (второй и четвертый —
расширенные), вслед за которыми появляется, как ответ, протяженное (восьмитакт!) построение, содержащее лишь одну паузу:
30
А|1е « г0
,
W
р
1
См. кн.: И. А . Б р а у д о .
V
60
—
|ilgMll
h^i
irfl
?
-
rff
Артикуляция, стр. 86.
l
ff
=—
ilr"fri
Аналогичны начала Сонат Ми-бемоль мажор, ор. 7, Си-бемоль мажор, ор. 22, Сй-бемоль мажор, ор. 106, и некоторых
других.
Очень часто Бетховен использует двухсложные мотивы —
ямб и хорей. В приводимом отрывке из Сонаты ми минор, ор. 90,
верхние голоса содержат серию прямых ямбов:
Присущая им энергия выявлена вполне убедительно, достаточно
сравнить два типа имеющихся здесь цезур: внутримотивные
цезуры, расчленяющие тоны ямба, более импульсивны, нежели
межмотивные цезуры, отделяющие ямбы один от другого; к тому же межмотивные цезуры «заполняют» движение в партии
левой руки. 1
В начале II части Сонаты Ми-бемоль мажор, ор. 7, мелодия
состоит из прямых хореев, из них второй — благодаря дроблению опорного т о н а — расширенный:
Особого внимания заслуживают паузы в каждом такте: восьмые — это измеренные и записанные в виде паузы внутримотивные цезуры;
четверти же — это паузы в собственном смысле
слова, то есть исчисленное время молчания. Паузы на третьих
четвертях уже не входят в мотив; они принадлежат трехдольному метру этой музыки.
Нередко Бетховен использует цепь прямых хореев в трехдольном метре — в таком случае характер музыки становится
1 Внутримотивная
и межмотивная цезуры — термины И. А . Браудо.
Первая — расчленяет тоны внутри мотива; вторая — мотивы между собой.
61
неуравновешенно-динамичным и острым, примером чего может
служить отрывок из финала Сонаты ре минор, ор. 31 № 2:
Ямб и хорей — мотивы двухсложные, каждый из них содержит один безударный тон и один опорный. Эти мотивы дают
простейшее выражение основных ритмических типов: активного
(затактового) и пассивного. Рассмотренный в книге И. А . Браудо трехсложный мотив (трехчлен) объединяет ямбический затакт и хорвическое окончание, но по своей метрической основе
остается мотивом двухдольным: два трехчленных мотива, состоящих из одинаковых долей, расположить подряд, без паузы,
в четном метре невозможно:
J I J^J
* J I
В музыке Бетховена широко распространены мотивные структуры из трех и более «слогов», содержащие по два (а иногда и
по три) безударных тона подряд. При этом трехсложные мотивы
могут следовать друг за другом без пауз, то есть образовать
цепь в трехдольном метре:
Т Щ Т Щ ;
|
Щ
|
Ш
Ц
J J T J J T T ?
Представляется целесообразным и здесь заимствовать
звания для этих мотивов из поэтической метрики.
Амфибрахий:
на-
jljj
>
трехсложный мотив с опорой на среднем тоне (то же, что трехчлен, по терминологии И. Браудо). Прямое произношение подчеркивает опору и укорачивает безударные тоны J | J J
например:
62
В этом примере из Сонаты Ре мажор, ор. 10 № 3, затактовые члены амфибрахических мотивов отчленены внутримотивными цезурами от опор; хореические окончания связаны с опорами.
Обращенное
произношение
амфибрахия
связывает
затакт
с опорой и тем самым ее укорачивает: J | j j
При частичном обращении амфибрахия все тоны его произносятся или слитно, или раздельно, например:
Allegretto
тгг г
р
В этом отрывке из Сонаты фа минор, ор. 2 № 1, прямое артикулирование амфибрахия также чередуется с частично обращенным (второй мотив как бы «разложен» между нижним и
верхними голосами). Лига, объединяющая тоны третьего мотива,
захватывает также и отчлененный затакт четвертого амфибрахия.
А н а п е с т :
j j l j
трехсложный мотив с опорой на последней ноте. Ямбическая тенденция в нем выражена чрезвычайно сильно, так как затактовая
часть удлинена и тем сильнее тяготеет к опоре.
Прямое произнощение анапеста — расчленение тонов:
затак-
товые ноты укорачиваются, опора подчеркивается: j j j j
Типичный образец прямого произношения анапеста имеется
в примере из III части Сонаты Ля мажор, ор. 2 № 2:
4 2
(Allegretto)
jJ
г
г
-t—
•&L
Обращенная артикуляция анапеста связывает все тоны мотива и ослабляет опору:
J J IJ
63
Рассмотрим пример из финала Сонаты Ре мажор, ор. 28:
43
(AHegro ma поп froppo)
Мотивное членение верхнего голоса в этом примере очень
ясно благодаря его регистровому расположению. Все анапесты
произносятся обращенным способом: их опоры сильно ослаблены, они отмечены окончаниями лиг и знаками staccato.
Частичное обращение анапеста ослабляет опору с помощью
уничтожения одной из внутримотивных цезур или укорочения
J J IJ ;
ударного тона:
J JI J
J J IJ
Рассмотрим пример из II части той же Сонаты Ре мажор, ор. 28:
(Andante)
Мелодия в этом примере содержит два анапестических мотива, в которых обращена первая внутримотивная цезура и сокращена опора. В результате возникает равновесие — между затактовой и опорной частями мотива.
Дактиль:
| J J J j
трехсложный мотив с опорой на первом тоне. В нем находит
дальнейшее развитие хореический ритм: за опорой следуют две
безударные ноты.
Прямое произношение дактиля — связывание тонов: начало
лиги подчеркивает ритмическую опору, остальные звуки тесно
к ней примыкают:
64
IJ J J |
Обратимся к примеру из Сонаты Ми-бемоль мажор, ор. 27, № 1:
Allegro moJto vivace
iг
m
w
§
m
Благодаря прямому произношению мотивов и симметричному
их расположению в верхнем и в нижнем регистрах, опоры подчеркнуты, безударные ноты «подтягиваются» к ним, темп стремителен, характер движения упруг и легок.
В последних тактах этого периода прямая артикуляция сменяется обращенной: все тоны мотива отчленены друг от друга:
(Allegro molto
vivace)
/
Возникает скандированное произношение, слабые тоны усиливаются. Напор и энергия предшествующего развития здесь
как бы конденсируются, темп более сдержан, 1 характер становится жестче и решительнее.
Частичное обращение дактиля расчленяет безударные тоны
или отделяет их от опоры: J J J |
| J JJ
В первом случае опора сохраняет свое значение. Н о изменяется соотношение слабых, тонов. Если при прямом артикулировании самым слабым является последний тон, то при данных условиях — второй. Третий же приобретает активный характер и тяготеет к следующему ударению, как это видно,
например, в приводимом отрывке из Сонаты Ля мажор, ор. 101:
®
(Etwas lebhaft...)
1 Речь идет о восприятии скандированного
деле темп здесь едва ли изменяется.
произношения.
На
самом
65
В о втором случае значение мотивной опоры оказывается поколебленным — она сокращена, тогда как связанные лигой б е з ударные тоны получают тенденцию к уравновешиванию опоры.
Рассмотрим двутакт из I части С о н а т ы М и - б е м о л ь мажор, ор. 7:
®
(Allegro con
brio)
О п о р а , подчеркнутая цезурами справа и слева, сохраняет
свое « у д а р н о е » значение, однако ослаблена стаккатированным
произношением и противодействием объединенных лигой безударных торов.
П о д о б н о тому, как в двухдольном метре трехчленный — амф и б р а х и ч е с к и й — мотив служит обобщением простейших ямба
и хорея, совмещая в себе их ритмические тяготения,— так и
в трехдольном метре с у щ е с т в у ю т мотивные структуры, объединяющие простейшие дактиль, амфибрахий и анапест. Т а к и х
структур три: две четырехсложные ( п е о н ы ) и одна пятисложная:
Jl J J J
I;
J J I -JJ
i
J J I J- J J
I
П р и последовании в трехдольном метре они отделяются паузами, как трехсложные — в двухдольном:
j| j j u l h j| j j j i ;
j
jujmjjl JJ ;
jjujji*jjiuj!i
Все эти структуры также несут на себе печать ямбического
и хореического ритмов, и потому правила их'произношения оказ ы в а ю т с я дальнейшим развитием основ артикулирования ямба
и хорея, с одной стороны, дактиля, амфибрахия, анапеста —
с другой.
О с н о в н о е — прямое — произношение этих мотивов отчленяет
их затактовые части от опор и связывает опоры со слабыми
окончаниями. Приведем два примера из Сонат Л я мажор, ор. 2
№ 2, и М и - б е м о л ь мажор, ор. 7:
66
Обращенное произношение многосложных мотивов, как и
простейших, уничтожает предопорные цезуры. Например, в приводимом отрывке из Сонаты Ля-бемоль мажор, ор. 26, в басовом голосе применено обращенное произношение четырехсложного мотива с опорой на третьем тоне (пеон 3 - й ) :
SI
(Andante)
Мотивные опоры ослаблены обращением предопорной цезуры;
начало лиги создает равновесие между затактовой и хореической частями мотива.
ч
Рассмотренные трех-, четырех- и пятисложные мотивные
структуры на первый взгляд как будто не отличаются от формул расширенных мотивов, исследованных И. А . Браудо. О д нако сходство это лишь внешнее.
Количество звуков, расширяющих мотив, произвольно и на
строение его не влияет, тогда как в приведенных выше схемах
трех- и многосложных мотивов каждый тон выполняет ту или
иную структурную функцию, а количество тонов определяет
тип мотива.
Звуки расширяющего значения усиливают или ослабляют
какие-то тяготения в мотиве, но существенно новых тяготений
не создают; в многосложных мотивах каждая нота несет особ у ю ритмическую «нагрузку».
67
При мотивиом расширении происходит дробление — и одновременно укрупнение — метра. Н о т ы , которые расширяют мотив,
входят в затакт, в опору или в окончание и группируются около
основных представителей этих частей мотива, которые при расширении выполняют функции «местных опор». Все основные
члены мотива от этого становятся «ударными», сохраняя присущие данному мотивному типу соотношения силы ^ с л а б о с т и
ударения, и только расширяющие звуки оказываются вполне
безударными.
В многосложных же мотивах лишь один тон — опора — несет
ударение, остальные звуки стянуты к ней с большей или меньшей степенью напряжения.
И з сказанного следует, что мотивы с одним ударением —
двухсложные — ямб, хорей; трехсложные — дактиль, амфибрахий и анапест; четырехсложные (типа пеонов 2-го и 3 - г о )
и пятисложные с опорой на третьем тоне — суть структуры простые. Расширенные Hie мотивы, имеющие дополнительные ударения, представляют с о б о ю структуры составные.
Следует сразу же отметить, что в музыкальной практике
определение принадлежности мотива к простым или составным
структурам нередко представляет серьезные затруднения. Д о статочно привести один пример из финала Сонаты Ф а мажор,
ор. 10 № 2:
Тема этого финала излагается одноголосно, поначалу — с однородной артикуляцией (staccato). Мелодия вступает с затакта,— этим сразу определяется
ее ямбический характер.
Проще всего и было бы считать ее состоящей из цепи прямых
ямбов до середины такта 3, а дальше из трех прямых — одного
простого
и двух расширенных — амфибрахических мотивов.
Проще всего,— но неверно по существу этой музыки.
Мелодия, начинаясь ходом от доминанты к тонике, в каждом такте завоевывает следующий звук тонического трезвучия,
отступая для разбега в момент последней — затактовой — восьмой. Нота, взятая скачком, несколько раз подряд отрывисто
повторяется — она достигнута, она закрепляется. Образуется
«цикл»: скачок и пружинистая репетиция на его вершине. Этот
цикл и составляет один частично обращенный четырехсложный
мотив, а не два прямых ямба; на второй четверти в первых
двух тактах ударения не возникает.
Добравшись до вершины, мелодия плавно спускается, всякий раз попадая на сильное время одним из звуков тониче68
ского трезвучия. Плавность спуска обусловлена
поступенным — с захватом вспомогательной сверху — движением, дроблением затакта и связным его произнесением, равновесием метра
и ритма в мотивах: затакт длится одну четверть, и столько
же — опорная часть. Два последних мотива на первый взгляд
кажутся расширенными амфибрахиями; думается, что это прямые ямбы с расширенными затактами и опорами.
Во всяком случае — независимо от того, ямбы это или амфибрахии,— повторение звуков тонического трезвучия на первых четвертях тактов 3 и 4 доказывает, что обе восьмые ноты
принадлежат одному мотиву, и тем подтверждает неправильность истолкования первых тактов как цепи прямых ямбов.
Подобных примеров в сочинениях Бетховена множество.
Охватить их все возможно только в специальной работе. Поэтому
в дальнейшем речь пойдет главным образом об использовании
Бетховеном простых мотивов в двух- и трехдольном метре.
Э т о ограничение вызвано тем, что изучение типичных внутримотивных тяготений и приемов артикулирования, усиливающих или ослабляющих эти тяготения, наиболее удобно проводить в естественных для каждой структуры «метрических
условиях». Двухсложные мотивы ясно обнаруживают свою
специфику в двухдольном размере, трехсложные — в трехдольном.
При равном количестве долей в такте и тонов в мотиве одинаковые мотивы могут образовать цепь, равносложные структ у р ы — переходить одна в другую, и при этом мотивные опоры
останутся на сильных временах тактов, а артикуляция сохранит
однородность. При переходе равносложных структур друг
в друга принцип произнесения опоры в мотивах сохраняется:
она всегда или отчленена от затакта, или связана с ним. О б р а тимся к следующему примеру из Сонаты ми минор, ор. 90:
(Mil Lebhaftlgkell ..)
РР
В этом отрывке не выставлено ни одного артикуляционного
обозначения, что наилучшим образом выявляет тройственную
мотивную структуру отрывка.
Артикуляционное значение здесь имеют два фактора: цезуры между тактами и длинные (половинные) ноты в начале
каждого такта.
В этой восходящей по тонам трезвучия секвенции слух улавливает прежде всего ямбический ритм. Он подтверждается затактовым строением мелодии и междутактовыми цезурами,
69
отделяющими короткие затактовые члены от протяженных опор.
Эти цезуры неизбежны, так как оба тона каждого ямба — звуки
одной и той же высоты.
Однако слух «транспонирует» опорные ноты ямбов в хореические опоры, а ямбические затакты — в слабые окончания хореев. При этом ямбическая тенденция ритМа не исчезает. В о з никает своеобразное одновременное сосуществование ямба и хорея. Оно не может не привести к ощущению амфибрахической
структуры, объединяющей ямбический и хореический ритм.
Таким образом, элементарное на первый взгляд построение
при анализе обнаруживает сложную и противоречивую природу.
Каждая длинная нота в нем — опора и ямба, и хорея, и амфибрахия; каждая короткая нота — одновременно и затакт, и
окончание
мотива.
Однородность артикуляции делает особенно затруднительным предпочтение одной из этих структур
другой.
Поставив мотив в рамку соответствующего ему метра, изучив свойства мотива и естественные способы его произнесения, мы получаем ряд типовых образцов артикулирования.
Зная же принципы произношения тех или иных мотивных структур, исполнитель и исследователь могут особенно широко охватить все богатство и многоообразие бетховенской артикуляции
и глубоко познать ее существенные черты.
3
Важнейшей особенностью мятежной бетховенской ритмики
является конфликт между метрическим ударением и действительной опорой.
Композиторы — предшественники
Бетховена — ревностно
оберегали гегемонию сильного времени такта. Средства артикуляции использовались с таким расчетом, чтобы опорный тон
отделялся от затакта и сохранял тем самым свое ритмо-динамическое превосходство. Представление об этом дают произведения Моцарта. У него, например, лига почти никогда не связывает затакт с первой долей следующего такта. Тактовая
черта у Моцарта часто оказывается знаком артикуляции, ибо
она нередко предполагает хотя бы небольшую цезуру перед
наступающим сильным временем.
Бетховенская артикуляция — явление совсем иного стиля. Ее
специфика заключается во всемерной активизации ритма, в
ослаблении опоры и в создании противодействующих ей тяготений.
Для Бетховена характерно значительно более широкое, чем
у его предшественников, использование приемов обращенного
и частично обращенного произношения. Композитор применяет
70
множество оригинальных вариантов произношения, которые создают чудеса ритма. Исследовать их все в данной работе невозможно, да в этом и нет необходимости. Важно отметить
типичные случаи.
Обращенный и частично обращенный ямбы встречаются
в сочинениях Бетховена едва ли не чаще, чем прямые. Полностью обращенные хореи он использует реже.
Т р и о из III части Сонаты Ре мажор, ор. 10 № 3, начинается в басу частично обращенным ямбическим мотивом. О б а
его тона расчленены: опорная нота произносится так же коротко, как и затактовая, и тем ослаблена до степени динамического равенства с затактом:
(Allegro)
Попробуем исполнить этот отрывок прямым способом:
56
(Allegro) "
*
f
'ii u
Сразу заметно изменится характер музыки. Увеличится внутримотивная
цезура, появится
оттяжка
опоры — и вместо
легкой шутки зазвучит властный тезис. Преобразуется и темп:
он станет значительно сдержаннее. 1
В дальнейшем развитии трио этот мотив появляется уже
в полном обращении:
Здесь
динамическое
соотношение
затакта и опоры изменяется в пользу первого: он звучит протяженнее и сильнее.
1 Этот
пример
служит
доказательством взаимосвязи
артикуляции
и темпа. Нередко именно характер произношения оказывается основным
критерием при выборе темпа.
71
Характерный для Бетховена пример обращенного ямба
встречается в разработке I части Сонаты Си-бемоль мажор,
ор. 106:
5'
(Allegro)
т
ш
sempre р
Затактовый член мотива в нем удлинен до двух четвертей;
он значительно продолжительнее самой опоры (более чем
вдвое), которую укорачивает цезура. Центр тяжести перемещен
с опоры на затакт.
Обращенный ямб вступает здесь в спор с прямым ямбом,
начинающим тему. Соревнование этих двух ямбов, столкновение «тезиса» и «антитезиса» оказываются завязкой напряженной ритмической борьбы в фугированном разделе разработки.
Если прямой ямб звучит императивно, словно не допуская никакого обсуждения (вспомним начало Сонаты с его двумя повелительными репликами, опирающимися последовательно на
терцию и квинту тонического трезвучия, после чего в «действие» вводится совершенно иного склада материал), то обращенный ямб не только подвергает сомнению, но по существу отрицает опорную ноту, и тем обусловливает дальнейшее развитие,
в ходе которого должно быть преодолено противоречие двух
родственных мотивов.
Во II части Сонаты Соль мажор, ор. 14 № 2, имеется цепь
обращенных хореев, образующих секвенцию:
Расчленение мотивов подчеркнуто в записи: между слогами
Мотивов, как и между мотивами, расположены паузы. Хореические опоры ослаблены не только артикуляцией, но и динамикой:
окончания мотивов произносятся sforzando.
Интереснейший пример артикуляции расширенного трехсложного мотива дает главная тема Сонаты Соль мажор, ор. 14 № 2:
*72
Как и во всяком расширенном мотиве, здесь имеется несколько опор — на второй, на четвертой и на шестой нотах. Н о
какая из этих опор является основной?
Если внимательно вслушаться в звучание мотива, то окажется, что он состоит из трех обращенных микроямбов:
Каждый из них имеет свою опору, но все опоры ослаблены
й уравнены общей лигой расширенного трехсложного мотива.
Самая большая трудность при его исполнении заключается
в согласовании и правильной расстановке акцентов, в нахождении основной опоры расширенного мотива.
И з трех опор расширенного мотива основной все же является вторая. В самом деле: если на протяжении четырех тактов выделять опоры первых микроямбов (ходы на октаву
вверх), возникнет движение музыки толчками. Неправильность
такого расположения акцентов подтверждает ход на дециму
в конце такта 4. Он составляет часть обращенного расширенного ямбического затакта, а образующаяся здесь дополнительная
опора, согласно авторским артикуляционным указаниям, должна быть всемерно ослаблена.
Если на протяжении первых четырех тактов выделять опоры
третьих микроямбов, то каждый расширенный мотив будет звучать чересчур завершенно. Плавное течение музыки лирического
склада будет разорвано.
Правильное ощущение опоры может дать только третий вариант. Некоторое подчеркивание терцового тона (опора второго
микроямба) делает интонацию мягкой, «уговаривающей», а не
«повелительной», и при чутком равновесии с остальными внутримотивными опорами обеспечивает непрерывность мелодического
73
тока.
Однако известная неопределенность основной опоры
в этих расширенных мотивах придает им своеобразную выразительность, которую едва ли следует уничтожать насильственным акцентом на терцовом тоне.
Любопытно, что полностью обращенная артикуляция амфибрахия в сочинениях Бетховена встречается крайне редко.
В трехдольном метре этот прием используется только в тех случаях, когда затакт и опора амфибрахического мотива слиты
в одну ноту и образуют предваряющую синкопу. 1 Лишь тогда
внутримотивная цезура перемещается вправо и отчленяет хореическое окончание от опоры. Объяснение столь исключительного
применения обращенного произношения амфибрахия следует искать во взаимодействии артикуляции с темпом: связывание затакта с опорой утяжеляет затакт, ослабляет опору у порождает
тенденцию к перенесению ударения на первую ноту, то есть на
затакт; отчленение окончания придает ему излишнюю самостоятельность и требует от исполнителя определенных усилий для
сохранения целостности мотива.
Т о же самое можно сказать и об обращенных четырехи пятисложных структурах. В отличие от них, в дактилических
и анапестических мотивах, в которых все безударные члены расположены по одну сторону от опоры, Бетховен предпочитает
обращенное произношение частично обращенному. В этом также
сказывается стремление к крупному плану, к «крупным мазкам»,
в отличие от мелких штрихов и детализации, излюбленных
предшественниками композитора. 2
Помимо полного и частичного обращения, ослабляющего мотивные опоры, в творчестве Бетховена нередко встречаются
мотивы, в которых опорные ноты не произносятся. Обычно это
касается структур ямбического типа, и тогда возникают три
вида таких мотивов: предваряющая синкопа, синкопический тонмотив и мотив с пропущенным опорным тоном.
1 См. И. А . Б р а у д о. Артикуляция, стр. 79. Предваряющая синкопа
возникает в результате слияния в один тон затактовой и опорной частей
мотива
2 Читатель мог бы задать вопрос: нужно ли было столь подробно рассматривать мотивное строение бетховенской музыки ради такого вывода?
Известно, что большое всегда складывается из малого; иногда почти незаметная мелочь помогает выявить главное. Детальный анализ отнюдь не равнозначен дроблению: он служит лишь более глубокому овладению материалом.
74
Один из видов предваряющей синкопы можно встретить
в заключительной теме I части Сонаты Ми-бемоль мажор, ор. 7:
(MQlto Allegro е con
brio)
Т р и звука (четыре ноты), связанные длинной лигой, выглядят в тексте как единый мотив. Однако на самом деле здесь не
один, а два мотива: предваряющая синкопа (две ноты ре, слит ы е в один т о н ) и обращенный ямб. Предваряющая синкопа
/Принимает на себя функцию опоры этого мотивного объединения, тем более что она усилена динамически (sforzando). Н о
внутренним слухом мы непрестанно восстанавливаем значение
двух сильных времен такта: его первой и четвертой восьмых.
Интересно: ритмический импульс, ощущаемый "в момент наступления второй половины такта, когда четвертая восьмая не
произносится, а только продолжает звучать слитый с нею ее
ямбический затакт,— гораздо сильнее, нежели «толчок», возникающий при произнесении сильного времени такта (правого
члена обращенного ямба). Объясняется это рядом причин:
и тем, что в настойчивом утвердительном чередовании доминанты и тоники на первые доли тактов попадают разрешения
аккордов и окончания мотивов, то есть именно здесь, на сильных временах тактов, постепенно исчерпывается энергия тонально-гармонического движения всего раздела побочной партии; и, безусловно, тем, что на протяжении этих шести тактов
на четвертой доле ни разу не появляется новый (вновь извлекаемый) звук, который ограничивал бы властное динамическое
вторжение предваряющей
синкопы,— тогда как
совпадение
опоры обращенного ямба с метрическим ударением делает этот
мотив более устойчивым и ослабляет его ритмическое воздействие.
75
Приведенный пример еще раз показывает, насколько важно
при анализе какого-либо приема учитывать весь комплекс выразительных средств: их взаимодействие определяет меру участия
каждого из них в создании художественного целого. Так, совпадение разрешения аккорда, окончания мотивного построения
с сильным временем такта, синхронное движение всех голосов —
и отсутствие реально звучащего ударения на относительно сильной доле, придают предваряющей синкопе — в интонационном
отношении наиболее напряженному тону мотива — необычайно
острый характер.
В следующем примере из III части той же Сонаты мы вновь
встречаемся с предваряющими синкопами:
KP
deeresc.
bJr
i i
-j jr -j > -al
J'
В этом четырехголосном отрывке верхние голоса содержат
синкопы, которые не совпадают по времени: сопрано движется
в равномерно-синкопированном ритме — каждая синкопа начинается со второй доли такта; в теноре, так же равномерно, синкопы вступают на третьей доле. Действие этих несовпадающих
синкоп уравновешивается ходами баса, которые приходятся
в каждом такте на сильное время. В результате метрическая
сетка трехдольного такта оказывается реализованной, а действие разновременно вступающих синкоп — неустойчиво текучим и мягким.
Каждый голос в этом отрывке содержит крупные длительности и исполняется глубоким legato, без цезур. Такое артикулирование способствует созданию образа скованного движения.
Проанализируем хотя бы сопрановый голос.
Если освободить от артикуляционного «заточения» все ноты,
слитые в один долгий (размером в 4 ) тон, то получится мелодия, состоящая из прямых амфибрахических мотивов:
(Allegro)
л г,
Таким
образом, каждый звук сопранового голоса — тон
тройного значения: начинаясь как хореическое окончание одного амфибрахия, продолжаясь как затакт в новом амфибрахии,
76
он заканчивается в качестве его опоры. В каждой из этих нот
«погребены» две цезуры — межмотивная и вну гримотивная. Сливая три четвертные ноты в одну трехчетвертную (см. нижние
лиги), Бетховен как бы «замораживает», затормаживает движение.
В произведениях Бетховена часто встречаются предваряющие синкопы, скрывающие в своих тонах двойного или тройного
значения структуру мотива. В дополнение к разобранному выше
отрывку рассмотрим еще один пример из той же Сонаты, на
этот раз из II ее части:
о:>
(l.argo.con gran espressione)
"J
Мотив, которым такт завершается, представляет собой амфибрахий со слитой в один тон ямбической частью. Если немного изменить запись, то амфибрахическая структура мотива
станет очевидной:
04
Интересный прием параллельного одновременного движения
предваряющих синкоп и ямбов Бетховен использует, например,
в Сонате Ля-бемоль мажор, ор. 26:
65
^Andanle)
sempre •Jurrnlo
Мелодия в этой вариации состоит из амфибрахических мотивов, в которых затактовый и опорный члены слиты в предваряющую синкопу. Одновременно с нею в сопровождении произносится частично обращенный ямб. Притязание на ритмическое
«господство»
со стороны
предваряющей синкопы
оспаривает правый член ямба, отстаивающий «законную» опору —
сильное время такта.
Одним из вариантов предваряющей синкопы у Бетховена
является синкопический тон-мотив. 1 Он состоит из одного
1
См. И. А . Б р а у д о. Артикуляция, стр. 83.
77
продолжительного звука, возникающего на слабой доле такта;
в нем содержатся две, а то и более, ямбические структуры.
Синкопические тоны-мотивы в бетховенских сочинениях, как
правило, противостоят стремительному движению в других голосах, как бы держат его «в узде». «Властный» характер синкопического тона-мотива можно наблюдать хотя бы в следующем примере из Сонаты Ми-бемоль мажор, ор. 7:
(Molto Allegro е con brio)
l
—
-
:
С синкопическим тоном-мотивом по ритмическому значению
сходен ямб с пропущенным опорным членом — его можно назвать «усеченным ямбом». В обоих мотивах произносится затактовая часть и не произносится опорная. Н о если первому из
них свойственна п р о т я ж е н н о с т ь звучания, возникающая
в результате слияния в один тон обоих членов ямба (притом,
как в приведенном выше отрывке, не одного мотива, а двух или
Ij'i JUJWI cd lcj j j
i'M,
И
р
78
u j uj ti г1....п ei-t
fif'r
нескольких), то второй отличается к р а т к о с т ь ю . Рассмотрим
отрывок из Сонаты Соль мажор, ор. 31 № 1 (см. нотный пример 67 на предыдущей стр.).
Здесь в первых двух тактах в партии левой руки нота ре
и следующие за ней три аккорда представляют с о б о ю левые
(затактовые) члены ямбических мотивов. Паузы на первых
и третьих четвертях тактов выполняют функции мотивных опор.
Это подчеркивается цезурами, возникающими в результате
стаккатирования затактовых четвертей. Ямбическая структура
данного отрывка станет еще яснее, если вслушаться в предшествующее развитие музыки. На протяжении десяти тактов
здесь установилась равномерная симметричная смена гармоний
на каждой сильной доле такта (тонико-доминантовое чередование) при господстве протянутого тона — органного пункта на
доминанте. Прерывистый ток триолей в мелодии и «педантичные» удары басовых четвертей в своем интонационном и с т р у к - '
турном последовании образуют
постепенно
разрастающееся
—-построение: трехкратное проведение расширенного амфибрахия
завершается расширенным ямбом — получается обычный четырехтакт; далее следуют три двухтактных объединения расширенных ямбов,— они дают разомкнутый шеститакт. Квадратность
разрушается, стремление к закреплению тональности побочной
партии и завершению всего ее раздела усиливается, ритмическая «тетива» натягивается,— и словно брызгами отскакивают
от вторгающегося каданса (первый аккорд в нашем примере)
усеченные ямбические мотивы баса, стремительно взвиваются
ломаные арпеджио мелодии.
Подобное усечение опоры встречается и в других мотивах.
Так, например, в Скерцо из Сонаты Ля мажор, ор. 2 № 2, после
переклички секвенцирующих мотивов появляются два двухсложных мотива, разделенных четвертной паузой:
fi8
(Allegretto)
rallent.
4
Эти мотивы представляют с о б о ю усеченные анапесты. Здесь,
перед репризой трехчастной экспозиции Скерцо, постепенно истаивает, исчезает материал взволнованной минорной середины:
и «освобожденные от опоры» анапестические затакты растворяются в большой паузе.
79
Аналогичный пример имеется в заключительной части экспозиции Сонаты Соль мажор, ор. 79. Здесь звучат преобразованн ы е — усеченные — дактилические мотивы главной темы:
69
(Presto
alia
ledesca)
Они теряют свои опорные ноты перед повторением экспозиции или перед разработкой (которая начинается изложением
темы главной партии в М и мажоре).
5
В произведениях Бетховена встречаются особые случаи использования двух- и трехсложных структур. По сравнению
с «типичными» эти случаи окажутся в меньшинстве; однако они
несут на себе яркую печать бетховенского стиля.
Рассмотрим пример из Сонаты Д о мажор, ор. 2 Jvfe 3:
'(AdagioJ
Здесь мотивные опоры перемещены с сильных долей тактов
на слабые, образуя синкопы. Однако они не теряют своего
опорного значения благодаря хореическим лигам.
Особенности хорея, таким образом, сохранены полностью:
протяженный опорный тон и укороченное окончание. Новое
по сравнению с обычным использованием хорея заключается
в изменении местоположения мотива в такте, в несовпадении,
столкновении двух опор: ритмической (мотивной) и метрической
(тактовой). Их соотношение, «соревнование» обогащает выразительный смысл музыки. «Оторвавшись» от тактовой черты,
от сильного (или относительно сильного) времени, хореический
80
мотив оказывается в противоречии с установившейся уже инерцией движения и теряет в своей устойчивости Поэтому представляется целесообразным назвать такие варианты хорея с м е щ е н н ы м , или н е у с т о й ч и в ы м хореем.
Прямое произношение смещенного хорея зачастую служит
выражению лирической взволнованности.
Обращение смещенного хорея порой бывает связано и с иной
выразительной
сферой: например, в приводимом
эпизоде
II части Сонаты Ми-бемоль мажор, ор. 27 № 1, ощущаются
юмор, действенность:
71
(Allegro
molto v i v a c e )
fг-i'w
m f ^*
VP
Ш т Ы ы
> ш Я
,
ы
рр
м
и
d
ы
ы
Расчленение мотивов ослабляет их опоры, поскольку они
укорачиваются. Однако полностью мотивные опоры не ликвидируются и оказывают известное противодействие основным
опорам на сильных временах тактов (аккорды в партии левой
руки — правые члены частично обращенных ямбов).
Рассмотрим тему побочной партии I части Сонаты Соль
мажор, ор. 31 № 1:
Бетховен дает для исполнения этой мелодии всего шесть артикуляционных указаний: знаки staccato на первых нотах тактов 1—3 и 5 — 7 (см. верхнюю строчку). Эти лаконичные указания полностью определяют артикулирование всей темы (см.
нижнюю строчку).
В первых двух тактах имеются амфибрахические мотивы,
смещенные с соответствующих им метрических долей аналогично показанным выше случаям смещенного хорея. Внутримотивные цезуры ( В ) длиннее, чем межмотивные ( М ) , и благодаря этому возникает сильное тяготение смещенного затакта
к смещенной опоре. Межмотивные цезуры действуют в обратном направлении: они в известной мере восстанавливают
Баренбоим
81
значение сильного времени такта, которое в смещенном амфибрахии играет роль затакта. Таким образом, по сравнению со
смещенным хореем смещение оказывается более резким, так как
не только опорная нота «съехала» с сильного времени, но и слабый, затактовый член мотива попал на первую (сильную) долю
такта. В результате противоречие метра и ритма в смещенном
амфибрахии еще острее, нежели в смещенном хорее.1
В такте 3, если рассматривать его изолированно, мы видим
рисунок мотива, подобный только что описанным. Однако это
лишь зрительное впечатление. Слуховой анализ мелодии в целом
убеждает в том, что здесь нарушается ставшая уже привычной
мотивная структура смещенного амфибрахия. Первые две ноты
такта 3 образуют обращенный хорей. Последняя же восьмая,
фа-диез, отчлененная от хорея, служит началом другого мотива,
состоящего из двух одинаковых нот, слитых в одном тоне.
Это — предваряющая синкопа. Ее значение в развитии темы
велико: она подтверждает опоры смещенных амфибрахических
мотивов, ибо и сама является смещенной опорой. Обнаруживая
здесь всю свою диалектическую сущность — ибо чем настойчивее утверждается смещенная опора, тем острее ощущается ее
неустойчивость,— эта синкопа оказывается ритмической кульминацией всей темы.
Слева и справа нота фа-диез отчленена межмотивными цезурами ( М ) . Наиболее важная цезура — слева. Она обусловлена двумя факторами. Первый из них, так сказать, «попутный»:
предваряющая
синкопа
поневоле
отделяется от предыдущей ноты, так как является ее повторением. Главное же — в необходимости отчленить — и тем подчеркнуть — кульминационный момент мелодии. Даже если бы Бетховен написал здесь
вместо фа-диез — фа-дубль-диез,
что могло бы вызвать у исполнителя инстинктивное желание связать его с предыдущем фадиез и с последующим соль-диез,—
даже и в таком случае эта
нота должна была бы быть отделена.
Следует обратить внимание и на первую ноту такта 5: это
тон двойного значения. С одной стороны, он завершает расширенный обращенный ямб (мотив слева), с другой — начинает
смещенный амфибрахий, являясь его отчлененным от опоры затактом.
Такт 6 содержит смещенный амфибрахий, где хореическое
окончание си — тон двойного значения: он служит и отчленен1 Благодаря
возникновению ударения на первом звуке амфибрахического мотива в нем появляется тенденция к образованию дактилической
структуры. Э т о соревнование дактиля и амфибрахия и создает динамическое
неравновесие движения. Возможны и другие смещения, которые не создают
новых ударений. См., например, побочную тему I части Сонаты ми минор,
ор. 9 0 , — в трехдольном метре амфибрахические мотивы нашли опору на
второй четверти.
82
ным ямбическим затактом. Двойственное значение си обусловливает и двойственное значение последующей цезуры — внутримотивной и межмотивной одновременно.
Последний мотив — расширенный обращенный ямб. Он создает разрешение противоречий ритма и метра. С каким облегчением воспринимается он после фа-диез, хотя бы на миг возвращая наш слух к слиянию мотивной и тактовой опор, освобождая его от внутренней напряженной борьбы с инерцией
движения!
6
Острая синкопа, противопоставленная сильной доле такта,
смещение и усечение мотивов — все это приемы, обусловливающие динамическое столкновение между метрической и ритмической опорами, которое порождает импульсы для последующего
музыкального развития. Во всех этих случаях момент несоответствия, толчка возникает внутри мотива. Бетховен широко испоЛвзуёт и другие артикуляционные способы создания и продления неустойчивости, напряженности — различные приемы
объединения мотивов.
Бетховен не признавал чрезмерно расчлененной игры: его
стилю присуща протяженность линий. Это объясняет, в частности, то предпочтение, которое оказывал Бетховен legato перед
поп legato и которое выразилось в известном отзыве его об игре
Моцарта: «Тонкая, но раздробленная игра, никакого legato». 1
Э т о высказывание вовсе не означает, конечно, что Моцарт
всегда играл поп legato. Подобное истолкование слов Бетховена
было бы Неверным. Думается, что Бетховен имел в виду, кроме
всего прочего, мотивную расчлененность в исполнении Моцарта,
любовь его к ясному, раздельному произнесению мотивов. М о царт редко прибегал к межмотивным соединениям. Бетховен же,
стремясь к созданию протяженных линий развития, нередко
уничтожает межмотивные цезуры.
Именно поэтому он вводит лиги, которые можно назвать
лигами
с л о ж е н и я . 2 Лига сложения объединяет два или
несколько мотивов. Она оказывается дополнительным фактором,
который должен учитываться исполнителем, ибо она влияет и
на соотношение сильных и слабых тонов в каждом из объединенных мотивов, и на соотношение мотивных опор.
'Carl
Czerny.
Vollstandige
theoretisch-praktische
PianoforteSchule, S. 72.
2 В последней главе исследования И. А . Браудо дается
убедительная
классификация лиг по их значению: лиги-legato, собственно фразировочные
лиги, собственно артикуляционные лиги, структурные лиги. «Лиги сложения» — один из видов структурных лиг.
4*
83
Тема
побочной
партии
(Molio Allegro е con brio)
Сонаты
Ми-бемоль
__
мажор, ор. 7
fr
j ^ j
поначалу разделена лигами сложения, объединяющими по
два обращенных ямба. П о д общей лигой каждый из них утрачивает устойчивость своей опоры, различия между ударными и
неударными членами несколько нивелируются. В результате
внутреннее сопряжение тонов в ямбических структурах ослабевает. Возникает тяготение к следующему мотивному объединению; тяготение это еще усиливается благодаря цезуре, образовавшейся при сокращении опорной ноты второго обращенного
ямба.
Все дальнейшее развитие темы идет под знаком поиска
опоры. Второе мотивное объединение, аналогичное первому (они
образуют секвенцию), обостряет неустойчивость мелодического
движения, а в третьем объединении, состоящем уже из трех
мотивов, неустойчивость достигает кульминационного уровня.
Дело в том, что третий мотив здесь — предваряющая синкопа,
имеющая значение смещенной опоры для предыдущего развития
мелодии. Смещение же мотивной опоры с сильного времени
такта, как уже выяснено, вызывает столкновение ритма с метром и требует продолжения развития для разрешения неустойчивости.
В следующих шести тактах возникает большая устойчивость.
Однако и здесь содержится ритмическое противоречие, обусловленное контрастными штрихами:
74
(Molto
Allegro е con b r i o )
pfi
р•
84
^ — г vf
у
г*f
v
г
Нижние голоса в первых четырех тактах и верхние в двух
остальных артикулируются так же, как и в первом предложении; ослабляются опорные ноты, несколько выравнивается
ударное значение тонов, возникает тяготение от одного мотивного объединения к другому, образуется длинная линия развития.
В противовес этим голосам сначала в мелодии (такты 1—5
примера), затем в басу (такты 5 — 7 ) появляются пятисложные
мотивы с опорами на сильных долях тактов, укрепленными артикуляционными средствами: удлинением, а также отчленением
затактов.
Эти мотивы образованы длительностями более мелкими, нежели ноты противостоящих им обращенных ямбов. «Затактовое»
строение пятисложных мотивов, совпадение их опоры с сильным временем и паузы на относительно сильных долях тактов —
оказываются факторами, способствующими более ясному и определенному выявлению ямбической структуры мотивных объединений под лигами сложения, чем это было в первом предложении. Выявление мотивной структуры этих объединений уменьшает их слитность, укрепляет значение ударных долей такта и
ведет к восстановлению равновесия ритма и метра, которое и
устанавливается с такта 7 приведенного выше примера.
Подытожим анализ: лиги сложения обязывают исполнителя
ослабить опорные члены мотивов, отодвинуть наступление устойчивой опоры и тем самым обеспечить протяженную линию развития.
Противодействие лигам сложения ведет к восстановлению
мотивного членения. В приводимом отрывке из II части Сонаты
до-диез минор, ор. 27 № 2, достаточно заменить лигу, объедиAllegretto
няющую два обращенных ямба, обыкновенными артикуляционными лигами,— и мы вместо фразы услышим отдельные мотивы.
Бетховенские штрихи идеально строят эту тему, создавая внутри
нее равновесие между лигованными и стаккатированными мотивами.
Равновесие между связанными и расчлененными мотивами
внутри одной фразы или предложения — часто встречающееся
артикуляционное средство, обеспечивающее протяженное мелодическое течение.
85
Рассмотрим предложение, с которого начинается III часть
Сонаты Ми-бемоль мажор, ор. 7:
Связность и расчлененность образуют здесь к о м п л е к с артикуляционных средств, служащих объединению восьми мотивов в предложение.
Первая лига объединяет хореический и дактилический мотивы. Две остальные лиги в этой половине предложения соответственно указывают границы третьего и четвертого мотивов,
восстанавливают значение сильного времени такта, ослабленное
в такте 2 лигой сложения. Цезур в этой половине предложения
быть не может: они противоречили бы плавному движению мелодии. К тому же и средние голоса ясно указывают на нежелательность цезур.
И все же две последние лиги здесь «обещают» последующее
расчленение мотивов: подчеркивание опор предвещает цезуры.
Действительно, вторая половина предложения^слагается из четырех отдельных мотивов, уравновешивающих лигованную первую фразу. Процесс расчленения завершается в последнем мотиве: это частично обращенный ямб, в котором укорочена опора.
Артикуляционный «график» всего предложения, таким о б разом, оказывается прост: четыре слитных мотива, во втором
из которых мотивная опора ослаблена, а в третьем и четвертом — восстановлена, и четыре отчлененных мотива, причем
в последнем из них, помимо внутримотивной ямбической цезуры,
сокращение опоры делает завершающий построение половинный каданс еще менее устойчивым и тем самым связывает первое предложение с последующим.
Рассмотрим отрывок из Сонаты Ля-бемоль мажор, ор. 26:
В этом предложении протяженная линия развития также
возникает в результате сопоставления слитной и расчлененной
86
фраз, но 6 ином порядке: сначала проходят шесть отчлененных
друг от друга амфибрахических мотивов, а затем два, объединенных лигой сложения. ( В верхних голосах затактовые и опорные тоны амфибрахиев слигованы и образуют предваряющие
синкопы.)
В ряде случаев следующие подряд один за другим однотипные мотивы исполняются сплошь legato или staccato. Такое артикулирование можно назвать «цепями legato» и «цепями staccato
(поп legato)». В этих случаях, благодаря однородному артикулированию ряда мотивов, структуры их затушевываются. Н е смотря на кажущуюся простоту указанных приемов, их использование способствует появлению ритмических противоречий —
/ и потребности в их преодолении: как и лиги сложения, цепи
legato и staccato сглаживают контраст между опорными и слабыми членами мотивов, ослабляют внутримотивные связи. Н е редко соотношение тонов в цепях legato и staccato настолько выравнивается, что допускает различные определения принадлежности отдельных нот к тем или иным мотивам, а вместе с тем —
и вариантное истолкование мотивных структур.
Обратимся к мелодии, с которой начинается Соната фа минор, ор. 2 № 1:
Первые пять нот образуют цепь поп legato. Затактовая нота
указывает на ямбическую структуру этой цепи: в ней слышатся
два частично обращенных ямба и один прямой (опорная нота
п о с л е д н е г о — т о н двойного значения). Вся цепь воспринимается
как длинный ямбический затакт к опорной ноте всей фразы —
ля-бемоль в такте 2.
Однако ямбическая трактовка всей цепи не являбтся единственно возможной. Слуховой анализ обнаруживает здесь тенденцию и к хореическим соотношениям (см. верхние скобки).
На протяжении всего сонатного Allegro эта фраза появляется
то в ямбическом, то в хореическом «наклонении». Уже второе
ее проведение (такты 3— г 4), в котором нет первой затактовой
ноты, воспринимается как цепь обращенных хореев. ( Т а к же
начинается и реприза части.) Хореический ритм поддерживается аккордом на сильной доле такта, усиливающим опорную
ноту первого мотива. Во фразах, начинающихся с затакта, этот
аккорд отсутствует.
Так, уже при первом проведении тема обнаруживает мотивную двойственность, источник которой — однородное артикулирование. Н и одна из ритмических тенденций этой цепи не
87
исчезает полностью; время от времени они лишь меняются ролями: одна становится господствующей, другая — подчиненной.
А каждый тон и каждая цезура в цепи имеют двойное значение.
Таким образом между ямбическим и хореическим
ритм а м и нет неприступной стены, они могут переходить один
в другой, а при известных условиях и сосуществовать, образуя
тоны и цезуры двойного значения.
В связующем разделе главной партии I части Сонаты до
минор, ор. 10 № 1, в среднем голосе имеется цепь legato, в которой почти каждая нота представляет с о б о ю тон двойного значения, так как здесь действуют закономерности анапестического
и дактилического ритмов:
(Molto Allegro е con b r i o )
Наиболее ясно и настойчиво тут выявлено последование анапестических мотивов. Двучленный затакт, протяженная, почти
строго выдержанная, секвенция, каждое звено которой начинается со второй доли такта и оканчивается на первой"; такие
же двучленные затакты в первых репликах мелодического гол о с а — все это факторы, определяющие анапестическое строение
цепи.
Однако отсутствие межмотивных цезур, уничтоженных лигой, усиливает интонационные сопряжения нот, находящихся на
первых двух четвертях каждого такта: здесь образуются последовательно спускающиеся кварты. Эти скачки ярко выделяются
на фоне поступенного восходящего движения остальных нот мотивов; именно в скачках обнаруживается и неточность секвенции: дважды встречаются уменьшенные кварты. В результате,
квартовые ходы оказываются богаче оттенками выражения, нежели прочие части секвенции. Поскольку скачки падают на начала тактов, возникает возможность дактилического истолкования цепи.
Этому способствуют и другие обстоятельства. Совпадение
опорных моментов цепи со вступлениями протянутых нот в басу
(органный пункт на доминанте побочной тональности), сочетание хореических окончаний мотивов в мелодии и обращенных —
для анапеста — цезур в среднем голосе — укрепляют значение
квартовых скачков как интервалов, с которых начинаются дактилические мотивы. В последних трех тактах мелодия состоит
из «группетто», начинающихся со слабых долей тактов и не
переходящих через тактовую черту.. Э т о ограничение рамками
88
такта подтверждает дактилический ритм; паузы в верхнем голосе на сильных долях такта подчеркивают опорное значение
первых нот в среднем голосе и придают мелодии характер парения, плавного медленного спуска к началу побочной темы.
Затактовое начало цепи создает достаточно сильный импульс
для восприятия ее как последования анапестических мотивов.
Р д н а к о приведенный анализ показывает, как много противоречивых тенденций может обнаруживать небольшой, несложный
в фактурном отношении отрывок. Основная, определяющая тенденция проявляется четко и просто. З а т о как многообразно
стремятся ослабить, «оспорить» ее прочие «действующие силы»!
3!
Лиги сложения, цепи legato и цепи staccato, несмотря на разнообразие их применения в каждом отдельном случае, по своей
внутренней сущности просты: это все приемы «суммирования»
мотивов путем однородной артикуляции.
Для создания протяженных линий развития Бетховен использует и другие средства. К ним относятся обращенные межмотивные цезуры 1 и разные другие способы нарушения «артикуляционной инерции».
В приводимом отрывке из побочной темы финала Сонаты
Ми-бемоль мажор, ор. 27 № 1, использованы два артикуляционных приема — цепь staccato и обращенная цезура:
(Allegro vfvacc)
YlVBCCj.
g--S,
s s i
Начинаясь с затакта, цепь получает ямбический импульс
движения. Обращенная цезура, связывающая опору второго
ямба с затактовой нотой третьего, на некоторое время усиливает хореическую тенденцию цепи. Дальнейшее мелодическое
развитие идет по пути успешного преодоления этой тенденции,
1
См. И. А . Б р а у д о. Артикуляция, стр. 3 3 — 4 0 .
89
чему содействует и гармоническая последовательность: завершающие отрывок четыре мотива образуют два сложных каданса
первого рода, усиливающих ямбический ритм. Следующая фраза
представляет с о б о ю точное повторение приведенного отрывка.
Для того чтобы в полной мере оценить значение этой маленькой хореической лиги, всего дважды появившейся на протяжении восьми тактов, нужно проанализировать всю побочную
партию. Она начинается двумя расширенными мотивами (движение по тонам трезвучия вверх и вниз), исполняемыми legato.
Следующие далее две фразы (см. пример), основанные на том
же мелодическом рисунке, исполняются staccato — за исключением коротеньких хореических лиг — и потому легко расчленяются на простые, двухсложные мотивы. Однако после связного (legato) звучания первых мотивов, занимавших по два
такта, слух воспринимает цепь staccato прежде всего как новую
артикуляцию такого же протяженного мотива. И хореическая
лига оказывается не только «резонатором» для хореических тяготений цепи, но и нарушителем инерции единообразного артикулирования мелодии.
Э т о двукратное вторжение «инородного элемента» вызывает
длиннейшую ямбическую «реакцию». На протяжении 14 тактов
мелодия ( б е з единой п а у з ы ! ) образует цепь staccato из частично
обращенных ямбов, поначалу — с развитым пластичным рисунком, потом — с настойчивым повторением одних и тех же мотивов; в последних тактах ямбическое строение цепи подчеркивается резкими sforzando на ямбических затактах.
При обращении межмотивной цезуры смежные элементы
пары соседних мотивов объединяются, возникает сцепление мотивов и продлевается линия развития.
Два мотива занимают господствующее положение в финале
Сонаты Ми-бемоль мажор, ор. 31 № 3 — обращенный ямб и
тон-мотив; обоим свойственна краткость:
90
Цезура в финале — едва ли не главный формообразующий
материал. Лишь в нескольких местах финала используется обращение цезуры, которое ненадолго приносит упоительную п р о дленность.
В первом из приведенных выше примеров видно, как лига,
осуществившая прием обращения цезуры, нарушила квадратность мелодии: вместо трех акцентов она оставила один — на
опорной ноте первого ямба. Н о ямбических структур эта лига
уничтожить не может, так как опоры их продлены, а затакты
укорочены. Поскольку трижды повторяется ямбический ритм,
не ликвидируется полностью и квадратность. Н о она лишается
одного из важнейших свойств: равномерного чередования акцентов. К тому же эта лига, образовавшая в пределах целого такта
цепь legato, возбудила новые ритмические тяготения: с ямбом
пытается «соперничать» хорей.
Аналогичные явления можно наблюдать в начале Скерцо из
Сонаты Ля-бемоль мажор, ор. 26:
83
Allegro molto
Предположим здесь иную артикуляцию:
Уничтожение лиги в такте 1, замена ее прямой цезурой приведут к отчлененности мотивов — и пропадет внутренняя целостность фразы.
У Бетховена часто встречаются примеры более смелого использования межмотивных соединений, служащих разрушению
квадратности и продлению мелодического дыхания.
Проведение темы II части Сонаты Ре мажор, ор. 28, интересно межмотивными 'связями:
Последние восьмые в тактах 2 и 3 примера ритмически, гармонически и мелодически тяготеют к нотам по правую сторону
91
от тактовых черт. Однако композитор связал эти восьмые
с предшествующими, а не с последующими мотивами.
Интересно применено межмотивное соединение в главной
партии I части Сонаты Ля-бемоль мажор, ор. 110:
86
(Moderato cantabile, molfo espresstvo)
Количество лиг здесь соответствует числу мотивов. Н о первая и третья лига захватывают затактовую ноту второго мотива
и тем нивелируют грань между ними. Возникает целостная
фраза, которая предполагает продолжение мелодического развития.
Вслушаемся в эту фразу: она состоит из хорея и амфибрахия. Произношение обоих мотивов — прямое: опора и женское
окончание хорея связаны, как и хореическая часть амфибрахия;
затакт его отделен от опоры. Недостает лишь межмотивной
цезуры. Попробуем восстановить ее:
87
(Moderato
cantabile...)
Мелодия распалась на отдельные мотивы (вопросо-ответного соотношения). Она лишилась цельности, которую ей придавали авторские лиги.
В двух последних примерах межмотивное соединение осуществлено с помощью продления хореической лиги, захватывающей отчлененный затакт последующего мотива.
8
Перед каждым исследователем стилевы! 1 черт того или другого художника неизбежно встает вопрос об эволюции этих
черт. По отношению к бетховенской фортепианной артикуляции
на вопрос этот ответить весьма затруднительно. Нельзя утверждать, например, что в последних сонатах имеются существенные изменения в записи артикуляции. Однако в некоторых поздних сонатах можно наблюдать кое-что новое по сравнению
с ранними сонатами Бетховена.
Изменения в записи артикуляции можно проследить в таких
произведениях, как Сонаты ор. 57 ( I — I I I части), ор. 81а
(I часть), ор. 101 ( I V часть), ор. 106 ( I I I — V части), ор. 110
( ф у г а ) , ор, 111 (II часть).
92
Черты нового в записи артикуляции имеются и в других
сочинениях, начиная приблизительно с ор. 57, однако не в столь
концентрированном виде, как в перечисленных выше.
Чем же отличается запись артикуляции в этих произведениях от записи в остальных опусах?
Количество артикуляционных указаний сокращается. В одних случаях Бетховен не выставляет знаков артикуляции на
протяжении больших эпизодов (см., например, Сонату фа минор, ор. 57, 3-ю вариацию во II части). В других, как, например,
в приводимом ниже отрывке из I части Сонаты Си-бемоль мажор,- ор. 106, дает большие лиги:
(Allegro)
В третьих — указывает лишь самые главные артикуляционные знаки. Рассмотрим следующий эпизод из I части Сонаты
фа минор, ор. 57:
89
^Allegro
На протяжении всего примера имеется лишь одно артикуляционное указание — лига в последнем такте в партии левой руки.
Связность звуков здесь — антитеза расчлененности, которая
93
специально не указана, - но легко угадывается и в скрытом многоголосии гармонической фигурации и в басовом ходе, непо( Allegro assal)
средственно ведущем к лигованным нотам. Возможно, что лига
выставлена Бетховеном и для того, чтобы удержать исполнителя
от соблазна подчеркнуть важность обеих гармоний в кадансе
с помощью их разделения. В этот момент для композитора гораздо важнее противопоставить устремленному вверх движению
по тонам уменьшенного септаккорда поп legato — связно произнесенную нисхйдящую секундовую интонацию.
В последних сонатах Бетховена много эпизодов с фигурационной фактурой (мелодическая и гармоническая фигурация).
При такой фактуре, как правило, Бетховен не указывает артикуляцию.
В полифонических разделах сонат артикуляционные указания весьма лаконичны. Так, например, в фугато I части Сонаты
Си-бемоль мажор, ор. 106, выставлена только одна лига, связывающая удлиненный ямбический затакт с укороченной опорой
(см. пример 57 на стр. 7 2 ) .
Фразировочные лиги в последних сонатах объединяют сложные мотивные образования. Их структура должна быть выявлена любым путем, но при этом исключается использование
Цезур.
Иногда Бетховен не показывает и прием артикулирования
отдельных, разобщенных мотивов. Например, в следующем отрывке из финала Сонаты Ми-бемоль мажор, ор. 81а расширен(Vlvaclssimamente)
^
ные ямбические мотивы в мелодии можно исполнить двояко:
первый — обращенный — вариант
представляется более верным и удобным на фоне быстрой пульсации сопровождения.
В последний период творчества Бетховена особенно заметно
тяготение его к связности. Среди артикуляционных указаний
композитора в последних сонатах почти не встречается прямого
94:
произношения ямба, обращенного — хорея и т. д. Бетховен стремится не разделять мотив внутримотивными цезурами. О б ы ч н о
при/отчленении от мотива какой-либо его части она соединяется
с другим построением.
Таковы некоторые изменения в записи артикуляции, заметн ы е в поздних бетховенских сонатах. Этих изменений немного;
однако нередко они ставят перед пианистом определенные трудности. Преодолеть их можно, лишь, хорошо изучив закономерности бетховенской артикуляции по более ранним произведениям. Знание этих закономерностей помогает понять бетховенский музыкальный язык и углубляет и обогащает творческую
работу исполнителя.
Г. Ха
имовскии
НЕКОТОРЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
ТЕМПОВЫХ И АГОГИЧЕСКИХ
ОБОЗНАЧЕНИЙ
ДЕБЮССИ
Т о л ь к о музыканты
обладают преимуществом улавливать всю п о э з и ю ночи
и дня в бесконечно вибрирующем ритме.
К.
В
Дебюсси
слушаемся в исполнение пьес Дебюсси несколькими пианистами, записанное на грампластинках.
Вальтер Гизе(кинг играет « З о л о т ы е рыбки». 1 Начало пьесы —
мерцание мажоро-минора. Н е замечаешь отдельных звуков, отдельных тридцать вторых. Слышна только общая звучность.
Порой кажется: не то это звуковой колорит, не то свет, идущий
из каких-то фантастических сфер. А может быть, это колебание
воды, освещенной тонким лучом света? Движение капризно и
гибко. Вдруг, бурно «расплескав» прежнюю звучность, вторгается нечто новое. Следует гибкая связка. После нее звучность
рассыпается брызгами. Восстанавливается «порядок». А затем
словно гирлянды света на воде, и к р у г и . . . к р у г и . . . п о к о й . . .
Вот классический сплав дисциплины и непринужденности движения! Э т о подлинная вершина интерпретации Дебюсси.
« З о л о т ы е рыбки» исполняет Вернер Хааз, 2 ученик Гизекинга. И лишний раз убеждаешься в старой истине: пользуясь
заученными приемами, не уяснив особенности стиля, неминуемо
потерпишь творческую неудачу. В. Х а а з у удается повторить некоторые приемы Гизекинга. Какие-то фрагменты звучат красочно. Пианист умело использует педальные эффекты, чувствует
звуковую перспективу. Н о исполнение мало впечатляет. В чем
причина? В недостатке агогической непринужденности. Пьеса
играется метрично, плоско, прямолинейно,..
Или вот исполнение Прелюдии « . . .Ветер на равнине» Жаном Казадезюсом (сыном известного французского пианиста и
1
2
96
Debussy.
Debussy.
Images. Walter Gieseking. Columbia, F C X
Images. Werner Haas. Delux, CL 698510,
282.
композитора Робера К а з а д е з ю с а ) . 1 Чрезмерно быстрый начальный темп (
J = 1 3 8 ; авторское указание: J = 1 2 6 ) . И не от
избытка виртуозности, а от недостатка: если в более спокойном
темпе пианист не может услышать в общей завуалированной
звучности каждую шестнадцатую, приходится идти на ускорение двджения и отмечать хотя бы первые доли секстолей. С т и хийность движения пропадает. Н а с т у п а ю т однообразная метричность и унылая статика. Пианист, видимо, пытается преодолеть
метричность и прибегает к педальной «маскировке». Слышатся
красочные «комки» звучности. О каком образе или идее можно
говорить, слушая
такое исполнение? Е г о
главная погрешность — недостаточно тонкое «владение временем», примитивная
агогика...
У Гизекинга в этой же П р е л ю д и и 2 все превращается в мелодию. Ч т о - т о приближается и удаляется, крутится, стелется,
на мгновение появляется и исчезает. Маленькие тонкие переходы — в тех местах, где имеется авторская ремарка cedez. Резкие порывы сменяются тончайшими subito piano. Движение
растворяется. . . Как классически чеканна форма этой пьесы
у Гизекинга, каково во всем чувство меры! И как свободно,
словно б ы импровизационно, течение музыки! Гизекингу удается
избежать и «вдохновенного» произвола и метрического упрощения.
1
З н а к о м я с ь с интерпретацией пьес Д е б ю с с и различными исполнителями, задаешься вопросом: что именно позволило одним
артистам постичь поэтическую с у щ н о с т ь этой музыки и что помешало другим, порой отлично слышащим и передающим к р а с о ч н о с т ь пьес Д е б ю с с и , глубоко вникнуть в образный мир
композитора?
А н а л и з и р у я наблюдения, приходишь к выводу: самые интересные колористические находки, если они составляют основу
интерпретации, теряют силу воздействия и прелесть новизны.
Конечно, разнообразное туше, характерная артикуляция, тончайшая педализация, создающие полихромность музыкальной
ткани,— важны для пианиста; упущение чего-то одного грозит
обеднением замысла или полной неудачей интерпретации. Н о
подобно тому, как всякая жизнь начинается с дыхания и с движения, так и музыка — и конечно же, музыка Д е б ю с с и — живет
только тогда, когда, наряду с другим, чутко поняты особенности
ее ритма, темпа, агогики, то есть особенности ее развертывания
1 D e b u s s y .
Preludes, Book I. lean Casadesus. RCA, 630, 580
( L M 2415).
2 D e b u s s y . Preludes, 1-er livre, Walter Gieseking. Columbia, F C X 30067.
97
во времени. Тончайшие метаморфозы темпа и агогики (их нередко упускают из виду артисты, играющие Д е б ю с с и ) таят в себе
огромный резерв выразительных возможностей. Без использования этих выразительных средств поэзия умирает. Музыка Д е бюсси впечатляет лишь тогда, когда исполнитель проникается
особенностями ее самобытной пластики. Естественность и пикантность, рассчитанная свобода и обдуманная дисциплина, решительный отказ от ритмического упрощенчества и схематизма,
раскрепощение формы от «тирании» м е т р и ч н о с т и — в о т особенности ритмики и агогики Дебюсси, о которых сам он неоднократно говорил.
По свидетельствам друзей и современников Дебюсси, он о б ладал феноменальной способностью выражать в звуках впечатления от природы, литературы, пластических искусств и т. п.
Дебюсси ощущал в себе эту способность и удивлялся тому, что
другие не замечают в его произведениях тех образов, которые
возбудили его музыкальную фантазию.
Многие высказывания композитора помогают понять особенности его образно-ассоциативного мыйления, >а отсюда — и особенности выразительных средств и приемов.
Нам не дано знать п о с л е д о в а т е л ь н о й цепи поэтических ассоциаций, влиявших на музыкальное развитие в пьесах
Дебюсси. Все то, что иногда выдается за сюжетное содержание
его произведений, литературные программы, написанные некоторыми выдающимися музыкантами ( А . Корто, М . Лонг, Э. Вюйермозом и другими), представляет с о б о ю лишь попытки досказать словами то, чего слушатель может не уловить в интерпретации.
Как правило, подобные программы отталкиваются от названий пьес Дебюсси, в большинстве носящих изобразительный,
«картинный» характер. Поэтому и возникло мнение, будто искусство Дебюсси изобразительно в своей сущности, а отсюда уже
недалеко до мысли о том, что его сочинения, лишись они своих
заголовков, стали бы малопонятными не только для слушателей,
но и для исполнителей.
С этим согласиться нельзя. Известно, кстати, что Дебюсси
зачастую подыскивал символические названия для своих произведений уже после их завершения, исходя из ассоциаций, которые рождало само звучание музыки. Н о самое важное другое:
концепцию о конкретной и «сюжетной» изобразительности музыки Дебюсси очень убедительно опровергает сам композитор,—
хотя бы своей манерой записи названий чв прелюдиях. Как известно, названия эти помещены в конце пьес, поставлены в скобках и открываются многоточиями. Что заставило Дебюсси о б ратиться к такой форме записи? • По-видимому, желание подчеркнуть, что названия эти приблизительны, что в них нет
конкретности, определенности, что они малосущественны по срав
98
нению с подлинным образным содержанием музыки. 1 И искать
его нужно прежде всего в самой музыке: в ее интонационном
складе, в особенностях гармонии, ритма, фактуры, в логике ее
построения и развития. Если же артист исходит только из названия, играет «описательно», его постигнет неудача...
Дебюсси никогда не писал под непосредственным впечатлением от «натуры». « К т о , — говорил он,— знает тайну музыкального творчества? Ш у м моря, линия горизонта, ветер в листве,
крик птицы вызывают в нас множество впечатлений. И в д р у г ,
когда
об этом
меньше всего
думаешь,
одно из
этих воспоминаний возникает помимо нашей воли и выражается
музыкальным языком». ?
Подобно тому, как у поэтов-символистов, оказавших огромное влияние на эстетику композитора, идея и звучание стиха
являлись взаимовозбуждающими моментами творческого процесса и веди к рождению новых образов-символов, так и у Д е бюсси: разные стороны его музыкальной мысли раскрывались
постепенно благодаря Все новым живописно-поэтическим ассо-циациям, вызванным ее же звучанием. И в результате в ее течение как бы вкрапливались «блики», «сигналы» конкретного,
реального («realites»—называл их композитор), выраженные определенными ритмо-интонациями, которые воспринимаются как
жест, фигура пантомимы. Подобные «realites» по большей части
н е с к р е п л е н ы с ю ж е т н ы м с т е р ж н е м , они появляются
и исчезают, как вспышки з а р н и ц . . . Н о именно эти «блики» оказывают влияние на пластичность пьес Дебюсси. В атмосфере
«все примиряющей» ритмической ровности эта музыка вянет.
Протестуя против такой сглаженности движения у некоторых
исполнителей, Дебюсси писал: « . . .«Ароматы ночи» [речь идет
об исполнении этого произведения неким «молодым капельмейстером»] вышли гладкими, словно из-под валка». И не без доли
горечи добавил: « . . .вероятно, чтобы никого не нервировать?». 3
Было бы неверно рассматривать пластичность музыки Д е бюсси т о л ь к о в связи с особенностями конкретно-образного
мышления композитора, т о л ь к о в связи с упомянутыми «бликами реального». Речь должна идти и о своеобразии музыкальнокомпозиционной логики Дебюсси, требующей от исполнителя
максимально гибкого пользования выразительными средствами,
и в первую очередь — агогическими.
Высказывания Дебюсси полны упоминаний о б «арабеске»
1 Необычная манера расположения
названий в конце произведений
была свойственна символистской литературе. В частности, нечто подобное
можно встретить у Малларме и других поэтов-символистов.
2 Цит. по статье: O g i e r
d e L e s s e p s . « „ Q u a t r e Preludes" et „ U n e
I m a g e " de Claude Debussy».— « L e M o n d musioail», 1938, № 10, p. 222 (разрядка наша,— Г.
X.).
3 C l a u d e
D e b u s s y . Lettres inediites a Andre Caplet. Monaco-ville,
1957, p. 46.
.99
й о «принципе орнамента», являющихся «основой всех видов
искусства» и наделяющих музыку способностью «влиять на воображение публики и рождать образы». « . . .Палестрина, Витториа, Орландо Лассо и другие пользовались этой божественной
арабеской. Они находили начало ее в григорианском пении. . .
Бах, использовав арабеску, сделал ее более гибкой, более текучей,— и, несмотря на с т р о г у ю д и с ц и п л и н у , свойственную этому великому мастеру Прекрасного — она (арабеска) изменялась с т о й
свободной,
постоянно
обновляющейся
ф а н т а з и е й , которая поражает даже в нашу эпоху». 1 П о сути
дела, Дебюсси занимали вопросы мелодики, мелодического тока,
и недаром он искал ответ на них в музыке мастеров полифонического стиля, ибо здесь ведущим началом является не тональногармоническое движение, а согласованное движение самостоятельно развивающихся горизонтальных линий.
Т о м у , кто воспринимает музыку Дебюсси прежде всего или
только как чередование красочных аккордовых комплексов, она
кажется неподвижной. Н а самом же деле, даже и в таких аккордовых последовательностях, как правило, определяющим является движение самостоятельных голосов. Если слушать музыку Дебюсси «по горизонтали», можно заметить, как пластична
и свободно текуча ее ткань, в которой прихотливо и словно бы
импровизационно сплетаются разнохарактерные по интонационному и ритмическому рисунку мелодические линии; это в полном смысле слова полифоническая фактура, очень своеобразная
и весьма отличная от фактуры имитационной полифонии. 2
Н о полифония часто сочетается с полиритмией (особенно полифония X X века). Для музыки Дебюсси чрезвычайно характерно полиритмическое ведение мелодических узоров. Такой
'Claude
D e b u s s y . Monsieur Croche, antidilettante. Paris, 1921,
pp. 62,
63
(разрядка наша.— Г. X.).
Ср.:
«Орнамент — музыка для
глаз» — играет очень важную роль в средневековом искусстве
народов
А р а б с к о г о Востока. Он. . . является одним из важных средств выражения
художественного содержания.. . Восходящая в своей основе к классическим
античным мотивам, арабеска. . . явилась новым типом орнаментальной композиции, позволившей художнику заполнять сложным, плетеным, подобно
кружеву, узором плоскости л ю б о г о очертания. . . В разработке арабески. . .
мастера А р а б с к о г о Востока достигли изумительной виртуозности, создав
бесчисленное множество композиций, в которых всегда сочетаются
два
начала: логически с т р о г о е м а т е м а т и ч е с к о е
построение
узора и большая одухотворяющая с и л а х у д о ж е с т в е н н о й
фантаз и и» (Б. В е й м а р н, Т . К а п т е р е в а , А . П о д о л ь с к и й . И с к у с с т в о
арабских народов. Очерки истории и теории изобразительных искусств.
« И с к у с с т в о » , М., 1961, стр. 14. Разрядка наша.— Г.
X.).
2 « . . .о Д е б ю с с и никогда не говорят как об интересном
контрапунктисте, подразумевая под этим, вероятно, лишь уменье строить бесчисленные,
хитрейшие и никому не нужные имитации; между тем это совершенно несправедливо, стоит только взглянуть, как богато сотканы всегда его сочинения, как свободны, не связаны, самостоятельны и интересны отдельные
голоса их, как, наконец, искусно сплетаются там разные тематические эле-
100
у з о р Или « о р н а м е н т » Олицетворял Для Д е б ю с с и с т р о г у ю д и с циплину
и
с в о б о д н у ю ф а н т а з и ю — то
есть
расчет
и импровизацию.
Гибкость музыкальной речи Дебюсси, известная асимметрия
временных" пропорций, вытекающая из стремления предельно
раскрепостить движущиеся формы от «тирании» метричности,
присущий его музыке приоритет плавной нюансировки над ударностью и т. д . , — с л о в о м все, что влияло на становление различных выразительных средств Дебюсси, в том числе и на неповторимый характер его агогики,— проистекало также из символистского мироощущения
автора
«Пеллеаса». Н е случайно
Маргарита Лонг в своей книге « А и piano avec Claude Debussy»
называет Дебюсси «наш музыкант Свободного стиха». 1 В другом месте книги М . Лонг именует Дебюсси символистом. 2
Таким образом, пластичность музыки Дебюсси обусловлена
особенностями его художественного мышления: образными ассоциациями, полифонической логикой и некоторыми характерными
и для символистов представлениями о принципах художественной организации времени. Передать эту пластичность — трудная
задача, в значительной мере зависящая от того, насколько глубоко понял исполнитель агогические принципы Дебюсси, насколько тонко и гибко он «владеет временем».
Когда речь идет об агогике Дебюсси, невольно вспоминаются слова композитора, сказанные дирижеру Энгельбрехту:
«. . .только музыканты обладают преимуществом улавливать всю
поэзию ночи и дня в бесконечно вибрирующем ритме» 3 . Музыка
Дебюсси проникнута этим «бесконечно вибрирующим ритмом».
Установить точные границы этого столь трудно уловимого,
«ускользающего» ритма, а также малейших ускорений или замедлений движения немыслимо. . .
Как бы ни стремился тот или иной композитор запечатлеть
в тексте все свои художественные намерения, его исполнительменты часто до трех, на вид вовсе не соединимых тем сразу. Это ли не
контрапунктическое мастерство!» ( Н . Я. М я с к о в с к и й . Статьи, письма,
воспоминания, т. 2. «Советский композитор», М., 1960, стр. 178).
'Marguerite
Long.
Au piano avec Claude Debussy. Paris,
1960, p. 121.
2 Символисты,
поэты «vers libres>\— «свободного стиха» — отказались
от твердого стопного начала и строфики, от привычного чередования слогов и ударений, а логику построения стихотворной формы подчинили ассоциативным ощущениям. « . . .Стих у символистов,— писал Луи Лалуа,
один из лучших знатоков эстетики Дебюсси,— не исчерпывается правильностью ритма и благозвучными рифмами: то и другое должно.. . отражать
собою жизнь—• ритм свободный, гибкий; ловить и повторять ее движен и я . . . » ( « А п о л л о н » , 1910, № 6, стр. 5 6 ) . Вот откуда многие своеобразные
оттенки rubato у Дебюсси!
3 Слова эти приводит М . Лонг. См. M a r g u e r i t e
L o n g . Au piano
avec Claude Debussy, p. 153.
101
скйе ремарки только направляют творческие поиски артиста,
оставляя последнему широчайший простор в выборе градаций
и соотношений. Дебюсси не мог этого не понимать. И все же он
стремился со скрупулезной тщательностью выверить все свои
указания. Н о что' означала эта «точность» ремарок в его понимании?
Отвечая на этот вопрос, не следует забывать о том влиянии, которое оказала на его художественное формирование
эстетика символизма. Символисты говорили, что дать определение эмоции, образу, настроению — значит уничтожить их. « Н а водить на след» идеи, намекать, предоставляя свободу творческому воображению,— таковы идеалы символизма. Слово или
сочетание слов, в которых направляющая мысль композитора
не выражена полностью, но которые позволяют догадаться о том,
что он имеет в виду; едва ощутимые толчки-сигналы, намекающие на нечто тонкое, почти н е у л о в и м о е — в о т где ключ к пониманию многих ремарок Д е б ю с с и : он стремился к предельной
точности и вместе с тем к предельной обобщенности. . . «намеков»! И если сказанное в равной мере касается динамики, артикуляции и других средств исполнительской выразительности, то
в отношении агогики оно приобретает особую, исключительную
важность, ибо агогика в музыке Дебюсси подобна вездесущему
и неуловимому эльфу А р и э л ю , воспетому композитором в гениальных арабесках «Пека».
Агогические указания Дебюсси очень многообразны. Композитор использует — и часто весьма своеобразно — весь арсенал
агогических обозначений, накопленный его предшественниками,
продолжает и развивает «терминологические традиции» французских клавесинистов.
Дебюсси считал, что в X I X веке французская музыка за редкими исключениями (например, у Бизе) утратила свои подлинно
национальные качества — ясность, грацию и вкус. Подобно
тому, как поэты-символисты пытались в далеких традициях
«Плеяды», в поэзии Ф . Вийона вновь обрести «фонетическую и
идеографическую силу» французского языка, 1 Дебюсси стремился райти силу для обновления отечественной музыки в произведениях и во взглядах на искусство Рамо и Куперена.
В предисловии к изданию произведений Рамо Сен-Сане отмечает, что в X V I I I веке манера игры на клавесине была чрезвычайно непринужденной. Исполнители заботились об изысканности и пластике. Фантазия и грация были главными критериями красоты интерпретации. Естественно, что композитору
не приходилось навязывать исполнителю свои темпы. Лишь
в исключительных случаях Рамо требовал от исполнителя метрической твердости, и тогда он писал: sans alterer la mesure —
1 Слова Рене Гиля. Цит. по статье: В. Б р ю с о в . Рене Гиль.— « В е с ы » ,
1904, № 12, стр. 24.
102
не изменять такт. Обычно же композитор предоставлял исполнителю находить свою пластику движения.
Куперен в предисловии к своим сочинениям для клавесина
подчеркивает, что грация, легкость, непринужденная выразительность помогают лучше всего передать характерные особенности французской музыки. Для того чтобы исполнители — профессионалы и любители — имели возможность глубже вникать
в его замыслы, Куперен начинает вводить в свою музыкальную
терминологию французские слова. В нотах появляются обозначения marque (выделяя), modere (умеренно), mouvement (движение). Интересно, что термин mouvement, не вытесняя традиционного итальянского tempo (время), получает все права гражданства и начинает играть самостоятельную роль. Как только
Куперену требуется разъяснить характер движения или указать
на жанровый признак ритма, он использует TepMHH^mouvement.
Например, «Sur le mouvement de Berceuse» — «в движении колыбельной», «Mouv* de Courante» — «в движении куранты» и т. д.
У Куперена — как впоследствии и у Дебюсси — можно встретить на расстоянии всего нескольких тактов и ремарку mouvement и ремарку tempo.
Конечно, о преемственности между клавесинистами и Д е бюсси можно говорить лишь условно. Коренное различие эпох,
эстетических взглядов, индивидуальных темпераментов наложило свою печать на творчество этих глубоко различных композиторов. И все же между ними можно обнаружить и некоторые
схожие черты, особенно если иметь в виду пластичность и непринужденность движения. Разумеется, новаторские музыкальные замыслы Дебюсси потребовали от него поисков с о б с т в е н н ы х решений в сфере метроритма, темпа, агогики- Иное содержание приобрели у Дебюсси такие термины, как retarde, реи
lent, rubato, mouvement и многие другие; композитор ввел в обиход и новые слова, указывающие на некоторые характерные особенности его музыки.
Если исполнитель стремится «овладеть временем» в произведениях Дебюсси,— он должен не упускать из виду н и о д н о й
его агогической и темповой ремарки. Однако четыре термина
заслуживают особого внимания; всевозможные их варианты
и комбинации с другими указаниями позволяют исполнителю
постичь специфическую пластику арабесок Дебюсси, рождающую ту «игру тактовыми делениями», которую современники
сравнивали с естественной грацией струящейся воды. Это —
rubato, cedez, mouvement и tempo.
2
Музыка Дебюсси великолепно организована метром, но не
порабощена им. Тончайшие моменты развития этой музыки
обусловлены присущей ей ритмической импровизационностью,
103
упорядоченной и в то же время свободной. Именно эта своеобразная ритмическая импровизационность придает непринужденность и гибкость развертыванию мелодических линий. Часто она
вызвана потребностью композитора передать в звуках пластические метаморфозы окружающего его мира. М . Лонг, имея
в виду «Отражения в воде», писала: «Необычайная любовь
к природе приводит его [Дебюсси] к тому элементу жизни, откуда она сама происходит: к воде. Он не теряет в ней ни единого отражения, ни одной ласки, ни одной струи, ни одного изменения. Все э т о придает его музыке оттенок, который невозможно объяснить, если его не чувствуешь. . . О т с ю д а — rubato
Дебюсси. . .».'
R u b a t o . . . Эта ремарка встречается у Дебюсси часто. И всякий раз указание rubato, так или иначе привлекающее внимание
исполнителя к ритмически свободной манере произнесения музыки, носит разный оттенок, индивидуальный характер. 2 Вместе
с тем, если внимательно проследить, в каких случаях Дебюсси
выставляет эту ремарку, приходишь к выводу, что случаи эти
можно обобщить и типизировать.
Один из таких типов rubato можно условно назвать «rubato
срединного эпизода». Имеется в виду указание rubato, обычно
относящееся к довольно длинному отрывку музыки, чаще всего
в середине произведения. В подобных фрагментах пьес обычно
ощущается значительное отступление от основного характера
движения; лишь какой-нибудь ритмо-колористический
штрих
напоминает о связи этого построения со смежными.
В Прелюдии «. . .Ворота Альгамбры» такой эпизод занимает
семнадцать тактов, но наиболее ощутимо «растворение» движе-
M a r g u e r i t e L o n g . Ди piano avec Claude Debussy, p. 45.
ОДИН ИЗ ВИДОВ rubato Д е б ю с с и называет «фантастичным». В письме
к Дюрану есть примечательное место: «Посмотрите, на пятой странице в мазурке Шопена есть достаточно фантастичное Rubato. Н а восемнадцатой
странице — подобное же указание». (Lettres de Claude Debussy a son editeur. Paris, 1927, p. 1 3 7 ) . Вероятно, Д е б ю с с и имеет в виду такты 8 — 5 от
конца до-диез-минорной Мазурки, соч. 6 № 2, и заключение фа-минорной
Мазурки, соч. 7 № 3,
1
2
104
Колебание октавных триолей темы «подсвечивается» мягкими арпеджио. Мелодия опирается на характерный шаг хабанеры. Все здесь призрачно. И лишь постепенно, вместе с утверждением ритма хабанеры и усилением эмоциональной напряженности, развитие эпизода приводит к возвращению основного
характера движения.
Интересные метаморфозы претерпевает rubato в Прелюдии
« . . .Фейерверк» (см. такты 6 1 — 7 0 ) . Здесь композитор как
будто «нагнетает» rubato: на смену rubato приходит molto rubato,
сопутствующее указанию doux et harmonieux (нежно и благоз в у ч н о ) ; спустя два такта — incisif et rapide (резко и стремительно) — указание, относящееся к двум четвертям такта; Следом появляется quasi cadenza, то есть, по существу,— полное
исчезновение основного движения; каденция прерывается возвращением к tempo (rubato) и только после этого следует ремарка mouv1. Кажется, будто в этом эпизоде моментами полностью исчезают материальность звучания и метрическая организация: тончайшие краски в сочетании с, казалось бы,
порой ничем не сдерживаемой импровизационной свободой движения создают фантастические свето-красочные эффекты звучания.
В такого рода эпизодах наиболее ярко проявляется красочная фантазия Дебюсси )(вспомним середину Двенадцатого этюда,
середину «. . .Ундины» и др.).
Иногда вместо «rubato срединного эпизода» у Дебюсси можно
встретить своеобразную каденцию с ремаркой rubato. Обычно
такая каденция подготавливает репризные фрагменты (см. Восьмой и Одиннадцатый э т ю д ы ) или же продолжает и усиливает
ранее начавшееся ритмически свободное движение (как в Прелюдии «. . .Фейерверк»)Художественная потребность Дебюсси в ритмически свободном движении музыки и его отношение к самому термину rubato
с течением времени изменялись. Композитор стал все реже обращаться к указанию tempo rubato, определяющему движение целой пьесы или крупного раздела, и все чаще стал выставлять
ремарку rubato лишь в коротких фрагментах ( в один-два такта),
105
Внезапно Вторгающихся в установившийся ритмический ход й
открывающих самые причудливые очертания и краски образов.
В такие моменты звучность может быть и тончайшей, и ослепительно яркой; движение может оказаться или совсем «расстроенным», или лишь несколько видоизмененным. Исполнитель должен; привнести в него своеобразный «непорядок», очарование
которого так характерно для Дебюсси. Подобного рода « в т о р г а ю щ и е с я r u b a t o » (назовем их так) выполняют различные функции.
В « З о л о т ы х рыбках» дважды после сверкающей аккордовой
трели врывается мелодия на «вспененном» фоне баса. Этот эмоционально напряженный отрывок словно вторгается извне —
наперерез предшествующему и последующему движению: 1
Rubato
Другой
пример
« . . .Ундина»:
94
«вторгающегося
rubato» — в
Прелюдии
au Mouv*
1 Часто именно то, в чем некотррые видят лишь внешнее
«изображение», оказывается глубоко эмоциональным, личным высказыванием автора.
Т о т , кто видел японский эстамп « З о л о т ы е р ы б к и » , в полной мере может
понять, насколько далек был Д е б ю с с и от изобразительности в искусстве.
Эстамп, при всей оригинальности светового колорита и рисунка, представляется статичным произведением, выполненным в некоей условной, чрезвычайно сдержанной эмоциональной манере. Пьеса Д е б ю с с и , напротив, несет
в себе сильный эмоциональный заряд. Живописный мотив эстампа отразился в музыке, пожалуй, лишь в необычности «света», который излучают
гармонии Д е б ю с с и .
106
После трех тактов с ремаркой au mouv', в которых нежные
интонации словно обволакиваются гибкими серебристыми пассажами, вдруг появляется и тут же замирает новое звучание —
ремарка rubato,— звучание, в котором полностью разрушаются
метроритмические опоры предыдущих тактов.
В Прелюдии « . . .Феи, прелестные танцовщицы» «вторгающееся rubato» ярко вписывается в общее движение. После тающих квинтолей вдруг мягко вступает органный пункт
ля-бемоль — ми-бемоль, на который нежно и властно накладывается
октавная мелодия:
Э т о т четырехтакт удивительно проникновенной музыки воспринимается как возникший извне среди окружающей его феерии танцующих линий.
П р и « в т о р ж е н и и » rubato иногда создается впечатление, б у д т о
музыка вдруг теряет четкие ритмические контуры. . . И , однако,— не успеешь осознать, что же случилось, как движение
уже восстанавливается и забывается только что
пережитое
странное,
волнующее состояние. Т а к , в « А р о м а т а х
ночи»
( и з « И б е р и и » ) на смену нежно и несколько томно звучащей
испанской мелодии вдруг появляется новый мотив (полтора
такта rubato), который, не успев ритмически- и динамически
«окрепнуть», замирает в неясных тремолирующих
звучаниях
(см. такты 9 6 — 9 7 ) .
' О д н а к о и эта неопределенность проходит мгновенно: в новом приливе сил ( T e m p o 1°) из угасшего было мотива вырастает сильная мелодическая линия, приводящая весь эпизод
к кульминации.
Е щ е контрастнее «вторгается» rubato несколькими тактами
раньше. В оркестре — шелест струнных, тающие звуки челесты,
« б л у ж д а н и я » флейт; меланхоличная валторна ведет о чем-то
неспешное повествование,— все э т о приглушено, неуловимо и
как б у д т о грезится. . . Внезапно горячее ю ж н о е дыхание врывается в э т о т сон природы. П р о и с х о д и т как бы расшатывание
ритма и мгновенное возбуждение динамики. К о м п о з и т о р у здесь
недостаточно ремарки rubato; он добавляет: expressif et passionne.
Rubato относится лишь к двум тактам, но они настолько
« в ы б и в а ю т из колеи», что после этого необходим еще небольшой
«успокоительный» эпизод (a tempo), возвращающий движение
к покою предшествовавших страниц:
108
Иногда вслед за «фрагментом rubato» как бы расшатываются
ритмические опоры движения. В таких случаях композитор порой выставляет ремарку molto rubato (например, в балете
« К а м м а » — с м . стр. 19—20 клавира в издании Д ю р а н а ) . Ч р е з вычайно интересен одиннадцатитактный фрагмент из балета
« И г р ы » (см. стр. 3 0 — 3 1 клавира в издании Д ю р а н а ) . Т р и ж д ы
здесь сменяются обозначения tempo rubato и serrez ( с о ж м и т е ! ) :
T e m p o rubato (2'/2 т а к т а ) — S e r r e z ( t ' / z такта) —
T e m p o rubato ( 3 т а к т а ) — S e r r e z (1 такт) —
T e m p o rubato ( 2 т а к т а ) — S e r r e z ( 1 такт)
Б ы с т р о чередуя расслабление и сжатие движения, композитор противопоставляет их друг другу.
У Д е б ю с с и встречается не только
последовательное
(как в приведенном с л у ч а е ) , но и о д н о в р е м е н н о е противопоставление движений разного характера. П р и м е р о м может служить помещенный выше отрывок из « З о л о т ы х р ы б о к » (см. пример 9 7 ) .
Мелодия, словно нехотя, медлительно спускается вниз ( е х р ressif et sans rigueur — выразительно и не придерживаясь ритмической т о ч н о с т и ) , а навстречу ей стрелой взлетает пассаж тридцать вторых — с ремаркой rapide (круто, стремительно).
Было бы неверно говорить о ритмически с в о б о д н о й манере
исполнения музыки Д е б ю с с и только в тех случаях, когда имеется
авторская пометка rubato. В известном смысле слова можно сказать, что «элементами» rubato пронизана вся его музыка. Н а изменчивый, непринужденный в ритмическом отношении характер движения нередко указывают авторские пометки, по смыслу
своему близкие понятию rubato.
109
Expresslf et sans
rigueur
Одной из таких ремарок, весьма характерной для Дебюсси,
является уже упоминавшееся sans rigueur. Большей частью о б о значение sans rigueur появляется в такие моменты, когда движение, сохраняя определенный импульс, все же ослабевает, словно
сникает.
Н о — е щ е раз это подчеркиваем — и там, где не выставлены
пометки rubato, sans rigueur и т. п., исполнитель не должен проходить мимо тончайших «элементов» rubato. М . Лонг считает,
что у Дебюсси, как' и у Шопена, rubato не только относится
к темпо-ритму, «но это и нюанс или порыв». 1 Вряд ли можно
поставить знак равенства между оттенками rubato у Д е б ю с с и и
у Шопена, как это делает М . Лонг. Н о несомненно, что rubato
обоих композиторов очень разнообразно и ощущается в их музыке куда более часто, чем э т о отмечено авторскими указаниями.
3
Своеобразная пластика арабесок Дебюсси побуждала его
искать новые обозначения, которые могли бы наиболее полно
разъяснить исполнителю художественные намерения композитора и привлечь внимание .к тончайшим метаморфозам музыкальной ткани. Один из нужных ему терминов Дебюсси нашел
во французском слове cedez (повелительное наклонение глагола
ceder — уступать, поддаваться, опускаться, оседать,
переда1
110
Marguerite
L o n g . Au piano avee Claude Debussy, p. 45.
вать). 1 М о ж н о утверждать, что указание cedez неотделимо от
музыки Дебюсси.
В советском издании фортепианных произведений Дебюсси
( М у з г и з , М., 1961) обозначение cedez переводится словом «замедлить». Этот перевод не только не соответствует французскому слову, но, изменяя смысловой акцент авторской ремарки,
направляет мысль исполнителя по неверному пути. Дело, конечно, не в точности перевода — можно вспомнить немало примеров, когда прямое значение слова, ставшего специальным термином, только косвенно связывается с его буквальным пониманием. 2 Музыкант, чувствующий своеобразие агогики Дебюсси,
переведет «cedez» скорее как «поддайся», «уступи», «опустись» —
так, как это и следует и з французско-русских словарей,— но ни
в коем случае как «замедли». И б о Деббюсси, когда ему требовалось указать исполнителю на замедление темпа, всегда пользовался обозначениями типа retenu, retarde и т. п.
Обратимся к примерам.
В такте 4 Прелюдии « . . .Канопа» выставлено обозначение
cedez. Оно относится к трем аккордам — переходу, вносящему
новую гармоническую и динамическую краску (после едва усилившейся звучности в такте 3 ) .
Этот переход приводит к d-шоП'ному аккорду, на фоне которого в басовом регистре гулко и затаенно проводится снова
первоначальная мелодия. На протяжении всех этих тактов движение представляется неизменным или почти неизменным. И с полнительская задача состоит в том, чтобы динамическая и регистровая «модуляция» была выполнена почти незаметно и
чрезвычайно пластично ( о б этом и говорит здесь ремарка cedez).
Один музыкант решит ее без сколько-нибудь ощутимого замедления, другой — чуть-чуть притормозит движение. Главное не
в этом: решение задачи зависит от того, достаточно ли пластично переведет тот или иной артист мелодию из одной красочной
сферы в другую.
В заключении Прелюдии аккорды аналогичного характера
выполняют уже другую функцию. Вслед за ними движение как
бы останавливается; появляется новый образ — далекий «неземной» голос, печально 'и отрешенно повествующий о чьей-то
с к о р б и . . . Звучность истаивает...
1 Д е б ю с с и был, по-видимому, первым или одним из первых французских композиторов, кто ввел слово cedez во французскую музыкальную терминологию. В «Богемском танце» ( 1 8 8 0 ) , в «Грезах» ( 1 8 9 0 ) и в Бергамасской сюите ( 1 8 9 6 ) уже встречается этот термин. Правда, здесь он
еще не получает полностью того смысла, который Д е б ю с с и придаст ему
позже.
2 Вспомним rubato. Л ю б о й ученик скажет:
«rubato — э т о означает играть свободно». А ведь rubare по-итальянски означает красть, воровать!
111
И композитор выставляет здесь другие ремарки: не cedez,
a retenu; вслед появляется уже не mouv* (как в начале пьесы),
a plus lent, (более медленно) и далее — ties lent (очень медленно):
1»
Mouv«
ч
В Прелюдии « . . .Шага на снегу» ремарки cedez и retenu следуют непосредственно одна за другой. Cedez словно переходит
в retenu. Движение в двутакте, к которому относится ремарка
cedez, зыбко, неустойчиво, звучность истаивает... Здесь нет определенного з а м е д л е н и я
движения, но ощущается слабое
р а с ш а т ы в а н и е темпа:
112
Если даже допустить, что в данном случае «cedez» означает
«слегка замедлить», a retenu указывает на более сильную степень
замедления, то возникает вопрос: почему Дебюсси во всех случаях, когда он намеревался указать на постепенное замедление,
не пользовался сочетанием ремарок cedez—retenu, а выставлял
обычно
retenu-— plus retenu — retarde, lent — plus lent (tres
lent) и т. п.
Часто в конце пьес Дебюсси наступает замедление — иногда
очень значительное, иногда — чуть заметное. Во всех таких
случаях можно встретить ремарки retenu, retarde и другие подобные термины, но никогда здесь не найти cedez. Это обозначение
композитор выставляет где угодно, но только н е в н а ч а л е
и н е в к о н ц е сочинения. Здесь-то и выясняется самая важная функция cedez во всей системе агогических — и, шире,
вообще исполнительских—обозначений Д е б ю с с и : cedez указывает на с в я з к у , мостик в конструкции пьесы, подготовку нового тематизма, метро-ритма, краски, переход к новой тональности, темпу, фактуре и т. д.,— но все э т о , б е з ощутимого изменения темпа.
В конце Прелюдии «. . .Туманы», после того, как в нижнем
регистре промелькнула ритмически сжатая до-диез-минорная
тема (un peu marque), бас сползает в до-бекар, и этот ход
(две н о т ы ! ) отмечен ремаркой cedez (см. такты 4 2 — 4 3 ) .
Возникает удивительный эффект: пусть э т о и субъективно,
но нам представляется, что неожиданное появление до-бекара
в сфере pianissimo создает иллюзию мягкого свечения баса. Здесь
в последний раз возвращается первая тема Прелюдии, й cedez,
таким образом, указывает на композиционную связку, восстанавливающую также тональность и движение начала пьесы.
В Прелюдии « . . .Танец Пэка» мелодическая секстоль, над
которой написана ремарка cedez, связывает линии арабески,
плавно вливающиеся одна в другую. При этом незаметно меняется -тональное «русло» фрагмента — Ре мажор переходит
в Ми-бемоль мажор (см. пример 100).
В уже приводившемся примере из « З о л о т ы х рыбок» (см. пример на стр. 110) замедление выписано уже самой длительностью нот (шестнадцатые после квинтолей тридцать вторыми).
А какова здесь роль ремарки c e d e z ? — П р и в л е ч ь внимание
к переходу мелодии от грациозного взлета к неторопливому
спуску.
Очень ча'сто указание cedez встречается в эпизодах, в которых из туманных, «стелющихся» звучностей постепенно выявляются неожиданные красочные нюансы и новое по своему характеру движение. В «Колоколах сквозь листву» есть фрагмент,
над которым стоит авторская ремарка «comme une buee irisee»
( в свободном переводе: «словно переливы радуги в водяных
каплях тумана»). Видимо, композитор хотел, чтобы' зрительный
5
Баренбойм
|113
s-
момент — игра радужных красок, их отблески и свечение — стал
для исполнителя звуковым явлением. Перед этим эпизодом над
несколькими нотами выставлено указание cedez, отмечающее необходимость перехода к новой звуко-красочной гамме и к новому движению:
114
В ряде случаев эпизодами, отмеченными ремаркой cedez,
композитор вписывает яркий штрих, показывает новый красочный блик, вводит выразительную деталь.
В Прелюдии «. . .Холмы Анакапри» есть момент, когда кажется, что тарантелла вот-вот «выплеснется» через край, и в потоке всепоглощающей танцевальности растворятся тонкие ассоциативные образы. Н о на пути «крутящихся» триолей оказываются два звонких упругих аккорда (пометка cedez):
Продолжительность cedez очень мала. Указание говорит
об оттяжке. Исполнителю это указание поможет уберечь весь
эпизод от сковывающего однообразия метричности. Аналогичные примеры можно встретить в этюде «Октавы», в Скрипичной
сонате и в других произведениях Дебюсси. Часто с помощью пометки cedez автор выделяет важное высказывание, особенно волнующую интонацию. В «Пеллеасе»
( в сцене в саду у бассейна) cedez сопровождает фразу Мелизанды — важнейшую в драматургическом отношении: 1
"83
C.5dez •
'
;
•
М,
On di _ rait que mes mains sont ma - Ia.des au.jourd'hui—
В начале песни «Пустячная просьба» («Placet futile») на
слова Малларме указание cedez относится к краткой вокальной
реплике. По поводу ее известная певица Ж. Батори, исполнявшая песни Д е б ю с с и вместе с автором, пишет: «Слово „Принцесса!" . . .должно прозвучать очень плавно. Произносить это
надо ясно, с грацией и очарованием» 2 .
Обозначение cedez, отмечающее важнейшие пластические моменты в музыке Дебюсси, очень часто встречается в его хореографических произведениях. Например, в балете « И г р ы » есть
эпизод, в котором чередование указаний cedez, и mouv1 связано
1 Пеллеас и Мелизанда в саду у бассейна. М е ж д у ними идет как будто
незначительный разговор, но для них он полон глубокого смысла. Через
мгновение после реплики Мелизанды « М о и руки словно больны сегодня»
с ее пальца соскользнет и упадет в воду кольцо, подаренное ей братом
Пеллеаса Голо. С этого момента судьбы Пеллеаса и Мелизанды связаны.
2 J.
Batori.
Sur I n t e r p r e t a t i o n des melodies de Claude Debussy.
Paris, 1953, p. 31.
б*
115
с характерными моментами пантомимы: юноша хочет поцеловать
девушку, но она вырывается... И оба раза трепетный порыв
юноши отмечен в нотах ремаркой cedez, а движение девушки —
mouv*:
Он просит у неё поцелуя...
ill lui demande un baiser...
Она возражает..._«
ЕИе Б'ёсЪарре.,...,
Она о т с т р а н я е т с я . . . .
Л
Он снопа просит.
Е„е
Nouvelle demande.-Mouv 1
Mouvt
s,ech
В фортепианных сочинениях Дебюсси также встречаются такого рода «сценки». В одном из фрагментов «Кукольного кэкуока» передана явно комическая ситуация:
Cedez
а 1ЕТ"Р°
Pavec ипе gratidc Amotion
4
Us
IT*
Cedez
116
^UJ
Сколько забавной патетики в сомнительных притязаниях
куколйного селадона! Гротескный образ, зримый до предела.
И что же? Жеманная кукла-дама, видимо, не отвечает взаимностью своему навязчивому- кавалеру. Ее движения метричны,
размеренны, «устойчивы». Четырехкратное чередование ремарок
cedez и a tempo удивительно точно раскрывает действие на воображаемой сцене: напористые порывы «искусителя» и кокетливонеприступный отказ «красотки».
Рассмотренные примеры свидетельствуют о том, что музыкально-смысловое содержание ремарки cedez очень многообразно. Она большей частью указывает на изменение звучности,
которое невозможно осуществить без тончайших агогических нюансов, без едва заметных метаморфоз ритма, без «микроколебаний» движения.
По существу говоря, в термине cedez, если подойти к нему
с точки зрения его психологической роли для исполнителя,
всегда содержится призыв: «Внимание—переход! Здесь — предельно гибко. . .» А как именно гибко — это уже зависит от музыкального контекста, от его прочтения артистом. На какой-то
момент движение может стать зыбким, неуверенным, ускользающим; иногда это будет связано с погружением в таинственные,
завораживающие звучности, с постепенным изменением красочной гаммы, с внезапным появлением отблесков света или
ярких вспышек звучности; иногда — с особо важными, трепетными интонациями, эмоциональными порывами и т. д.
Как бы ни систематизировать случаи, когда Дебюсси применяет
обозначение cedez,— каждый из них по-своему неповторим,
и у талантливого интерпретатора ни один фрагмент с ремаркой
cedez ни в красочно-динамическом, ни в агогическом отношении
не будет походить на другой.
4
Обозначение mouvement в фортепианной музыке Дебюсси появилось впервые в Сарабанде из «Pour le piano», сочиненной
в период между 1896 и 1901 годами. В вокальных произведениях
композитора это указание встречается еще раньше (например,
в «Лирических прозах», 1893). В советских изданиях mouvement
рассматривается как синоним tempo и поэтому au mouv* переводится: в темпе. Пианиста, стремящегося к тонкому" и с п о л н и т е л ь с к о м у п р о ч т е н и ю авторских указаний, такой перевод, подобно тому, как э т о имело место,с термином cedez, никак
не может удовлетворить. Достаточно перелистать несколько
страниц сочинений Дебюсси, чтобы увидеть расположенные
по соседству и mouv* и tempo.1
1
См. пример 9 5 на стр. 107—'108.
117
Это не случайность: композитор, по-видимому, придавал
этим словам различный смысловой оттенок, понять который
очень важно для исполнителя.
Термин tempo в сочинениях Дебюсси обычно встречается
там, где нужно выявить опорно-метрическую сторону движения,
где возникает потребность в строгой ритмической дисциплине.
Поэтому так часто появляется указание tempo 1° (или a tempo)
в репризных разделах пьес, после всевозможных агогических
метаморфоз: потеря исполнителем темпа грозит в таких случаях
нарушением композиционной стройности произведения. 1
Обозначение же mouvt прежде всего связано с пластическиживым, гибким течением музыки, с едва ощутимым нарушением,
преодолением метричности, с активизацией движения.
Классический пример присущей Дебюсси тончайшей пластической «игры временем» находим в середине Прелюдии « . . .Феи,
прелестные танцовщицы» 2 . После «вторгающегося» rubato ремарка au mouv* призывает восстановить текучесть движения,
почти лишенного четких метрических опор; исчезающие «на
пуантах» шестнадцатые (cedez) приводят к шаловливой игре
синкоп (sans rigueur), в которой совсем пропадают сильные
доли; и только a tempo «наводит порядок» — выявляется вальсообразный ритм.
Термин tempo, по-видимому, настолько крепко связан в сознании композитора с властью метра, что, за редкими исключениями, не требует никаких пояснений. Mouv 1 же — понятие гораздо менее определенное. Ремарка эта обычно призывает не
столько к соблюдению « с к о р о с т и» движения, сколько к выражению его всегда индивидуального и неповторимого х а р а к т е р а . Поэтому сплошь и рядом указание mouv4 композитор
дополняет характеристическими обозначениями, указывающими
на жанровый признак ритма (mouv* de Habanera — движение
хабанеры, dans le style et le mouvt d'un Cake-Walk — в стиле
и движении кэкуока), на образно-смысловой оттенок движения
(mouv plus allanqui — движение более расслабленное, mouv* assez
1 См. репризные эпизоды в «Пагодах», «Садах под дождем», « О т р а ж е ниях в воде», «Колоколах сквозь листву», первом «Античном эпиграфе»,
« Д о к т о р е Градус ад Парнассум», «Колыбельной слоненку», «Кукольном кэкуоке», « . . . М е н е с т р е л я х » , «Белом и черном» (I ч.), Этюдах № 10 и 11
и др. В балетах, где непринужденная пластичность движения столь необходима, Д е б ю с с и для сохранения твердого ритмического остова музыки через
каждые несколько тактов выставляет ремарку a tempo. Равель, также использовавший
сочетание mouvt и tempo, в большинстве случаев сохранял
mouv' для гибких линий; в местах же возврата к строгому движению выставлял tempo 1° (синкопированный раздел седьмого вальса из «Благородных и сентиментальных вальсов», середина А л ь б о р а д ы и др.). Иногда Равель, как и Д е б ю с с и , именно в репризе четко упорядочивал движение ремаркой tempo 1° ( Р и г о д о н ) .
2 См. пример на стр. 1 0 7 — 1 0 8 .
118
anime — движение достаточно взволнованное, mouv4 elargi — движение расширенное).
В
репризе Прелюдии
«. . .Менестрели»
стоит указание
tempo 1°, а через несколько тактов, в которых ничто не нарушает
маршеобразного характера музыки, появляется ремарка mouV(plus allant) — движение (более броско, с большим шиком):
Tempo 1 °
|j
1
j
*/
*
г
г
Г
V
Р
k
j /
t'
—
=
=
—
рр3
]_
MoUV1 (plus allant)
В заключительном разделе «Вечера в Гренаде» на расстоянии трех тактов друг от друга выставлены указания tempo 1° и
mouv' de debut (т. е. mouv' de Habanera):
Mouv* de debut
}Q7
Tempo 1°
Первое из них относится к фрагменту с определенно выраженным танцевальным ритмом. В такте 3 приведенного примера
упругий ритм хабанеры затушевывается движением триолей.
А в следующем такте (mouv* de debut) с момента вступления начальной темы танец совсем исчезает; остается только напоминание, намек на ритм хабанеры. И на протяжении всей пьесы, как
только начинает звучать «собственно хабанера», темп становится
весьма определенным и обозначается tempo 1°; но едва лишь
танец рельефно вырисовывается, композитор стремится уйти
119
от этого образа (который, по-видимому, представляется
ему
слишком определенным) в область неуловимых ассоциаций.
Если обратиться к приведенным в предыдущем разделе примерам из балета « И г р ы » и из «Кукольного кэкуока», можно заметить в них любопытное совпадение. В обоих случаях ремарка
cedez связана с душевным проявлением, откровенным порывом;
mouv4 же и tempo — с характером персонажа, к которому этот
порыв направлен. В балете таким персонажем является живая
танцовщица; ее ответ пластичен, гибок -— ремарка mouv4. В « К э к уоке» же героиня — кукла; ее движения, разумеется, несколько прямолинейны, чуть механичны — ремарка tempo. К о нечно, приведенное Сопоставление носит приблизительный характер (и к тому же — субъективный: ведь оно опирается
на субъективное образно-сюжетное истолкование « К э к у о к а » ) .
И все же оно подтверждает наметившийся уже вывод: Дебюсси
выставляет ремарку mouv4 тогда, когда стремится обратить внимание на пластическую непринужденность движения в какомлибо отрывке и хочет одновременно подчеркнуть определенное
единство темпа на протяжении всей пьесы.
Дебюсси не'редко использует термины mouvt и tempo в аналогичных композиционных ситуациях; особенно — ремарки mouv1
de debut (впоследствии заменявшаяся композитором указанием
1-ег mouv 1 ) и tempo 1°.
В первом «Античном' эпиграфе», ритмическое развитие которого очень свободно (часты смены метра: 4; g! gi
4! §
и т. д.), движение пластично и изменчиво. В конце пьесы, после
обозначений cedez, mouv4 и росо rit., выставлено указание 1°
tempo. О н о знаменует возвращение мерного движения четвертями, характерного для начала пьесы. Образуется своего рода
темпо-ритмическая «арка» между началом и концом пьесы.
Образуется «а|>ка» и в «Вечере в Гренаде». Н о здесь композитор ставит не 1 tempo, a mouv1 de debut. Почему? Потому что
арки эти очень разные. Нам представляется, что в «Античном
эпиграфе» — это арка легкая, но прочная, здесь же она напоминает радугу с трепещущими контурами, тающую в пространстве.
Пьеса как будто не имеет определенного начала и определенного
конца. Она загадочно возникает, как сон, как мираж, и так же
таинственно исчезает.
5
Дебюсси стремился писать «музыку, начинающуюся там, где
слово бессильно что-либо выразить». 1 Если вспомнить наряду
с этим слова Дебюсси — « . . .музыка существует для невырази1 Lettres de Claude Debussy a sa femme Emma, presentees par Pasteur
Vallery-Radot. Paris, 1957, p. 44.
120
м о г о . . . » , ' если вспомнить его мысли о «бесконечно вибрирующем ритме»,— станет понятным, что заставляло его искать такие тонкие и разнообразные указания, которые позволили б ы
исполнителю постичь его замысел или хотя бы приблизиться
к нему. 2
Пожалуй, немного было композиторов, которые- внесли бы
в нотный текст такое количество новых обозначений, как Д е бюсси. И все же в области «бесконечно вибрирующего ритма»
композитор не смог выявить словесными ремарками всех оттенков своих художественных намерений. По-видимому, сознавая
невозможность этого, он иногда обращался к более «простым»
исполнительским указаниям: к обозначению скорости движения
по метроному. Н о и тут проявились некоторые особенности агогических и темповых намерений Дебюсси. Его метрономические
обозначения большей частью привлекают внимание к частым
и з м е н е н и я м скорости движения; эти о б о з н а ч е н и я ' у к а з ы вают на то, что композитор порой отказывается от единства
общего темпа. (См. « И луна спускается на развалины храма» —
J =^66, затем — 60, 52, 66 и в конце пьесы
J =42;
в идущих
без перерыва «Ароматах ночи» и «Утре праздничного дня»
J) = 9 2 , потом 80, затем J = 112 и 176),
Вероятно Д е б ю с с и часто бывал в ы н у ж д е н
обозначать
метроном. Ж. Батори рассказывает о том, как были проставлены
метрономические указания в романсе «Мандолина»: «Помню, я
спела Клоду Дебюсси «Мандолину» в темпе, указанном в первом издании: Allegretto, без цифры метронома. С первых же
тактов Дебюсси воскликнул: « В два раза быстрее!». Когда я
ему сказала, что об этом никто никогда не догадается по одному
лишь указанию Allegretto, Дебюсси внес исправление в следующие издания и проставил J = 1 2 6 » . 3
Метрономические указания любого автора дают лишь приблизительное представление о нужной скорости движения и совсем не передают его характера, а тем более его оттенков. В музыке же Дебюсси, сотканной из бесконечной игры арабесок,
именно разнообразнейшие о т т е н к и движения создают особую
импровизационную пластику, составляющую основу его стиля.
Вероятно, поэтому композитор проявлял известную противоречивость: он не отказывался от метрономических обозначений и
вместе с тем не придавал им большого значения, мало веря в их
Lettres de Claude Debussy a sa femme Emma, p. 44.
Маргарита Лонг рассказывает о своем необычайном удивлении, когда
композитор признался ей, что провел ночь, обдумывая динамику крошечного отрывка
(Marguerite
L o n g . Au piano avec Claude Debussy,
1
2
' 2 7 h
Batori.
bussyi p. 23.
P
Sur
['Interpolation
des
melodies
de
Claude
De-
121
способность открыть исполнителю специфическую пластику его
музыки. «Вы знаете,— писал Дебюсси Д ю р а н у , — мое мнение
по поводу движений по метроному: они верны на протяжении
одного такта. . .» И на вопрос Дюрана, оставить ли в нотах
метрономические обозначения, композитор ответил: «Поступайте
по своему усмотрению». 1
Когда М . Лонг рассказывает о том, как после первых же
сыгранных ею аккордов Сарабанды (из «Pour le piano») композитор воскликнул « К метроному!»,— она этим подчеркивает
не столько приверженность Дебюсси изобретению Мельцеля,
сколько свою собственную неудачу, свое неумение в ту пору
найти художественно оправданную скорость движения для этой
пьесы. 2
Когда речь идет о «верном темпе», в котором талантливый
артист исполняет ту или другую пьесу, имеется в виду верная
скорость и верный характер движения, и н д и в и д у а л ь н о найденные исполнителем в органической связи со всем его замыслом. По-видимому, это и имел в виду Дебюсси, когда писал
дирижеру Мессаже: «Вы сумели создать звучащую жизнь «Пеллеаса» с нежной утонченностью, которую уже дальше искать
незачем. . . очевидно, что внутренний ритм музыки зависит
от того, кто ее воссоздает.. ,». 3
Движение, если оно не прочувствовано исполнителем, а навязано ему метрономическими указаниями, фальшиво; оно не
способно передать изменчивую жизнь звуковых образов. Поэтому «гипноз» метронома очень вреден. Только глубокий анализ музыки Дебюсси, чуткое исполнительское прочтение авторских указаний, тонкое проникновение в самые «потаенные» свойства его агогики могут дать музыканту необходимые знания для
правдивой интерпретации сочинений этого композитора.
Однажды некий пианист пришел к Дебюсси и начал играть
какое-то из его сочинений. Неожиданно остановившись посреди
пассажа, он обратился к композитору и высказал свое мнение,
сводившееся к тому, что это место можно играть «свободно».
О б этом случае композитор рассказал Маргарите Лонг
с крайним возмущением: «Одни люди созданы, чтобы писать
музыку, другие — чтобы ее издавать, а этот хочет из нее делать
то, что ему заблагорассудится!
— Я поинтересовалась,— продолжает М . Лонг,— что же он
ответил на вопрос этого пианиста?
1
2
3
Ml
Lettres de Claude Debussy a son editeur, p. 158.
Cm. M a r g u e r i t e L o n g . Au piano avec Claude Debussy, p. 42.
Ibid., p. 138.
Дебюсси сказал, не скрывая презрения:
— О , ничего. Я просто посмотрел на ковер. . . Он больше никогда его не топтал». 1
Однако, как и многие другие выдающиеся художники, Дебюсси не выносил «добропорядочной»* игры — так называемого
«грамотного исполнения». Как-то раз в концерте известного виртуоза ему довелось услышать свою сюиту «Pour le piano». Н а вопрос М . Лонг, как это звучало, композитор ответил: « О н не пропустил ни одной ноты. Это было ужасно!» — « Н о вы должны
были быть довольны! — с к а з а л а Лонг.— Вы, требующий точности в каждой ноте без какого-либо послабления».— « О , но
только не так, только не так!» — был ответ. 2
Дебюсси восставал и против исполнительского произвола, и
против дотошной пунктуальности. «Остается опасаться только
одного,— писал
композитор,— неповоротливости
современных
умов. Захотят ли они заставить себя понять, что существует...
т о н к о е и т о ч н о е прочтение текста». 3
Выше всех остальных свойств исполнителя Дебюсси почитал
художественную фантазию. Способность опьяняться музыкой,
забывать обо всем, кроме нее, композитор считал свойством подлинного артистизма. Сам Дебюсси был исключительно 'интересным пианистом. Этой стороне его таланта посвящено много страниц в воспоминаниях современников. О б игре его писали как
о колдовстве; отмечали какой-то нематериальный характер его
звучности, неслыханную тонкость нюансировки; указывали, что
он был артистом какого-то неведомого дотоле искусства, больше
того,— самим искусством, тонким и изменчивым. Композитор —
великолепный интерпретатор своей музыки — очень страдал
из-за стремления некоторых музыкантов
«материализовать»
звучность его сочинений и упрощать агогичеекие задачи исполнения. По поводу интерпретации «Весенних хороводов» он писал: « . . .Музыка этой пьесы отличается тем, что она нематериальна, и, следовательно, нельзя видеть в ней строгую симфонию,
шагающую на своих четырех ногах.-..». 4 «Поменьше ног, побольше крыльев!» — сказал как-то Дебюсси. 5
Как и всякое великое искусство, музыка Дебюсси не выносит штампов и годных на все случаи приемов. Эту музыку недостаточно любить, ее надо изучать.
"Marguerite
L o n g . Au piano avec Claude Debussy, p. 27.
2 Ibid., p. 43.
3 C l a u d e
Debussy.
Lettres inedites a Andre Capiat, pp. 69—1&
(разрядка наша.— Г.
X.).
4 Lettres de Claude Debussy a son editeur, p. 55.
' C l a u d e
D e b u s s y . Lettres inedites a Andre Caplet, p. 46.
Н. Р ас то п чина
ИСПОЛНЕНИЕ
ФОРТЕПИАННЫХ КОНЦЕРТОВ
СОВЕТСКИМИ
РАХМАНИНОВА
ПИАНИСТАМИ
О
дним из первых советских пианистов, исполнявших концерты Рахманинова, был К . Игумнов.
В 1923 году он (вместе с Персимфансом) сыграл в Москве Второй концерт. Критика отметила размах, блеск и четкость исполнения.1 Впоследствии Игумнов, очень любивший Рахманинова,
включал Второй концерт в программы многих своих выступлений.
В том же году с Третьим концертом выступил в Москве
B. Горовйц. В 1924 году Г. Нейгауз под управлением Э. Купера
исполнил Второй концерт. Отзывы прессы не столько характеризовали
исполнение
Нейгауза,
сколько
свидетельствовали
о резко отрицательном отношении критики к рахманиновской
музыке. 2
В 1928 году в концерте Персимфанса Третий концерт был
исполнен Л. Обориным.^ Еще трех-четырех исполнителей концертов Рахманинова можно было бы назвать в эти годы. Среди
них — ученик Л. Николаева И. Рензин, воспитанник есиповской
школы А . Зейлигер и др.
Тридцатые годы выдвинули новых исполнителей рахманиновских концертов.
В 1933 году Третий концерт исполнил П. Серебряков.
В 1935 году после победы на Всесоюзном конкурсе с Третьим концертом выступил Я. Флиер.
В эти же годы к Третьему концерту обратился и Э. Гилельс.
C. Хентова пишет в своей монографии о Гилельсе: « . . .Гилельс
См. « З р е л и щ а » , 1923, № 28, стр. 10.
См. « Н о в ы й зритель», 1924, № 7, стр. 1 0 — 1 1 ; «Музыкальная новь»,
1924, № 5, стр. 2 1 — 2 3 .
1
2
124
с осторожностью отнесся к работе над Третьим концертом Рахманинова. Он не торопился сыграть его на эстраде. Встретившись в Ленинграде с выдающимся французским пианистом А л ь фредом Корто, Гилельс сыграл ему концерт, и воспользовался
его советами. Кроме того, он внимательно вслушивался в исполнение Флцера, который под руководством Игумнова готовил
концерт к Брюссельскому конкурсу»..
В 40-е и 50-е годы пианисты особенно часто обращаются
к рахманиновским концертам. В середине 40-х годов Первый
концерт прозвучал в исполнении Н . Емельяновой, С. Рихтера,
Я. Флиера. Второй концерт вошел в репертуар Г. Бузе, Т . Кравченко, Т . Николаевой, Л. Оборина, С. Рихтера, П. Серебрякова,
Р. Тамаркиной, М . Хальфина и др. С Третьим концертом выступают А . Гинзбург, В. Мержанов, И. Рензин. Э. Гилельс
включает Третий концерт в программы своих многочисленных
зарубежных гастролей, и отклики прессы свидетельствуют о всеобщем признании и единодушном восторге, вызываемом у слушателей исполнением Концерта. 2 В 1949 году на юбилее, посвященном 20-летию своей артистической деятельности, Я. Зак исполняет Второй, Четвертый и Пятый концерты. Критика высоко
оценила выступление артиста, в особенности исполнение Четвертого концерта. 3 В 1958 году в юбилейной программе М . Гринберг сыграла Третий концерт.
В 50-е—60-е годы к рахманиновским концертам активно
обращается и молодое поколение пианистов: А . Бахчиев, М . Воскресенский н Е. Мурина исполняют Первый концерт; А . Ихарев, Р. Керер, Е. Малинин, С. Нейгауз — Второй; Третий
концерт
входит в репертуар Л. Бермана, Л.
Власенко,
А . Гинзбурга; к «Рапсодии на тему Паганини» обращаются
Б. Давидович, С . Доренский, Э. М и а н с а р о в . . .
Даже поверхностный обзор показывает, что концерты Рахманинова исполняются пианистами разных поколений, творческих
стилей и художественных индивидуальностей. Просмотр концертных программ убеждает в том, что фортепианные концерты —
наиболее популярная часть рахманиновского наследия. И это не
удивительно. Фортепианные концерты принадлежат к лучшим
страницам творчества Рахманинова. П о своим художественным
особенностям этот жанр был особенно близок его артистической природе. В концертах полнее всего проявились самобытные
и характерные черты композиторского почерка Рахманинова:
С. X е н т о в а. Эмиль Гилельс. М у з г и з , М., 1959, стр. 73.
См. Л. Ж и в о в . Концерт Эмиля Гилельса.— «Советская музыка»,
1952, № 12, стр. 8 7 ; Э л е н Ж у р д а н - М о р а н ж . Парижские з а м е т к и —
Т а м же, 1955, № 9, стр. 129; отклики американских газет на выступления
Гилельса с Филадельфийским оркестром — там же, 1956, № 1, стр. 144.
3 См. рецензию А . Дроздова «Концерт Якова З а к а » . — «Советская музыка», 1949, № 5, стр. 8 4 — 8 5 .
1
2
125
яркий и щедрый меЛодизм, богатство и простота гармоний, мужественная ритмика. Наконец, выдающийся дар исполнителя не
только помог Рахманинову раскрыть содержание и смысл музыкальных образов во всей их глубине, но и обогатил их гениальной интерпретацией...
Не будем описывать игру в с е х исполнителей рахманиновских концертов, ибо история исполнения рахманиновской музыки — не наша задача. Остановимся лишь на исполнении некоторых крупных пианистов, чья творческая индивидуальность
проявилась в интерпретации концертов особенно ярко.
1
Артистическая репутация Рихтера сложилась сразу же после
первых концертных выступлений в Москве. Со временем пианизм его был признан выдающимся, репертуар — всеобъемлющим. Критика не раз отмечала, что в этом репертуаре почти невозможно выделить излюбленные области, по которым можно
было бы судить о художественных вкусах Рихтера, о его пристрастиях. «Исполнительству Рихтера в высшей мере присуще
качество широкоохватности...»,—
указывает Д. Рабинович. 1 Н о
хотя пианист замечательно исполняет таких различных по стилю
и характеру композиторов, как Бах и Прокофьев, Шуберт и Ш о стакович, Бетховен и Дебюсси,— его творческую сущность характеризуют определенные черты; среди них — огромная внутренняя экспрессия, динамизм, стремление к интеллектуальному
постижению музыки — могут быть названы первыми.
Эти черты определяют и рихтеровскую интерпретацию Рахманинова. В репертуаре Рихтера — Этюды-картины, Прелюдии,
«Музыкальные моменты», Полька, Первый и Второй концерты.
Вслушаемся в рихтеровскую запись Первого концерта. 2
Темп I части довольно быстрый. Звучность плотная, насыщенная. Главная тема исполняется без особых ритмических
оттяжек и замедлений. Заключительные интонации заметно
акцентируются, что придает теме утвердительный характер. Побочная партия, состоящая из двух тем (мелодический речитатив
фортепиано и диалог солиста и оркестра), воспринимается в исполнении Рихтера как один музыкальный образ — порывистый,
юношески свежий. Вся разработка, вплоть до короткой решительной кульминации, звучит в скромных динамических пределах.
1 Д.
Р а б и н о в и ч . Портреты пианистов. «Советский композитор», М.,
1962, стр. 236.
2 Рихтер исполняет Концерт во второй редакции
(Симф. оркестр Всесоюзного радио. Дир. К. Зандерлинг. Всесоюзная студия
грамзаписи,
Д 09897—98).
126
Темперамент Рихтера полностью раскрывается в коде, в ее
могучих аккордах и стремительно блестящих пассажах.
Первая фраза Des-dur'Horo эпизода звучит плавно и неторопливо. Н о уже со второй — усиливается интонационное напряжение, увеличивается звук, неуклонно растет темп. Эмоциональной насыщенностью отличается последнее проведение главной
темы.
В о II части Рихтеру удается передать типичное для Рахманинова слияние пейзажности и лирических эмоций, природы и человека. Вся часть исполняется ясным, певучим звуком. Динамика
скромная. Почти никаких агогических отклонений. Мелодическая
линия все время четко выделяется. В репризе — полный покой
и ровность ритмически неизменной линии фортепиано (аккордовая последовательность и вьющиеся фигурации) подчеркивают
гибкость проходящей в оркестре мелодии. Н о характер звучания
фортепианной партии — плотный, насыщенный — как бы придает оркестру подчиненное значение.
Т о н у с исполнения финала определяется начальным двутактом — четко ритмованными аккордами и решительно
взлетаю щ и м вверх пассажем. И хотя вторая тема легка и изящна,
а в центральном эпизоде настроения безмятежно светлые, основной характер экспрессии остается прежний — остронапряженный,
темпераментный, неукротимо энергичный...
Ч т о нового вносит Рихтер в интерпретацию К о н ц е р т а ? Ч т о б ы
ответить на этот вопрос, нужно вспомнить авторское исполнение
Концерта.
Рахманинов исполняет I часть в очень быстром темпе. 1 В суровом напоре первых октав — никакой раскачки, никакой постепенности. Мелодия главной партии льется широко и очень
свободно. В ее гибком дыхании, « т а ю щ и х » замедлениях слышится чуть заметный оттенок душевной усталости. Побочная
партия в авторском исполнении звучит спокойней. Вся разработка исполняется ритмически строго, но импровизационные
«реплики» побочной темы произносятся в свободной речевой манере. Главная тема приобретает новый характер — мужественный
и решительный. Чеканность проведения главной темы в разработке контрастирует со свободной передачей ее в репризе. Н а чало коды исполняется с суровой напряженностью. Резко, даже
жестко звучат аккорды низкого регистра. Проведение главной
темы в левой руке сопровождается резким замедлением темпа и
большим динамическим спадом, подготавливающим появление
Des-dur'Horo эпизода. Рахманинов играет Des-dur'Hbifi эпизод
очень медленно, даже несколько статично, как б ы отдаваясь
чувствам и вместе с тем сдерживая их.
1 Филадельфийский оркестр. Дир. Л. Стоковский. Всесоюзная
грамзаписи, Д 04646—47,
студия
127
В лирико-созерцательных тонах автор играет II часть. Ф о р тепианное соло звучит с подлинно речевой свободой и выразительностью. Не только первую фразу, декламационного характера, но и певучую мелодию Рахманинов скорее импровизационно п р о и з н о с и т ,
чем в ы п е в а е т .
Ясно слышны
подголоски, особенна хроматические ходы среднего голоса. В репризе рояль прячется совершенно, уступая главное место оркестру. Мелодические всплески фортепиано — лишь фон чуткого
и тонкого аккомпанемента. Общее настроение спокойное, задумчивое, но в нем, как и в главной теме I части, легко ощутить
«осенний» колорит.
В финале проявляются черты «львиного» пианизма Рахманинова. Музыка легкого скерцозного характера приобретает масштабность и значительность. Острые пунктирные акценты придают ей особую активность. Н о в среднем эпизоде, в сопровождающих мелодию оркестра унисонных пассажах и речитативах
фортепиано вновь чувствуется душевная усталость, как бы преодолеваемая мужественной энергией главной темы и общей волевой устремленностью всей части.
Сравнивая записи Первого концерта в исполнении автора и
Рихтера, убеждаешься, что исполнение Рихтера в ц е л о м
близко исполнению Рахманинова: те же (весьма быстрые) темпы
I части и финала, та же искренность и теплота передачи Andante,
тот же характер основных музыкальных образов. Исполнение
Рихтера отличается от рахманиновского в отдельных деталях
интерпретации (особенности ритмического воплощения некоторых эпизодов, детализация фактуры, характер звучания) и в ее
эмоциональной окраске. А в т о р с к у ю интерпретацию характеризуют сдержанность в проявлении чувств, строгость, мужественный и суровый колорит. В исполнении Рихтера больше открытой
экспрессии, романтической приподнятости, непосредственности
чувства...
Интерпретация Рихтером Второго концерта в свое время вызывала немало возражений. Ее называли «надуманной», «спорной», «полемичной». Действительно, Рихтер играл Концерт
смело, не идя по пути сложившихся исполнительских традиций,
не следуя авторской трактовке.
Рахманинов был первым и к свое время непревзойденным
исполнителем своего Концерта. Еще до отъезда за границу он
ошеломлял своей игрой даже тех, кто не любил и не принимал
его творчества. Б. Асафьев вспоминает, что по поводу исполнения автором Второго концерта один из музыкальных критиков говорйл: «Ничего не понимаю — его (Рахманинова) игра
128
на грани чуда: я с удовольствием слушаю абсолютно непривлекательную для меня музыку, больше того, она меня волнует и
привлекает». 1
На протяжении долгого артистического пути Рахманинова
Концерт постоянно находился в его репертуаре.
Судить' об эволюции авторской интерпретации Концерта
трудно. Сведения о первом рахманиновском исполнении очень
скупы. Слышавшие в начале 900-х годов игру Рахманинова отмечают, что он исполнял Второй концерт в более медленных темпах, лиричней, мягче.
А в т о р с к у ю интерпретацию, известную в грамзаписи, 2 определяют черты зрелого исполнительского стиля Рахманинова.
В первую очередь обращают на себя внимание организующая
роль и яркая характерность рахманиновской ритмики. Уже аккорды вступления, спокойные и мерные, объединены одним властным ритмическим дыханием — упругим и устремленным. Никакой поспешности, хотя исполнитель неудержимо стремится
вперед. Темп главной партии более быстрый. Ритмическая энергия фортепианного сопровождения (упорное выделение басов)
придает ей активный импульс.
Ритмическая «поступь» главной партии контрастирует со свободой и импровизационностью побочйой. Небольшие ускорения
и задержки в мелодии и подголосках, не обозначенные в тексте,
но обусловленные интонационным движением, придают фразировке рельефность. Ритмически импульсивно, цельно исполняются эпизод, завершающий экспозицию, и вся разработка.
Х о т я темповые указания подразумевают постепенное ускорение
движения (8, piu vivo; 9), росо а росо accelerando), Рахманинов
сразу же начинает играть значительно быстрее. Твердый маршевый «шаг» Maestoso — кульминация всей I части. Ф о р т е пианная партия звучит мощно, в . полный голос, и все же не
покрывает оркестр, интонирующий главную тему, а уступает
ему. Реприза окрашена в более мягкие тона. Побочная тема и
тема марша звучат умиротворенно. Лишь в последнем эпизоде
проявляется' волевое начало.
Темп II части спокойный, но весьма подвижный. Мерные
фортепианные фигурации четко следуют за мелодией флейты.
Повторяя мелодию, Рахманинов не стремится воспроизвести интонацию оркестра — он исполняет ее более импровизационно.
Средний эпизод—-стремительный порыв, взлет, внезапно обрывающийся, и исполнитель снова полностью погружен в покой и
тишину основной темы.
1 Б. В. А с а ф ь е в. Избранные труды, т. II. Изд. А Н С С С Р , М „ 1954,
стр. 310. .
2 Филадельфийский оркестр. Дир.
Л. Стоковский. Всесоюзная студия
грамзаписи, Д 0 4 6 4 8 — 4 9 .
129
В исполнении финала раскрывается богатейшее разнообразие
ритмической «гаммы» Рахманинова: здесь и остроскерцозные
ритмы первой темы, и четкая маркировка фуги, и неукротимая
стремительность коротких полнозвучных каденций. Побочная
тема интонируется с непринужденной свободой. Интересная и
характерная для рахманиновской фразировки деталь: в момент
наивысшего подъема мелодии, «расцвета» чувств Рахманинов
смягчает краски и придает нежной и пылкой теме оттенок суровой печали. Последний раздел финала — одна волна, одна линия непрерывного динамического и эмоционального нагнетания.
Maestoso звучит гордо и мужественно, в мощном единстве с оркестром.
Нетрудно теперь перечислить основные элементы, определяющие сущность рахманиновской интерпретации: энергия, устремленность движения, ритмический импульс, пронизывающий все
исполнение, теплота и импровизационность передачи лирических
тем, окрашенных в сдержанно-печальные тона.
В чем же индивидуальные особенности рихтеровского исполнения ?
Необычность его трактовки проявляется прежде всего в непривычно замедленных темпах.1 Стремится ли Рихтер возродить
традиции первого авторского исполнения или полемизирует
с теми, кто видит в музыке Концерта лишь возможность продемонстрировать техническое мастерство — определить трудно. Н о
поскольку темп произведения определяет существеннейшие черты
художественного образа, темы Концерта (главным образом I и
II частей) получили в рихтеровском исполнении иную, чем у автора, смысловую и эмоциональную окраску.
Темп вступления I части почти вдвое медленнее авторского.
Мерно и тяжело «падающие» аккорды производят грозное впечатление; все повороты фортепианных фигураций, незаметные
в более быстром движении, приобретают выразительную рельефность, но мелодия главной партии теряет энергию и ритмическую импульсивность. Э т о не «поступь», а широчайшего дыхания
распев.
Новый характер придан и побочной теме. Сдержанно, даже
с некоторой сухостью передается одна из лиричнейших мелодий
Рахманинова. Глубокое размышление звучит в ней.
Вся
разработка — единый
и неуклонный
динамический
подъем. В волевом нагнетании слышится мерное приближение
какой-то страшной, неумолимой силы. Достигнув огромного эмоционального и динамического накала, Рихтер делает цезуру.
Maestoso исполняет медленней, с заметными ритмическими оттяжками акцентируемых четвертей. Такая трактовка придает
1 Симф. оркестр Ленгосфилармонии. Дир. К. Зандерлинг.
студия грамзаписи, Д 0 5 2 1 6 — 1 7 .
130
Всесоюзная
теме торжественность и значительность, но в какой-то степени
нарушает ансамблевое единство, ибо в оркестре в это время ритмически строго исполняется главная тема. ( В авторском исполнении смысловой акцент делается именно на ней.)
Послекульминационный перелом наступает сразу (11, шепо
mosso). Резко падает эмоциональное напряжение, движение замедляется, а в дальнейшем останавливается. Наступает полная
неподвижность. Н о это не чувственное «истаивание», а напряженная, «размышляющая» лирика.
О с о б о е впечатление производит последний эпизод (16, meno
mosso). Рихтер начинает его приглушенным звуком, очень медленно (значительно медленнее, чем автор) и как-то затаенно.
Затем внезапно коротким нарастанием доводит напряжение до
пределов возможного и неожиданно заканчивает часть по-рахманиновски — резко и энергично...
II часть исполняется красивым, выразительным звуком, но
производит статичное впечатление. Темп чрезмерно медленный,
и мелодия из-за этого утрачивает подвижность. Словно не в силах выдержать взятый темп, Рихтер дважды делает резкие ускорения и снова возвращается к прежнему движению. Следовательно, выбор темпа не случаен. О н обусловлен, возможно, характером рихтеровского пианизма. «Интеллектуальная сторона
постижения музыки порой приводит Рихтера к упрямому догматизму. Не этим ли объясняется... замедленность темпов в ряде
эпизодов Moderato и Adagio sostenuto Второго концерта Рахманинова?» 1
Интерпретация финала отличается от исполнения первых
двух частей своей традиционностью. Темп, динамика, характеристика материала близки авторским. Лишь в побочной партии
больше открытости чувств. Она совершенно лишена той окраски
«вечера жизни», которую придает ей авторское исполнение. Главная партия, разработка и грандиозная кульминация передаются
Рихтером с размахом, напряженностью и м о щ ь ю . . .
Когда слушаешь рихтеровское исполнение, испытываешь
двойственное чувство. Не всегда с ним соглашаешься, порой
трактовка его кажется надуманной, но бескомпромиссность художественного решения, убежденность в правоте с в о е г о понимания захватывают слушателя...
2
Иную окраску приобретает Второй концерт в интерпретации
Оборина, тонкому поэтическому таланту которого рахманиновская музыка близка прежде всего кантиленой, лиризмом, светлым, жизнеутверждающим тоном.
1
Д. Р а б и н о в и ч .
Портреты
пианистов,
стр. . 266.
131
Оборина-пианиста часто сравнивают с собеседником, речь которого, спокойная и содержательная, лишена острых афоризмов,
смелых парадоксов, неожиданных заключений. Исполняя произведение, Оборин никогда не стремится «открыть» его, обязательно прочитать по-новому, поразить слушателя оригинальностью трактовки. Сказанное относится и к исполнению им Второго концерта.
Темп исполнения I части близок авторскому. 1 Н о вступительные аккорды звучат спокойней, мягче. Н е доводя crescendo
до наивысшей точки, Оборин в последних тактах смягчает звучность и унисонный ход интонирует неторопливо и плавно. -Тема
главной партии льется свободно и мягко. Между главной и побочной темами нет ощутимого контраста. Мелодия побочной передается светло и просто с предельной интонационной выразительностью. Конструктивные особенности темы — устремленный
взлет и плавный длительный спуск — очень ясны.
Разработка исполняется ритмически-упруго. Пианист точно
следует агогическим указаниям композитора. Постепенность динамического и агогического нарастаний передается с превосходным расчетом и большой естественностью. Maestoso звучит динамично, в пределах forte, но не fortissimo, без особой эмоциональной напряженности. Естественно и задушевно звучит реприза.
Оборин полностью погружается в близкий ему мир безмятежности, и видоизмененные интонации темы марша даже отдаленно
не напоминают о величественном и динамичном звучании темы
в разработке.
В исполнении II части раскрывается богатая красочная палитра Оборина. Матовые, как будто бы подернутые дымкой,
триоли фигураций, певуче-протяжная тема, легкие трепетные
пассажи, звонкая быстро гаснущая трель невольно ассоциируются с описанием этой части М . Шагинян — «деревенская
ширь, бледное небо над хлебами, речушка и туман над речушкой». Оборин прекрасно передает состояние полной умиротворенности, тишины, душевного покоя.
Выразительные средства исполнения финала те же, что и
в первых двух частях. Главная партия легка и изящна. Характер ее остается неизменным на протяжении всей части. Нюансировка и агогика побочной темы почти точно воспроизводят авторскую запись. Н о эмоциональная окраска темы в оборинской
трактовке спокойней, эластичней. Оборин не столько переживает,
сколько наслаждается пленительной красотой рахманиновской
мелодии. В финале, как и в разработке I части, пианист очень
точно рассчитывает динамические градации. Не выходя за
1 Симф. оркестр Всесоюзного радио. Дир. А . Гаук. Всесоюзная студия
грамзаписи, Д 0 7 — 0 8 .
132
пределы полнокровного forte, Оборин достигает большого звукового эффекта.
Исполнение Оборина отличается пластичностью, целостностью. На первом плане в нем — лиризм, структурная ясность.
Поэтому форма Второго концерта выигрывает в стройности,
тематические связи выступают особенно рельефно, кульминации
естественно вытекают из общего развития. И хотя порой хотелось бы больше внутренней углубленности, а в финале — ритмической энергии и динамизма, оборинская интерпретация, свежая
и гармоничная, покоряет естественностью, неуловимым обаянием
непосредственности и теплоты.
3,
Музыка Рахманинова близка Серебрякову — исполнителю
ярко выраженного романтического склада.
Еще в начале его концертной деятельности критика отмечала
масштабность, инициативность, темперамент как самое отличительное в игре молодого музыканта. С годами облик пианиста
менялся. Совершенствовалось мастерство, появлялись сдержанность, глубина. Н о мужественность, искренность переживаний,
ясность мироощущения в его искусстве оставались неизменными.
Эти черты творческой личности артиста и привели его к рахманиновской музыке.
В репертуаре пианиста — Второй и Третий концерты, оба
цикла Этюдов-картин, шестнадцать Прелюдий, шесть « М у з ы кальных моментов», Вторая соната, Вариации на тему Корелли
и многие другие сочинения Рахманинова.
Особенности исполнительского мастерства Серебрякова ярко
проявились в интерпретации им Третьего концерта.
К Третьему концерту Серебряков обратился, будучи студентом Ленинградскбй консерватории. Концерт был дипломной работой пианиста, его он исполнял в своих первых публичных
выступлениях.
В своей интерпретации Серебряков, стремясь проникнуть
в авторский замысел, точно следует исполнительским указаниям
композитора, но ни в чем не подражает его трактовке. 1 Темпы
Серебрякова медленней, фразировка мягче, ритмы не столь
экспрессивны. Он снимает властный тон и суровое величие, характерные для интерпретации автора.
1 Анализировать отдельно авторское исполнение нет необходимости, так
как оно складывается из характернейших элементов рахманиновского пианизма, уже отмеченных при разборе Первого и Второго концертов. П о этой
же причине не будем в дальнейшем специально останавливаться на авторском исполнении Четвертого и Пятого концертов.
133
Главная тема 1 части, сочетающая строго организованную
ритмику и распевную кантилену, передается пианистом с задумчивой задушевностью. В авторском исполнении акцент делается
на ритмической стороне; тема звучит собранно и устремленно.
Для Серебрякова главное — мелодическое начало. Многократное
варьирование основной попевки, секвенционные повторения, гибкое плетение фигурации исполняются им певуче и гибко. Побочная тема передается в замедленном движении. Тонкость и чуткость интонационных штрихов придают ей то нежный, то пылкий и страстный характер.
Разработка исполняется очень цельно. Серебряков достигает
кульминации не столько непрерывным подчеркиванием ритмического рисунка (как это делает Рахманинов), сколько постепенным динамическим нарастанием и эмоциональным наполнением. Не приходится говорить о технической стороне воплощения — кристальной чистоте пассажей, блеске аккордов.
Грандиозная каденция разворачивается спокойно, неторопливо. Начальные фигурации звучат с прозрачной ясностью, эпизод scherzando передается легко и остро, в могучей лавине аккордов до предёла исчерпывается звуко'вая мощь фортепиано.
Серебряков подчеркнуто выделяет все мелодические линии. З а ключительная часть каденции, варьирующая побочную тему,
интонируется с удивительной простотой и безыскусственностью.
И здесь основные выразительные средства — не агогические
нюансы, а тонкая филировка звука, интонационная гибкость.
Черты серебряковской индивидуальности определяют интерпретацию II и III частей. Intermezzo исполняется эмоционально
приподнято, с большим внутренним напряжением, страстностью.
Первые же взволнованно-патетические интонации, резко контрастирующие протяжной мелодии гобоя, определяют общее построение всей части. Не светлое созерцание, не пейзажную звукопись передает пианист, а страстное и глубокое чувство.
Человек и мир его чувств, мыслей, стремлений — в центре интерпретации артиста. И в этом проявляется то индивидуальное,
что вносит
Серебряков-художник
в рахманиновское
творчество.
Самой большой удачей следует считать исполнение финала.
Торжественно-ликующим тоном, маршевыми ритмами, динамическим богатством финал близок пламенному темпераменту пианиста, его порывистой эмоциональности. Обладая всеми ресурсами пианистической техники, Серебряков не «потрясает» бравурностью исполнения пассажей и аккордов. Не легкость и
свобода, не уверенность и чистота исполнения, а масштабность,
огромный динамический накал, страстность чувствования позволяют Серебрякову раскрыть мир рахманиновских образов свободно и широко.
134
4
Второй и Третий концерты — лучшие образцы зрелого творчества Рахманинова. Их справедливо называют иногда симфониями для фортепиано с оркестром. В них ярче всего проявилось то новое, что внес Рахманинов в развитие жанра: смелая
трактовка традиционной формы сонатного аллегро, контрастность и единство тематического материала, интенсивность напряженного «сквозного» развития. П о яркости художественных образов, пианистическому блеску, красоте мелодического языка
Второй и Третий концерты принадлежат к самым высоким образцам музыкального искусства.
Четвертый концерт — произведение иного художественного
значения. Лирико-патетический характер образов роднит его
с предшествующими произведениями. Концерт привлекает размахом симфонического развития, широтой мелодического дыхания, мастерской компоновкой материала. Н о форма Концерта
несколько
расплывчата,
финалу
не хватает
обобщающего
вывода.
«Рапсодия на тему Паганини» относится к позднему периоду
творчества. В ней ясно ощутимы черты новой рахманиновской
стилистики: подчеркнутая экспрессивность, аскетически скупая
фактура, гармоническая обостренность, лаконизм. Новое в «Рапсодии» гармонически сочетается с характерными чертами творческого облика композитора. Рахманинов узнается в особой теплоте лирических эпизодов (хотя лирика занимает в произведении сравнительно небольшое место), в эмоциональной полноте,
строгости мысли, неисчерпаемом богатстве ритмических комбинаций. «Рапсодия на тему Паганини» — лучшее произведение Рахманинова зарубежных лет.
Основная заслуга в пропаганде Четвертого концерта и «Рапсодии» на советской эстраде принадлежит Я. Заку — пианисту,
искусству которого свойственны черты широкого просветительства. 1
Когда слушаешь записанное на пластинку исполнение Четвертого концерта и «Рапсодии», затрудняешься определить, какие
же стороны рахманиновской музыки ближе исполнителю, в чем
яснее проявляется его артистический темперамент. Кажется, что
лирические и мужественные образы передаются Пианистом одинаково убедительно.
1 О б этом свидетельствует обширнейший репертуар Зака, включающий
• наряду с классикой такие разнохарактерные и редко исполняемые произведения, как «Бурлеска» Р. Штрауса, Второй концерт Метнера, 33 вариации
Бетховена на тему Диабелли, Концерт Равеля Соль мажор и многое другое.
135
I часть g-тоИ'ного Концерта исполняется темпераментно,
с большой внутренней энергией. 1 Т о н пианиста — твердый, несущийся, иногда тяжеловатый и слишком «земной» — напоминает тон оратора. В таком тоне исполняются главная партия
(звучание аккордов слитно, компактно, верхи не выделяются),
вся разработка и короткое энергичное заключение. Зак использует все средства исполнительской выразительности, в первую
очередь динамику. Именно динамическими средствами пианист
достигает яркой характерности, контрастности образов. Мощная
«кладка» аккордов главной партии, напряженное fortissimo кульминации, легкое, ровное звучание связующей темы, светлые, прозрачные краски репризы — таков диапазон красочной палитры
Зака. Пианистический голос артиста обращен не к узкому кругу,
а к широкой аудитории. Поэтому интимно-ласковые, лирические
образы приобретают в его интерпретации особую рельефность,
сочность.
В исполнении Largo подкупают прозрачная чистота звучания,
задумчивость, мудрая простота. Рахманинов исполняет тему ритмически свободно, даже прихотливо, с
декламационной
импровизационностью. Зак интонирует просто, строго, выразительно в ы п е в а я все изгибы мелодии.
Финал звучит торжественно-жизнерадостно. Главная тема
исполняется в очень быстром темпе, подчеркнуто ритмично и
эмоционально приподнято. В отличие от первых двух частей,
пианист в финале «закрашивает» длительные отрезки единой
звуковой краской. Вся главная партия проводится негромко,
в полутонах ( р — т р ) ; Des-durHbift эпизод исполняется «пружинящим» звуком — в пределах mf, в последнем (наиболее растянутом) разделе финала верно схвачены и переданы чередования
небольших подъемов и спадов в пределах одной звучности. Весь
предкульминационный эпизод ( о т 73 до 79) пианист исполняет
piano, единой «волной», стараясь органично подвести слушателя
к кульминации. Н о хотя кульминация звучит мощно, ярко, воздействие ее менее сильно, чем в I части. Причина здесь, думается, не в недостаточной точности исполнительского расчета,
а в самом музыкальном материале финала.
Ясность мысли и мастерское владение музыкально-исполнительской драматургией отличают интерпретацию «Рапсодии». 2
В основе интерпретации — выявление внутреннего контраста вариаций. Первые пять вариаций исполняются Заком на «едином
дыхании», ритмически строго. Обычно плотный звук пианиста
приобретает здесь прозрачную звонкость. Характер звучания
1 Московск. симф. оркестр. Дир. К . Кондрашин.
Всесоюзная
грамзаписи, Д 2 5 4 4 — 4 5 .
2 Гос. симф. оркестр С С С Р . Дир.
К. Кондрашин. Всесоюзная
грамзаписи, Д 7 9 7 — 9 8 .
136
студия
студия
как бы подчеркивает графичность фактуры. 6-я вариация передается в ином ритмическом строе, гибче, свободней. Общий характер исполнения — непринужденно-импровизационный.
Н а редкость ритмично и цельно звучит 9-я вариация — одна
из сложнейших в ансамблевом отношении. Не случайно ансамблевое единство, ритмическое и звуковое равновесие солиста и
оркестра отмечались критикой еще в первых выступлениях Зака.
11-я вариация носит импровизационный характер свободного
прелюдирования. Ясная, прозрачная звучность заменяется тонкой колористической игрой красок, густой педалью.
В менуэте пианист избегает соблазна пойти по пути яркого,
характерно рахманиновского интонирования темы (подчеркивание отдельных нот мелодии, неожиданные «придержки» дыхания, некоторая декоративность подачи). Зак интонирует тему
проще, строже, не детализируя, не вычленяя отдельные подголоски.
15-я, сольная, вариация исполняется в стремительном темпе,
с покоряющей чистотой и переливчатым блеском пассажей, с четкой акцентировкой. Н о ей, быть может, недостает полетности,
большей поэтичности.
18-я вариация по своей эмоциональной наполненности вырастает в самостоятельный раздел. Зак исполняет ее без лишних
отклонений от темпа, значительно, цельно, с лирическим пафосом. Густая рахманиновская фактура обретает под пальцами
Зака насыщенную певучесть, глубину. Пианист нигде не «пережимает». Все звучит в строгих и точных пропорциях.
Последние шесть вариаций проводятся динамично, стройно,
с. непрерывной стремительностью и конструктивной четкостью.
Вместе с тем пианист в каждой вариации выявляет что-то индивидуальное, характерное: в 19-й вариации подчеркивает звуковое сходство с pizzicato струнных инструментов; в 20-й —
остроту и четкость ритмической фигуры; исполнение 21-й вариации замечательно блеском и точностью унисонных стаккатированных триолей; 22-ю отличает непреклонная мерность, неотступность нарастания, приводящего к длительной и напряженной по эмоциональному тонусу кульминации...
Исполнение Зака отличает удивительное чувство меры. Во
всем проявляются безупречный вкус, тонкое чутье. Пианист
с особой тщательностью относится к о в с е м
композиторским
указаниям. Н и одной забытой «вилочки», ни одного пропущенного штриха или акцента! Однако артист следует авторскому
тексту отнюдь не формально. Он стремится вдумчиво и глубоко
раскрыть авторский замысел. Эта черта заковского исполнения
обусловлена характером его творческой индивидуальности. Зак
принадлежит к художникам, в исполнении которых прежде всего
воспринимаются автор и произведение. Индивидуальность интерпретатора, не растворяясь, «не исчезая» в исполняемом, как бы
137
отступает на второй план. «Такие художники,— писал в статье
о Заке Г. Нейгауз,— не безличны, а скорее сверхлычны»; их
отличает « . . .некий дух высшей объективности, исключительное
умение воспринимать и передавать искусство «по существу». . .»'
История исполнения музыки Рахманинова не знает столь
различных, а иногда и противоположных толкований, как это
имеет место, скажем, в отношении творчества Скрябина или Прокофьева. Стиль и традиции исполнения рахманиновских фортепианных концертов во многом определены авторской интерпретацией. Эмоциональное воздействие игры Рахманинова настолько
велико, что некоторые исполнители (возможно, неосознанно)
подражают даже отдельным деталям рахманиновской трактовки
(ритмическим «оттяжкам» мелодии, своеобразным динамическим
штрихам и т. д.).
Однако подлинные художники-интерпретаторы всегда стремятся открыть в музыке Рахманинова новые грани, по-своему
прочесть и воплотить авторский замысел. При этом они, естественно, ярче и полнее выявляют то, что ближе их артистической
природе и творческому стилю. Так, Оборин ярче всего передает
в рахманиновских творениях светлое лирическое начало; у Рихтера на первом месте большой внутренний напор, динамизм; характерность, красочность рахманиновских образов подчеркивает
Зак. С в о й Рахманинов и у Гилельса, Гринберг, Серебрякова.
Вместе с тем исполнение рахманиновских концертов советскими пианистами отличают некоторые общие черты, обусловленные единством мировоззрения и идейно-эстетических принципов,— искренность и правдивость чувств, серьезное и глубокое
отношение к композиторскому замыслу, направленность творческого внимания на эмоциональную, а не на техническую сторону исполнения.
Казалось бы, играть рахманиновские концерты «просто».
Они очень популярны и музыка их «на слуху». Задача прочтения нотного текста не усложнена наличием разночтений, обилием различных редакций. Основная проблема, стоящая перед
интерпретатором — раскрытие объективной сущности произведения,— гениально решена самим композитором.
На самом деле, исполнять рахманиновские концерты —
очень сложно. Авторская интерпретация, направляя исполнителя
по правильному пути, накладывает на произведение такой властный, неизгладимый отпечаток, что очень трудно, порой и невозможно, представить себе иную трактовку. В то же время
концерты Рахманинова, широко бытующие в педагогическом
1
138
Г. Н е й г а у з . Яков З а к . — «Советская музыка», 1959, № 4, стр. 140.
4
и концертном репертуаре, обрастают исполнительскими трафаретами, привычными трактовками.
«Снять» исполнительские штампы и, исходя из авторского
замысла, по-своему почувствовать и «прочесть» произведение —
такова сложная и интересная задача, убедительно решенная лучшими советскими исполнителями рахмаииновских фортепианных
концертов.
А.
Гаккель
ПРОКОФЬЕВ
И СОВЕТСКИЕ
ПИАНИСТЫ
И
стория интерпретации Прокофьева советскими
пианистами почти полностью отражает историю
советского пианизма. Москвичи, ленинградцы, мастера других
городов сообща пишут биографию прокофьевской музыки на нашей эстраде, и если вышло так, что предлагаемая работа коснулась лишь немногих пианистов (по преимуществу, московских),
т о виной этому стремление опереться на механические записи
как основной «фактический материал». В работе над прокофьевской темой механические записи вознаградили надежды исследователя. Н о — у в ы ! — с а м ы й их фонд обнаружил зияющие пробелы. Основное: до обидного мало записей пианистов-ленинградцев. Только Софроницкий и Юдина показаны в прокофьевском
репертуаре сравнительно подробно, иные же имена представлены
одной-двумя миниатюрами, иные — никак. Сколько артистических достижений потеряно для изучения, сколько ярких художественных событий стало немыми «историческими фактами»! Назовем, хотя бы, Восьмую сонату у П. А . Серебрякова и Н . Е. Перельмана, Т р е т ь ю и Четвертую — у В. В. Нильсена, Третий
концерт для фортепиано с оркестром и Вторую сонату —
у М . Я . Хальфина.
Впрочем, не будем отвлекаться сетованиями. Имеющийся
материал — хотя бы и исторического порядка — дает возможность
развернуть
достаточно
широкую
панораму
жизни
прокофьевского
творчества в советском пианистическом искусстве.
140
4
Сочинения Прокофьева появились на послереволюционной
эстраде в 20-е годы; в те же годы родилось наше исполнительство. Облик оно приняло романтический; не будем сейчас говорить о происхождений этого романтизма, о его дореволюционных корнях и т. д . — отметим только, что всем своим слуховым
опытом, традициями культурной среды, личными склонностями
мастера 20-х годов шли к романтическому репертуару и, в первую Очередь, к Скрябину. Скрябин представлялся концом пути
романтического пианизма (Шопен, Лист, Шуман); казалось, что
это вообще поп plus ultra романтического искусства. З а Скрябиным начиналось неведомое царство — царство Прокофьева..
Пианисты-романтики, во всяком случае, самые интересные- из
них — Нейгауз, Софроницкий — обращались к Прокофьеву чаще,
чем можно предположить. Видимо, они искали репертуарного
разнообразия, искали автора-современника, который дал бы им
выразить чувство всеобщего обновления; кроме того, они увидели в Прокофьеве романтика. Н е лишне вспомнить, что 20-е
годы — это Прокофьев до Пятой сонаты включительно,2 Прокофьев «Сарказмов»,
«Мимолетностей»,
«Сказок старой бабушки», ранних сонат и концертов. Вряд ли возможно отрицать
романтический колорит почти всех этих произведений. Здесь и
темпераментность, и ирония, и резкая смена настроений. Стоит
говорить и об импровизационное™ формы, хотя слова Игоря
Глебова: «форма построяется им [Прокофьевым] всегда... в характере несколько импровизационном»3 звучат все-таки преувеличением.
Слыша в Прокофьеве романтика, артисты 20-х годов полагали вполне уместным использование в прокофьевском репертуаре средств романтического пианизма. Толкование произведений выглядело последовательным и цельным, и, получая сегодня
записи игры мастеров «романтического поколения», мы не можем
не воздать должное той убежденности, с какой они отстаивают
своего Прокофьева.
Вот,
например,
запись
«Мимолетностей»
в исполнении
Г. Г. Нейгауза. 4 Без особого труда определяешь специфику этой
игры. Во-первых, порывистое, импульсивное ведение мелодиче1 С трогательным в своей непосредственности
испугом писал об этом
один дореволюционный рецензент: « М о ж н о подумать, что Прокофьев обещает быть этапом в русском музыкальном развитии: первый этап — Глинка и Рубинштейн, второй —• Чайковский и Римский-Корсаков, третий —
Глазунов и Аренский, четвертый — Скрябин и. . . и. . . Прокофьев. Т а к ли?»
( Ц и т . по кн.: И. В. Н е с т ь е в. Прокофьев. Музгиз, М., 1957, стр. 7 1 ) .
2 Т о л ь к о в 1928 г. появилось новое фортепианное произведение «Вещи
в себе», не дошедшее дт> советской эстрады и по сию пору.
3 И г о р ь
Глебов
(Б. В. А с а ф ь е в ) . Пути в будущее.— « М е л о с » ,
1918, кн. 2, стр. 89.
4 Всесоюзная студия грамзаписи, Д
3 2 4 8 — 4 9 ( 1 9 5 7 г.).
141
ских линий — например, толчок вперед в теме 8-й Мимолетности,
энергичное «разматывание» мелодий-нитей в медленных номерах
(16, 18, 2 0 ) . Далее: слитная звучность, щедрая педаль — запедализированный фон в 8-й и 15-й пьесах, на одной педали поданный переход ко второй теме 14-й Мимолетности, гулкая, окутанная «педальным туманом» звучность среднего эпизода в 16-й
и т. д. Кое-где Нейгауз играет «без басов», вуалируя жесткий
ритмический каркас (4-я, 11-я, 14-я, 20-я пьесы). Нередка
у него вполне импровизационная звуковая «перекраска» голосов:
звучность темы передается аккомпанирующему голосу — и, наоборот, один и тот же голос попеременно как бы освещается и
затеняется (8-я, 18-я Мимолетности). Интересны некоторые частности: компактная, нерасчлеценная звучность аккордов («аккорды-пятна»— например, во 2-й Мимолетности), в двух-трех
местах — более острые против авторских штрихи (12-я, 13-я
пьесы).
Нейгауз играет 9-ю Мимолетность. В 1—2 тактах — цепочка
децим legato (хотя авторская запись предполагает здесь, скорее, поп legato), и сразу — густое педальное «облако», в котором
теряются контуры фигурации, спрессовываются в нерасторжимое
акустическое целое мелодия и аккомпанемент (и это при двухголосии и большом регистровом разрыве между голосами во втором проведении темы). Ритмические опоры почти не ощущаются;
в одном только месте Нейгауз почувствовал необходимость укрепить ритмическую конструкцию пьесы — в кадансе первого периода — и сообщил басам острые штрихи. Начало второго периода по педали прозрачнее, но в звуковом Отношении голоса
не расчленены, и слух не может поймать ведущую линию — да
ее здесь и нет. Она появляется лишь через пять тактов в виде
последовательности половинных нот, причем эти половинные
ноты — часть темы, состоящей также и из шестнадцатых; шестнадцатые Нейгауз делает совсем незаметными. Зато заключительный пассаж-гамму он подает гораздо резче, чем имелось
в виду автором, предписавшим р > р р и leggieramente: играет
колким поп legato почти без всякого динамического спада.
Другой собирательный образ нейгаузовской интерпретации —
19-я Мимолетность. Очень активное по динамике и агогике ведение мелодии — причем равно активное на всем протяжении
пьесы. Все остальное (басы, подголоски) — это гудящая «среда»,
в которой живет мелодическая линия. В тех случаях, когда автор
решительно требует дать преимущество нижнему голосу (такты
16 и 29), Нейгауз лишь приравнивает нижний голос к верхнему,
из-за чего звуковая картина воспринимается как деструктивная,
лишенная соразмерности. При этом форма во времени складывается импровизационно: со многими местными кульминациями и местными «замыканиями» динамического развития.
Так
идут
почти
все
« М и м о л е т н о с т и » — импульсивно,
Ш
импровизационно, красочно, с малой детализацией играемого.
Какой художественный смысл кроется в подобной манере? Какое представление об авторе положил Нейгауз в основание своей
интерпретации? Думается, пианист увидел в Прокофьеве творца,
необычных, фантастических картин, лирика, дающего то, «чего
нет». На нейгаузовские «Мимолетности» лег след целого пласта
русской дореволюционной
культуры — романтики Скрябина,
Белого, Чюрлиониса, томительного желания «новизны и необыкновенного». 1
Конечно, романтическая игра — не в густой педали и не
в порывистом движении музыки. Она — в решительном заострении личного начала. Повелось, однако, так, что личное начало
мыслят лишь как начало эмоциональное, и поэтому совпадают
представления о романтической игре и об игре импульсивной.
Не будем здесь ревизовать устоявшиеся мнения; отметим только, что диапазон эмоций достаточно велик, чтобы причислить
к романтическим пианистам исполнителей совсем иного склада,
чем Нейгауз, и получить право назвать романтической совсем
иную, нежели нейгаузовская, трактовку фортепианных произведений Прокофьева.
М ы имеем в виду Л. Н . Оборина и его исполнение прокофьевского Третьего концерта.2
I часть. Темп весьма сдержанный — и мягкая, ровная звучность. Скажем, в главной теме — одно только т / вместо предполагавшегося автором контраста / — р (квартовый «выкрик» и
вьющаяся фигурация). Вообще каждое соло в главной партии
закрашено единой звуковой краской — без динамической «игры»,
без нюансировки. Краска эта очень приятная, и фортепиано в общем звучании произведения возникает каждый раз как-то исподволь, без атак. Аккордовый фрагмент по пути к побочной теме
звучит насыщенно, компактно — без звона верхов и без маркированного баса; к тому же в этом маршеобразном фрагменте
Оборин уберегается от метризации. Надо сказать, что соблазна
впасть в метричность пианист избегает на протяжении всего
Концерта, а Концерт богат этими соблазнами! Слух Оборина
прикован к мелодическому голосу, басовый же голос не имеет
для него самостоятельной ценности и нигде не становится предметом показа. Такой «мелодизм» всего удивительнее — и выразительнее —• в побочной партии, угловатой, стаккатированной.
Здесь Оборин не довольствуется звуковым преобладанием мело1 «. . .дайте —• чего нет», «я. . . болен жаждой новизны и необыкновенн о г о » — - ф р а з ы из писем А . К. Лядова ( С б . « А . К. Л я д о в » . Пг., 1916,
стр. 1 9 3 — 1 9 4 ) , неизбывной внутренней драмой которого была эта тоска
по недостижимому.
2 О б о р и н впервые сыграл концерт в 1926 г. Имеющаяся запись (фонотека Ленинградской консерватории, Маг 3 7 0 3 ) относится к 1954 г. (дирижер А . Гаук).
143
дии, но привлекает еще и агогические средства: неожиданные ускорения темпа снимают всякую метричность.
В разработке (эпизод piu mosso) грани триолей сглажены —
это хаос, «снежная жуть», без всяких опор (ритмических), без
ориентиров (интонационных). Там, где начинается распев темы
вступления (эпизод Andante), Оборин сохраняет приверженность мелодическому голосу, не освещает ни подголосков, ни басов; зато он очень свободен в агогике, склоняясь, впрочем,
к оттяжкам. Идут фигурации, как бы раскачивающие две тональности — b-moll и es-moll, и здесь пианист сглаживает грани гармонических переходов, смыкая фигурации на diminuendo.
Соло, открывающее репризу (великолепная «ганоносбразная» страница Прокофьева), имеет пометку поп legato. Оборин
играет здесь почти идеальным legato и в звуковом отношении
никак не отмечает появление главной темы. Все пассажи репризы катятся у него подряд, не обнаруживая сильных долей,
без акцентировки басов — вопреки авторскому желанию. Замечательно стройно и ровно звучат аккорды в репризе побочной
темы, без стука, без «стеклянных верхов»; при втором проведении темы рояль неожиданно прячется, присоединяясь к нюансу
оркестра (р subito), хотя имеет собственный, резко отличный
нюанс ( / ) . Плавное, мягкое legato и в импульсивных фигурациях
перед кодой, сама же кода звучит достаточно жестко — на последней странице части Оборин все-таки использует штрих поп
legato.
Во II части пианист все свое первое соло играет «без басов» — ведет слушателя вдоль хроматическогб узора мелодии и
затеняет широкие, решительные шаги' баса. Видимо, таков уж
слух Оборина — он «впивается» в любую монодийную линию:
звенел верхний голос, но вот в нижнем регистре появилось одноголосное построение, и все внимание исполнителя отдается нижнему голосу (четыре такта до цифры 56).
2-я вариация идет ровно и неторопливо. Фигурация стелется
гладко, без всяких метрических «зарубок». Конечно, гладкость
эта — от выдающегося пианистического мастерства (справляться
со скачками на три октавы, ничуть не скандируя сильной доли,—
такое отличает блестящего виртуоза). Н о и» намека нет на бравурность, на «агрессию», на эффект. Т о же и в 3-й вариации.
Акценты, расставленные автором, восприняты Обориным, видимо, не как знак колючего прокофьевского пианизма, а как отчеркивание красивой мелодической линии. В октавном варианте
темы пианист не пользуется предоставленной автором возможностью прибавить звучность. Удивительно стоек, удивительно
последователен этот проникновенный интерпретатор!
В 4-й вариации автор полностью вознаграждает исполнителя.
Здесь — романтический пейзаж, от русской музыкальной фантастики пришедшие туманы, а сквозь них — тихое пение..,
144
Оборин свободно, .вольно ведет песенный голос и, как нигде
в Концерте, чутко слушает басы — нельзя не увидеть их важного места в звуковой картине. Басы у пианиста опережают мелодию, гудят, с усилием сменяют друг друга. А в мелодии последнее проведение темы, печальное и по звуку более «открытое»,
дает вдруг глянуть на вариацию как на маленькую балладу —
лег на пути «бел-горюч камень».. . Заключительной вариации —
скерцо-маршу — Оборин не дает до основания «снести» все, до
того бывшее. Он хочет, чтобы и марш зазвучал колоритно: густо
педализирует, сращивает голоса в нерасчленимое акустическое
целое, в октавном фрагменте выводит из поля слуха все, кроме
темы — звучащей хоть и по «звеньям», но поддерживающей мелодический ток. В коде аккордовая техника Оборина предлагает истинное совершёнство: легкие, парящие созвучия, выстроенные по прямой длительного, превосходно рассчитанного
diminuendo.
Интерпретация финала складывается, в общем, из уже известных нам элементов исполнительского искусства Оборина.
Темпы всюду несколько замедлены, никакой метризации ни
в одной из темь вертикаль звучит очень компактно, басы в тени,
почти все линейные фигурации даны legato (даже и в эпизоде
energico, сыгранном неторопливо и плавно). Резких динамических переходов пианист избегает, хотя автор провоцирует его
на каждом шагу (считая и прямые авторские указания). Показательна игра Оборина в средней части финала. В эпизоде
L'istesso tempo (цифра 114) он мягко, сочно берет басы и тем
совершенно снимает терпкость явно карикатурных оборотов. Элегантная трель, несовпадение правой и левой рук довершают
дело. В следующем разделе, pochissimo meno mosso, Оборин чувствует себя наиболее естественно. Он охотно открывает прелесть
своего певучего звука, своей непринужденной агогики, своего
perle в хроматических пассажах. Все здесь соразмерно и чуждо
какой бы то ни было экстравагантности. Довольно «мирна» и
кода. Не делается никаких попыток скандировать ритм, подчеркивать акценты и т. д. Музыка звучит легко и собранно.
Картина, думается, довольно ясная. 9 f o мечтательное, элегическое исполнительство, это Эвсебий, прислушивающийся к карнавальной разноголосице. Х о т я , быть может, вернее было бы
сомкнуть Оборина в его прокофьевской интерпретации не с миром
Шумана, а с миром Мендельсона. Концерт звучит все-таки «бесконфликтно», а если говорить о достоинствах, то и они ближе
«мендельсоновскому» — легкость, мягкость, идеальная соразмерность средств. Ну, а Прокофьев?..
Фантастичность его услышана и передана, передан и артистический дух «игры», свободной, непринужденной смены звучащих форм. Сердечность, конструктивная ясность — все это есть.
Н о музыку Прокофьева Оборин играет скорее заинтересованно
Баренбойм
145
и доброжелательно, чем увлеченно. Т у т тоже возможно взять
глубже: Оборина воспитала музыкальная среда, идеалом которой были пластическая красота, певучесть,— среда, которой абсолютно чужда была любая ироническая установка творчества.
Отсюда и некоторые органические «несмыкания»
Оборина
с Прокофьевым (добавим: «несмыкания» той же природы сказывались и на прокофьевском репертуаре К. Н . Игумнова — учителя Оборина).
Теперь, наконец, мы подступаем к крупнейшему явлению советского пианизма 20-х годов — да, впрочем, и всех других его
«этапов» и «периодов». В. В. Софроницкий много играл Прокофьева— и в 20-х годах и п о з ж е ; 1 любопытно, что он хранил верность ранней прокофьевской музыке, и последняя его
запись составлена из пьес ор. 12, «Сарказмов», «Мимолетностей» и «Сказок старой бабушки». 2 Единственным контактом
с поздним Прокофьевым была Седьмая соната. Вот, кстати, показательный аспект творчества нами упоминавшихся пианистов—
позднейшее обращение к новому прокофьевскому репертуару.
У Нейгауза в 30—40-х годах этот репертуар был не только
новым, но и до чрезвычайности «иным» по сравнению с прежним ( « М ы с л и » , ор. 6 2 ! ) ; отдал дань позднему' Прокофьеву и
Оборин. Не решимся, впрочем, утверждать, что иной репертуар
изменил этих пианистов: скорее, они сберегли свою исполнительскую манеру и продолжали немного «романтизировать» Прокофьева. 3 Софроницкий же не выходил за пределы, условно говоря, романтического прокофьевского репертуара, и поэтому
в наименьшей мере отступал от своего « я » и, с другой стороны,
от духа исполняемых сочинений. Прочитывал Софроницкий Прокофьева, однако, очень по-своему.
В Ригодоне (ор. 12 № 3 ) он весьма напряженным, насыщенным звуком ведет мелодическую линию, отчего безобидные диатонические построения начинают выглядеть жестко», с усилием
«процарапанной» графикой. В трехголосных ( с удвоенным басом) кадансах Софроницкий тщательно расчленяет голоса, тем
самым сообщая большую экспрессию терпким секундовым созвучиям. Интересно «инструментует» он второй период пьесы.
Все играется pianissimo, но с густой педалью и чрезвычайно компактно: не подчеркиваются ни басы, ни верхушки. Поскольку
музыка при этом идет в высоком регистре, создается ощущение
1 В Ленинграде —• городе молодого Софроницкого — постоянно
звучала
прокофьевская музыка: в 20-х годах Прокофьева горячо пропагандировали
пианисты А . Д . Каменский, М . С. Друскин и некоторые другие, в ленинградском Г А Т О Б е впервые в стране пошла опера « Л ю б о в ь к трем апельсинам» ( 1 9 2 6 ) .
2 Всесоюзная студия грамзаписи, Д 9 0 4 7 — 4 8
( 1 9 6 2 г.).
3 В позднем Прокофьеве тоже было немало и темперамента и красок,
но он труднее поддавался импровизационным трактовкам, равно как и хрупкой, камерной манере игры. В дальнейшем об этом будет сказано подробнее.
146
какой-то воздушной массы, легкой и упругой — эффект поистине
великолепный!
З а т о в as-тоП'ном фрагменте очень ясно прослушиваются
басы, отчеркиваются все грани модуляционной игры ( a s — f —
d — С ) — притом почти без всяких агогических оттяжек, одними
только динамическими приемами. Благодаря ясным басам и маркированию тональных сдвигов весь эпизод звучит «упористо»,
энергично, несмотря на приглушенную, в общем, звучность.
В репризе стоит отметить ряд частностей. К изложению начальной темы Софроницкий движется очень устремленно, проходя мимо детально проработанных автором лиг (такты 4 1 — 4 4 ) .
Так же импульсивно звучит и сама тема — исполнитель не высказывает внимания к иному, нежели в экспозиции, ритмическому решению баса. В кадансе Софроницкий снимает все, кроме
органного пункта ( с ) . Ему, должно быть, важно дать ощущение C-dur'a сквозь тональные напластования в верхних голосах;
в двух же после'дних тактах носителем C-dur'a оказывается верхний голос — тут Софроницкий прячет басы.
Итак, две-три общие идеи, охватывающие пьесу,— и им подчиняется не слишком детализированное исполнение больших кусков. В Ригодоне Прокофьева — Софроницкого главное — сопоставление жгучей графики первой танцевальной темы с легкими
звучностями средних эпизодов, встреча порывистости и упругого
балетного шага. Э т о — Арлекин и К о л о м б и н а . . .
В ином образном мире — в «Сказке старой бабушки»^ (ор. 31
№ 2 ) — Софроницкий, бесспорно, в чем-то становится иным, но
не сходит со своего пути «дедуктивной интерпретации» Прокофьева: общая идея отпечатывается на любой частности.
В начале «Сказки» обе линии — мелодия и аккомпанемент —
в звуковом отношении совершенно равйозначны. Разница — в их
агогической жизни. Мелодическая линия активно устремлена
вперед, пульс ее учащен; аккомпанирующий голос нетороплив,
плавен. Одинаковая звучность обоих голосов уберегает исполнителя от «швов» при переходе аккомпанемента из руки в руку.
Новый пласт — басы — мало интересует Софроницкого', отодвигается «в тень», верхний же, мелодический голос, звучит все
насыщенней, все экспрессивней — до каданса, где в мелодическом движении сплетаются три голоса, и пианист не видит оснований предпочесть какой-либо из них. Т а к они и звучат все
три — равно заметные.
Далее, однако, вновь наступает размежевание (от такта 9 ) .
Верхний голос занимает доминирующее положение, остальные —
в том числе и средний со своим выразительным материалом —
отступают куда-то на третий план. Н о когда начинается «мелодический отлив» (завершение среднего эпизода), голоса снова
сближаются, причем Софроницкому кажется, видимо, недостаточным звуковое наполнение мелодической линии в таком ком6*
147
позиционно важном фрагменте, и он в каждом такте добавляет
в мелодию три последние восьмые среднего голоса, то есть попросту берет их таким же значительным звуком, как и мелодические ноты (такты 13—16). Последний показ главной темы —
еще одна неожиданность: аккомпанемент по звуку возобладал
над мелодическим голосом (нижним); нечто вроде зеркальной
звуковой репризы.
Довольно причудливая в звуковом отношении интерпретация! Притом она выдержана в пределах тр — рр при весьма
элементарной педали и без всякого агогического нажима (обходится даже авторское указание ritenuto в заключительном кадансе). Не парадоксально ли, что такая интерпретация, не во
всем отвечающая букве текста и ищущая, казалось бы, «непрямых» решений, рождает ощущение естественного, свободного от
всякой вычурности рассказа? Вы все время слышите мелодический голос, он ведет вас буцуо рассказчик, а где-то «за ним»,
в глубине, видятся события далеких времен.
В «Сказке» ор. 31 № З^йанера изложения материала сперва '
сходна с тем, что делает Софроницкий во второй «Сказке»: гулкий фон и полнозвучная, вибрирующая! тема, поданная явно
декламационно. Н о уже с начала второго ^периода голоса в звуковом отношении полностью размежевываются: даже октава, сообразно авторскому написанию, показана как двухголосное созвучие (такты 9 — 1 0 ) . Рельефности голосоведения способствуют
и агогические оттяжки в верхнем голосе (особенно выразительна
оттянутая квинтоль — как бы мускульным усилием формуемый
ритм). Софроницкий, впрочем, и тут достаточно свободно «лепит» интонацию; в тактах 12—13 мотив среднего голоса сомкнут по звуку с фразой верхнего и выглядит ее завершением;
в целом же раздел отмечен стойкостью звуковых характеристик
отдельных голосов.
Материал средней части Софроницкий решительно «затемняет». Прежде всего, голоса звучат одинаково и глухо —
независимо от их роли в полифонической структуре. Теряется энергичная фразировка чуть не по мотивам, сообщившая экспозиции столько выразительности. В левой руке стерлись предписанные автором фразировочные лиги. Прибавилось педали. Этот новый колорит разливается в рамках самого протяженного раздела
«Сказки» — так что восемь тактов репризы, вернувшие ясность
голосоведения и отчетливую артикуляцию, равновесия полностью
не восстанавливают. Как охарактеризовать главенствующий колорит? Скорее всего как призрачный, блеклый, тревожащий размытостью тона. Исполнителем третья «Сказка» оказалась решенной в фантастическом ключе, и фантастика затеняет здесь
голос «от автора». Затеняет — но не заглушает вовсе. И в третьей «Сказке», и во второй, и в Ригодоне и во всех других прокофьевских пьесах, исполнение которых не придется
здесь
148
анализировать, Софроницкий слышит — и дает услышать — «человеческое начало», то ли в виде речитативно поданной мелодии,
которая ассоциируется со звуками голоса, то ли в виде чуть
шаржированной танцевальности, за которой воображению видится комедийный персонаж, и т. д. Короче говоря, все'гдашняя
заостренность динамики и ритма в прокофьевских миниатюрах
у Софроницкого сообщает этим последним какой-то нервный
тон, нечто личное, что никак нельзя выдать за сказочность или
пейзажность.
Наша галерея романтических интерпретаторов Прокофьева
невелика, но разнообразна. С другой стороны, ее объединяет художественный итог игры Нейгауза, Оборина, Софроницкого:
р о м а н т и ч е с к и й П р о к о ф ь е в (импульсивный, красочный,
контрастный, но также и мечтательный, хрупкий). Может быть,
определение условно, зато бесспорно другое: мастера задали тон,
и советская эстрада наполнилась «романтическим Прокофьевым». Массовая «импульсивная, красочная, контрастная» игра
весьма скоро обернулась сумбуром, клочковатостью, густым звуковым туманом — да и не могла не' обернуться, ибо Прокофьев
в репертуаре был для многих пианистов не внутренней потребностью, а следованием моде. Особенно жарко полыхала эта мода
в Москве. Даже доброжелательная в целом критика, рецензируя концерты московских исполнителей, писала об «обычае
вставлять в программу «модного» Прокофьева», 1 «вразумительной трактовкой сочинений которого могут похвастать далеко
не многие», 2 о «слепом следовании моде». 3
2
Не беремся судить, прислушивались ли исполнители к критике, но 24 января 1927 года они услышали ве'ское свидетельство в пользу и н о г о Прокофьева — игру самого автора,
приехавшего на гастроли в С С С Р . Исполнялся Третий концерт.
Молодые советские пианисты раньше вообще никогда не
слышали Прокофьева. Что касается пианистов среднего поколения (Нейгауз, Фейнберг и др.), то им, по всей вероятности,
памятны были эпизодические выступления Прокофьева -до революции, но некоторые внемузыкальные моменты закрывали тогда
1 С. А . Т р а й н и с. Московские пианисты ( О б з о р концертов).— « М у зыка и революция», 1926, № 4, стр. 32.
2 «Показательный концерт
фортепианного класса Ф . М . Блуменфельда
в М о е . гос. консерватории».— « М у з ы к а и революция», 1926, Ne 5, с т р . 2 6 .
(Игра учеников Ф . М . Блуменфельда ставится здесь в пример неудачливым
интерпретаторам Прокофьева.)
3 С. А . Т р а й н и с. Московские пианисты ( О б з о р концертов).-»- « М у зыка и революция», 1926, № 4, стр. 32,
149
прокофьевский пианизм в собственном смысле слова. 1 Прокофьев был фигурой эпатирующей, по меньшей мере, дерзко оригинальной, и даже самое изощренное ухо не могло в ту пору отделить прокофьевскую манеру играть от манеры сочинять (тем
более что на эстраде он появлялся только с собственными произведениями), распознать качество его пиацизма. С годами
музыка Прокофьева утратила привкус экстравагантности, обжилась в репертуаре; при новой встрече впечатления от нее не помешали в деталях оценить авторское исполнение. Каким оно оказалось?
В I части Третьего концерта 2 поражает огромная воля к утверждению ритмического начала. Она выражает^ £ебя через
«ударные» штрихи (staccato, поп legato), позволяющие отчеканить ритмическую фигуру, а также через акцентировку, причем
акцентируются опорные точки интонации, а не метрические
опоры. Что еще сразу же атакует слух, так это мощное звучание басов. Исполнитель устойчиво опирает всю структуру на
функциональные созвучия, сгущает «утвердительный» колорит
функциональных гармоний — в особенности тоники — в низком
регистре.
И в том и в другом отношении показательны многие куски
авторской записи. В побочной партии, на большем протяжении
своем идущей в высоком регистре, акцентируется почти все, что
оказывается в басах: отсюда и ритмическая упористость, и игра
регистров. В репризе аккорды побочной маркируются еще резче,
словно берутся «наотмашь»; благодаря остроте штрихов рояль
прорезает- пронзительное forte оркестра. В разработке (показ
темы вступления) функция «тяжелых басов» иная: оседая на
каждую первую долю (один такт до цифры 29 и далее до цифры 30), исполнитель создает как бы артикуляционный органный
пункт. 3 Переход к репризе: здесь, в гаммообразной фигурации, Прокофьев первую долю такта всякий раз оттеняет коротким crescendo (наподобие рахманиновских «свирепеющих crescendo»\
отчего безобидная' диатоника начинает звучать агрессивно. . . Наконец, еще один интересный момент: все фигурации
перед кодой замыкаются тоникой ( д о ) . Ее Прокофьев неизменно скандирует, будто пригвождая извилистую ленту музыки. ,
1 В
этом, между прочим, убеждают воспоминания Нейгауза о П р о кофьеве («Композитор-исполнитель».— Сб. «С. С. Прокофьев. Материалы,
документы, воспоминания», изд. 2-е. М у з г и з , М., 1 9 6 1 ) . Дореволюционные
впечатления носят чисто эмоциональный характер, в то время как материалом для профессиональных замечаний Нейгаузу служат позднейшие записи и исполнения.
2 А в т о р с к а я запись Третьего концерта относится к июню 1932 г. ( Л о н донский
симфонический
оркестр. Дирижер
П.
Коппола).
Пластинка
( Д В 1 7 2 5 — 2 7 ) выпущена в августе того же года.
3 Имеется
в виду единообразная артикуляция басов на протяжении
нескольких тактов.
150
Динамическая картина I части не слишком разнообразна.
Это, по преимуществу, f—mf—тр.
Границы композиционных
разделов пересекаются обычно на crescendo (если только нет
прямо противоположного указания в тексте), и, надо сказать,
Прокофьев в двух-трех случаях добивается ошеломляющих нарастаний (подход к репризе побочной темы, кода). Целые разделы он дает единым динамическим мазком, почти без нюансировки — то ли избегая детализации в самых импульсивных
фрагментах (главная партия), то ли специально выравнивая динамику из соображений архитектонических (первый раздел разработки).
Мало детализирована и агогика. Собственно говоря, агогические сдвиги здесь можно усмотреть лишь при переходе от раздела к разделу (на этом приеме Прокофьев-исполнитель настаивает), но никак не внутри разделов. О системе же темпов в I
части способны дать представление три обстоятельства: очень
подвижное Allegro (от цифры 2 ) — п р и б л и з и т е л ь н о , , = 170,
крайне неохотный отклик на всякую ремарку, означающую
meno mosso, и, наоборот, весьма энергичное следование любому
piu mosso.
Для II части Концерта верно все сказанное. Первое соло
движется в диапазоне mf — / — при ремарках р, рр; басы гулкие, звучные, фигурации же даны поп legato, почти без педали.
Великолепна в своей жесткости 2-я вариация. Прокофьев очень
отчетливо артикулирует в стремительном темпе, его блестящая
репетиционная техника, соединяясь с характерным приемом
«выстукивания
басов»,
дает
колющую
звучность — верную
краску для «батальной сцены». Интересна агогика: оттянутый
по темпу четырехтакт скачков в центре вариации (цифры
6 0 — 6 1 ) проясняет конструкцию эпизода и вместе с тем как бы
аккумулирует энергию движения.
3-я вариация сопровождена указанием росо meno mosso, но
игра Прокофьева обнаруживает явное piu mosso! Все линии
даются marcato, без попыток мелодизировать верхний голос и
затенить остальные, но Прокофьев любит неожиданные исполнительские ракурсы и потому, вопреки букве текста, образует мелодический голос в репризе: третий в двухголосном сложении (за счет скрытого двухголосия в правой руке). Динамически вариация решена трехчастно: f — 'mf •—• / , без нюансировки
внутри частей. Мало детализирована по динамике и четвертая
вариация — стойко
держится тр — р; агогически изложение
также течет ровно. На переднем плане здесь — выразительность
артикуляции. Мелодия движется поп legato, но очень целеустремленно, рождая иллюзию связности. Далеко отстоящие от
мелодии басы еле слышны — это просто глухой гул, долженст151
вующий создать (и создающий) эффект пустоты, межрегистрового «воздуха».
5-я вариация, пожалуй, еще прозрачнее, несмотря на маль\й
диапазон звучания, аккордовую фактуру и т. д. Дело в мастерской дифференциации голосов. Прокофьев при этом вовсе не
боится мощных sf в басах или ровного / : его отрывистый штрих
настолько точен, педаль настолько прозрачна, что ясность голосоведения не теряется и при большой динамической нагрузке.
В октавном нарастании перед кодой Прокофьев добился идеальной звуковой ровности: жертвуя проставленной в тексте акцентировкой, он не «нажимает» на мотивы-звенья темы, а дает им
пробиться к слушателю сквозь частокол октав за счет мелодической определенности. Пассажи скатываются вниз
crescendo,
вздымаются diminuendo; 1 последний пассаж, не успев затихнуть, смыкается с кодой. Сухое staccato, подчеркнутые сильные
доли, звонкие верхи аккордов — кода выглядит токкатой!
Касательно финала стоит говорить прежде всего о подаче
аккордовых фрагментов. Басы Прокофьев делает, по обыкновению, гулкими и весомыми, все остальное — легким и компактным, не маркируя верхушек. Звучность получается необычайно
объемная и ни в коей мере не перегруженная, что было бы не-выносимо при наличии множества аккордовых эпизодов в финале.
Игра Прокофьева в первом разделе финала очень темпераментна, но нашего знания о прокофьевском пианизме, пожалуй
что, не обогащает: те же твердые басы, резкие агогические сдвиги от фрагмента к фрагменту, стабильность динамической картины. З а т о средняя часть ( о т цифры 114) приносит много интересного. Первое соло удивительно своею динамической и агогической «издерганностью»: совершенно гротескными ritenuto,
спадами звучания при восходящем движении, судорожным произнесением мотивов. 2 В следующем эпизоде (pochissimo meno
mosso) Прокофьев восхищает .мастерством аккордовой «кладки».
Аккордовый аккомпанемент бежит абсолютно ровно, без всяких динамических или агогических колебаний; так же ровно, без
всякого «смакования» мелкой техники, ведет Прокофьев в дальнейшем и гаммообразный аккомпанемент. Что до самой кантиленной темы, то она звучит достаточно насыщенно (иначе она
гасла бы в многоголосной фактуре), но интонируется в манере менее всего вокальной, с еле заметными межмотивными
1 Характерное для Прокофьева мышление «обратно обычному»;
аналогией могут служить, хотя бы; нисходящие построения в мажоре и восходящие в миноре, столь частые у композитора. Нечего и говорить, что такое
мышление открывает огромные ресурсы выразительности.
2 Согласно авторскому
комментарию, приведенному в кн. D . E v e n .
The complete book of 20th century music ( N e w York, 1953, p. 2 8 8 ) , эта тема
вбирает в себя весь «едкий юмор произведения».
152
цезурами. Заключительное аккордовое ее проведение, с явной
композиционной заявкой на «апофеоз», дано автором-исполнителем звонко, ритмично, скромно по педали, хотя обычным пианистическим решением в таких случаях оказываются густая педализация, суммарная звучность, ферматы...
В заключительном разделе Прокофьеву в стремительном Темпе (несомненно, быстрее начального) каждый раз удается
агогически оттянуть моменты гармонических сдвигов — модуляций, отклонений,— отчего движение музыки приобретает особенную упругость. Сильнее всего ощутимы такие оттяжки в трех
последних периодах финала: ступени тем круче, чем ближе конец пути. Также и басы в заключении Концерта звучат все
тверже; Прокофьев успевает «опереть» каждое предложение,
подчеркнуть нижний предел каждого пассажа, каждой фигурации.
Облик Прокофьева-пианиста в Третьем концерте очерчен
резко. Н о мы, конечно, не вправе обобщать, минуя сольный репертуар. Две долгоиграющие пластинки 1 дарят нас авторским
воспроизведением многих номеров, входивших в программы
1927 года: эти позднейшие записи скрепляют наше историческое знание и живой слуховой опыт настолько прочно, что можно
решиться в дальнейшем на некоторые выводы исторического порядка — в сопоставлениях с записями игры советских пианистов
разных поколений.
Прокофьев записав своего рода сюиту из девяти «Мимолетностей»: пять номеров лирического склада и четыре скерЦозных.2 Единство исполнительской манеры в этом венке миниатюр очевидно. Вот ее черты: во-первых, тщательная звуковая дифференциация голосов с особой заботой об отчетливости
нижнего голоса 3 ( в средней части 3-й Мимолетности расчленены по звуку два ряда секунд, лежащие в одной октаве; в 10-й
Мимолетности аккомпанемент на протяжении всего первого предложения находится на переднем плане, сугтесняя верхний голос
в звуковую «тень»; средняя часть 11-й и вся 18-я Мимолетности — великолепные примеры мастерской «режиссуры звука»,
индивидуализации линий в общем звучании). Как и в Третьем
концерте, здесь нельзя не заметить стремления прочно опереть
всю структуру
на гармонические
басы — и там, где они
насыщены (5-я, 10-я, 11-я, 18-я пьесы), и там, где еле намечены (середина
11-й Мимолетности). Штрихи (portamento,
1 Всесоюзная
студия грамзаписи, Д 5 6 5 8 — 5 9 , объединившая записи
1935 г., и Д 9 8 8 7 — 8 8 (архивная запись).
2 Наглядности
ради проанализируем авторские записи тех сочинений,
интерпретации которых другими пианистами мы уже касались.
3 Любовь
к нижнему голосу, стремление всегда ясно его слышать —
это, бесспорно, проявление духа классической музыки в творчестве Прокофьева.
154
маркированное staccato) и изменчивая агогика в нескольких случаях придают фразе особую рельефность — ритмическую и звуковую; резко очерченными бывают кадансы, причем не только
за счет оттяжек темпа, но и за счет accellerando (в 10-й Мимолетности— первое, в 11-й — второе).
Весьма редки у Прокофьева звуковые «перекраски» голосов
по ходу пьесы. Наоборот, он стремится неукоснительно выдержать звуковую характеристику того или другого голоса, даже
если этот голос перемещается из регистра в ^регистр или переходит из руки в руку. Так, в 11-й Мимолетности аккомпанирующий голос передается из правой в левую, ничуть не меняя своего звучания; в 10-й Мимолетности тема, начатая правой, подхватывается левой рукой без всякого звукового спада, хоть на
это и провоцирует нисходящее движение музыки. Кстати сказать, Прокофьев довольно строго следует букве своих динамических указаний: отсутствие знаков в тексте означает игру
почти без нюансировки. И еще: чем парадоксальнее динамические указания в тексте, тем точнее Прокофьев их выполняет
(внезапное diminuendo восходящего мотива в середине 3-й Мимолетности, короткое diminuendo во втором предложении 10-й
и т. д.).
Вслушаемся в 9 - ю Мимолетность. «Заставка» (пять децим)
по звучанию и по штрихам решительно отчленяется от остального материала, выглядит жестко.* Фигурация — текучая, педалью обращенная в компактную звуковую массу,— приносит
контраст. В такте 12 в басу звонко заявляет о себе гармония,
и колорит сразу меняется. «Педальное облако» исчезает, открывается суховатый, упругий верхний голос, идущий поп legato.
В такте 18 исполнитель заставляет его принять на себя функцию ритмической опоры: скандирует сильные доли, пряча при
этом басы. Начиная с такта 20 голоса в правой руке получают
резко отличные звуковые характеристики: средний голос —
опертую звучность, верхний — призрачную, невесомую. В дальнейшем в правой остается только один голос, пианист продолжает вести его опертым звуком, указывая тем самым, что содержащаяся в нем фигурация играет роль темы. В заключении
пьесы Прокофьев организует своего рода «артикуляционную каденцию»: гамму перед пятью последними децимами дает legato
и на густой педали — звучит она, разумеется, мутно; децимы же
играет точно так, как в начале,— звонко, остро, без педали,
к тому же еще и с агогической оттяжкой. Налицо яркий контраст, нечто вроде артикуляцйонных диссонанса и консонанса;
вкупе с динамическим и агогическим нюансами он убедительно
замыкает форму.
Любая миниатюра для Прокофьева — это прежде всего
последовательность событий, «сюжет», а не моментальный
снимок эмоции, не «остановившееся мгновение». Так и 9-я
154
Мимолетность. « С ю ж е т » здесь — в рассеивании педального тумана и обнаружении тематического смысла фигурации. «Тематизированная» же фигурация на диатонической основе и при двухголосном сложении музыки, что как раз предлагает 9-я Мимолетность,. ведет к ассоциации с инструментальными жанрами
доромантических времен, с клавирным творчеством Скарлатти,
Баха, Моцарта.
Если у Прокофьева сюжетна «чистая лирика», то нетрудно
представить его себе как исполнителя, скажем, в «Сказках старой бабушки». Здесь даже и не сюжет, а фабула, не упускающая ни одной подробности действия. Во второй «Сказке» с самого начала голоса далеко разводятся по звуку: мелодия рельефна, фон отзывается эхом. Неукоснительно дифференцируются
лиги в разных голосах, выверяется соотношение голосов в кадансах; одним словом, сразу же упорядочиваются все элементы
музыкального рассказа. Каждое «явление» подается очень отчетливо: звучно вступает бас (такт 9 ) , агогически подчеркнута
фраза тенорового голоса. Звуковые характеристики, раз данные, не меняются до конца пьесы; рождается вйдение персонажей. Динамический план пьесы (подъем,— переменчивая динамика среднего эпизода — спад) оставляет ощущение «происшедшего».
В авторском исполнении третьей «Сказки» главное — противостояние начального материала материалу средней части. Этот
последний дан суховато, «разговорно», без признаков фантасмагорического колорита. Резко акцентируются интонационные
опоры, энергично (по мотивам) фразируется бас, динамика —
детальная, без крупных построений. Что касается начального
раздела, то там твердо, упруго звучит верхний голос и глухо,
безучастно к динамическим эволюциям мелодии ведется бас.
Возникает
ощутимое
«трение» пианистически единообразно
трактованных тем — одинаковых по динамике, равно скупых по
педали, артикулированных сходными приемами: различна их
интонационная природа (диатоника и хроматика), и излагать
их единообразно — значит привести в состояние звукового конфликта. Прокофьев, однако, не оставляет произведение без развязки. В репризе он динамически «гасит» начальный материал
(бас совсем затихает, мелодический голос сближается с ним по
своей звуговой характеристике) и тем самым оставляет последнее слово за музыкой среднего раздела. Сюжетные толкования
можно здесь дать самые разные — важны не они, а неизбежность их появления, заложенная в конфликтном (но не контрастном!), тонко «срежиссированном» исполнении «Сказки» автором.
Он в принципе так же играет и «жанр» — танцевальные
пьесы из ор. 12, в частности Ригодон. В теме резко очерчиваются басы. Вслед за нею первый в пьесе каданс дается
155
«пятном» (слитная звучность, густая педаль), на слуху остается
лишь тоника в низком регистре. В конце периода каданс уже
сопровождается динамическими оттяжками, звучит резче и яснее. Весь as-тоП'ный эпизод идет вполголоса, Прокофьев как
бы заставляет пережить регистр, ничего в нем не выпячивая,
давая на сплошной педали суммарное его звучание. Вторжение
темы (d-moll) приносит пока что лишь контраст штрихов (staccato против tenuto и legato); еле дующий показ as-шоП'ного матер и а л а — большее агогическое разнообразие, рельефнее гармонические ходы. И вдруг, как вспышка света, реприза: staccatissimo, блестящая беспедальная звучность и, главное, тщательное
выполнение новой ритмической схемы баса — синкоп; они все
оттянуты, акцентированы, что придает им необычайную энергию. Заключительный каданс — ликование Д о мажора, аккорды
в контроктаве звучат .легко, компактно, оставляя «воздух»
между с о б о ю и близкой по регистру фигурацией верхнего голоса.
Так что, как видим, и в танцевальной миниатюре заложена
некая сюжетная пружина: первая тема, эмоционально нейтрализованная средним эпизодом, внезапно «взрывается» в репризе, яркая и звонкая. И тем самым открывает секрет некоторой сгущенности средств в среднем разделе: это исполнительский маневр в предвидении контраста.
Все сказанное (вместе с впечатлениями от иных прокофьевских записей) дает прочную опору для обобщений. Прежде
всего, воссоздадим пианистический облик Прокофьева.
Воля. Огромная воля к утверждению ритма над метром,
структурного начала над хаосом разрозненных элементов, преднамеренности над импровизацией. Воля организатора музыки,
и менее всего позиция «соучастия» или «сопереживания».
В широком смысле слова — утвердительный характер игры.
Всегдашнее стремление подчеркнуть гармонический устой, опорную точку интонации (интонационный акцент), момент замыкания движения, замыкания формы (каданс) — отсюда организующее воздействие на психику слушателя, независимо от настроения музыки.
Масштабность. Она предполагает не столько малую детализацию исполняемого, сколько последовательность, настойчивость в исполнительских характеристиках. У Прокофьева — сохранность звуковых характеристик тем, голосов от начала до
конца пьесы, последовательность в выполнении динамического
плана, почти всегда несущего разделы «без динамики», стойкость темпов (агогика определена композиционной схемой —
сдвиги происходят при смене эпизодов).
Устремленность. Энергичная, короткая фразировка, склонность к ^подвижным темпам, ясно слышимое желание «споро»,
без задержек, развернуть форму. З а всем этим кроется интерес
156
к музыкальному действию и, быть может, бесхитростность выдающегося таланта, спешащего освободиться от обилия музыкальных мыслей...
Жесткая звучность (не станем смягчать это обстоятельство).
Фортепиано у Прокофьева звучало с резкой определенностью,
необычайно ясно, но не было в звуке «вибрато», не было «обертонового ореола». Позволительно ли на этом основании говорить об ущербности прокофьевского пианизма? Думается, что
нет. Во-первых, и жесткая звучность таит в себе массу выразительных в о з м о ж н о с т е й — П р о к о ф ь е в доказал это своей кристально-звонкой, искрящейся игрой; 1 во-вторых, манера прокофьевского фортепианного письма едва ли предполагает «звучность с ореолом». О б этом — позже, сейчас отметим только, что
исполнение Прокофьева вовсе не чуждо красочности, притом
оригинальной: эффекта пространства, «пустоты», достигаемого
мудрым распределением звучности между голосами и скромной,
тонкой педализацией.
Наконец, последнее: «сюжетность» интерпретаций. О б этом
сказано было достаточно, стоит лишь добавить, что, какими парадоксальными ни казались бы сами « с ю ж е т ы » и -средства их
воплощения, Прокофьев играет всегда с абсолютной серьезностью, и хотя в музыке его есть куски, по объективному своему
смыслу иронические, он и их интерпретирует «уважительно»,
в высшей степени корректно по отношению к тексту.
Конечно, автор-исполнитель далек от романтических интерпретаторов его музыки. Вернейшее доказательство сказанному
дает сравнение прокофьевских приемов с точно такими же, казалось бы, приемами Нейгауза, Софроницкого и др., а также
сравнение единообразно, казалось бы, толкуемых эпизодов:
сразу обнаружатся иная роль приемов, иной смысл эпизодов.
Скажем, Нейгауз в начале 9-й Мимолетности дает гудящую,
спрессованную, если так можно выразиться, звучность и «педальное облако»; у Прокофьева здесь тоже «педальное облако»,
но оно служит как бы завязкой сюжета: из него потом проступает суховатая, четкая линия фигурации, и само «облако»
рассеивается. У Нейгауза же звучность ничуть не меняется и
в следующих фрагментах — такова разница между статической
зарисовкой и « с ю ж е т о м » !
В финале Третьего концерта у Оборина и Прокофьева —малодетализированная динамика. Н о у одного исполнителя (автора) она тяготеет к / , у д р у г о г о — к р. И этим о различии
трактовок сказано все.
1 И не его вина в том, что жесткость как выразительность была впоследствии скомпрометирована неумеренными ее адептами ( к этому вопросу мы
вернемся), в том, что догматическая критика скомпрометировала все формы
исполнительства, кроме кантабильной, вокализированной игры.
157
«Разночтения» с Софроницким тем более любопытны, что
пианистическая манера последнего в прокофьевском репертуаре
всего ближе стоит к авторской. Например, в Ригодоне (ор. 12
№ 3 ) Софроницкий дает те же краски, что и автор. В одном
эпизоде это тщательно дифференцированное звучание, отчеканенные кадансы, в другом — слитная, компактная звучность, густая педаль, в третьем — подчеркнутые басы, резко означенные
гармонические ходы. Н о все дело в том, что автор использует
эти краски в других эпизодах! Слитно и с густой педалью
у него звучит как раз то, что у Софроницкого идет прозрачно
и звонко (as-тоЛ'ный эпизод), басы Прокофьевым маркируются
там, где у Софроницкого их почти вовсе нет (реприза), и так
далее вплоть до мелочей. Едва ли что-нибудь сильнее может
убедить в самостоятельной значимости исполнительского искусства, чем пример «зеркального отражения» двух трактовок!
В третьей «Сказке старой бабушки» Прокофьев и С о ф р о ницкий сходно трактуют начальный эпизод: декламационный
верхний голос, компактные басы и т. д. Н о с первого же такта
средней части фантазия исполнителей устремляется разными
путями, и, когда музыкальное действие приходит к концу, поразному оценивается и начальный эпизод: как элемент некоего
единства — у Софроницкого (единства контраста—«солнце и
т е н ь » ) и как активно себя проявляющее конфликтное начало —
у Прокофьева.
Два-три сопоставления — к тому же явлений контрастных —
пррвычно рождают желание оценивать: что лучше? К т о из
упомянутых исполнителей лучше играет Прокофьева? И сразу
привычный ответ: «Конечно, а в т о р » . . .
Рассмотрим обе стороны дела. Что значит «играть лучше»
(или « х у ж е » ) ? З а этой обычной у слушателя формулировкой
стоит, в общем-то, глубокий и верный смысл: то лучше, что сильнее воздействует. 1 Н о нельзя облекать верную мысль в случай— ные слова: «лучше — хуже» настраивает на однозначное восприятие искусства, сокращает поле эстетического зрения; отсюда — один шаг до вкусовщины, до «нравится — не нравится».
Коротко говоря, «лучше» не может быть критерием в исполнительстве, ибо не находит в нем ни одного адекватного себе явления. Критерием может служить другой показатель — « в е р нее».
«Вернее» — значит, в игре больше точек совпадения
с объективной картиной авторского текста. М ы не говорим —
духа автора, ибо дух не может быть выражен однозначно: его
постигаешь, идя от текста (само собой разумеется, что без
эмоционального сотрудничества с автором для исполнителя
1 Степени воздействия искусства прямо пропорциональна его социальная ценность — это известно.
158
мертв любой текст). Дух через текст, а верность тексту как
критерий ценности в исполнительстве — такова исходная позиция. 1
Уместно вспомнить завещанную еще античностью мысль
о том, что в искусстве истинность оборачивается красотой; применительно к исполнительству, к искусству, чья натура — дру*
гое искусство, мысль эта может означать следующее: глубокое
постижение стиля композитора позволяет сделать шаг к постижению духа музыки; истинность — это игра содержательная,
экспрессивная, приятная тому инстинкту «правды в искусстве»,
которым слушатель определяет свой вкус, сам часто того не
ведая. ( О б этом, кстати, великолепно писал Нейгауз в статье
«Композитор-исполнитель»...)
Теперь об авторе, который «всегда лучше». Да, конечно, автор обладает той полнотой знания о вещи, которая есть привилегия творца. Н о она еще не дает ему монополии на «абсолютно убедительное» толкование этой вещи. О б этом много писалось, говорилось. Ради ясности дальнейшего важно держать
в поле зрения два решающих обстоятельства: автор может оказаться неадекватным себе как исполнитель, иными словами, он
не находит пианистического решения, адекватного музыке, и —
второе — одаренный исполнитель может оказаться «не хуже»
автора.
В случав с Прокофьевым 20-х годов мы получаем право утвердить непререкаемое превосходство автора-исполнителя над
своими интерпретаторами, «абсолютную убедительность» его
игры.
Прежде всего, Прокофьев пианистически идеально «совпал
с собой». Ведь в чем причина «несовпадений» исполнителя и
композитора в одном лице? Чаще в с е г о — в путах фортепианного обучения. Если метода его имеет образцом стиль, далекий
от того, который впоследствии находит для себя композитор,—
неизбежна борьба композитора со своим пианистическим прошлым. Редко удается справиться с ним до к о н ц а . . .
Прокофьев не знал подобных затруднений. В раннем творчестве он энергично эксплуатировал приемы венской школы и
вырастил свой фортепианный стиль на той же почве, на которой
вырос и его пианизм. 2 Вглядимся в черты прокофьевского стиля,
1 Практика, конечно, шире любых критерирй: в дальнейшем. нам предстоит встретиться с интерпретацией, не во всем отвечающей авторским намерениям, но убедительной и яркой. Многообразие -творческой практики
не снимает, конечно, вопроса о критериях и — добавим — не колеблет нашего представления о них.
2 Напомним,
что Прокофьев-пианист
учился
в консерватории
у
А . Н . Есиповой, окончившей в свое время у Лешетицкого; учителем Лешетицкого был Черни. М ы , разумеется, не отождествляем классическую композиторскую школу с фортепианно-педагогической школой Черни, но нужно
159
которые пришли из классической, венской манеры фортепианного письма — и мы поймем, что Прокофьев с его пианистическими приемами был прямо-таки призван к идеальной интерпретации своих сочинений!
Начать с того, что Прокофьевым-композитором явно движет
желание преодолеть густоту фортепианного звучания. Кажется
порой, что он пишет для рояля моцартовских времен, на котором басы звучали необычайно ясно, а верхи красочно и певуче.
Во всяком случае, Прокофьев охотно сталкивает крайние регистры, не боясь некоторой жесткости звучания ради искомой
его прозрачности. Штрихи, выставляемые в тексте, тоже помогают разредить фортепианную звучность, предлагая поп legato в эпизодах или линиях, настраивающих, скорее, на legato,
a staccato там, где можно было бы склониться к поп legato.1 Идею прозрачного звучания укрепляют и считанные случаи обозначения педали: это самая элементарная педализация —
«додерживание баса», никак не замутняющая звукового целого;
что до необозначенной педали, то само прокофьевское голосоведение, сама фактура складываются под знаком скромной педализации по басам. После сказанного стоит ли удивляться, что
звонкий удар Прокофьева-пианиста и его простая педаль оказались в идеальном соответствии с текстом?
В прокофьевской фактуре реализована и идея маркированного баса. М ы отмечали, что внимание к басам — след классической манеры мышления. Поводом для такой аналогии могли
бы стать и фактурные решения басового голоса, скажем, « о б нажение» басов (унисон или октава) в кадансах и при модуляциях. Постижение тоники как «центра движения» ( А с а ф ь е в )
тоже в какой-то мере связывает Прокофьева с классическим звукосозерцанием; фактура, конечно, откликается и на это: тоника
почти всегда «обнажена», причем оказывается, как правило,
в самом низком регистре.
Манера Прокофьева четко разграничивать голоса по их
функциям — неоспоримое доказательство гомофонной природы
его композиторского слуха и кровного родства с гениальными
иметь в виду, что Черни (ученик Бетховена.) в своих методических построениях питался фортепианной музыкой венских классиков во всем своеобразии ее приемов. Конечно, нельзя ставить знак равенства и между Е с и повой и Черни. Н о , во-первых, их методы в ряде точек соприкасались,
а во-вторых, пианистическое образование Прокофьева — это не только Есипова, но и так называемые классные библиотеки Ш т р о б л я и фон-Арка,
пройденные в начальный, весьма ответственный период обучения (см. свидетельство Прокофьева в автобиографическом отрывке « Ю н ы е г о д ы » . —
С б . «С. С. П р о к о ф ь е в . . . » , стр. 1 3 2 ) , и проникнутые «правоверным черниевским духом».
1 При этом остается в силе ранее высказанное соображение:
«ударные»
штрихи нужны Прокофьеву также для утверждения ритма на фоне метра,
для «чеканки» ритмической фигуры.
160
венскими гомофонистами; эта манера дает понять законность —
более того, закономерность — такого качества прокофьевской
игры, как сохранность звуковых характеристик на больших протяжениях. Снова — образец исполнительского приема, адекватного тексту, причем такого приема, который «забирает в кулак»
внимание аудитории!
Широкая область соприкосновения с классикой (особенно
Гайдном и М о ц а р т о м ) — фразировка. Прокофьев-исполнитель
фразирует чуть не по мотивам — но ведь именно такую фразировку очень часто предписывает текст! Возможно, обошлось без
аналогий с движениями смычка, внушивших подобную же фразировку Моцарту в его фортепианной музыке, 1 но нельзя отрицать более широкие связи: толкование мелодики (точнее —
всякого музыкального высказывания) как речи, склонность к задорной, короткого дыхания кантилене в духе оперы-буффа; отс ю д а — заметим попутно — обретение темпераментной, характерной «вокальности речи» (речитативу короткая мелодическая
фраза) в. преодолении монументальной, «концертной» вокальности bel canto.
Круг аналогий с венской школой при желании можно было
бы расширить. Н о для нас главное — мысль о генетической
связи приемов письма и приемов исполнения у Прокофьева. М ы
избегаем расширять круг ассоциаций еще и потому, что при
этом легко сойти к/внешним совпадениям — от принципиальных
перекличек, 2 и всего фортепианного Прокофьева объяснить венскими влияниями. Они были существенными (а если говорить
о соответствии фортепианных композиций и пианизма Прокоф ь е в а — решающими), но не единственными. Возможно ли отрицать воздействие русской фортепианной литературы? Не следует забывать о масштабности фортепианных произведений Прокофьева, о реабилитации четырехчастного цикла в его сольной
фортепианной музыке 10-х годов, об изобилии материала внутри
отдельных частей; во всем этом (как и в пианистических приемах, соответствующих масштабам исполняемого,— мы говорили
о них) сказывается дух русского инструментального творчества,
русского исполнительского окружения (Рахманинов, Зилоти,
Боровский, О р л о в ) . 3
' О б э т о м см. E v a und R a u l
Badura-Scoda.
Mozart-Interpretation. Wien, 1957, Кар. V .
2 Например, как это часто делают, приписать воздействию
классического пианизма прокофьевскую «ударность» — отрывистые штрихи, частые
martellato, репетиции, «игру через руку». Венская школа, при всей рельефности письма, (как раз противилась ударной манере, насаждаемой, скорее,
школой Клементи (подробнее об этом см.: К . К у з н е ц о в . И з истории
клавирной м у з ы к и . — « С о в е т с к а я музыка», 1935, № 1).
3 З д е с ь говорится о раннем Прокофьеве. В фортепианном его творчестве 3 0 - х — 4 0 - х гг., к которому мы впоследствии обратимся, точек соприкосновения с русской музыкой окажется значительно больше.
161
Р у с с к о е в фортепианном Прокофьеве,— это, конечно, не
только масштабность. Н о здесь мы вступаем в область духовноэстетических предпосылок творчества. Э т о переключение входит
в наши намерения. М ы пытались утвердить абсолютную ценность Прокофьева как интерпретатора своего творчества. Ранее,
однако, упоминалось одно из возможных решений проблемы
«автор-исполнитель»: исполнитель, который «не хуже» автора,
который так же органично сросся с текстом.
Чтобы такое стало возможным, мало одного только эмоционального соучастия. Необходимо совершенное эмоциональное и
эстетическое соответствие между интерпретатором и композитором, необходима общность культурных позиций (общность пианистической школы — в таком соседстве — желанное, но, в конце
концов, второстепенное обстоятельство). 1 Н и у одного из ведущих мастеров 20-х годов этого соответствия, этой общности
с Прокофьевым не было в нужной (максимальной!) мере, и
потому они в прокофьевском репертуаре все были «хуже»
автора, далеко не столь верны в интерпретации текста. К этим
важнейшим — духовным — «разночтениям» мы сейчас приглядимся.
Прокофьев был всего на три года моложе Нейгауза, на десять лет старше Софроницкого, на семнадцать лет — Оборина,
но как художник, как пианист он казался моложе, первозданнее, неискушеннее их всех! И дело не только в том, что по приемам своим Прокофьев — как фортепианный стилист и исполнитель — оказался отличным от современных мастеров пианизма
(он — «классик», последние же принадлежат позднеромантическому этапу в истории фортепианной игры), главное — в великолепной «наивности» идей, в безыскусности музыкальных реакций, в какой-то «первичности» всего облика. Нейгауз и Софроницкий рядом с ним — художники более рафинированные, их
культурно-исторический багаж многообразнее (за счет многообразия связей с романтической культурой), тоньше их медитации, 2 несравненно сильнее психологическое начало... и тут вступает в силу один из парадоксов, которыми богата тема «Прокофьев и советские пианисты». Да, Прокофьев — исполнитель
более «прозаический», чем Софроницкий, чем Нейгауз, чем некоторые другие пианисты, выросшие в предреволюционной России,— но позади ли он своего времени? Скорее он — впереди
его.
1 Напоминаем, что речь идет не об авторе-исполИителе, а о
пианистепрофессионале, для которого гибкость в средствах является непременным
условием плодотворной деятельности, . а потому и предметом неустанных
забот.
2 Г. М . Коган пишет о «культуре размышления» у Нейгауза ( в кн.: «Советское пианистическое искусство и русские художественные традиции».
Музгиз, М., 1948, стр. 15).
162
Уже в 10-х годах причастность к петербургской художественной культуре левого толка с ее критицизмом, иронией, лапидарностью формы отмежевала Прокофьева от той творческой
среды, которой столь многим обязаны советские исполнители
старшего поколения — со «скрябинианцами» и другими, причастными символизму. Боязнь упрощений удерживает от резкого
противопоставления позднеромантического искусства (им и был
с и м в о л и з м ) — м о л о д ы м , радикальным направлениям. 1 Н о кто
станет спорить, что Нейгауз и Софроницкий достаточно далеки
от эстетики Фокина, Стравинского, Дягилева?
Оценки «лучше — хуже» здесь, как и всюду, неуместны.
М о ж н о и нужно говорить лишь о том, что искусство Прокофьева (композиция и исполнительство) было мажорнее, целеустремленнее, чем искусство, на котором выросли пианисты-романтики; п е р в о е — в широком смысле слова — было позитивнее.
Прокофьев предлагал идеал жизнерадостной музыки, тени которой только обогащали светлый колорит. Он предлагал искусство
более устойчивое по своим эмоциям, более определенное по образам, более броское по форме, а потому и более демократичное,
чем искусство поздних романтиков и в их числе Скрябина.
Сколь многое в прокофьевских композиторском стиле, в исполнительской манере ^можно было бы объяснить этой волей к демократизму, к доступности музыкальных идей — и рациональную организацию звучания, и «срежиссированную» фактуру, и
резкость динамических и агогических контрастов! Как бы там
ни было, в соревновании на социальное первенство между «прокофьевским» и «скрябинским» в ' р у с с к о й духовной жизни возобладало «прокофьевское» — демократичное и позитивное. Сейчас,
в 60-х годах, нам это ясно, но в 1927 году «скрябинское» было
еще весьма актуальным в советской музыкальной жизни (композиторской и исполнительской), что, собственно, и дает право
говорить о Прокофьеве как о музыканте, опередившем 20-е
годы. Во всяком случае, Прокофьев-исполнитель со своими
«простыми» приемами оказался намного впереди пианистов, интерпретировавших прокофьевские сочинения во всеоружии позднеромантической манеры.
1 Тем
более следует избегать ставшего, к сожалению, традиционным
противопоставления «московского» и «петербургского» искусства. Столицы
находились в состоянии непрерывного культурного обмена (пример из области пианизма: Л. В. Николаев, создатель «ленинградской школы», был
учеником москвича В. И. Сафонова, в свою очередь, окончившего Петербургскую консерваторию; кто возьмется дозировать здесь влияния?). И уж,
во всяком случае, неверно противопоставлять М о с к в у и Петербург на том
основании, что « М о с к в а . . . туго поддавалась воздействиям модернистской
моды» ( Д . Р а б и н о в и ч . Портреты пианистов. М у з г и з , М., 1962, стр. 3 3 ) .
Если угодно, М о с к в а была во многих отношениях «левее» Петербурга ( х у дожественные группы «Бубновый валет», «Ослиный х в о с т » , бурная деятельность футуристов и т. д.).
163
Бесспорно,
игра автора — опять парадокс! — была менее
«личной», чем, скажем, игра Софроницкого, но это проистекало
не от бедности личного начала у Прокофьева, а от полного, автору лишь доступного, понимания своей музыкальной органики:
Прокофьеву тех лет менее всего дано было выразить «личное»,
а всего более — объективное. Отсюда, от самого существа прокофьевскогб творчества — и объективность исполнения. М о ж н о
сказать, что манера игры Прокофьева — это изложение, а не о б суждение, и здесь напрашиваются далеко идущие аналогии не
только с прокофьевской музыкой, но и с целым кругом явлений,
исторически противопоставленных крайностям романтизма ( Ш у берт, Григ — называем наудачу). О т сути творчества — и цельность исполнительского облика Прокофьева, вновь решительно
отдаляющая его от Нейгауза, от Софроницкого с запечатленною
в их искусстве б о р ь б о ю разных начал,1 приводящей не только
к «всеобъемлемости» (от нее — у того же Нейгауза в прокофьевском репертуаре больше душевного тепла, чем у автора), но
порою и к хаотичности, деструктивности. И уж, конечно, все
сравнения окажутся в пользу Прокофьева, если говорить о демократизме его игры и, хотя бы, игры Софроницкого, самоуглубленной, утонченной в эмоциональной своей градуировке, менее всего склонной к «прямым решениям».
И еще одно резко размежевывает Прокофьева с его романтическими интерпретаторами: прочтение лирики. У Прокофьева
она звучит несравненно проще, скромнее, вся р а с с к а з ы в а е т с я — без агогических раркрасок, без вибрато, без особо
инициативной педали и без всякой «вокализации». Такое « и з ложение лирики» связывает Прокофьева с национальной фольклорной традицией лирического высказывания, и в этом смысле
интерпретаторы-романтики с их лирикой, в которой немало и
экстатического и эротического (Лист, Вагнер, Скрябин!), кажутся менее почвенными.
Раз уж речь зашла о народном начале, то нельзя не отметить, что Прокофьеву-исполнителю в высшей степени свойственно такое качество, как юмор — в парадоксальности некоторых
решений, в заострении характерных черт музыкального образа,
причем «смешное» у него неизменно там, где у других исполнителей — «злое», а то и «демоническое». Злое как смешное — не
есть ли это опять-таки чисто фольклорный нюанс? И, кроме
того, не занимает ли Прокофьев, таким образом, совершенно
особую позицию по отношению к гротеску — столь модному в искусстве 20-х годов, в том числе в исполнительстве? Ирония,
даже гротеск
не чужды Прокофьеву-композитору, но как
1 «.. .Переживание
находится в извечной б о р ь б е ' с настроением, а чувствуемое...
берет верх над изображаемым»
(Д. Р а б и н о в и ч .
Портреты
пианистов, стр. 90. Речь идет о Софроницком).
164
исполнитель (да и композитор!) он трактует гротеск прежде
всего как здоровое начало, как начало отрезвляющее — среди экзальтации «повсеместного скрябинизма». И если пианисты позднеромантического корня склонны были толковать иронические
страницы Прокофьева в духе «сатанизма», то сам Прокофьев,
именно в противовес подобной трактовке, подчеркивал ю м о р
и р о н и и , подавал гротеск комедийно. 1
Д о сих пор речь шла о духовном разногласии Прокофьева и
исполнителей «бурно-романтического» склада — таких, как Нейгауз и Софроницкий. Еще значительней, однако, отдаленность
Прокофьева
от «умеренных романтиков», романтиков более
классичных — мы имеем в Виду Оборина. Казалось б ы — - с н о в а
парадокс, но, право же, Прокофьев и умеренность — вещи несовместные! В чем-то Оборин, возможно, ближе Прокофьеву,
чем Софроницкий или Нейгауз: лирика его скромнее, мелодический рисунок всегда ясен, педализация легка и т. д. Н о общий
тон его игры Прокофьеву абсолютно чужд. Чужда вокализированная манера фразировки и вокализированные штрихи, чужда
притушенность красок, весь элегичный, бегущий резкостей строй
интерпретации. Вот уж тут, действительно, та Москва — Москва
Фильда, Москва Иосифа Гофмана — рядом с которой прокофьевский Петербург был неистово «левым»!
«Единственность» Прокофьева на советской пианистической
эстраде в 1927 году — это, как видим, вполне объяснимое явление. Верно наше объяснение или нет, но, во всяком случае,
абсолютная убедительность Прокофьева за роялем подтверждает тождество композитора и пианиста, а огромное и необычное впечатление, произведенное его игрой, косвенно доказывает
малую приближенность всех иных трактовок к авторской.
Впечатление было не только огромным, но и противоречивым. И з массы печатных откликов на советские гастроли Прокофьева выберем три, лаконично выражающие разное, но равно
характерное отношение к «урокам Прокофьева». Первый — голос правоверных романтиков, разочарованных вполне материальной манерой звукоизвлечения, резкой определенностью замысла и средств: « Л ю б и т ь Прокофьева как пианиста... трудно,
в его игре нет ничего... обаятельного... Удар Прокофьева, при
всей его доброкачественности, суховат, пианист нередко применяет игру «тычком», что дает резкий и короткий звук». 2
«Пианист Прокофьев сдержан в проявлении своего темперамента, но воздействует на аудиторию сильнее, актуальнее,
1 П о вопросу о гротеске у Прокофьева позволяем себе отослать читателя к нашей брошюре «Фортепианное творчество С. С. Прокофьева». М у з гиз, М., 1960, стр. 32.
2 Д э м.
Klavierabend
Сергея Прокофьева.— «Ленинградская правда»,
19 февраля 1927 г.
165
нежели многие неровные и нервные пианисты мировой эстрады». 1
Э т о уже пересмотр идеала исполнителя-романтика с его «техникой нервов», во всяком случае, недвусмысленное утверждение
большей актуальности исполнительства совершенно иного типа.
М ы допускаем, что у процитированного только что критика
(если он выражает мнения рядового слушателя 20-х гг.) возможность эт.ого исполнительства связывалась лишь с частным
случаем. Н о вот еще одно высказывание — уже с позиций «завтрашнего дня»: «Приезд Сергея Прокофьева — крупнейшее, глубоко волнующее событие.. . значение и смысл которого далеко
не исчерпываются одним фактом приезда композитора и чревато последствиями, размер которых трудно сейчас предугадать». 2
Применительно к исполнительству это высказывание полностью теряет характер общего места. Действительно, покоренные
абсолютной убедительностью Прокофьева на эстраде, советские
пианисты в прокофьевском репертуаре энергично двинулись
в сторону авторской манеры — от позднеромантических приемов. Разумеется, дело тут не только в живой аргументации Прокофьева-исполнителя. Дело еще и в самой культурной атмосфере
начала 30-х годов, сильно активизировавшей «прокофьевское
начало» в искусстве; оптимизм, целеустремленность, характерность ради доступности повсюду возобладали над экзальтацией
или отрешенным самоанализом. 3 Попутно, правда, снова наращивались штампы — но о них позже, сейчас важно проникнуть
в новое качество прокофьевских интерпретаций на нашей эстраде, сплавившее личное влияние автора-исполнителя и желание
отозваться на «социальный заказ».
Полнее
всего это новое качество выразилось, пожалуй,
в творчестве М . В. Юдиной — одной из лучших представительниц ленинградской пианистической школы. Ю д и н у не назовешь
антиромантической исполнительницей, но ее романтизм — это,
если так можно выразиться, «романтизм скифства», волевой,
ярко мажорный ( о нем еще пойдет речь); с чисто пианистической стороны на артистку решающее влияние оказала игра Прокофьева. 4 Обратимся к ее записи прокофьевских «Мимолетностей». 5
1 Г е о р г и й
Полянский.
С.
Прокофьев.— « Н о в ы й
зритель»,
8 февраля 1927 г.
2 М .
Г р и н б е р г . Сергей Прокофьев ( К его выступлениям в М о с к в е ) . — « М у з ы к а и революция», 1927, № 2, стр. 15.
3 М ы говорим, конечно, о массовых тенденциях 20-х годов, а не о творчестве крупных художников, неизменно свободном от однобокости.
4 Причем не только в прокофьевском репертуаре. Аналогии с
резковатой, «организаторской» игрой Прокофьева, с его императивным исполнительским тоном возникают при общении с Ю д и н о й в произведениях л ю б о г о
автора.
6 Запись 1953 г. Фонотека Всесоюзного радио.
166
Первый же номер ясно заявляет о намерениях пианистки.
Хрупкие вертикали звучат очень «оперто» и вместе с тем —
расчлененно (особенно это относится к ходам параллельными
трезвучиями); мистериозность стала жесткой простотой (в прокофьевском тексте вблизи от ремарки misterioso — ремарка semplice!). Т о же и во 2-й Мимолетности: Юдина отказывается от
misterioso ради более активных состояний. Н а всем протяжении
пьесы она акцентирует первую четверть в басовом голосе, как
бы опирая полифункциональную гармоническую структуру на
прочную тоническую основу; линия басов звучит очень весомо — в то же время исполнительница рельефно по звучанию
и агогически свободно ведет мелодическую линию. Во главу
угла попадает прокофьевская идея противоборства остинатного
баса и интенсивно развивающейся мелодии, шире — противоборства «остинатного начала» и духа живого, динамичного,
мятежного.
В 3-й Мимолетности — тщательное звуковое расчленение голосов и, что всего выразительнее,— с усилием «одолеваемые»
изгибы ритмо-интонации (тонкая сеть агогических нюансов).
Возникает полная иллюзия мускульного усилия при формовке
музыкального материала, а сквозь нее усматривается чуткий артистический отклик на принятую Прокофьевым концепцию «подавления метра». Касательно 4-й пьесы стоит упомянуть о двух
моментах: во-первых, о маркированном басе (включая начало,
где бас — в высоком регистре), во-вторых, о весьма мобильном
развертывании формы во времени — стремительный темп и никакого отклика на авторское предложение piu sostenuto в начале
заключительного периода. Опять — конфликт порыва и «приземленное™»!
,
В 5-й Мимолетности — снова отточенные басы, в 6-й снова
интенсивное использование агогических приемов. Только здесь
агогика детализирована и нужна Юдиной, главным образом, для
отмежевания голосов один от другого: голоса пульсируют неравномерно (верхний устремлен вперед, нижний — о т т я н у т ) ; в легкой фактуре и при почти беспедальной игре, к тому же динамически притушенной, эта агогика рождает ощущение нервных
биений.
7-я Мимолетность допускает разные исполнительские решения: возможно рассматривать партию правой руки как единое
интонационное построение, а возможно делить ее на два звуковых пласта сообразно перемещениям из низкого регистра в высокий. Юдина выбирает цельность. И опорным басовым нотам
(тонике), и арпеджированным аккордам и фиоритурам она сообщает одну звуковую краску, причем весьма интенсивную.
Кроме того, напористо движется мелодическая линия: никакой
статики, никакого созерцания в этой журчащей пьесе. Юдина
167
переводит авторское обозначение pittoresco как «живо», а не как
«живописно»...
Одна из идей, направляющих юдинские интерпретации,—
это прокофьевская идея высокой интонационной активности
фрагментов legato. Последняя дает Юдиной столь нужное пианистке в силу ее индивидуальности право избегать всякой гладкости, всякой покатости музыкальной мысли. Вот 8-я Мимолетность, как будто удобно скользящая (ремарка commodo).
Юдина, вопреки ремарке, делает пьесу совсем «неудобной», но
до конца экспрессивной. Каким образом? Посредством резкой
звуковой характеристики мелодического голоса ;— неизменной на
всем протяжении Мимолетности. Эта характеристика лишена
всякого благодушия, к тому же агогика снова дает ощущение
немалого усилия на подъемах мелодической линии, отсюда и
жгучий динамизм самой, казалось бы, «уютной» музыки.
З а т о в 9-й Мимолетности — выразительность в бесстрастии.
Выдержка в звуковых характеристиках огромная, но все голоса
охарактеризованы одинаково! Сильная ритмическая воля исполнительницы здесь — в умении дисциплинировать ритм, сконденсировать энергию ритма в непереходимой черте мерного движения. 10-я Мимолетность. И здесь все было бы в звуковом отношении однообразно (лучше сказать — единообразно), если бы
Юдина не подчеркивала отклонения,.модуляции, кадансы — получается комично, как если бы старательно написанная фраза
каждый раз заканчивалась кляксой. Впрочем, именно таков нередко смысл прокофьевских кадансов!
В 11-й пьесе настоянием пианистки совершенно подавлен
метр: движение формы определяют арабески верхнего голоса
с их акцентуацией против метра (на слабых долях). Середина
приносит успокоенность, после чего Юдина акцентирует еще
резче. А в 12-й Мимолетности главная ее забота — лиги. М о ж н о
думать, что эта Мимолетность, которая нет-нет и скользнет
в томность (не пародийную л и ? ) , настораживала Ю д и н у больше
других: следовало избежать соблазна вальса-бостона «всерьез». . . Оградила от него удачно найденная фразировка аккомпанемента. Вторая доля чуть короче, чем в тексте, она « о б рубается» с некоторым звуковым нажимом — и вальсовая меланхолия сразу оборачивается гримасой. К тому же мелодические
фразы ни в коей мере не привольны — наоборот, агогика такова,
что они сжимаются, как в судороге; все же вместе будто провидит убийственные бытовые «картиночки» Шостаковича в Прелюдиях ор. 34! 1
13-я пьеса мягче: Юдина не упустила из виду закономерность исполнительского решения ц е л о г о ц и к л а . Мягкость —
1 Или идет по их следу — если иметь в виду не саму
а ее трактовку Ю д и н о й .
168
Мимолетность,
через суммарное звучание, через малую контрастность звуковых
характеристик. В 14-й же Мимолетности, где образный строй и
фактура ведут, казалось бы, к «ударности» — во всяком случае,
к недетализированному, чисто прелюдийному решению «на одном дыхании»,— исполнительница
расчленяет голоса
даже
в комплексах-«пятнах» аккомпанемента, даже в аккордовом martellato, вводит тонкие динамические градации, и ремарка feroce
(свирепо) оказывается выражением не 6pytaAbHocTH вовсе, но
стойкого душевного напряжения — с одной-двумя только разрядками ( / / ) .
Единственный раз Юдина отступает от текста — в 15-й М и молетности, и не в виду ли драматургического замысла всего
цикла? Номер этот толкуется как разряд нервной энергии, собранной предыдущими пьесами, а потому все расхождения с автором — от заострений пианисткой прокофьевского рисунка.
Лиги, как правило, короче авторских, то есть фразы мельче,
импульсивнее; в игре, кроме того, избыток интонационных акцентов — они дробят мелодическую линию, сообщают жесткость
звучанию, но с их же помощью Юдина добивается полной мобилизованности нашего слуха.
В 16-й Мимолетности — великолепное мастерство «характерного legato». С первых номеров цикла запомнилось напряженное интонирование связных построений, но здесь legato пронзительно, устремленно: верхний голос подавляет остинатный бас,
хоть и тот рельефен. Право же, Юдина упорно ищет — и находит — конфликт в самых, как будто, элегичных, остинатных по
настроению миниатюрах: так же точно, как 16-я, решены и 17-я
и 18-я Мимолетности. В 17-й — показательная деталь: Юдина
тщательно обходит постоянную возможность густой педализации (устойчивый b-moll на протяжении всей пьесы), разрежая
звучание ради резкой фокусировки интонационных оборотов
(инициатива, согласующаяся с фортепианным стилем Прокофьева: чем выше интонационное напряжение, тем прозрачнее
звучность).
И в бурных пьесах — об зтом уже говорилось — исполнительница избегает лобовых, «первых» решений, она здесь ищет решения, сдерживающие проявление эмоций и, как правило, более
выразительные. 19-я Мимолетность подтверждает сказанное.
Никакого выпячивания верхнего голоса, он ясно слышен, но
он — «в партитуре», в"'общей системе звучания: слышен и бас,
слышны все линии. Ю д и н а делает носителем экспрессии каждый элемент фактуры. Наконец, 20-я, заключительная Мимолетность. И в этом единственном прокофьевском сочинении,
имеющем ремарку irrealmente (ирреально), пианистка не хочет
отказываться от мобилизующей слух игры: звуковая картина
ясна, ритм подчеркнуто строг. Значит ли это, что исполнение
чуждо красочности? О т н ю д ь нет: в среднем разделе, там, где
169
голоса регистрово сближены, Юдина щедро тратит свой колористический дар, тонко «раскрашивает» линии — но «раскраска»
нужна ей для размежевания этих линий.
Описание юдинской интерпретации Прокофьева получилось
достаточно пестрым, но мы хотели бы, подводя итоги, еще
раз предложить слово «конфликт». Оно многое определяет: радикализм пианистического мышления Юдиной, всегда стремящейся до крайности усилить смысловые акценты, асимметрично
употребить выразительные средства, чтобы дать увидеть диалектическое начало музыки — как противоречия эмоционального
порядка, так и те, которые лежат в самой природе музыкального
искусства: ритма и метра, горизонтали и вертикали и т. д.; размах исполнительских п о с т р о е н и й — д а ж е в миниатюрах; полное
отвлечение от красивого ради характерного. При этом — с и л ь ный темперамент, целое же — яркость, свобода от ушеугодия —
приносит веру в какуйэ-то особую чистоту трактовок Юдиной.
И возникает не очень, быть может, точное слово «скифство».
Это, конечно, и темперамент, и размах, и резкие краски, но и
нечто более глубокое — свежесть, исконность взгляда на вещи,
непредвзятая
оценка ценностей. Скифы — молодость земли!
Свежестью взгляда своего на мир велик Прокофьев; сильное
впечатление таким же именно качеством таланта производит
Юдина.
«Скифство» — не жесткость, но особая манера игры. Она
инициативна, смела, по-хорошему раздражающа, а это — против
сладких грез «под музыку», искомой позы слушателя-обывателя.
Искусство Юдиной — против обывателя и потому так сильно
привязывает сердца; в прокофьевском репертуаре оно близко
сходится с исполняемым.
Открылась новая страница в пианистической прокофьевиане,
и сразу случилось неизбежное: пришли эпигоны и принесли
штамп. Н а этот раз — «скифский». Прокофьева стали играть
стучащим звуком, вовсе без педали, с резкими акцентами-тычками. Казалось бы, манера, в высшей степени чуждая салонности. Н о , заштампованная, она, в сущности, не далеко уходит
от ушеугодия: всякий штамп навевает духовный сон, избавляет
слушателя от активного отношения к искусству. Тем более такой
штамп. Он усыпляет слушателя в сознании его причастности
к «современной музыке» и ею, якобы, рожденной манере исполнения. Не говоря уже о том, что не существует «современной исполнительской манеры», как нет единой «современной музыки»,
штамп — всегда однобокий — компрометирует исполняемые сочинения и выразительные средства, лежащие в его основании:
«скифский
штамп»
совершенно
скомпрометировал колючие
штрихи, беспедальную звучность.
Всякий штамп — анахронизм, ибо крупный художник, взятый
за образец, никогда не стоит на месте. «Скифский штамп» —
170
тому еще один пример. Скопировав и преувеличив некоторые
(притом наименее, быть может, привлекательные) черты прокофьевского пианизма 1927 года — суховатый удар, резкость
в forte,— эпигоны не заметили, что в начале 30-х годов сам Прокофьев-пианист изменился. В концертной поездке по С С С Р
в 1933 году он играл, по преимуществу, произведения так
называемого
парижского
периода — камерные, без
намека
на эстрадную броскость, и играл их мягко, лирично, неторопливо. 1 А эпигоны в это время состязались в marcatissimo
и
fortissimo...
Штамп оказался необычайно живучим — он дожил до наших
дней. А ведь если он был анахронизмом в 1933 году, то как же
нелепо должен выглядеть сейчас, когда наши оценки питаются
всей полнотой прокофьевского творчества, да и на эстраде не
первый год живет многоликий, свободный от догм, Прокофьев!
Н о штамп — путь наименьшего сопротивления, а «скифский
штамп» в прокофьавском репертуаре — еще и сейчас симуляция
некоей «современной манеры» исполнения.
Никому, конечно, в голову не придет утверждать, что современный композитор Прокофьев не требует специфической
исполнительской манеры. Конечно, требует, и мы достаточно
здесь уже говорили об этом. Н о эта манера — разнообразный,
гибкий комплекс средств, и ее ни в коем случае нельзя приносить
в жертву догме «современно — значит жестко».
К сожалению, догме этой привержены почему-то многие молодые наши исполнители. Может быть, их прокофьевские интерпретации— это «первые решения», бедные опытом и инициативой, хватающиеся за привычное? Чем иным объяснить такой,
скажем, факт пианистической практики, как исполнение молодым Михаилом Воскресенским двух прокофьевских Сонатин ор.
54? 2 Элегантные камерные пьесы, право же, не содержащие ничего другого, кроме «игры» в крупную форму, даются Воскресенским почти сплошь в режущей, беспедальной звучности,
с упором на «ударные штрихи» (маркированное staccato и т. д.).
Особенно не повезло финалу Второй сонатины: очаровательная,
по-моцартовски непринужденная буколика выглядит у Воскресенского стучащим скерцо. Да и первые части обеих Сонатин
с их ювелирно сделанной «сонатностью» совершенно засушены
однообразием приема. Ближе к духу текста — средние части, но,
пожалуй, центральный эпизод из Andante amabile Второй сонатины по звуку все-таки «пережит». Одним словом, на игре
Воскресенского — печать
несколько
наивной
модернизации
фортепианного Прокофьева, а в наши дни, повторяем, всякая
1 См.
характерный отклик в прессе: А . Д . Летопись
жизни.— «Советское искусство», 26 декабря 1933 г.
2 Всесоюзная студия грамзаписи, Д 6 3 2 5 — 2 6 ( 1 9 6 0 г.).
концертной
171
модернизация выглядит анахронизмом: современное искусство
уже успело убедить в своей широте и гибкости.
Прокофьевская музыка убедила в своем богатстве — и гораздо раньше, чем многие современные ей художественные явления; во всяком случае, в 30—40-х годах ряд исполнителей без
предвзятости принял Прокофьева как советскую музыкальную
классику. Да, жили штампы (и — у в ы ! — п р о д о л ж а ю т ж и т ь ) , но
в целом «прокофьевская исполнительская культура» на рубеже
40-х годов встала весьма высоко, и мы имеем здесь в виду не
только фортепианную игру, но и инструментальное исполнительство (Ойстрах — Первый скрипичный концерт), и балет (Улан о в а — Джульетта), и другие жанры с менее яркими удачами.
Была прокофьевская «звучащая среда», и из нее, в конце концов, вышел — не мог не выйти — тот исполнитель, который
в себе нес все лучшее, до него найденное, и означил с о б о ю новый уровень интерпретации Прокофьева. Речь идет о Рихтере.
3
Н е характерно ли, что новая полоса в жизни советского пиан и з м а — а Рихтер ее, безусловно, открыл,— началась вместе со
всхождением на новый уровень в прокофьевских интерпретациях?
Двадцатипятилетний
Рихтер появился на большой
эстраде именно с Прокофьевым — с Ш е с т о й сонатой. 1 « В самом
этом факте есть нечто символическое, как если бы громовые
фортиссимо... в Allegro moderato сонаты, подобно победным -салютам, возвестили о приходе нового героя в мир фортепианного
исполнительства. Даже не о приходе. . . о вторжении — неожиданном и ошеломляющем». 2
Двадцать лет спустя мы получили удивительный по силе
литературного выражения отрывок Рихтера « О Прокофьеве». И с черпывающе сказано там о «пути к Прокофьеву» — как в узкобиографическом плане (встречи с композитором, знакомство
с отдельными его сочинениями), так и в плане внутреннего
опыта, опыта общения с прокофьевской музыкальной индивидуальностью. Нам остается прокомментировать ряд мест этого
отрывка.
«К прокофьевской музыке я... относился с
осторожностью...
Слушал всегда с интересом, но оставался пассивным.
«Мешало»
1 26 ноября
1940 г., Малый зал Московской консерватории. В своем
отрывке « О Прокофьеве» ( с б . «С. С. Прокофьев. . .», стр. 4 6 2 ) Рихтер указывает другую д а т у — 14 октября 1940 г., однако наличие в прокофьевской
архиве печатной программы концерта, датированной 26 ноября ( Ц Г А Л И ,
ф. 1929, оп. 1, ед. хр. 9 1 4 ) , заставляет усомниться в датировке Рихтера,
2 Д.
Р а б и н о в и ч . Портреты пианистов, стр. 228,
172
воспитание на романтической музыке».1 Э т о — 1937 год. Рихтер
в классе Нейгауза. Нейгауз хоть и уходит в 30-е годы от былых
ультраромантических пристрастий ( С к р я б и н ) , но, конечно, всем
существом своим по-прежнему связан с романтическим музыкальным идеалом, соединившим «устремление ввысь», фантастичность и, может бдоть, долю «сатанизма». Рихтер получает
от учителя (как ранее — от одесского музыкального окружения)
обширный романтический багаж, однако стоит иметь в виду
следующее: на первых порах романтическое наследство мешало
искренне откликнуться на музыку иного корня, 2 но затем, уже
после «вторжения» в прокофьевский мир, обогатило диалог
между автором и интерпретатором неожиданными поворотами
мысли последнего, необычным углом зрения, почти всегда находившими (й это делает честь интуиции Рихтера) предпосылки в прокофьевском тексте. Все лучшее от эпохи «романтического Прокофьева» досталось Рихтеру: ощущение радостности,
мажорности прокофьевской музыкальной стихии, да и само это
ощущение стихии — неслабеющего эмоционального накала музыки Прокофьева, неслабеющей энергии ее ритма.
«.. .сочинением, которое заставило себя полюбить и через
себя вообще Прокофьева, оказался для меня Первый
скрипичный концерт».3 К Прокофьеву — через лиричнейший опус! Не
через изощренный по языку Виолончельный концерт, который
Рихтер в 1938 году проходил с солистом перед премьерой (для
профессионала, казалось бы, увлекатедьная работа, для Рихтера же — он никогда не был только профессионалом!—небезынтересная, но внутренне пустая), а через простое, даже наивное местами произведение, эмоционально совершенно «открытое». Не здесь ли исток очень простого — в хорошем смысле —
отношения Рихтера к прокофьевской лирике? Пианист вовсе не
имеет целью во что бы то ни стало отыскать «специфику» этой
лирики — «косвенной», как когда-то" писал В. А . Цуккерман, 4
или какой-либо иной. Он просто услышал в Скрипичном концерте — и слышит до сих пор в любом прокофьевском сочинении — вечное лирическое начало музыки, говорящее голосом
Прокофьева искренне, как ранее оно говорило голосами М о царта, Шопена или Чайковского. Если уж искать специфику, то она как раз в чистоте лирики, в отсутствии всяких
' Сб. «С. С. П р о к о ф ь е в . . . » , стр. 457.
И, право, В , Ю . Дельсон едва ли имел основания утверждать, что
«глубокое проникновение в мир прокофьевских образов началось у Рихтера
еще в детстве» ( В . Д е л ь с о н . Проблемы исполнения фортепианных произведений Скрябина и 1 Прокофьева.—• «Вопросы
музыкально-исполнительского искусства», вып. 3, М у з г и з , М., 1962, стр. 1 1 4 ) . Во всяком случае,
о детских ощущениях в рихтеровском отрывке говорится иронически.
3 С б . « С . С. Прокофьев. . .», стр. 458.
.
•
4 В. А . Ц у к к е р м а н . Несколько мыслей о советской опере.— «Советская музыка», 1940, № 12, стр. 69,
2
173
осложняющих мотивов (эротики), в бесхитростности выражения.
Рихтер велик в незамутненном прокофьевской лиризме, и полным смысла видится факт рождения его как «прокофьевиста»
под звездой Скрипичного концерта.
«Одно
из сильнейших
впечатлений было от исполнения. ..
Третьей симфонии в 1939 году...
НичеЯ) подобного
в жизни
я при слушании музыки не ощущал. Она подействовала на
меня как светопреставление».'
Что можно к этому добавить?
Новая веха на пути к Прокофьеву: неистовый романтизм. Сильнейшая реакция Рихтера-слушателя, выросшего в гуще немецкой позднеромантической музыки (Вагнер, Брукнер, Р. Ш т р а у с ) ,
доказывает, что в Прокофьеве услышал он романтизм", да не
т о т . . . Опера «Огненный ангел» и связанная с нею Третья симф о н и я — это истинное «скифство», эмоции в своем первозданном, сверхинтенсивном, по слову Рихтера, проявлении. Здесь
огромное нервное напряжение 20-х годов (оба с о ч и н е н и я — з а граничного периода), раскованное художником сильной воли,
резким, прямым, абсолютно чуждым всякой недоговоренности.
Надо думать, Рихтер впервые прикоснулся в Третьей симфонии
к «лобовой» экспрессии Прокофьева, к его ошеломляющему динамизму, его лапидарной драматургии, ощутил слепящий блеск
красок в прокофьевских музыкальных максимумах. Залетевшая
искра уже через год огнем взметнулась в Шестой сонате у Рихтера. . .
«...«Семен
Котко». Премьера оперы—колоссальное
событие
в моей жизни. Из тех, которые меня к Прокофьеву в полном
смысле слова притянули!»2 Замечательное признание, вручающее
ключ к объяснению большой этической нагрузки рихтеровских
• интерпретаций. «Семен Котко» — драма народных характеров
в острейшей социальной ситуации, музыкальное решение всегда
актуальных общественных тем: народа, народного героя, социального столкновения — характерно-жестокого — и т. д. Л ю бой эпизод оперы звучит в общей системе, общем тоне музыкальной фрески «Гражданская война», и Прокофьев нигде не
допускает облегченных ( « о п е р н ы х ! » ) трактовок личных отношений, пейзажа, наконец массовых сцен. На всем ощутим след огромной темы — и вот эта пропитанность каждого такта музыки
большой общей идеей придет от « К о т к о » в прокофьевский репертуар Рихтера.
И еще — эпический колорит русского музыкального языка,
так органично и так экспрессивно звучащего в «Котко», стал
для Рихтера желанным тоном многих — если не большинства —
номеров будущих его прокофьевских программ." Тон этот не
только суров и полон достоинства, но и объективен. Конкретно
1
2
174
С б . «С. С. П р о к о ф ь е в . . . » , стр. 459.
Там же.
об этом — ниже, здесь же приведем еще одно лаконичное свидетельство Рихтера о соприкосновении его с «эпическим Прокофьевым»: «Тогда же я видел кинокартину «Александр Невский», от
которой у меня осталась, главным образом, м у з ы к а . . . я не мог
ее забыть». 1 Впечатления от «Александра Невского» легли
в одно русло с впечатлениями от «Семена К о т к о » : схожи, в сущности, и коллизии, и язык, равновелик этический вес обоих сочинений, масштаб их позитивных идей. Прокофьев, утверждающий патриотизм, социально направленную героику, народную
мораль,— вот последний рубеж Рихтера перед Шестой сонатой,
столь многое определивший!
Шестая соната... «Необыкновенная
ясность стиля и конструктивное совершенство музыки поразили меня. Ничего в таком роде я никогда не слышал. С варварской смелостью композитор порывает с идеалами романтики и включает в свою музыку сокрушающий пульс XX
века».2
Рихтер пришел к Шестой сонате с достаточной «прокофьевской эрудицией». 3 О н знал и лирику, и героику, и «скифство»,
знал произведения всех периодов и многих жанров. Тем характернее, что в Шестой сонате он прежде всего услышал с о в р е м е н н о е ; Соната — и юмор, и лирика, и ирония, но надо всем —
«пульс X X века». Почему Рихтер не почувствовал его в Виолончельном концерте — образцово-модернистском по языку сочинении, но нашел в Шестой сонате с ее эпическим порою колоритом?
Ответ прост:
современное — в остроте и масштабе конфликта. Центральные в драматургическом отношении части Сон а т ы — I и I V — несут жестокие конфликты национально окрашенного лирического материала и тем действия, агрессивных, напористых, интонационно никак не соприкасающихся с «русским
материалом». Такое направление конфликта не перекликается ли
с гражданскими коллизиями «Котко» или «Невского»? Притом
конфликты в Сонате пронизывают всю структуру, отпечатываются на каждой детали — во всяком случае, в крайних частях.
( Д а и интермедийные ч а с т и — I I и III — вовсе не беззаботны:
и там сопоставляются разные интонационные строи, давая ощущение если не конфликта, то контраста, весьма резкого).
Вот где «пульс X X века» — в пронизанности всего музыкального организма противоречиями и, может быть, еще в императивности тона, в какой-то особой обнаженности намерений —
равно в лирике и агрессивных, напористых темах. Только напрасно, на наш взгляд, отрицается связь с «идеалами романСб. «С. С. Прокофьев. . .», стр. 460.
Там же, стр. 461.
3 Во всей музыкальной биографии Рихтера поражает интенсивность накопления «внутреннегд опыта», предшествующего техническому освоению
ранее не игранной музыки. Н е должно удивлять, что сама техническая,
«пальцевая» работа занимает на редкость мало времени.
1
2
175
тики». Что бы Рихтер цри этом ни имел в виду — романтическую
музыку или романтизм ( а то и романтику) в широком смысле
слова, его определение «варварская смелость» само ставит вещи
на место. В разрыве с чувственностью, рефлексией, экзальтацией
проявлено столько радикализма, столько при этом истрачено душевного жара, столько фантазии, что художественным результатом оказывается небывалая непосредственность, «первичность»
выражения, далеко уводящая слушателя от традиционных путей
восприятия музыки. «Бегство от привычного» 1 в прокофьевском
замысле, в прокофьевском тексте (а отсюда — и освобождение
слушательского
восприятия от «очевидности» и «привычности» ) — разве это не романтизм ?
Да, романтизм, и в Шестой сонате Прокофьева, соседствуя
с эпосом, своеобразно его окрашивая, он рождает мятежный
тон; композитор пишет о смелых поисках личного решения в сознании большой, объективной правды о современности. Рихтер
услышал тон С о н а т ы . . .
И он нашел ему звуковой эквивалент. 2 Э т о — господство
пронзительного, режущего слух верхнего регистра. И в крайних — конфликтных — и в интермедийных частях звучание верхнего регистра заслоняет другие тембровые линии; доминирующий верх оказывается в Сонате чуть не единственным вариантом
регистровки. Таким «варварски смелым» решением Рихтер сберегает единый эмоциональный строй произведения, единое начало в разноголосице образов. Впрочем, почти все выразительные средства употребляются пианистом стабильно — в желании
охарактеризовать «атмосферу» сочинения.
I часть. Главную партию Рихтер ведет ровным forte, не выпячивая ни одной доли (маркируя их все!), неизменным поп
legat'HbiM штрихом; артикуляционный рисунок басов ровнее, чем
в тексте: первая и вторая доли одинаково весомы. О б р а з вышел
воистину литым — жесткий императив реальности! В связующей — динамический спад, но, скорее, за счет густой педали,
а не иной силы звучания; педаль, кстати, позволяет «вязать»
мелодическую линию в мартеллятном рисунке, обходясь без акцентов. Рихтер весь раздел играет агогически гладко и к побочной теме переходит без агогического «шва»: словно сгустившаяся
тревога с неизбежностью рождает очень личный, лирический —
в широком значении слова — ответ.
Побочная партия подвижна, свободна агогически, звуковой
колорит тут иной: больше гула, верхний голос «погашен» — и
это в параллельном движении на неподвижном басу! Уход от
1 Одна из самых привлекательных мыслей об Эйнштейне в известной
книге Б. Г. Кузнецова («Эйнштейн». Изд. А Н С С С Р , 1963).
2 М ы основываем анализ на трансляционной записи (Ленрадио, 1960 г.)
и непосредственных впечатлениях от исполнения Рихтером Сонаты в сезоне
1959/60 г.
176
«очевидного» пианистического решения ради импульсивности,
непосредственности высказывания (импульсивность—почти всегда суммарное использование выразительных средств), ради лирического тепла (насыщенная звучность). . . Уже пошла фигурация заключительной партии, но наверху — мелодия побочной, и
Рихтер все еще мягок, все еще заботливо хранит вибрато — традиционное звуковое качество лирической темы, но вдруг тема
исчезает, остается одна только фигурация, и исполнение «оскаливается» жесткой, гремящей звучностью. Это уже музыка без
гула, без баса, в каком-то пугающем обнажении своих экспрессивных возможностей. Верхний голос вновь нестерпимо резок, и
интенсивность краски позволяет Рихтеру организовать тембровый конфликт: глухой стук басовых аккордов «перечит» фальцетным верхам. Перед началом разработки басы почти вовсе исчезают из поля слуха — Рихтер мудро экономит их в предвидении активных выступлений баса в дальнейшем.
Разработка как фрагмент исполнительской трактовки определена двумя явлениями: резко атаккированной звучностью верхнего голоса и стабилизацией баса, имея в виду стойкую динамическую краску или, что то же, почти полное отсутствие нюансов.
Если к этому досказать еще, что Рихтер играет здесь почти без
педали и сплошь поп legat'HbiM штрихом, нетрудно представить
себе «стальной блеск» звуковой картины; пианист ясно видит,
что прокофьевская разработка — не трансформация материала и
даже не развитие его, это — решительное заявление одного из
образных начал, а именно, начала агрессии, жестокого действия.
Поэтому Рихтер обходит путь «сюжетной» разработки (сюжет,
цепь событий — традиционное исполнительское решение разработок) и чуть не с первой ее ноты включает кульминационное
напряжение — не звуко-силовое (например, два-три forte), а скорее артикуляционное: напряженное произнесение каждого мотива, каждого интервала. Нет проходных кусков, все веско, даже
в гаммообразной фигурации con brio скандируется каждая нота.
Архитектоническая кульминация у Прокофьева озвучена высоким регистром; это апофеоз рихтеровской интерпретации. Третья
октава буквально взрывается сухой, наэлектризованной звучнос т ь ю — без педали и три forte. Сноп искр! И уже до конца разработки — словно разлился жесткий свет пламени: аккорды на
«точечной» педали, без тени вибрато, без басов, колкий верхний
голос, вновь закрывший другие линии... Наконец, реприза. Материал главной партии дан автором в низком регистре и просит,
казалось бы, «умиротворяющего» пианистического решения. Н о
у Рихтера достает внутренних сил прочесть конфликт, больше —
м я т е ж ! — т а к ж е и в репризе. Он выбирает приемы еще более
острые. Басы в»главной теме делаются короче, звучат «выстрелами» (артикуляционным путем Рихтер преодолевает инертность
значительных акустических масс), в изложении побочной темы
Баренбойм
177
смещается акустическая перспектива: голоса звучат равнозначно,
отсюда — ощущение твердого, бескомпромиссного противостояния. I часть у Рихтера заканчивается целой полосой громкой,
беспедальной звучности, полосой эмоционально-неподвижной —
пианист утверждает объективный мир в малой его изменчивости,
но и в грозном величии его данности...
Другая конфликтная часть Шестой сонаты — финал — дает
материал для реализации той же исполнительской идеи, которая
окрасила у Рихтера I часть. Нет с ю ж е т а , есть т о н . Конфликт
у Рихтера обходится без фабулы, но отпечатывается на эмоциональном, звуковом строе интерпретации. Как пример приведем
эпизод Andante. Это — перелом в движении музыки: реминисценция сразу двух тем I части, ставящая самое форму — и, разумеется, наше восприятие — перед необходимостью откликнуться
на новый и более объемный круг проблем: личное в соотношении с диктатом внеличного, настоящее и прошлое и т. д. Изложение тем многозначительное, детали (смены размеров, различные сопряжения вертикали и горизонтали, регистровка) вызваны
оттенить «центральность» эпизода в идейно-образной жизни сочинения и в его форме. Как поступает здесь Рихтер? Он играет
недетализированно, ровно агогически (характерен подход к последнему проведению A-dur'Hofi темы — без попыток оттяжками
прибавить значимость моменту), почти без всяких динамических
расцветок. Н о он находит тон фрагмента, богатую смыслом звучность: суховатую, с резко прочерченными верхами, на «полупедали» и в черте тр — р. Неукоснительно выдерживаемая на всем
протяжении Andante, она ^ает впечатление напряженного вслушивания в голоса памяти...
« Т о н » найден и для других тем финала. По большей части,
это жесткое, «ударное» звучание. О н о определяет колорит второй эпизодической темы (на остинатном басу е ) , дробящимся
стеклом звенит gis-тоН'ная тема, причем стремительная гаммообразная фигурация дается marcatissimo, становится «криком».
Чуть мягче по тону начальная тема: гуще педализация, штрих
летучий, не столь маркатный, как в эпизодах. Густая педаль, однако, как бы сжимает, суммирует фигурацию, делает ее сумрачной и далеко уводит от этюдности.
Характерно динамическое выравнивание целых разделов, особенно же — прилегающих к центральному эпизоду Andante. Д о
него ( р е ф р е н ) — м у з ы к а движется без агогической градуировки,
стремительно-ровно, прозрачнее по педали и более маркатно;
динамика никак не откликается на смену регистров. После —
когда перелом в эмоциональном развитии и развитии формы уже
произошел — Рихтер с поразительной последовательностью нагнетает иной, еще более зловещий колорит. Oil играет совершенно «бессюжетно», недетализированно, но в стойком единстве
звуковой краски, штриха, приема педализации: поп legato,
178
короткая педаль, режущие верхи. П р и этом — никакой метричности, никаких акцентов на сильную д о л ю ; финал течет сплошным
временным потоком, сбивающим тактовые границы. Т о л ь к о
дважды в заключительном разделе Рихтер позволяет себе выйти
за пределы им же очерченного круга приемов: один раз — это rinforzando
перед последним рефреном, другой — акцентирование
ритмического устоя перед началом коды, и оба эти « в ы х о д а »
представляются краями, новыми ступенями
эмоционального
подъема.
Парадоксально, но факт: интермедийные части, более цельные по настроению и характеру материала, подаются Рихтером
куда более разнообразно по приемам, чем Allegro moderato и финал. Сказанное в меньшей степени касается II части: средства
там в основном определяются скерцозным характером музыки;
зато в медленном
в а л ь с е — I I I части Сонаты — предметом
исполнительской инициативы становится почти каждая деталь.
При этом Рихтер не теряет из виду, если можно так выразиться,
« з в у к о в у ю сверхзадачу» своей интерпретации: жесткий колорит,
рождаемый атаккированным звукоизвлечением в верхнем регистре. Т а к , например, первый показ темы идет на глухих басах,
и в с ю выразительность принимает на себя верхний голос, наделенный не только рельефностью звучания, н о и агогической
с в о б о д о й . О д н а к о рядом — много гибких звуковых решений.
В эпизоде росо piu animato подголосок — не сплошной линией,
но отдельными
«точками» — перекрывает мелодию,
выразительно контрапунктирует ей; в начале второго периода Рихтер
делает подголосок инициатором агогического нюанса (ritenuto),
а перед кадансом •—едва ли не впервые в Сонате! — заставляет
голоса обмениваться своими функциями в звуковой картине.
Раздел a tempo — вновь в духе основного тона С о н а т ы (если
возможна такая м е т а ф о р а ) : резкая, беспедальная звучность;
.в кульминационном фрагменте tempo I Рихтер не пользуется и
малой долей выразительных возможностей низкого регистра,
центр тяжести — в аккордах правой руки. Н о вот реприза, и
здесь снова несколько находок: в контрапункте — линия среднего
голоса агогически сдержаннее линии верхнего, каданс — без
«смакования» мелодической модуляции (верхний голос неожиданно п р я ч е т с я ) .
Как видим, лирическая часть решена свободнее, но в целом
Соната выглядит строго, исполнение ее Рихтером до необычного
избирательно по средствам, и скрозь эту избирательность нельзя
не ощутить смысла трактовки: столкновения личного и объективного; п о с л е д н е е — жестко, устойчиво по тону, но не бездейственно, не статично, «личное» же — в импульсивной подаче национально-характерного материала (побочная партия I части,
As-dur'Hbm эпизод вальса, средний эпизод II части и т. д . ) .
В этой антитезе, разработанной с максимальной интенсивностью,
7*
179
Заложен эпический мотив ( « о б ъ е к т и в н о е » ) и, конечно, мотив
общественный: жестокая реальность не дает обрести личного
равновесия, сообщает личности огромную тревогу. Говоря при
этом о «максимальной интенсивности», мы имеем в виду громадный заряд романтического темперамента у Рихтера, «скифство»,
сказывающееся в резкости, прямоте решений (иногда и в гиперболичности и х ) , в непосредственности эмоциональных раскрытий.
Едва ли не впервые прокофьевская музыка обретает в исполнительском решении такой драматизм, получает такую моральную нагрузку. Прокофьев и Рихтер совпали в главном — в конфликтном мышлении и ощущении национального
характера
в музыке. О т единства в главном — никакой фальши в деталях.
Музыка Ш е с т о й сонаты предполагает и жесткую звучность, и вед у щ у ю роль верхнего регистра в акустической структуре, и частые поп legato и динамическую «одноцветность» целых разделов, шире — единый эпический тон. 1
Д е б ю т состоялся. Началось энергичное освоение прокофьевского репертуара. Т о г о же 26 ноября 1940 года Рихтер играл
несколько «парижских» пьес ( Р о н д о , ор. 5 2 № 2, Пейзаж и Пасторальную сонатину, ор. 5 9 ) , в марте 1941 впервые после автора исполнил Пятый фортепианный концерт, а в программу
своего первого сольного вечера ( и ю л ь 1942 г . ) включил В т о р у ю
сонату.
Ранний П р о к о ф ь е в . . . П о р ы в , фантастика, и р о н и я . . . М у з ы к а
романтичная настолько, что у Рихтера, воспитанного на романтиках, она поначалу даже не вызвала ощущения новизны; во
всяком случае, для Второй сонаты Рихтер в воспоминаниях нашел лишь несколько сухих слов. Н о он включил ее в программу
первого Klavierabend'a! Видимо, со временем ( з н а к о м с т в о с Сонатой произошло в 1938 г . ) отыскался исполнительский « т о н » , выведший это сочинение из сферы привычно-романтической музыки, сфокусировавший новаторские его черты и заставивший
наполниться «пульсом X X века». Позднейшая запись 2 убеждает
в сказанном: мы слышим цельное и суровое произведение.
В I части (да, пожалуй, и во всей С о н а т е ) Рихтер решительно
отказывается" от ударной игры (разумеем атаккированную звучность и засилье штрихов поп legato). О н видит с в о ю исполнительскую задачу в создании детализированной, расчлененной
акустической картины, и, надо сказать, акустическая картина
возникает на редкость изящная. Каждый миг прокофьевской музыки у Рихтера — это звуковая ^композиция с несколькими планами и с ощутимым « в о з д у х о м » между голосами ( « в о з д у х » —
не в вибратном ореоле вокруг отдельных звуков, а в тонкой
1 Эпический
тон — не обязательно не+оропливый былинный
распев,
это может быть и режущая жесткость, как в Ш е с т о й сонате. Суть — в сознании неумолимой данности объективного мира.
2 Запись по трансляции, 1962 г. Фонотека М о с к о в с к о й консерватории.
180
динамической соотнесенности линий, отчего одна звучит «ближе»,
другая — «дальше»). При э т о м — м н о ж е с т в о артикуляционных,
агогических, колористических находок.
В главной партии I части Рихтер выразительно оттягивает
по темпу второе предложение, утверждая остинатное начало —
драматургически весьма существенное. В связующей интересна
«мелодизация» фигурационного элемента в теме: гаммообразные
ходы подаются тем же значительным звуком, что и ведущая интонация. Предметом особой своей заботы в побочной партии Рихтер делает короткие лиги: безукоризненно их выполняя, последовательно отъединяя мотив от мотива, он сгущает интонационное
напряжение — как того хотел автор; звучность верхнего голоса
приобретает уже известную нам по Шестой сонате резкость. Побочная в целом менее всего выглядит лирическим «разливом» —
она упруга, рельефна, действенна. В заключительной теме исполнитель уклоняется от традиционной здесь «вопросо-ответной»
динамики (правая рука — отзвук левой), он вяжет единую динамическую и интонационную линию, не оглядываясь на скрытый голос в басах (dis — d — с); фрагмент приобретает цельность, быть может, несколько теряя в остроте.
Разработка — которая во Второй сонате есть перетасовка материала и механическое его суммирование, вполне комедийное,—
интенсивно освещена Рихтером с точки зрения гармонического
развития; он пользуется каждой возможностью для того, чтобы
скрыть инертность модуляционного плана: скандирует басы при
отклонениях (и тем преувеличивает гармонический смысл последних), агогически подчеркивает кадансы и т. д. Выдающимся
мастерством отмечен раздел serioso — это настоящий сценический квартет, где у каждого голоса не только свой тембр, но и
своя «мизансцена», свое стабильное положение внутри акустического целого. Напряженнее других — верхний голос, и, видимо,
не столько от симпатии пианиста к побочной теме, проводимой
верхним голосом, сколько от ясного вйдения стилистической
закономерности: у Прокофьева верхний голос, как правило,
отмечен наибольшей активностью интонационного
развития
(здесь — он один только и движется, остальные голоса остинатны).
В репризе ярко запоминается поп legato фигурации, сопровождающей главную тему: благодаря короткому штриху весь материал приобретает больший динамизм. Пожалуй, реприза вообще
динамичнее экспозиции; в целом же I часть у Рихтера всего менее гротеск, гримаса, она решена необычно строго — и интегрально, если так можно выразиться: контрастность, разнохарактерность материала сглажена, это один образ — динамичного,
собранного и умного героя.
II часть — скерцо, но не токката! И Рихтер играет скерцозно:
прежде всего легко. Басы — те самые, кроме которых у иных
181
пианистов вообще ничего нет в этой части,— он прячет, дает коротко, сухо. З а т о чуть заостряет артикуляционный рисунок
в среднем эпизоде ( « п о л ь к е » ) : отрывает концы фраз, и неизбежный при этом легкий звуковой укол на сильные доли «выстраивает» четверти в одну динамическую линию. Акценты в высоком регистре и безакцентные басы — такое решение и есть
скерцо, ш у т к а . . .
III часть Сонаты обычно вызывает образные ассоциации с лесной чащобой—• не в «дремучести» ли самой фактуры, не в полифонической ли ее густоте тут дело? Возможно, фактура даже
«загущена» несколько — и Рихтер, думается, прав, разрежая ее
динамическими приемами: он сразу устанавливает гегемонию
верхнего голоса и сохраняет ее даже там, где в тексте нет никаких указаний на подчиненную роль других голосов (изложение
темы — от такта 14), равно как и там, где автор ремаркой привлекает внимание к колористическим возможностям другого голоса («il basso fenebroso» — о т такта 3 0 ) . С басами Рихтер очень
осторожен: ему не нужен гул, и, кроме одного раза (два вступительных такта), он избегает педализации по басам и темповых
оттяжек (без многозначительности проходит и смена разделов:
сохраняются звуковая краска и мера движения). О т неизменной
звонкости верхних голосов и меньшей, чем на то давал право
текст, объемности, глубины баса — необычно легкий, светлый
колорит всей части. Романтический п е й з а ж ? . . Скорее — та самая п р о с т а я л и р и к а , которую Рихтер впервые услышал
у Прокофьева в Скрипичном концерте, скорее — человеческий
голос.
Финал тоже решен через детализацию звучания, а не через
подчеркивание ритмического начала. Конечно, ритм тверд, но
в этой своей твердости почти незаметен, во всяком случае —
2
никакой «ударности». Рихтер понимает, что при размере 4 и
темпе Vivace всякий метро-ритмический акцент, не предусмотренный автором, может существенно исказить интонацию,'—
и насколько возможно, избегает акцентировки. Вся первая тема
идет у него без акцентов; целостность ее усилена выдержанной
звуковой характеристикой. В побочной C-dur'Hofi теме кажется
сначала, что правая сильно акцентирует — но далее выясняется,
что маркированное staccato — это звуковая краска, тема вся такая, от первой д о последней ноты (разумеется, с поправкой на
динамику). Последовательность в характеристиках у Рихтера
изумительна! Вот идет второй показ побочной темы. В верхнем
голосе — аккомпанирующие аккорды. Внезапно в этом же регистре оказывается голос, излагающий тему. Пианист не меняет
звучности — и добивается удивительной пластичности, удивительной гибкости в переходе от одного момента «формы как
процесса» к другому.
182
В тактах 97—112 автор соединяет связующую тему с аккомпанементом побочной. Возникает полиритмический узор. О б ы ч ный в таких случаях исполнительский прием — скандирование
ритма в одной из линий. Рихтер вообще ничего не скандирует:
голосам сообщаются контрастные звуковые характеристики (как,
собственно, и указано в тексте), и этого оказывается вполне достаточно для того, чтобы вызвать ощущение контрапунктирования.
Тс^ких примеров из финала можно было бы привести множество. Скажем, органный пункт cis в разработочном разделе:
у Рихтера он дается иным штрихом, чем остальное,— более «тенутным», и он отлично слышен без всякого акцента. Всюду
в этом разделе Рихтер тщательно дифференцирует авторские обозначения: Л — э т Ь штрих, > — а к ц е н т , очень легкий; внимание
к знакам позволяет полностью избежать столь обычных здесь
звуковых преувеличений. Интересно, что этот же самый cis, негромко, но отчетливо поданный в разработке, ясно выявлен пианистом и в составе аккордов (два последних такта перед репризой).
Остается сказать об эпизоде Moderato. Музыка у. Рихтера
здесь вовсе не «проваливается» в иную динамическую плоскость.
Она звучит оперто, динамически насыщенно и тяготеет к crescendo. Все состояния финала активны! При этом — ни тени повелительности, а только легкость и каприччиозность. Да и во
всей Сонате императивности значительно меньше, чем в позднем
Прокофьеве у Рихтера. Н о строгость тона и здесь бесспорна.
Рациональная организация звучания в каждый момент музыки
поддерживает ощущение цельности образа. Это — калейдоскоп
впечатлений, но это — один герой. И герой, начисто лишенный
скепсиса, не иронизирующий и чуждый гротеска. Он — целен,
интенсивность же его движений, его восприятия — истинно романтична. . .
Рихтер ясно увидел во Второй сонате несколько иную стилистическую манеру, чем в прокофьевских сочинениях советских
лет. Поздний Прокофьев свободнее в настроениях, мыслях и
приемах, и часто в их пестроте, несогласованности он открывает
богатейшие выразительные возможности; ранний Прокофьев —
более догматичен, более привержен раз найденным нормам
письма, ревнивее к некоему «стилистическому пуризму». 1 И Рихтер во Второй сонате крепче замкнут в кругу нескольких приемов, но уж зато стилистическая картина кристально чистая! И з
этих приемов, полностью отвечающих сущности текста, отметим
1 Во многих композиторских жизнях случается обратное, но для П р о кофьева характерно неукоснительное расширение творческого горизонта;
можно даже говорить о борьбе композитора с собственным стилем, с у с т о явшимися приемами во имя художественной свободы.
183
и мелодизацию фигуративного элемента (у Прокофьева фигурация редко бывает чисто гармонической), и фразировку по моти*
вам, и стабильные звуковые характеристики ( в прокофьевском
тексте голоса бывают надолго локализованы в определенных
функциях — и в определенных регистрах).
Итак, еще одна веха на «прокофьевском пути» Рихтера. М ы
не будем столь же подробно писать о следующих этапах этого
пути — о них уже много писалось. 1 Да и простой их перечень
достаточно выразителен: первое исполнение Седьмой сонаты
(январь 1943 г . ) , выступления с Четвертой сонатой (июнь
1943 г.), Первым концертом (декабрь 1943 г.), одно из первых
исполнений Восьмой сонаты (декабрь 1945 г.), показ триады
поздних сонат — Шестой, Седьмой и Восьмой — в одной программе (май 1946 г.), первое исполнение Девятой сонаты (апрель 1951 г . ) — н е говоря о многочисленных премьерах мелких
форм. Ясно, что Рихтер занял центральное место среди советских «прокофьевистов», и дело тут, конечно, не только в полноте
репертуара; главное—гибкость, смелость, разнообразие интерпретаций, огромная непосредственность
выражения.
Говоря
о прокофьевской лирике у Рихтера, мы уже упоминали о гибком
отношении пианиста к «специфике стиля», о восприятии им Прокофьева как частицы огромного, всеобщего «моря музыки».
Такое восприятие и выводит Рихтера вперед в рядах прокофьевистов: для него Прокофьев полностью лишен привкуса экзотичности. Никаких условностей не видит он ни в героике, ни в лирике, ни в «жанре» Проко(р5ьева, он выражает их с романтическим пылом, в сознании высокой их содержательности, высокой
эстетической
ценности. Отсюда — наибольшая естественность
в сочинениях советского периода, в которых Прокофьев сам далеко ушел от беззаботного искусства, от искусства-игры, в которых многого достиг в гражданственном,
гуманистическом
плане. А поздние сочинения бросили отсвет и на рихтеровские
толкования раннего Прокофьева.
Пианистические средства Рихтера так же богаты, как богата
поздняя прокофьевская музыка,— и так же непредвзяты, исполнитель и здесь свободен, от догмы. Э т о не значит, что он не
чувствует стиль, тон произведений — мы как раз и пытались
показать, что он их великолепно чувствует,— но он видит стиль
каждый раз в конкретном запечатлении, а не стиль «вообще»
с какими-то его канонами.. Поэтому так гибок он в приемах, такой разный от произведения к произведению, от трактовки
1 В частности, в книге В. Дельсона «Святослав Рихтер» ( М у з г и з , М.,
1 9 6 1 ) , в цитировавшейся уже его статье «Проблемы исполнения фортепианных произведений Скрябина и Прокофьева», в работе Л. Гаккеля « Ш е стая, Седьмая и Восьмая сонаты для фортепиано Сергея Прокофьева и вопросы их интерпретации» ( « В о п р о с ы музыкально-исполнительского искусства», вып. 3 ) , в многочисленных откликах музыкальной периодики.
184
к трактовке. И, пожалуй, он гибче автора как пианиста, если
сравнивать их в рамках одного и того же — раннего — репертуара («Наваждение», «Мимолетности» и т. д . ) . А в т о р все-таки
более экзотичен в своей исполнительской манере. Рихтер мягче,
он не так резко очерчивает круг «неповторимых черт», он" хочет
в неповторимом заставить узнать вечное и, в конце концов, всем
ведомое: человеческое тепло музыки. 1
С поздним репертуаром положение иное. Х о т я Рихтер, скажем, Ш е с т у ю сонату получил «из рук» автора (Прокофьев впервые играл Сонату в его, Рихтера, присутствии) 2 — в общем,
исполнительское освоение поздних прокофьевских сочинений протекало вне авторской исполнительской модели: Прокофьев их
публично не исполнял. И пианизм Рихтера инициативно и свободно развернулся на первоклассном по качеству материале.
Прокофьевская исполнительская традиция военных и послевоенных лет обязана Рихтеру очень многим ( к этому еще придется вернуться). Стоит говорить и о личных влияниях: для нас
они, например, бесспорны в отношении такого исполнителя, как
А . И. Ведерников, хотя последний занимает более «левую» поз и ц и ю — и в отношении репертуара ( и з Прокофьева — по преимуществу пьесы парижского периода)_, и в отношении пианистических средств. Интересный пример ведерниковской интерпретации — «Мысли», ор. 6 2 ; 3 это опус, чрезвычайно характерный
для парижского этапа в творчестве Прокофьева: без виртуозной
техники, весь на линеарном движении с частыми параллелизмами и незаполненным средним регистром; по содержанию —
«круговорот» музыкальной мысли, ее зарождение, расцвет и
спад; колорит — суровый и светлый, как зимний пейзаж. Ведерников играет так же сурово, он с редкой решимостью ставит себя
«по ту сторону» традиционных пианистических добродетелей.
Прежде всего, его звучность вовсе лишена вибрато — особенно
удивляют басы, лишенные гула, что позволяет Ведерникову дифференцировать звучность в двухголосии даже в контроктаве
(третья пьеса). Верхние голоса для Ведерникова не менее притягательны, чем для Рихтера: ч а с т о — т а же режущая звучность,
выводящая верхи на первый план в акустической структуре;
1 Э т о ощущение «вечных начал» музыки в известной степени перешло
к Рихтеру от Нейгауза ( о большем, сравнительно с автором, душевном
тепле Нейгауза в прокофьевском репертуаре мы упоминали). Вообще же
вопрос о «вечном» и «специфическом» относительно стиля весьма сложен,
как едва ли разрешим в нескольких словах вопрос о той мере оригинальности на эстраде, превышение которой воздвигает стену между исполнителем и аудиторией.
2 См. сб. « С . С. П р о к о ф ь е в , . . » , стр. 461. Кроме того, Прокофьев дважды исполнял Сонату по радио ( 8 апреля и 1 июня 1940 г.) и записал
ее на пластинку (Csm C R L P X 2836, вып. 1953 г. См. С 1 о u g h, F. and
С a m i n g, G. The World Encyclopaedia of Recorded M u s i c . . . 2-nd Supplement, V. 3 ) .
3 Магнитофонная запись Д К С •— 1929, 1962 г., Ленрадио.
185
вообще же, во всех трех номерах «Мыслей» мелодическая линия
слышна в каждом такте (чаще это верхний, р е ж е — н и ж н и й гол о с ) ; она выглядит колюче, иногда — звенит стеклом, наподобие
рихтеровских звучностей из финала Шестой сонаты, но она
всегда—руководящая. При этом Ведерников мелодизирует и
фигурации: например, во второй пьесе фигурация подается поп
legato, звучно, имеет свою весьма детализированную динамику
и выглядит настолько «тематично», что в момент перехода к собственно теме ни в звуковом и ни в каком другом отношении не
чувствуется шва.
Звуковая картина ведерниковского исполнения неизменна:
основное внимание — крайним регистрам, характеристики голосов вполне стабильны и, как правило, разнообразны, причем
размежевание идет не только акустическим, но и агогическим путем — вспомним Рихтера в медленной части Шестой сонаты.
О стабильности звуковой картины Ведерников позволяет себе
забыть в кадансах: только он не «чеканит» их, как часто делает
Рихтер, а, наоборот, «туманит», что вполне оправдано при общем жестком колорите исполнения (огромная роль кадансов
в драматургии прокофьевской формы и, следовательно,, надобность инициативного их показа ясны Ведерникову).
Драматургия формы — еще одна область находок пианиста
в «Мыслях». В этом отношении всего показательнее третья
пьеса. Она формально наиболее развита, и пианист тонко организует постепенный динамический рост материала, кульминацию
и репризу — «помутнение», как бы увядание тем, переданное посредством искажения звуковой картины, спутанности звуковых
характеристик»
Право же, недаром Ведерников столь охотно и успешно играет «парижского» Прокофьева. Его аппарат, его радикальные
пианистические методы настроены в резонанс с музыкой размышления, музыкой необычайной духовной элегантности, отрицающей всякий эффект. Подлинной художественной свободой
отмечено недавнее достижение пианиста в прокофьевском репертуаре: первое в С С С Р исполнение Четвертого концерта ор. 53
(сентябрь 1959 г.).
> С «парижским» сочинением утвердила себя в истории прокофьевских интерпретаций и в истории советского пианизма
40-х годов выдающаяся пианистка М . И. Гринберг. «В 1944 году
в Малом зале консерватории пианистка Мария Гринберг,
к большой радости Сергея Сергеевича, сыграла давно не исполнявшуюся Пятую сонату для фортепиано. Прослушав ее, Сергей
Сергеевич спросил сидевшего впереди Николая Яковлевича М я с ковского, очень ли соната «фальшивая». Николай Яковлевич ответил, что „ с нее сошла вся скарлатина"». 1
1 М.
Мендельсон-Прокофьева.
О Сергее
кофьеве.— С б . « С . С . П р о к о ф ь е в . . . » , стр. 3 8 1 — 3 8 2 ,
186
Сергеевиче
Про-
Высокая похвала исполнительнице! Ведь второй редакции
Сонаты в 1944 году еще не существовало, и прояснению образного своего строя, эмоциональной своей общительностью (как
же иначе понимать слова о «сошедшей скарлатине»?) произведение обязано только интерпретатору. Между тем Пятая соната —
одно из самых «необщительных» прокофьевских сочинений: и
по интонациям, слабо связанным со слуховым опытом современной аудитории, и по изложению, чуждающемуся «прямой речи»,
эстрадно-яркого «выхода в зал». 1 Тем более симпатична инициатива Гринберг, давшая Сонате новую жизнь на эстраде. Тем
более интересна картина творческого контакта пианистки с С о натой.
Основополагающий момент: « . . .Ценность произведения заключается не в том, что х о т е л . . . сказать сам композитор, а в том,
что может дать это произведение современному слушателю.
Я выбираю такие произведения... которые м о г у т . . . звучать посовременному». 2 Замысел интерпретации: Соната, написанная
' в 1923 году, может современно звучать перед советской аудиторией военных лет, только будучи действенной, лиричной, эмоционально приподнятой. 3 Наконец — средства воплощения. С о ната начинается у Гринберг более подвижно, чем можно было
бы предположить по ремарке Allegro tranquillo,— и агогически
свободно; музыка главной партии приобретает все черты импульсивной лирики (добавим, что рисунок гармонического движения приносится в жертву верхнему голосу). Педаль полнокровна, фразировка едва ли «песенна» — короткая, энергичная,
с динамическими спадами на нисходящем движении. В связующей теме педаль представляется даже «загущенной» — возможно, ввиду низкого регистра. Во всяком случае, дальнейшее
изложение (побочная партия) по регистровому и педальному
контрасту кажется необычайно прозрачным, звонким; фон ритмически весьма «упорист» (маркирована сильная доля). Т у т
Гринберг являет аудитории характерно-мужественный свой облик, она не рассказывает, она убеждает. Речитатив заключитель1 Вторая редакция, исполняемая ныне Гринберг, сделала Сонату более
«эстрадной», более доходчивой, но никоим образом не избавила исполнителей от необходимости искать «пути в зал» для этого сочинения.
2 Слова
М . И. Гринберг. Цит. по статье А . Вицинского
«Психологический анализ процесса работы пианиста-исполнителя над музыкальным
произведением».— «Известия
Академии
педагогических наук
РСФСР»,
вып. 25. М . , 1950, стр. 197.
3 З д е с ь , как и в ряде других случаев, мы оставляем в стороне вопросы
эволюции самого исполнителя. Для Гринберг интерпретация Пятой сонаты
в 1944 г. едва ли не оказалась вехой на пути от игры, по выражению
Д . А . Рабиновича, «антиромантической» ( в кн. «Портреты пианистов»,
стр. 2 0 6 ) к душевно, щедрому, эмоционально свободному исполнительству
послевоенных лет. Н е удивительно, что позднейшие выступления с Пятой
сонатой, в том числе анализируемое (магнитофонная запись Д К С — 1033,
1961 г., Ленрадио), были с точки зрения «эмоционального раскрытия» еще
более яркими.
187
ной партии звучит мягче, за исключением одной весьма существенной в дальнейшем интонации (такт 3 темы), поданной
«тычком».
Разработка вся учащенно пульсирует. О б о р о т главной темы
каждый раз внезапен: marcato разрушает целостность звучания.
Широкие интервалы кое-где судорожно арпеджируются, в изложении побочной темы неожиданно подчеркнут бас. Материал
заключительной партии дан очень резко: будто кулаком выбиты
аккорды, звучность пронзительная, беспедальная. З а т о в кульминации — никакого маркато, это единый порыв, великолепный
романтический Aufschwung! Педаль сжала голоса в нерасторжимое акустическое целое, вздыбленное, к тому же, в мощном агогическом рывке. И, конечно, резкий контраст — реприза. Здесь
то «громовое piano», которое в силу внезапности своей способно
поразить больше всякого sforzando. Колорит устанавливается
светлый: агогика ровнее, интонация из заключительной партии,
резко звучавшая в экспозиции и «кулаком выбитая» в разработке, здесь кажется элегической, побочная тема затуманена педалью. Все кадансы даны как бы на агогическом и динамическом
«выдохе», и это округляет фразировочный контур игры.
I часть — импульсивная лирика, героика, действие! А II —
настоящая лирическая импровизация. «Как,— спросит знающий
Сонату,— при жестком ритмическом остинато?» Н о дело в том,
что Гринберг на всем протяжении Andantino так и не решает,
что ей делать с остинатными басами. Она их то прячет,
то дает остро, т о сближает по звуку с мелодической линией.
При такой переменчивости красок басы, понятно, теряют «неумолимость». А верхние голоса еще переменчивее. Они зачастую
даже в пределах одной фразы обмениваются своими функциями
в звуковой структуре (такты 30—34, где второй голос, не дожидаясь окончания фразы верхним голосом, из аккомпанирующего
становится ведущим); в средней части верхние голоса у Гринберг сначала как бы слушают бас, а затем начинают звучать
совершенно автономно, будучи динамически приравнены к басу.
Нет единообразия и в штрихах — например, тему среднего раздела пианистка при первом показе ведет legato, а в конце Andantino ту же тему — поп legato. В целом, повторяем, создается впечатление импровизации и уж, во всяком случае, Гринберг лишает музыку всякой застылости, наполняет ее живым чувством.
В финале распределение «психологических красок» то же, что
в I части: главная партия — импульсивна, порывиста (и это тем
более показательно, что она состоит из разнородных ритмо-интонационных
элементов — Гринберг
усилием
исполнительской
воли собирает тему воедино в агогическом и динамическом отношениях), побочная же — чуть жестковата. Все связки густы
по педали, гулки, несколько аморфны — словно среда, из которой рождается ясная, завершенная мелодическая структура.
188
Очень выразителен раЗработочный раздел — Вот уЖ где
стоит говорить о «сошедшей скарлатине»! Он захватывающе
свободен — по движению, по нюансам, по фразировке. Замечательны по экспрессии своей ходы на большие интервалы в разработке побочной темы: каждый раз получаешь почти физическое ощущение «замаха». И рядом — маркируемые аккорды.
Горизонталь противопоставляется вертикали — еще один выразительный ресурс! В репризе колорит мягче (снова — по образцу
I части); намного весомее и — вместе — лиричней звучит побочная тема: агогически расцвеченная, наделенная разными штрихами, она становится центральным моментом трактовки. А резко
диссонирующее изложение главной темы Гринберг подает с большим артистическим тактом: не выпячивает то, что заметно
каждому (колористическую роль вертикали, «ударную» манеру изложения), а стремится создать стройную, уравновешенную звуковую картину — прячет басы, осторожно педализирует.
Удивительно горяча, «эмоционально открыта» кода. Здесь
будто вовсе забыто о полифонической фактуре: густая педаль,
приверженность к одному лишь интонационному тезису в верхнем голосе; музыка движется без единой оттяжки, и заключительный каданс тоже словно увлекаем этим движением — предписанной Прокофьевым смены темпа не происходит, форма замыкается «на выдохе».
Пятая соната толкуется как произведение темпераментное,
лиричное, даже, мы бы сказали, сочное в своих тонах, в своем
мажорном колорите. При таком отношении к парижскому Прокофьеву кое-что из специфических черт последнего (пусть «несовременных») от Гринберг ускользает, и в этом плане, скажем,
Ведерников в подобном репертуаре 1 более точен: суховатая, расчлененная звучность, стойкость красок — и эмоций, прочерченность верхних голосов. Н о у Гринберг больше «стихийного»,
игра масштабнее, прямодушнее — и это оказывается решающим
достоинством. Пятая соната Прокофьева открывает свою сердечность, свою романтическую оживленность (имеем в виду и способность общения с широкой аудиторией), а что касается, допустим, II части, то она у Гринберг просто рождается заново:
никакого шаржирования, вместо него — сумеречные мечтания.
(Вспоминается Рихтер — все в Прокофьеве «от первого лица»,
без каких бы то ни было условностей).
Очень сильная сторона Гринберг в прокофьевском репертуаре — драматургия. Интереснейшие «режиссерские» решения
формы! Они и в Пятой сонате обращают на себя внимание,
но вот редкий по обнаженности драматургического замысла
1 Ведерниковым, кстати, была впервые исполнена вторая редакция Пя
той сонаты (февраль 1954 г.).
189
образец: Скерцо (ор. 12 № 10). 1 Гринберг ДеЛит егб как бы на
две части: начальный и средний э п и з о д ы — и реприза. В первых
эпизодах все сглажено: интонационные акценты, определяющие,
по сути, и мелодический, и ритмический, и артикуляционный
облик Скерцо, почти что сняты; фразировка автора, ведущая
к специфической «упористости» движения (короткие лиги, отчленяющие мотив от мотива), как будто совсем не принята во
внимание. Н о начинается реприза, и там прокофьевские идеи
доводятся чуть не до гипертрофированного вида: резкие акценты,
то и дело «переламывающие» метро-ритм, лигатура, дробящая
движение,
конденсирующая
интонационную
напряженность.
Впечатление «заупрямившейся» музыки сильно настолько, будто
возникает от зримого явления. Э т о — юмор, желанный автору и
в изобилии рожденный композиционным решением пианистки.
Говоря об одних чертах — хотя и самых характерных — мы
остаемся в долгу перед другими, а говоря о вехах в истории интерпретации Прокофьева, поставленных тем или иным пианистом, мы не касаемся прокофьевского репертуара последнего во
всем объеме. Это неизбежно в рамках статьи, но зачастую лишает права обобщать, а иногда может привести к отождествлению внешней значимости события (первое, исполнение произведения и т. д . ) с его, так сказать, качественной значимостью.
В одних случаях отождествление возможно, в других — нужно
быть осмотрительным. К этим «другим» мы отнесли бы, например, исполнение прокофьевской Восьмой сонаты маститым нашим прокофьевистом Э. Г. Гилельсом.
Проходить мимо премьеры крупнейшего фортепианного сочинения Прокофьева, конечно, нельзя. 2 Н о здесь нужно сделать
то, чего мы не делали раньше: резко отделить позднейшую запись Сонаты 3 от «исторического образа» первого исполнения.
Гилельс 60-х годов в ряде черт совсем иной, чем Гилельс 40-х
годов! Упорно поворачивает он в сторону лирики, в сторону
интимного музицирования и при этом все дальше уходит от
«дионисийского» начала в сторону «аполлонического», если воспользоваться не новыми, но благодарными определениями. Стихийного в игре . меньше, она мягче, элегантнее — и она — да
позволено будет сказать — не столь простодушна, не столь бесхитростна, сколь была ранее, восхитительная в своей «изначальности»! Это з а к о н о м е р н о : и некоторая доля академизма,
и, с другой стороны, более изысканная манера исполнения;
это — э т а п ( « . . . Г и л е л ь с и сегодня находится „ в п у т и " » 4 ) .
Запись 1953 г. Фонотека Всесоюзного радио.
Гилельс первым играл сонату 30 декабря 1944 г. В Ленинграде она
была впервые исполнена Н . Е. Перельманом ( 9 мая 1947 г.). Вскоре после
этого Восьмую сонату включил в свой репертуар П. А . Серебряков.
3 Запись 1962 г. Фонотека Московской консерватории.
4 Д. Р а б и н о в и ч .
Портреты пианистов, стр. 192.
1
2
190
Еще важнее другое. Первое исполнение Сонаты произвело
очень большое впечатление,1 но, на наш взгляд, Восьмая соната
не была — и не могла быть — произведением, легким для Гилельса. В чем мы усматриваем трудности, усугубленные, думается, последующей эволюцией пианиста? Прежде всего в инструментальном характере мелодизма Восьмой сонаты, равно как
и речевой природе отдельных тем; и то, и другое не слишком
близко Гилельсу, любящему вокализированную кантилену ( в о
всяком случае, в Восьмой сонате 1962 года бархатная, «ариозная» звучность 2 безраздельно царит в самых «неблагополучных», самых парадоксальных по интервалике линиях). Далее.
Восьмой сонате в огромной мере присуща, если можно так выразиться, «процессуальность»: напряженное становление формы
во времени и столь же напряженное завоевывание звукового
пространства (разумеем изменчивость диапазона одновременного
звучания). Развитие формы в Восьмой сонате и ее сложная полифоническая структура требуют от исполнителя необычайной
чуткости к вопросам, так сказать, музыкального, «звукового»
времени: дело не столько в темпах, сколько в ощущении временной весомости звука, весомости каждого мига музыки. Текучая
манера интонирования, единая мера движения, приверженность
к сочленяющей динамике здесь вредят, а между тем все это как
раз характерно для исполнительского облика Гилельса. 3
Сказанное, как нетрудно догадаться, способно определенным
образом окрасить весь наш анализ гилельсовского исполнения
Восьмой сонаты; во избежание повторений, ограничимся несколькими деталями.
В главной партии I части единообразный штрих: насыщенное legato; одно проведение темы от другого разнится динамически (второй показ резче). Многоголосные куски интонируются
на густой педали, без особого разнообразия звуковых характеристик: колорит мягкий, «обволакивающий», но, право же, о
жгучей экспрессии мелодического рисунка остается лишь предполагать. . . В побочной теме шестнадцатые не слишком ли коротки? Музыка здесь как раз подается в сугубо инструментальной
манере, колко, агогически сжато, что вполне оправдано в системе
гилельсовской трактовки («вокальность» главной темы — «инст1 См. кн.: И . Н е с т ь е в. Прокофьев (стр. 3 6 9 ) ; воспоминания Д . Б. К а балевского и С. Т . Рихтера о Прокофьеве ( с б . «С. С. Прокофьев.. .»,
стр. 412, 4 6 6 ) и др.
2 Д . А . Рабинович пишет о Гилельсе: « Е г о кантилена не «ариозна». . . »
(Портреты пианистов, стр. 1 6 9 ) , с чем мы позволяем себе решительно
не согласиться.
3 М ы вовсе не хотим преуменьшить такое неоспоримое достоинство гилельсовской игры, как цельность. Речь идет о процессуальное™ как «диалектике цельности», как о напряженном становлении элементов внутри целого. Дать ощутить это напряжение «внутри цельности» не всегда удается
Гилельсу: его сфера.— «физика» музыки, а не «химия» ее!
191
румектальность» побочной), но, думается нам, эта трактовка
стороной обходит предпосылки текста (они, скорее, за инструментальность начала и р е ч и т а т и в н о с т ь побочной темы).
Фигурации в экспозиции почти все щедро запедализированы — их интонационная ценность для Гилельса, видимо, невелика; он с готовностью прячет их при появлении любого оборота любой из тем. В наибольшей степени сказанное относится
к разработке: всюду — подавление тематизмом иных структурных элементов
(фигурации,
контрапунктирующих
голосов
и т. д . ) , а такое решение, такая направленность на о т с т о я в ш е е с я — против процессуальности, которая составляет смысл
разработки в I части Сонаты. Весь этот раздел у Гилельса текуч, весь на широких агогических и динамических единствах и
легатном штрихе (характерно, что даже штрих f в маршеобразном gis-тоП'ном эпизоде воспринимается как гипертрофированное legato), поэтому трудно говорить о соразмерности предложений, фраз, мотивов внутри целого, и сразу несколько мест могут
претендовать на то, чтобы в анализе быть названными «вершинной точкой» (переход к разработке побочной темы, начало эпизода Andante и т. д . ) .
Великолепен по колориту предрепризный эпизод — там, где
«quasi timpani»: почти беспедальная звучность, жесткая, тревожная. Diminuendo — и началась реприза, однако в том же звуковом ключе, что и последний такт разработки. Приметная деталь. Грани формы не оказываются у Гилельса гранями новых
звуковых плоскостей: первые такты следующего раздела хранят след предыдущего. Это, безусловно, «цельность», но в I части Восьмой сонаты она как бы затушевывает огромный труд
композитора по расчленению формы, огромные душевные усилия во всхождении на новую ступень формы как процесса. Т о
же и в репризе, то же и в коде; они движутся слишком легко,
слишком пианистически «покато», хотя, скажем, в коде колорит
сгущен — за счет щедрой педали и слитного звучания голосов.
«Наибольшее впечатление в его трактовке произвели. . . экспозиция I части и чарующий менуэу — последний, в сущности,
стал идейным центром цикла»,— пишет биограф Гилельса о первом исполнении Восьмой сонаты. 1 Нам представляется, что мен у э т — II часть Сонаты — оказался центральным моментом интерпретации не столько оттого, что он нес большой идейный
груз, сколько оттого, что по настроению и языку был Гилельсу
ближе всего в произведении (эволюция в сторону «лирической
манеры» — если иметь в виду анализируемую запись — сомкнула пианиста с этой музыкой еще теснее).
1
192
С. Х е н т о в а .
Эмиль Гилельс. М у з г и з , М., 1959, стр. 91.
Менуэт нежен, слегка элегичен и исполнен вместе с тем воистину олимпийской грации и достоинства. 1 Д о конца «аполлоническая» страница — и Гилельс здесь абсолютно убедителен.
К кантабильной теме он дает нонлегатный аккордовый фон, на
редкость выразительный в своем изяществе; гармонические комплексы звучат у него расчлененно, ясно. Гуще других — F-dur'Hbifi
эпизод: реже сменяется педаль, больше сходства в динамических
характеристиках отдельных голосов. А-то11'ный раздел — снова
«облегчение» звучности; удивительно тонко строит Гилельс канон на материале главной темы: ритм аккомпанемента противится трехдольному метру (почти
невесомый—достаточный,
однако! — акцент на слабую д о л ю ) . В сущности, пианист здесь
тот же, что и в других частях, с той же мерой инициативы —
но она тут идеально соразмерна материалу.
Когда же в первой теме финала басы столь же легки, сколь
в начале менуэта,— они кажутся уже не в характере материала,
упругого, жестковатого, их уже не хватает. . . У Гилельса в финале блестящий ритм, но звуковая картина, на наш взгляд, скомпонована не всегда логично, порой она однообразна. Кое-где это
даже хорошо. При подходе ко второму проведению побочной
темы Гилельс всю фигурацию играет ярким, опертым звуком,
отчего она выглядит очень значительно, «тематично» и увеличивает протяженность мелодической линии. Н о вот примеры звуковой конструкции, не до конца убеждающей: переход к среднему эпизоду (шесть тактов до Allegro ben marcato) идет ровным forte, отчего он — й это не должно удивлять — кажется
незначительным, утаивающим свою сложную интонационную
жизнь; в центральном эпизоде средней части (после первого
precipitato) неточно подается линия басов: неакцентированные
первые доли (четверти) скрадываются, и левая рука, имеющая —
по тексту — свой ритм, выглядит совершенным подобием правой.
Особенно хотелось бы поспорить с исполнением эпизода
Andantino. Н е говоря уже о том, что при переходе к этому эпизоду двухголосие в басу звучит суммарно, теряет линейный контур, сам эпизод построен, мы бы сказали, слишком по-пианистически «обычно». Царит верхний голос — а ведь в нижнем напряженное интонационное развитие ( о с ь его — тритон), и уж если
не выдвигать этот голос динамически (приоритет верхов, в конце
концов, в Прокофьеве решение вполне «стильное»), то какието иные пути прокофьевским текстом ни в коем случае не были
«заказаны». В заключении — довольно большое ritardando ( о т сутствующее у автора); позволим себе заметить, что и оно выглядит здесь несколько «традиционно».
1 А
ведь родился он как картина сельских удовольствий: эпизод ларинского бала из музыки к спектаклю «Евгений Онегин» ( о р . 7 1 ) . В С о нате материал менуэта обогатился одной лишь а-то1Гной темой.
Баренбойм
193
Кода превосходна в своей колокольности, в почти физически
ощутимой тяжести, «телесности» звука. Все великие достоинства гилельсовского пианизма сошлись здесь: ритм, блеск крупной техники, фантастическая точность попаданий в скачках; без
конца можно говорить о звуке. Сошлись, чтобы вызвать радостный отклик ума и сердца аудитории.
В целом Соната получилась лиричной, полнокровной, цельной. Она получилась красивой — противиться обаянию гилельсовского звука невозможно. Н о , повторяем, некоторые органические противоречия между текстом и манерой исполнения сделали
свое дело: Гилельс сузил перспективы воздействия прокофьевской музыки, оставив кое-что из текста в предпосылках. . . 1
Только в Восьмой сонате, однако! Третий концерт, Третья
соната, Токката нашли в интерпретации Гилельса абсолютное
выражение своего духа — всепроникающей бодрости, подъема на
едином дыхании, лиризма (причем как состояния, 2 как краски,
а не как конфликтного начала). Тесно связанными с текстом
оказались все ранее отмеченные черты исполнительской индивидуальности Гилельса — и потребность в широких построениях,
и трактовка динамики, фразировки, главным образом как
средств «спайки» музыкального материала, и т. д. Органичному вхождению в музыку Гилельс обязан выдающимся успехом этих своих прокофьевских работ — успехом, хорошо известным!
Уходя вперед от довоенного и военного периодов в истории
советских интерпретаций Прокофьева, мы оставляем «непрозвучавшими» целый ряд фактов ее: скажем, игру Зака — да и многих других пианистов. «Нельзя объять необъятного»; утешает
лишь то, что вина наша — перед отдельными пианистами (особенно перед Заком, совершившим поистине геркулесовы подвиги
в деле пропаганды фортепианного Прокофьева 3 ), но не перед
направлением, ибо творчество «непрозвучавших» здесь целиком принадлежит единой советской традиции прокофьевских интерпретаций, а она ясно вырисовывается в игре тех, о ком мы
писали.
Эту традицию можно было бы определить как н е п р е д в з я т о с т ь и к о н ц е п ц и о н н о с т ь . Под первым мы имеем
в виду ту искренность выражения, то вйдение в Прокофьеве
1 Впрочем, Гилельс вовсе не считает работу над Восьмой сонатой
законченной — он ясно видит возможности более совершенной интерпретации
произведения (см. С. X е н т с> в а. Эмиль Гилельс, стр. 1 4 2 ) .
2 « Э т о тот сдержанный прокофьевский лиризм, который когда-то удачно охарактеризовал Б. Яворский: „...лирическое состояние"» ( И . Н е с т ь е в.
Сонатная триада. «Советское искусство», 15 марта 1945 г.).
3 2 8 мая 1946 г. З а к с оркестром под управлением Кондрашина сыграл
Первый, Второй и Третий концерты Прокофьева; 8 июня 1947 г. в Малом
зале М о с к о в с к о й консерватории он исполнял В т о р у ю , Т р е т ь ю , Четвертую,
Ш е с т у ю и (на б и с ) Седьмую прокофьевские сонаты.
194
вечных начал музыки, о которых немало говорилось в статье
в связи с Рихтером, а могло бы говориться и в связи с другими
исполнителями; от непредвзятости—и демократизм и свежесть
чувств.
Демократизм — характерная черта советского исполнительства. Концепционность — н е менее. Она — в стремлении увидеть
схватку идей, увидеть жизнь мысли, одним словом, сообщить
искусству познавательную ценность: Прокофьев, ^особенно поздний, богат идейной, проблематической новизной, и ведущие исполнители смело делают принципиальные выводы из предпосылок текста: они видят в фортепианных сочинениях отсвет истории, отголосок общественных коллизий. И они не боятся решать
инструментального Прокофьева эпично — и программно, в тесных сплетениях с его монументальными зрелищными композициями. Поздний Прокофьев — народ, война, горе и доблесть,
победа. А ранний Прокофьев — это концепция «молодых сил»,
концепция созидающей, позитивной воли, и она также исполнена глубокого историзма.
Непредвзятость
и концепционность — собственно
говоря,
эти приметы отличают подход советского исполнительства к любому автору. Прокофьев острой х а р а к т е р н о с т ь ю поставил
преграды на пути к сердцу своей музыки (мы отмечали э т о ) ,
и замечательная заслуга лучших наших мастеров в том, что они
сквозь особенности стиля увидели это сердце — горячее, настроенное в унисон со всеми. Рихтеровское пианистическое поколение сблизило Прокофьева с массой слушателей, вложило
прокофьевский репертуар в руки рядовых музыкантов и способствовало непревзойденной популярности композитора в музыкальном обиходе нашей страны.
50-е годы показательны в этом отношении. Крупные исполнители продолжают выступать, но основное содержание нескольких лет составляет приобщение к прокофьевскому репертуару
нашей музыкальной молодежи. Она многочисленна настолько,
что для уяснения себе каких-либо тенденций в истолковании ею
фортепианного Прокофьева должно, видимо, обратиться к «статистическим методам», не оглядываясь на яркие единицы, если
они и существуют.
О б одной из тенденций — преувеличенном «скифстве» — мы
говорили раньше. Другая тенденция — это, пожалуй, романтизм.
Вновь — импульсивная, агогически подвижная игра с довольно
густой педалью,
насыщенным, слитным звучанием, главное
же — темпераментно осуществляемое личное начало, нервная
пульсация «субъективного». Может быть, субъективизм в исполнении прокофьевской музыки выглядит в чем-то старомодно —
сейчас, когда мера эпического в ней найдена, но этот субъективизм, это личное опровергают слишком уж категоричные суждения иных критиков о «бездуховности» пианистической смены!
195
Именно так, как голос русской романтики, воспринимается, скажем, Третья соната Прокофьева у Рудольфа Керера. 1 Возможно,
по прошествии стольких лет, отделяющих Керера от прокофьевских интерпретаций 20.-х годов, хотелось бы большей расчлененности звучания, большей контрастности в штрихах и т. д., но
в целом Соната оказалась очень дорога своей эмоциональной
подлинностью, возвышенным в наивности своей «максимализмом» исполнительских решений.
Наконец, еще одна тенденция — лирическая, точнее, «лиризирующая», по примеру гилельсовской интерпретации Восьмой
сонаты или — из ранних образцов — исполнения Обориным
Третьего концерта. Тенденции этой следуют иные молодые пианисты с выдающимися виртуозными данными. Понятая опасность «виртуозничества» толкает к поискам противоядия в некоем «благородном тоне» интерпретации (кантабильная звуч,ность, избегание резких контрастов в динамике, агогике и т. д . ) ;
абстрактно понимаемый, тон этот ведет к лирической умеренности и, действительно,— если иметь в виду молодых — к какому-то замораживанию личного начала в творчестве. И грустно
слышать у молодых музыкантов «изложение» Прокофьева —
красивым з в у к о м ! — в м е с т о выражения духа его, пусть менее
добродетельным образом.
Жизнь прокофьевской музыки продолжается, и работа наша
должна, по всей вероятности, заканчиваться символическим многоточием. Н о перед этим вернемся к одной мысли: перед любым исполнителем, входящим в новый для него мир ( в данном
случае — мир фортепианного Прокофьева), во весь рост встает
проблема исторического опыта (имеем в виду не столько утилитарное «на ошибках учимся», сколько способность увидеть изменчивость социального резонанса самой музыки и ее интерпретаций, историческую объяснимость всего многообразия трактовок, способность увидеть разную меру приближения их к стилю
и духу автора, оценить их эстетический вес). Исторический
опыт помогает занять органичную позицию по отношению к автору и учит постигать колорит времени как важное звено исполнительского творчества (в широком понимании — решающее!). Вся история поисков «стильной игры» может, в конце
концов, кое-что дать и в утилитарном отношении. И, наконец,
исторический опыт позволяет зорче увидеть общие проблемы:
композитор и исполнитель или — не менее важно — эволюция
исполнительства как большого культурного явления.
' Запись
1961 г. Фонотека Всесоюзного
радио.
Ю.
Рубаненко
ОБ А В Т О Р С К О М
ПРЕЛЮДИЙ И
ИСПОЛНЕНИИ
ФУГ
ШОСТАКОВИЧА
прелюдии и фуги были написаны Д. Ш о с т а ковичем в 1950—1951 годах под впечатлением
поездки на Баховские юбилейные
торжества
в
Лейпциг.
В 1952 году вышло их первое полное издание. С тех пор за
сравнительно короткий срок они получили широчайшее распространение. Прелюдии и фуги Шостаковича заняли прочное место в педагогическом и концертном репертуаре пианистов всех
стран. 1 Появились музыковедческие работы, посвященные этому
сборнику.
Несомненно, исполнение прелюдий и фуг Шостаковича выдающимися советскими пианистами заслуживает специального
внимания и изучения. Однако так же несомненно, что, сколько
бы музыкантов ни обращалось к трактовке этого сборника,
единственной в своем роде, неповторимой и потому заслуживающей особого внимания навсегда останется авторская интерпретация.
1 И з имеющихся
в настоящее время граммофонных и магнитофонных
записей прелюдий и фуг Шостаковича упомянем важнейшие: все Прелюдии
и Ф у г и в исполнении Т . Николаевой (Всесоюзная студия грамзаписи,
Д 0 9 4 7 7 — 8 4 ) , Прелюдии и Ф у г и Д о мажор, Ре мажор и ре минор
в исполнении Э. Гилельса (Всесоюзная студия грамзаписи, Н Д 0 2 8 2 8 — 2 9 ) ,
Прелюдии и Ф у г и Д о мажор, Л я мажор, фа-диез минор и Ре-бемоль маж о р — М . Гринберг (Всесоюзная студия грамзаписи Д 0 9 9 1 9 — 2 0 ) , Прелюдии и Ф у г и ля минор, Соль мажор, ми минор, си минор, Л я мажор,
соль-диез минор, ми-бемоль минор, Ре-бемоль мажор, Ля-бемоль мажор,
фа минор, Ф а мажор — С. Рихтера (Supraphon, L P M 2 2 8 — Прелюдии и
Ф у г и № № 2, 3 , 6 , 7, 18 — и Всесоюзная студия грамзаписи, Д 0 3 5 4 1 — 4 2 —
Прелюдии и Ф у г и № № 4, 12, 14, 15, 17, 2 3 ) , Прелюдии и Ф у г и ми минор
и Соль мажор в исполнении В. Софроницкого (записи хранятся в музее
А . Н . Скрябина).
197
В авторском исполнении существуют записи 16 циклов прелюдий и фуг: Д о мажор, ля минор, Соль мажор, ми минор, Ре
мажор, си минор, Ля мажор, фа-диез минор, соль-диез минор,
Фа-диез мажор, ми-бемоль минор, си-бемоль минор, до минор,
соль минор, Ф а мажор, ре минор
Этим произведениям в исполнении Шостаковича и посвящены настоящие заметки, не претендующие на исчерпывающий
анализ.
1
Часто относят того или другого исполнителя к числу «классиков» или «романтиков». Такое деление в достаточной степени
условно, но, так или иначе, оно получило весьма широкое распространение. Отдавая себе в этом отчет или не отдавая, понятия «исполнитель-классик» или «исполнитель-романтик» обычно
связывают с характером художественного мышления: когда речь
идет о «классике», имеют в виду примат разума над чувством;
когда говорят о «романтике»" подразумевают примат эмоционального над рациональным. В таком условном смысле и мы
пользуемся в дальнейшем этой терминологией.
Однако термины эти ничего не говорят о том «роде и виде»
искусства, к которому тяготеет художник, а потому нуждаются
в дальнейшей конкретизации, когда речь заходит об определенном произведении исполнительского искусства. Вот тут-то и напрашивается аналогия с разделением литературы на эпическую,
лирическую и драматическую. И б о если воспользоваться им применительно к артисту, можно получить представление о принципе исполнительского решения.
Если подойти с такой точки зрения к интерпретации, скажем, Фуги Д о мажор Шостаковича автором, с одной стороны,
и Э. Гилельсом — с другой, сразу станет понятным расхождение в характере произнесения, в темпе и т. д. Оба пианиста
находятся в русле искусства «классического» типа. Однако Гилельс, подчеркивая лирическое начало в музыке, играет ее насквозь песенно и текуче, в весьма медленном темпе. У Шостаковича же в исполнении Фуги «на первом плане типичные черты
т е м ы фуги как таковой, сама обобщенность претворений разных жанровых свойств». 2 Т о есть у Шостаковича проявляется
1 Н а пластинку записаны Прелюдии и Ф у г и № №
2, 3, 5, 6, 7, 16,
20 и 23 (Всесоюзная студия грамзаписи, Д 0 6 4 5 9 — 6 0 ) ;
остальные —
в магнитофонных записях — имеются во Всесоюзном доме звукозаписи,
в фонотеке Дома композиторов С С С Р и в фонотеке Ленинградской консерватории.
2 Л. М а з е л ь . О
фуге Д о мажор Шостаковича.— С б . «Черты стиля
Д. Шостаковича». «Советский композитор», М., 1962, стр. 338 (разрядка
наша.— Ю.
Р.).
198
объективность подхода, свойственная интерпретаторам эпического склада.
Л ю б о п ы т н о , что исполнение этой же фуги М . Гринберг
( т о ж е в «классическом» д у х е ) , несмотря на то что она играет
в темпе более быстром, чем Гилельс, оказывается монументально-статуарным благодаря торжественности произнесения. И гилельсовская, и гринберговская трактовки, по сравнению с авторской, более однозначны: один акцентирует песенное начало, другая — ораторски-речевое, тогда как в авторском исполнении
с его обобщенным характером интонирования сочетаются и песенная текучесть, и интеллектуальная значительность.
Черты эпического, высокообобщенного мироощущения, проявляющиеся в образном "строе многих прелюдий и фуг, составляют существенную особенность также и авторской их интерпретации. Внутренний смысл бесконечной жизнестойкости и
упорства, которым проникнуто полифоническое развитие цикла
си-бемоль минор, 1 составляет и основу его авторского исполнения. Шостакович-интерпретатор воплощает эту музыку с беспредельным эпическим спокойствием, в интонациях, поражающих этической чистотой.
Близость к народному постижению трагического ощущается
в характере исполнения Шостаковичем
ми-бемоль-минорного
цикла, полном гармонической уравновешенности, строгости, целомудренной глубины и серьезности в духе древнерусского з о д чества и живописи.
Х а р а к т е р пианизма Шостаковича в трактовке Прелюдии
ми-бемоль минор способствует созданию образа, словно вычеканенного из металла для колоколов. Исполнение передает трев о ж н у ю атмосферу музыки, экспрессивность ее колорита.
Сам склад Прелюдии несет в себе образное обобщение большого масштаба — вокально-речевые интонации и как бы подтекст их в стихии набатного гула. В авторской интерпретации
э т о воплощается в точно найденном соотношении между мелодией и тремолирующими органными пунктами. Органный пункт,
первая нота которого акцентирована, почти перестает восприниматься как нечто отдельное от мелодии, неуловимо окрашивая
ее, влияя на ее тембровый облик.
В светлом, печальном настроении Ф у г и чувствуется скорбь
о невосполнимых утратах. Интерпретации Ф у г и присущи сдержанность, недоговоренность и в то же время — настойчивость
выявления ритмического пульса (акценты на сильных д о л я х ) .
В авторском исполнении ритмо-интонации темы и весь характер
ее движения проникнуты какой-то печальной поспешностью.
1 Импровизационное
по характеру развитие Прелюдии опирается на
«упорный» бас, неизменную гармоническую основу; в сосредоточенной,
строго логичной Ф у г е — сама тема импровизационного склада.
199
Эта Фуга близка страницам «реквиемного» характера в творчестве Шостаковича. Такого рода музыка у него о б ы ч н о — и
ми-бемоль-минорная Фуга не составляет исключения — получает особый образный смысл, следуя непосредственно после
зоны высшего кульминационного напряжения. Глубоко русская
по интонационному облику (черта, присущая у Шостаковича
пьесам реквиемного характера), Фуга имеет значение некоего
«последействия» по отношению к Прелюдии. В1 целом в игре
Шостаковича возникает рельефное образное единство цикла эпического характера.
Шостаковича-исполнителя хочется уподобить
рассказчику.
Его манере повествования свойственно совершенное отсутствие
чего бы То ни было внешнего, возбуждающего внимание слушателя эффектностью исполнения. Чужда Шостаковичу возможность «персонифицировать» образное содержание музыки, «театрализовать» ее. В интерпретациях Шостаковича ощущается
стремление честно представить музыку такой, как она есть, представить ее для «созерцания» слуху.
Очевидно, в этих свойствах игры Шостаковича и коренится
причина высказываемых иногда по его адресу упреков в сухости,
«деловитости» и даже невыразительности исполнения. Деловитость в исполнительской манере Шостаковича, конечно, есть —
в полнейшей ясности мысли, излагаемой без каких бы то ни
было особых ораторских приемов, словно в доверительном разговоре с достойным и чутким собеседником. З а сухость же и невыразительность принимают по большей части интеллектуальную насыщенность и простоту, полное пренебрежение всеми
внешними атрибутами артистизма. В этой-то простоте и ясности,
в словно бы полнейшем нежелании нарочито воздействовать на
фантазию и мнение слушателя кроются необычайная скромность
и абсолютное отречение от естественного художнического эготизма, глубокое уважение к эстетическому опыту и интеллекту
слушателя.
Шостакович-рассказчик передает музыку как- объективную
данность, подобно тому, как летописец передает события. В авторском исполнении, поражающем идеальным чувством формы,
не замечаешь, как эта форма «строится». Музыка словно проходит заранее предустановленный ей путь развития, нигде не
забегая вперед, не предвосхищая развязки и не отвлекаясь
в сторону от своего пути.
Здесь, быть может, сказывается особенность положения музыканта, совмещающего в одном лице автора и исполнителя:
как композитор он может «забыть» переживания, испытанные
им при сочинении музыки, и играть ее как будто бесстрастно.
Н о , играя, он восстанавливает однажды уже пройденный ход
своей композиторской мысли и потому владеет чем-то большим,
нежели другие исполнители.
200
Отсюда и возникает сочетание мудрости и непринужденности, с которыми автор раскрывает внутренний мир своей
музыки.
2
Т о , о ч е м рассказывает игра Шостаковича, так же свободно от внешней занимательности и раскраски, как и его манера рассказывать. При этом авторское исполнение обнажает
перед слушателем сокровенное качество его музыки — воплощение мыслительных процессов. Музыка, как искусство временное,
вообще тяготеет к выражению внутренней сущности жизненных
процессов, как эта сущность «осязается» человеческим чувством
и мышлением. Быть может, они — чувство и мышление — являются для музыки таким же прообразом, как формы, краски
и движения природы — для пластических искусств. И б о музыка
способна выразить не одни лишь определенные, результативные
стадии процессов, но и те неизъяснимые словами «промежуточные» состояния, в которых ощущения и ассоциации еще не
оформлены мыслью.
Интеллектуализм музыки Шостаковича питается этим постижением процессов, именно постижением, а не хладнокровным
анализом, и потому она так волнующе человечна. Строжайшая
последовательность, внутренняя логика воплощения самого процесса развития музыки составляют и основу авторской интерпретации. Этим качеством отмечено исполнение не только чистой полифонии фуг, но также и разнообразных фактур прелюдий.
В авторском толковании форма-развитие Прелюдии Ф а мажор в целом примечательна тончайшей психологической выразительностью всех интонационных деталей. Большое значение
имеет непрерывное последовательное раскрытие того, как прорастают различные элементы фактуры, раскрытие, постоянно
влекущее мысль дальше, запечатляющее неуловимые ее грани,
сокровенные ходы.
Процессуальность исполнения определяет принципиальные
особенности воплощения Шостаковичем полифонической фактуры. В нем тонко уравновешивается внимание к каждому голосу и ко всей многоголосной ткани, которая живет и Звучит
как единое целое, то разрастаясь и расслаиваясь, то концентрируясь в совсем малом количестве голосов. При этом само по
себе вступление нового голоса, влекущее фактурные изменения,
нередко интересует Шостаковича-исполнителя меньше, чем тематическое «содержание» голосов. Особенно заметно это в тех
фугах, где контраст между темой и противосложением заложен
в самой теме.
9
Баренбойи
201
В си-минорной Фуге противополагаются непреложные интонации первой части темы ( « п р и г о в о р » ) и хаотичное, «потрясенное» противосложение. Э т о сопоставление имеется уже в самой
теме:
Moderate (J.100)
Ifrflil
J
1
J
рр~~
Поразительны по своему проникновению в сферу трагического сухие, горькие интонации темы в исполнении Шостаковича. Вторая часть ее произносится «взвихренно», с ускорением.
Восходящие мотивы в этой части темы Шостакович играет неровно, «вздыбленно», 1 а следующие за ними «группетто» — объективно ровно, как бы «закрепляя» ими характер первых мотивов.
Такое полное раскрытие всех заложенных в теме свойств,
вообще характерное для авторского толкования фуг, усиливает
значение темы как формулы, основного тезиса фуги. Ее развитие в исполнении Шостаковича, как правило (по крайней мере,
до стреттного раздела), подтверждает зафиксированный темой
характер и уже ничего существенно нового в него не вносит.
Исполнение фуги оказывается проникнутым единым внутренним
импульсом, коренящимся в самом ее основании, и помогает расслышать неотразимую логику целого.
3
Характер применения Шостаковичем всех исполнительских
средств выразительности вытекает из некоей «сверхзадачи» его
исполнительского искусства. Речь идет о стремлении довести до
слушателя не столько максимум эмоционально-образных «выводов» из музыки, сколько самую предпосылку таковых — музыкальный материал во всей его целостности. Шостакович-пианист
1 Исполнение
Шостаковичем этих коротких восходящих мотивов отдаленно напоминает типично рахманиновские внезапные,
«свирепеющие»
нарастания ( в творчестве молодого Рахманинова они имели динамический
характер, а в зрелый период приобрели некий роковой смысл).
202
всегда стремится сосредоточить слушателя на всем том, что составляет внутренний стержень музыки, ее «жизненную силу».
Поэтому ему очень важно сконцентрировать восприятие на самом процессе становления музыкальной формы. Во имя непрерывности, органичности этого процесса пианист жертвует многим — яркостью деталей, выразительностью эффектов и т. д.
Важнейшее значение в такой концепции приобретает проблема ритма, а точнее—владения музыкальным временем.
Характерная черта ритма в исполнении Шостаковича — обнаженность его созидательной, конструктивной роли. Ритм выявляется с особой ясностью, и эта ясность, эта обнаженность ритмостроительства в интерпретации Шостаковича сообщают ритму
силу поступательного движения, значение главного носителя
внутреннего единства отдельной пьесы или цикла.
Цельно, неделимо передает Шостакович развитие многих
фуг. Так, интонационное содержание темы ми-бемоль-минорной
Фуги, полностью высказанное в первом проведении,, словно бы
доносится до конца Фуги нетронутым, неизменным именно благодаря ритмической мерности.
Очень интересно ритмическое развитие в исполнении си-минорного цикла. Пунктирный ритм в начале Прелюдии воплощается Шостаковичем с такой мелодической устремленностью,
что сквозь него как бы проступают контуры будущей темы
в четвертях. Поэтому действительное появление этой темы в середине Прелюдии оказывается глубоко обусловленным характером исполнения всего предыдущего. Тем самым выявляется
внутреннее единство, логика развития не только Прелюдии, но
и цикла в целом (вторая тема Прелюдии предвосхищает первую
половину темы Ф у г и ) :
В связи с затронутым вопросом о значении ритма в исполнении Шостаковича любопытно обратить внимание на неровное,
кажущееся «неритмичным» исполнение им некоторых прелюдий
и фуг быстрого движения. Здесь происходит борьба между чисто технической неотчетливостью, даже сбивчивостью ритмического рисунка и тончайшим ощущением ритмостановления музыкальной формы. В этой борьбе побеждает последнее, заставляя
9*
203
услышать внутреннюю организованность сквозь кажущийся
внешний беспорядок. В результате даже технические изъяны
игры автора включаются в образный строй исполнения. Так,
неровной, порывистой скороговоркой, но очень выразительно
исполняются
шестнадцатые
противосложения в Ф у г е Соль
мажор:
^Гр
Ft
{ Щ г t g f
Гgf I
f р о с о a c c e l . - * ] [росо a c c c l . - j [poco accel*-]
Таковы почти гармошечные переборы
противосложения в Фуге Ф а мажор:
неровно
исполняемого
Примером особенно виртуозного, парадоксального претворения ритмической неровности (как бы сбивчивости) в основу
процесса исполнения может служить интерпретация Фуги Ре
мажор. На нарушении ровности (непрерывном ускорении темпа,
не указанном в нотах) строится здесь план исполнения.
Сначала тема звучит довольно мерно и спокойно, благонамеренно-шутливо, в темпе Allegretto. При следующих проведениях
темп, а с ним и характер ритмо-интонирования темы как бы ненамеренно меняются. А дальше — резвая тема, не давая слушателю ономниться, набирает скорость, и весь конец Ф у г и «выпаливается» как отчетливо произнесенная скороговорка. Воздействуют тончайшая постепенность темповых изменений и точное
соответствие им характера ритмо-интонирования.
Ритм исполнения, как неоднократно указывалось, складывается из взаимодействия двух начал — метросозидающего и
метроразрушающего. Шостаковича можно отнести к тем артистам, у которых преобладает первая из этих тенденций и для
204
которых характерна рельефность, «обнаженность» метра. И наряду с этим — выразительнейшее воплощение мелких интонационных оборотов, богатейшая шкала очень тонких агогических
отклонений. Эта черта исполнения Шостаковича заставляет
вспомнить существенно близкие ей особенности ритма в исполнительском искусстве Гульда. 1
Ритм интерпретации Шостаковича тесно связан с мастерством передачи мелодического становления музыки. Этой передаче у Шостаковича подчинены все важнейшие средства исполнительской выразительности. Шостакович-пианист членит свою
музыкальную речь так, что все мелодическое развитие представляется как бы развертыванием во времени важнейшей в , этой
музыке ритмо-интонации. О т с ю д а — характерное для него мышление короткими, полными ритмической энергии построениями,
как бы непосредственно вырастающими одно из другого. Т а ковы упругие однотакты («единицы масштаба») в исполнении
до-мажорной Прелюдии.
112
Moderate ( J - 9 2 )
Или другой пример: при исполнении темы фа-диез-минорной
Фуги автор интонирует затактовые шестнадцатые так, что они
как бы отделяются от начала следующего такта:
Andanfe(i=84)
Р
Это усиливает в теме опору на сильную долю, что сближает
тему с ритмически устойчивым, ровным противосложением.
Важным средством динамизации построений является у Ш о стаковича акцентировка. Музыка в авторском исполнении внешне спокойна, но полна интенсивнейшего внутреннего напряжения. Акцентуация в этой связи оказывается
средством
1 В игре Гульда заметно взаимопроникновение некоторых
особенностей
исполнения медленной и быстрой музыки, своего рода стирание граней
между ними. Ровность, мерность, рациональное в ритме переносится из о б ласти быстрой игры в область .медленной; детализация мелодического построения — из медленной в б ы с т р у ю .
205
обнаружения мелодического и ладового напряжения. М о ж н о отметить различные функции акцентировки. Выделим две важнейших.
1. Акцентуация подчеркивает яркую интонационную деталь
внутри небольшого мелодического построения. Таковы, например, акценты на слабых долях в исполнении конца темы фа-мажорной Фуги, передающие характерную неуклюжесть движения
темы:
1l3
Moderate con moto(J=92)
-4»
jjJjTTf J f I I f
J tiJfUjj:
Ш
Так акцентирует пианист повторяющуюся тонику в последних тактах си-бемоль-минорной Фуги, подчеркивая ее «нежелание» уступить в заключительной гармонии место квинтовому
тону:
2. Акцентуация отмечает поворотные моменты развития, когда в акцентируемом звуке сливаются конец одного и начало
другого построения. В исполнении Прелюдии Фа-диез мажор
обращают на себя внимание легкие акценты на длинных нотах,
которыми заканчиваются мелодические построения из шестнадцатых :
115
206
Moderato con moto (J-=66)
Здесь остановка после ровного движения мелкими длительностями является одновременно и окончанием мелодии и началом
ее гармонического осмысления, то есть звуком, к которому
как бы подстраиваются ответы «хора». В ходе развития Прелюдии в таких местах возникают тонкие ладовые с'двиги-переосмысления предыдущего:
В Прелюдии си-бемоль минор в месте перехода последней
вариации в финальное построение начало новой мелодической
линии отмечено в авторском исполнении акцентом-толчком, выделяющим первый зву$ ля:
и?
Акцент предвещает ладовый поворот и вместе с ним переосмысление подчеркнутого звука, который, действительно, после
появления терции в верхнем регистре становится тоникой ля-мажорного трезвучия. Здесь совмещаются разные моменты: заключающая роль акцента и ладовый поворот в музыке, знаменующий начало нового построения (явление, аналогичное «вторгающемуся кадансу» в музыкальной форме).
Аналогичное применение другого выразительного средства —
люфтпаузы — происходит в исполнении автором фа-мажорной
Прелюдии:
207
a tempo
Появление темы Прелюдии на слабой доле в Соль мажоре отделено исполнителем от предыдущего непрерывного мелодического развертывания мигом тишины, который благодаря его
предельной краткости воспринимается не как^ разрыв музыкальной ткани, а как задержка дыхания. Таким образом, цезура перед началом нового построения способствует соединению его
с предыдущим. 1
Полностью подчинено воплощению мелодического становления музыки использование Шостаковичем динамических и агогических средств выразительности. Так, В исполнении Фуги сибемоль минор динамика — что очень характерно для Шостаковича-исполнителя — обнаруживает огромное богатство .в рамках
количественно незначительных градаций. Неисчерпаемые изменения тонуса одних ритмо-интонаций влекут за собой повышение или понижение общей динамической «температуры» игры.
Агогика при исполнении темы отличается гибкостью, почти речевой свободой:
1 Любопытно, что Шостакович не только делает эту цезуру при исполнении Прелюдии, но и записал ее в нотах.
208
В то же время с каждым проведением темы весь ее «агогический
цикл» ( с его внутренним ритмом растяжения-сжатия музыкальной ткани) повторяется. Получается своего рода ostinato ритмических изменений.
Такого рода агогика в той или иной мере присуща исполнению Шостаковичем музыки с тематизмом вокально-протяженного типа. Наоборот, в фугах с ритмически острыми темами агогические изменения происходят не внутри темы, а за ее пределами ( т о есть в сопровождении и в интермедиях), и при
слушании мы словно застаем тему в изменившейся темпо-ритмической «обстановке». Так, в исполнении многих фуг быстрого
движения ощущается иногда сильное, иногда еле заметное ускорение темпа на протяжении всего исполнения (будто притяжение
к некоему центру движения). Особенно ярко это проявилось
в уже упоминавшемся исполнении Фуги Ре мажор. Форма в целом приобретает устремленность единого мелодического построения к кульминации.
У Шостаковича-пианиста динамические соотношения голосов
подчинены логике развития, что влияет на общую окраску звучности.
С этим связан, казалось бы, необычный характер воплощения полифонии в Фуге Фа-диез мажор. В ней, несмотря на постепенное прибавление числа голосов, благодаря тончайшему
динамическому, тембровому и регистровому их разграничению,
происходит своеобразное разрежение фактуры. В конце Ф у г и
между двумя верхними голосами и басом образуется огромное
пространство
120
I'jptAn
—д"
j —
ГРу
i f
pp-j
—
1
fI
|i
1
f
i
к
'
a
-J
i ~]—
r
подобно тому, как это имеет место в последних сонатах Бетховена. Параллельные терции в заключении, как и перед стреттами, мерцают, словно из туманных неведомых далей.
Другим
примером воплощения полифонической фактуры
может служить образно-меткое исполнение Фуги Ф а мажор —
юной, непритязательной и скромной музыки (в ней слышатся
иногда отзвуки рахманиновски-весенних интонаций).
Тема Фуги интонируется автором так, что она воспринимается как неожиданная, счастливая находка:
отсутствует
209
солидная устойчивость сильных долей, а легкие акценты на слабых долях создают чрезвычайно характерную поступь, полную
очаровательной, застенчиво-неуклюжей грации (см. пример 113
на стр. 2 0 7 ) .
Противосложение вначале как будто претендует на большую
важность, но так как оно кружится, словно запутавшись, вокруг
нескольких точек, то вызывает комический эффект. А в т о р играет
противосложение громче темы; она лишь тихонько просвечивает
сквозь его затейливый узор, как тонко вплетенная в него
нить.
В музыке интермедии голоса сохраняют свой характер, однако между ними возникают мягко диссонирующие повторяющиеся тритоны. Авторское исполнение рождает ассоциацию
с разговором двух собеседников, один из которых все понимает
и старается сдвинуть дело «с мертвой точки», тогда как другой
никак не прекратит попыток выразить свою несозревшую и путаную мысль.
Обычно присущее авторской интерпретации фуг единство
колорита обусловлено регистровым соотношением отдельных голосов. В прелюдиях же очень часто фактура складывается из
пластов, то есть темброво разделенных комплексов голосов. Т у т
сказывается различие между имитационно-полифонической фактурой фуг, с одной стороны, и развитой гомофонно-гармонической или неимитационно-полифонической фактурой большинства
прелюдий — с другой.
Так, в авторском исполнении Прелюдии Ф а мажор в музыкальной ткани ясно слышны три пласта, каждый из которых
живет полной интонационной жизнью. Постепенное изменение
динамического соотношения этих пластов всецело вытекает из
логики развития музыки. На первый план выдвигается поочередно тот из них, который является интонационно ведущим
в развитии. В начале Прелюдии э т о — м е л о д и я в верхнем голосе, лишь оттеняемая глухими шагами октав в басу:
Adagio ( J - 4 8 )
В середине Прелюдии тесному регистровому сближению
верхних голосов с басом, в котором звучит измененная тема,
соответствует и динамическое их сближение,
«уравнивание»
в правах. Звучность становится более насыщенной и, как
210
результат этого, возникает резко
в игре Шостаковича средний голос:
по
тембру
выделяющийся
a tempo
В дальнейшем тревожность интонаций этого голоса снимается, но в исполнении его сохраняется яркий колокольный
тембр:
a tempo
f p p f
ш
Г
т
fffi
,).s
f
"tTJ, ^ ^
T
т
f
dim
f
В конце Прелюдии «оживают» октавы — фактура начала
( в них проводится оборот темы). Здесь динамический «перевес»
на стороне баса:
Т р и стадии динамического соотношения элементов фактуры
отражают процесс интонационного развития Прелюдии.
Очень пластично осуществляются в игре Шостаковича переходы не только одноголосия в полифоническую фактуру ( о чем
речь была раньше), но и полифонической фактуры в гомофонную (аккордовую, в частности).
14*
211
Например, в конце Прелюдии ми-бемоль минор при подходе
к pianissimo аккордовые сочетания возникают в авторском исполнении
как бы непосредственно из «остывающей лавы»
тремоло:
dim
3
ьы
Л
•4
§
^
^
Эта образная ассоциация возникает благодаря «угасанию»
тремолирующего органного пункта, незаметности биений в исполнении тремоло.
В применении Шостаковичем исполнительских средств выразительности можно заметить, как уже говорилось, стремление
к точному раскрытию самого процесса музыкального развития.
При этом важное значение имеет звуковая сторона игры, звукоформирование. В интерпретации Шостаковичем разных прелюдий и фуг — великолепная палитра фортепианных красок.
Это — и набатное звучание Прелюдии ми-бемоль минор, и чистейший «стальной» тон в Фуге си-бемоль минор, и разнообразные оттенки «вокального» характера в Прелюдии Ф а мажор.
И в то же время Шостаковичу чуждо чрезмерное подчеркивание
красочно-тембровой стороны игры. Наоборот, в его интерпретациях есть известная скупость, аскетизм в этом отношении.
Тембр в исполнении Шостаковича в конечном счете приобретает конструктивное значение. В этом сказывается глубоко классическая направленность его исполнительской концепции. Звук
Шостаковича — кристально-чистый тон с отчетливо ощущаемым,
не скрываемым моментом удара-взятия. Благодаря этому интонации музыки в авторском исполнении словно наполняются ритмической энергией и упорством, аккумулирующими в себе силу,
нужную для длительного процесса развертывания музыки.
Интерпретация Шостаковича проникнута высокой обобщенностью, философичностью и простотой одновременно, мужественной дисциплиной и объективностью. Слова Л. Мазеля
212
о стиле музыки Шостаковича — « . . .чувство интеллектуализироваио, а мысль накаляется до такой степени, что становится острым переживанием» 1 —можно отнести и к игре Шостаковича.
Сказанное определяет соотношение обобщенности и конкретности, философского и жанрового в его исполнительском искусстве.
Многие яркие детали интерпретации Шостаковича, органично
возникающие в общем музыкальном потоке, обличают в нем замечательного «портретиста» (таковы, например, уже отмеченные сочетание темы и противосложения в исполнении Фуги Ф а
мажор, непрерывное ускорение в Ф у г е Ре мажор, потрясенный
облик темы, который возникает в авторском исполнении Фуги
си минор, речитации в Прелюдии ми-бемоль минор и т. д.). О д нако «кипение мысли» в его интерпретациях столь велико, что
любая «портретная» яркая деталь становится образным обобщением. Э т о приводит к подлинной многозначности интонационной стороны исполнения и раскрывает многозначность самой
музыки.
Если в исполнительстве, как и в композиторском творчестве,
провести разделение на сферу «чистую» и программную, то игра
Шостаковича будет находиться в сфере «чистой» музыки, тогда
как исполнение, скажем, до-мажорнОго цикла Гилельсом и Гринберг приближается скорее к музыке программной.
Э т о не значит, что одна из этих двух трактовок плоха или
неверна: любая концепция хороша и убедительна в зависимости
от ее конкретного художественного результата. Однако в воплощении именно прелюдий и фуг Шостаковича принцип «чистой
музыки», философски-обобщенной интерпретации представляется
более соответствующим их характеру и стилю. Недаром автор
в своих исполнительских указаниях предельно ограничил ремарки, затрагивающие образный строй музыки.
И з указаний характера выразительности в нотах сборника
встречаются только espressivo, dolce, maestoso, tranquillo, pesante.
Однако и эти ремарки крайне редки. Так, например, в Фуге
Ре-бемоль мажор нет, казалось бы, вполне возможных здесь
определений, вроде furioso, barbaro и т. п.; гораздо ярче выявляет характер Фуги почти единственное в ней лаконичное обозначение: / / marcatissimio sempre al fine (лишь незадолго до
конца Фуги появляется еще указание mf). О характере напряженной созерцательности, присущем Фуге си-бемоль минор, говорит единственная в Фуге запись: рр legatissimo sempre al fine.
Скупость средств исполнительской выразительности у Ш о стаковича и многозначность смысла его интерпретации рождают недосказанность, значение которой трудно переоценить.
Воздействие игры Шостаковича на слушателя не прекращается
1 Л. М а з е л ь. О стиле Шостаковича.— С б . «Черты стиля Д . Ш о с т а ковича», стр. 15.
213
вместе с окончанием исполнения, а еще долго после него будит
фантазию и волнует мысль. Т о , чего автор как будто не договорил в своей игре, продолжает тревожить, требует активного,
творческого к себе отношения, концентрирует художественную
волю слушателя.
Исполнение Шостаковича относится к числу тех «твердых
орешков», раскусить которые по-настоящему очень нелегко. Игра
Шостаковича, лишенная каких бы то ни было эффектов и оживляющая первоэлементы музыки, превращает каждое исполнительское «событие» —• штрих, акцент, какое-либо ритмическое
или динамическое изменение звучания — в событие музыкальное,
раскрывающее глубинные процессы, закономерности, особенности музыки.
И б о Шостакович не музыку несет слушателю, а слушателя
ведет к музыке, к музыке без прикрас и добавлений, к музыке
в самой сокровенной ее сущности.
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие
.
3
В. Крастинь. О б исполнении клавирной музыки Баха на фортепиано
7
А. Аронов.
Динамика и артикуляция в фортепианных произведениях Бетховена . . . .'
32
Г. Хаймовский.
Некоторые особенности темповых и агогических
обозначений Д е б ю с с и
96
Н. Ростопчина. Исполнение фортепианных концертов Рахманинова
советскими пианистами
124
Л. Гаккель. Прокофьев и советские пианисты
140
Ю. Рубаненко.
О б авторском исполнении прелюдий и фуг
197
Шостаковича
ОБ
ИСПОЛНЕНИИ
ФОРТЕПИАННОЙ
МУЗЫКИ
БАХА
БЕТХОВЕНА
ДЕБЮССИ
РАХМАНИНОВА
ПРОКОФЬЕВА
ШОСТАКОВИЧА
Т . п. 1 9 6 5 г . №
1400
Р е д а к т о р А.
Х у д о ж н и к Я. Кулагин
Х у д о ж . р е д а к т о р Л. Рожков
Крюков.
Т е х н . р е д а к т о р Г.
К о р р е к т о р В.
Мичурина
Кравченко
Сдано в набор 27/1 1965 г .
Подписано к печати 2 3 / V 1 1 9 6 5 г.
М-40313
Б у м а г а 6 0 x 90716.
Б у м . л. 6 , 7 5 .
П е ч . л. 1 3 , 5 ( 1 3 , 5 ) .
У ч . - и з д . л. 1 3 , 0 4 .
Тираж 6000 экз.
Заказ № 471.
Цена 80 к.
Издательство
«Музыка»,
Ленинградское отделение.
Инженерная ул., 9.
Ленинград,
Ленинградская типография № 4 Главполиграфпрома
Государственного
комитета
Совета
Министров
СССР
по
Социалистическая, 14.
Д-11,
печати
ИСПРАВЛЕНИЯ
стр.
42
151
строка
15-я снизу
4-я
»
Iff
з f ? " v
41
6.я снизу
З а к а з 471
напечатано
нюанс
типа
должно
р
не отпечатано клише
Полянский
«пережит»
нюанс
быть
т и п а р
J
Поляновский
«пережат»