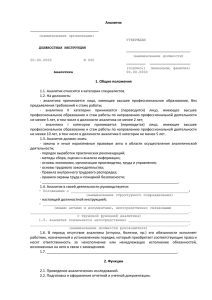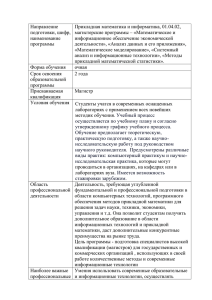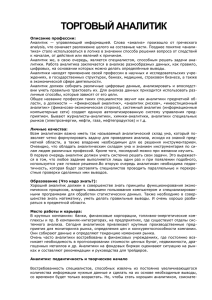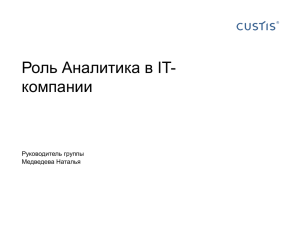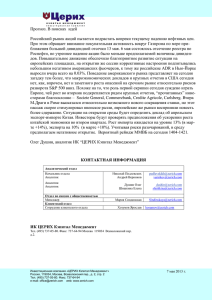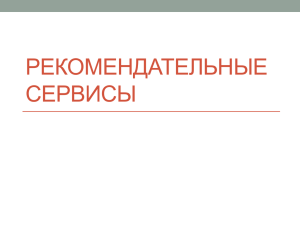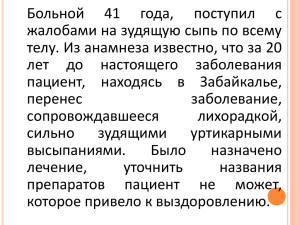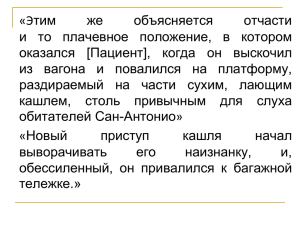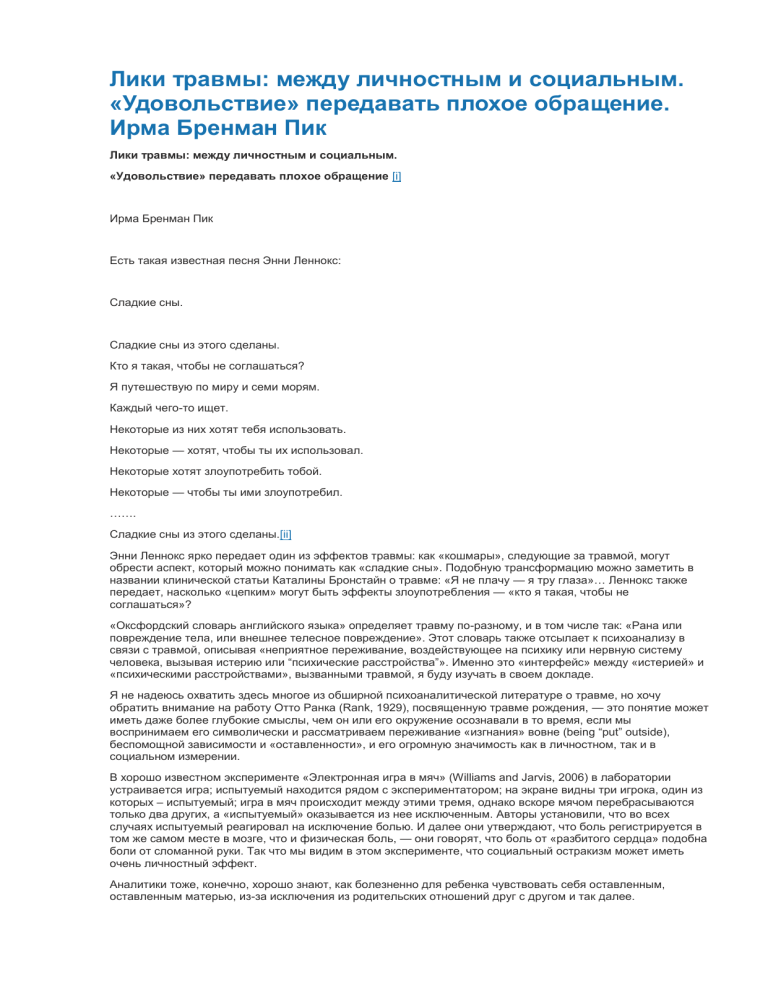
Лики травмы: между личностным и социальным. «Удовольствие» передавать плохое обращение. Ирма Бренман Пик Лики травмы: между личностным и социальным. «Удовольствие» передавать плохое обращение [i] Ирма Бренман Пик Есть такая известная песня Энни Леннокс: Сладкие сны. Сладкие сны из этого сделаны. Кто я такая, чтобы не соглашаться? Я путешествую по миру и семи морям. Каждый чего-то ищет. Некоторые из них хотят тебя использовать. Некоторые — хотят, чтобы ты их использовал. Некоторые хотят злоупотребить тобой. Некоторые — чтобы ты ими злоупотребил. ……. Сладкие сны из этого сделаны.[ii] Энни Леннокс ярко передает один из эффектов травмы: как «кошмары», следующие за травмой, могут обрести аспект, который можно понимать как «сладкие сны». Подобную трансформацию можно заметить в названии клинической статьи Каталины Бронстайн о травме: «Я не плачу — я тру глаза»… Леннокс также передает, насколько «цепким» могут быть эффекты злоупотребления — «кто я такая, чтобы не соглашаться»? «Оксфордский словарь английского языка» определяет травму по-разному, и в том числе так: «Рана или повреждение тела, или внешнее телесное повреждение». Этот словарь также отсылает к психоанализу в связи с травмой, описывая «неприятное переживание, воздействующее на психику или нервную систему человека, вызывая истерию или “психические расстройства”». Именно это «интерфейс» между «истерией» и «психическими расстройствами», вызванными травмой, я буду изучать в своем докладе. Я не надеюсь охватить здесь многое из обширной психоаналитической литературе о травме, но хочу обратить внимание на работу Отто Ранка (Rank, 1929), посвященную травме рождения, — это понятие может иметь даже более глубокие смыслы, чем он или его окружение осознавали в то время, если мы воспринимаем его символически и рассматриваем переживание «изгнания» вовне (being “put” outside), беспомощной зависимости и «оставленности», и его огромную значимость как в личностном, так и в социальном измерении. В хорошо известном эксперименте «Электронная игра в мяч» (Williams and Jarvis, 2006) в лаборатории устраивается игра; испытуемый находится рядом с экспериментатором; на экране видны три игрока, один из которых – испытуемый; игра в мяч происходит между этими тремя, однако вскоре мячом перебрасываются только два других, а «испытуемый» оказывается из нее исключенным. Авторы установили, что во всех случаях испытуемый реагировал на исключение болью. И далее они утверждают, что боль регистрируется в том же самом месте в мозге, что и физическая боль, — они говорят, что боль от «разбитого сердца» подобна боли от сломанной руки. Так что мы видим в этом эксперименте, что социальный остракизм может иметь очень личностный эффект. Аналитики тоже, конечно, хорошо знают, как болезненно для ребенка чувствовать себя оставленным, оставленным матерью, из-за исключения из родительских отношений друг с другом и так далее. Моя немецкая коллега-аналитик Илзе Грубрих Симитис цитирует исследования о выживших в Холокосте. Она цитирует Фридмана, например, который описывает на основе своего опыта работы с выжившими в Холокосте тяжелое повреждение синтетической функции Эго, а также проверки реальности; патологическую задержку психосексуального развития, регрессию к инфантильной зависимости, кардинальное оправдание нарциссизма и возвращение ранних кастрационных тревог. Симитис говорит, что это предупреждает нас о возникших контрпереносных проблемах. Я надеюсь исследовать, в частности, регрессию к инфантильной зависимости, а также кардинальное оправдание нарциссизма и нарциссическое возбуждение — неизбежно, как отмечает Симитис, связанные с контрпереносными проблемами, когда мы сталкиваемся с подобными вещами у наших пациентов. Ибо одним из способов справиться с такой болью может быть передача ее другому. Или, как указывали Ференци и Анна Фрейд в межвоенный период, склонность к «идентификации с агрессором». В трогательной статье «Глядя в глаза полумертвого животного» аналитик из Нью-Йорка Дональд Мосс описал ряд событий из своей жизни. Когда ему было около 19 лет, и он жил в Нью-Йорке, в Детройте умер его любимый дедушка. Попасть на похороны ему помешала вьюга. Когда же он приехал, тетя встретила его гневной пощечиной — «спасибо, что явился», сказала она с горечью. Много лет спустя он консультировал очень большого мужчину, который спросил его, почему он держит руку на подбородке. На третьей беседе мужчина навис над ним и закричал: «Убери свою долбаную руку с долбаного подбородка!» Мосс испугался, что этот человек физически на него нападет. Он сумел выставить пациента из кабинета и затем спустился в метро. Там на платформе он увидел обезображенного гомосексуала маленького роста и почувствовал внезапное побуждение на него напасть! Так он передал бы ему собственные чувства неполноценности, которые ощущал когда-то в семейном контексте (слишком слабый, чтобы преодолеть погодные условия и попасть на похороны), а теперь — в ситуации с пациентом. Мы видим, как быстро личностное может стать социальным. О бессознательных измерениях этой «передачи плохого обращения» можно размышлять далее, прибегая к концепции проективной идентификации, о которой написано столь много, — как быстро личностный опыт и часть самости могут проецироваться в другого, и как поэтому переплетены личностное и социальное. Жертва стала агрессором, и тогда «третья сторона» может нести часть этой жертвы. Но есть еще одна проблема. Можно рассмотреть важный аспект травмы, связанный с проекцией вины. Агрессор может проецировать аспекты своих чувств вины в другого. Нередко переживание злоупотребления может быть нацелено на то, чтобы вызвать возбуждение у жертвы, и даже достигает этого. Это, конечно, может быть частью цели обидчика. И может вызывать или не вызывать у жертвы, осознанно или бессознательно, некий элемент возбуждения. Например, когда родители «организуют» (“arrange”), чтобы ребенок наблюдал их сношение, возможно, что исключенный ребенок не только будет ненавидеть свою исключенность, но его также возбудит родительское сношение, и он не будет знать, что это они виновны в его возбуждении, или он виновен в том, что возбудился. Или в том, что в нем возбуждено гневное отвращение. Аналогично, когда ребенок подвергается более прямому сексуальному злоупотреблению, например, со стороны отца или других детей в семье, он затем может перейти к злоупотреблению другими (садизм) или к избеганию вины, которую может вызывать это действие или желание, к дальнейшему злоупотреблению. В этом случае вина, или по крайней мере соучастие, проецируется в другого. Вероятно, тогда мы видим компоненты «Сладких снов» Энни Леннокс. Компоненты садо/мазохистсической перверсии? Тогда, возможно, наслаждение обидчика связано с тем самым стресом/психическим дискомфортом, которые порождает «соучастие», вдобавок к наслаждению от самого действия. Может возникнуть настояние на молчании — на частном «секрете», секрете даже от самости, — которое становится частью злоупотребления. Первый клинический пример П. живет в стране, которая становится все более фашистской. Он женат, двое детей; его отец — алкоголик; пациент наблюдал ссоры и физическое насилие между родителями. Отец вновь и вновь пропадал на много дней. Вернувшись, он падал на колени и умолял жену принять его обратно. Пациент также попадал в ситуации, когда отец рисковал собственной жизнью (и жизнью сына); например, он брал сына купаться, будучи пьяным. (Получается, если бы произошло несчастье, пациент бы остался с чувством вины за то, что видел, как отец утонул, и/или рисковал утонуть сам?) Мать он описывал как недоступную — «за стеклянным окном»; и именно таким воспринимал пациента аналитик почти все время. П. опаздывает на сеанс на пять минут, он напряжен, у него настроение, «словно он “стреляет пулями” в аналитика — будто сейчас разорвет его в клочья». Он говорит, что отменяет завтрашний сеанс … собирается на выступление сына в детском саду … по случаю Дня матери; ему интересно посмотреть, как публика будет на это реагировать —дети будут говорить о неграх, у которых кожа черная, как асфальт… как на это откликнется публика — ведь это звучит довольно порасистски… чувствительная тема… особенно сегодня… Пауза. (Аналитик, мой супервизируемый, говорит мне, что был ошарашен; ему хотелось сказать что-то о «взрывчатом» тоне голоса и т. п. (не говоря уж о его собственных взрывчатых чувствах)). Дальше П. говорил, что размышляет о вчерашних словах г-на Б. (аналитика) о жалобах П. на свою жену… ему не кажется, что он много жаловался… «Мы не ссоримся… между нами нет особой напряженности…» Он продолжил: в детских комнатах делают ремонт… он этим доволен… хотя в то же время он не может этому радоваться… если ремонт комнат — единственный для него способ дарить им свою любовь, то это трагично; он надеется, что будет способен что-то изменить в себе… его мыслительные процессы… так что это позволит ему показать им свою любовь, не обязательно давая им что-то материальное… недавно оказалось, что воспитателям в детском саду скучно с детьми — они оставляют детей одних в комнате… он думает, почему бы ему не сменить садик? Аналитик говорит — кажется, что П. держит своих детей в таком месте, где их учат говорить расистские вещи, а скучающие воспитатели оставляют их одних. П. быстро поясняет: кто-то может сказать, что у нас, белых людей, кожа белая как бумага… так что, наверное, это не такое уж расистское высказывание… однако он разговаривал со своими детьми и пояснил им, что говорить такие вещи неправильно… …Он сомневается, стоит ли обсуждать этот вопрос с персоналом, поскольку не знает, как это скажется на детях… и так далее… ему интересно, что думает аналитик о его мыслях… какой в них смысл?.. И от этого он чувствует напряжение… (вроде того — как он/люди отреагируют?). Безусловно, он также вызывает напряжение у аналитика! (Как я говорила выше, Илзе Смитис упоминала о контрпереносных проблемах, которые эти пациенты представляют для аналитика.) На следующем сеансе оказалось, что его жена критически говорила с ним — и о его аналитике! Я об этом материале думаю, что это действительно был День матери — то есть, пациент не ссорился (с женой), а вместо этого передавал своему аналитику (так же, как черным людям) свои чувства, что его очерняет жена (так же, как перекладывал на жену ответственность — все якобы исходит от его жены — это День матери) (а «очернение» — слово от корня «черный»). И у него «хороший» фашистский способ делать это. В конце концов, о его поведении можно сказать, что оно «белее белого». У него кожа, белая как бумага. Его руки чисты. Он жертвует своим сеансом, чтобы сходить на выступление сына — кто бы смог его критиковать за это? Он делает ремонт в детских комнатах. Но когда он отменяет сеанс, он вызывает чувства критики и ярости у аналитика — аналитик чувствует, что все, о чем он заботится, атаковано; его ценности делают ничтожными; аналитик ошарашен — в некотором смысле, лишен дара речи; он, аналитик, боится, что либо даст сдачи, либо почувствует себя беспомощным ребенком — и не вполне понимает, что его ударило; теперь он не способен думать и чувствует, что утратил сочувствие к пациенту. Довольно интересно, что на следующий день П. не знает, как начать — говорит, что видел сон о терапии — действие происходило в этом кабинете, и здесь также был г-н Б. — «мы поменялись местами». …Здесь была кушетка, но у другой стены… когда П. поднялся с этой кушетки, г-н Б. лег на эту («обычную») кушетку и совершенно не хотел с ним общаться. Гораздо позже на сеансе он упоминает, что вчера его отец напился; он исчез и очутился в больнице. П. добавляет: отец не звонил ему из больницы и не хотел с ним общаться… (напоминает то, как отец вынуждал пациента смотреть, как он «тонет» — теперь в алкоголе). Итак, на следующий день мы слышим о поврежденном, больном отце, который не хотел общаться с пациентом (нелюбовь) — так что П. чувствует себя отверженным — и невиновным — в конце концов, не его вина, что отец болен. Это событие, срыв отца, сейчас, на мой взгляд, довольно отщеплено от того, насколько разрушительным себя чувствовал П. по отношению к аналитику/отцу. Он не виновен и отец/аналитик виновен — во сне они поменялись местами — думаю, аналитик не только на кушетке, П. также чувствует, что он в кровати, больничной кровати. Недееспособный. Полагаю, в этом процессе он, пациент, с одной стороны, (тайно) возбужденно восхищается своей «смышленостью», поскольку кажется таким хорошим отцом — заботится о детях, ремонтирует их комнаты, посещает их выступления. Но на другом уровне он знает, что что-то здесь не так, что в этом нет любви и, я бы добавила, нет реальной ответственности за предпринимаемые им атаки. Он пытается передать аналитику как ощущаемый им гнев, так и вину за такой сильный гнев, а также чувства беспомощности и нелюбви. Думаю, эти сеансы иллюстрируют, каким образом пациент «меняется местами» с аналитиком, не только во сне. Явной ссоры с аналитиком нет; думаю, пациент, возможно, испытывает тайное возбуждение, наблюдая, как аналитик чувствует беспомощность; как будто аналитик «тонет» перед ним. Он передает аналитику собственные чувства беспомощности по отношению к своему отцу. Полагаю, отчасти он, возможно, хочет, чтобы аналитик что-то понял из его раннего опыта, — но его поведение сопровождается также его собственной жестокостью/садизмом. Мы также видим некую маниакальную репарацию в его попытках быть хорошим отцом; но он сам переживает репарацию/ремонт не как любовный акт, но как попытку утвердить свою невиновность. (Хотя, конечно, у социального и политического мира много измерений, мы можем видеть определенные связи с этим миром в данном материале.) Он передает это обращение своему аналитику; его жестокость не эквивалентна жестокости к нему отца, когда он был ребенком; но у него есть собственная вина. Он также понимает, что что-то не так с его мыслительными процессами, и хотел бы что-то изменить. Поскольку он идентифицирован с отцом, ему угрожает почувствовать, что его вина соразмерна вине отца; так что ему угрожает почувствовать себя либо невинным, невиновным, либо — захлестнутым сочетанием его и отцовской вины (тонущим в нем). Через несколько недель после этого он видел много снов: …это словно одежда крутится в стиральной машине… он не может разобраться, что ему снилось… однако два сновидения остаются в его памяти… в первом его отец собирался куда-то, чтобы выпить, вопреки своей болезни и рекомендациям врачей… (назло болезни и рекомендациям)… во втором сновидении он был в воде и чувствовал, как что-то кусает его за бедра… внутреннюю сторону бедер… он нырнул, чтобы посмотреть, что это, и увидел, что это черная собака… злобно его кусает… Пауза. Затем он говорит, что считает, — эта черная собака изображает его собственный гнев, кусающий его изнутри… На мой взгляд, укусы за внутреннюю сторону бедер могут также быть связаны с мастурбаторным возбуждением — отец как черная собака, возбуждающая его своей жестокостью. Пациент приносит проницательные сны; отчасти он знает, что делает, и также общается полезным образом, в отличие от прежней «стрельбы пулями». Я вернусь к этой теме позже, также со ссылками на хороший российский фильм «Нелюбовь», но сначала хочу привести второй клинический пример. Второй клинический пример Молодой человек в анализе постоянно угрожает переехать в другую страну — его аналитик все время осознает возможность того, что ее в любой момент бросят/выгонят. То есть он может завершить анализ преждевременно. Сам пациент, фактически, рожден преждевременно и несколько недель провел в инкубаторе. Он вырос в богатой американской семье, где его воспитывали строгие няни, и его отправили в школу-пансион в очень раннем возрасте. Его родители развелись, когда ему было восемь лет; отец на момент, о котором идет речь, уже скончался. Так что, угрожая преждевременным прерыванием анализа, он передает плохое обращение! Он начинает сеанс в среду, напоминая аналитику, что пропустит два следующих сеанса, поскольку вместе с семьей отправляется за рубеж, туда, куда они могут переехать. Он не знает, почему, но сегодня ему грустно. Он ходил с другом смотреть фильм «Нелюбовь». Они пришли рано. Кинотеатр находится в очень обшарпанном районе. И там нет ни одного приличного ресторана. (Так получилось, что я знаю этот замечательный фильм — непосредственно относящийся к нашей теме. Он о супругах, которые не любят друг друга и находятся на грани развода, живут в холодном, мрачном, лишенном любви мире России и жестоко отторгают своего 12-летнего сына; мальчик подслушивает их ссору, — никто из них не хочет оставить его у себя, — и сбегает. Промежуточное пространство между мрачным физическим (и социальным) миром России и личностным миром этой семьи — голое и холодное.) Пациент продолжает: Это был просто невероятный, душераздирающий фильм. Между ним самим и мальчиком в фильме есть некоторое сходство. Там была эта ужасная сцена, где родители разводятся и угрожают отправить мальчика в интернат, избавиться от него (как избавились от пациента). Этой ночью пациент видел сон, но может вспомнить только вторую его часть: «Там была корова, которую бездумно доила какая-то женщина. Она не понимала, что корова страдает, молока было мало. Это было больно. Корову это почти уничтожало, но женщина, которая ее доила, этого не осознавала». «Не знаю, отчего я видел этот сон, но я проснулся в сильном унынии. Мои гормоны? Я так не думаю». Дальше пациент жалуется, что не получает ответа от матери, которого ждет, — и сердится на свою неполнородную сестру, которая ему докучает. Об этом сне можно размышлять по-разному, но я бы хотела сосредоточиться на том, что происходит в отношениях с аналитиком. Пациент, как часто случается, отменяет два сеанса, что связано с «угрозой» прервать анализ — он посещает место, куда может переехать. Рассказав сон, он жалуется, что нет ответа от матери, а сестра ему докучает. Он жалуется, что нет ответа, — можем ли мы предположить, что аналитик поставлена в положение, где она либо не сможет ответить/отреагировать на то, что он делает, либо будет ему докучать? Во сне есть корова, которую бездумно/жестоко доят, — почти уничтожают, — и женщина, которая ее доит, не осознавая причиняемой боли. Дальнейшие ассоциации пациента указывают на его убеждение, что семья грабит/доит его, отбирая полагающееся ему наследство. Однако я полагаю, что бессознательно он знает, что передает это обращение «корове» аналитика, которая не способна обеспечить ему столько анализа (молока), сколько ему хотелось бы. Практически нет сомнения, что он пострадал от травматической ранней истории — но я бы предположила, что в настоящем он «выдаивает» из нее все, что может; и сейчас он находится в месте, где чувствует себя жертвой плохого обращения, несмотря на то, что виновен в плохом обращении с другими. Страдая, он освобождает себя от вины; однако боится, что вся вина будет возложена на него. Аналитик признает, что семья его расстраивает, но также обращает его внимание вот на что: первое, о чем он упомянул сегодня, — что на следующих двух сеансах его не будет. Она интересуется, не кажется ли ему, что она «докучает ему», желая, чтобы он был здесь. Он признает, что ему было неприятно об этом упоминать. Затем он говорит, что беспокоится, что аналитик подумает, будто он не принимает анализ всерьез. (Аналитик признается мне, что ей уже так надоели эти длительные угрозы уйти, что в некотором смысле она хочет от него избавиться. Как аналитик в предыдущем клиническом примере, она чувствует нелюбовь!) Аналитик интерпретирует, что пациент чувствует себя в таком месте, где все серое и обшарпанное — нет хороших ресторанов — как если бы все хорошие цвета и жизнь выжаты и т. п. Далее она говорит, что он чувствует, что его бездумно «доят» и эксплуатируют, но возможно, его также беспокоит его собственное обращение с аналитиком (коровой). Нам нужно рассмотреть следующие вопросы: не является ли это изображение холодного, серого, обшарпанного мира «нелюбви», где отсутствует хорошее питание (рестораны), изображением мира, в котором пациент вырос? И поэтому его объекты ответственны/виновны? Или же он чувствует вину за то, что передает это плохое отношение своему аналитику? Реагирует ли он на ее плохое обращение с ним — или же она реагирует на его плохое обращение с ней? Любопытно, что он возвращается после выходных в Шотландии и говорит, что много об этом думал и, похоже, не хочет туда переезжать. Он рассказывает, как там был холодно (шел снег) … (как в фильме «Нелюбовь»). «И вызывали стресс дети, которые бегали по гостиничному номеру и создавали хаос. И у них не было пластиковой чашки для младшего. Я держал стеклянную чашку, чтобы он из нее пил. Я помню, как няня говорила, что ребенок может откусить кусок от такой чашки, — я уверен, что он не откусил, но стекло разбилось, повсюду рассыпались осколки, и его мать сказала, проверь его рот. И я запаниковал, что он проглотил стекло. Он-то не проглотил, но весь остаток дня я беспокоился… Я знал, что мы сюда не переедем… Я плохо, урывками спал и видел сон — помню только его часть — в доме моей матери была большая змея». Мы можем по-разному рассматривать этот очень яркий материал. Давайте вернемся к нашей теме — Травме; промежуточному пространству между личностным и социальным. Последние пару лет пациент занимался чем-то вроде бестолковой беготни, проецируя в психику своего аналитику тревоги оставленности — можно сказать, что он «создавал хаос» в психике аналитика — останется он или уйдет? Но теперь — этот сеанс был довольно трогательным — эта тревога была гораздо больше его собственной, чем спроецированной в аналитика. Он приблизился к обладанию своими страхами, что он в самом деле «укусил», атаковал аналитика, она разбилась, попадет внутрь его (как осколки стекла) и повредит его. Или что теперь в аналитика помещены хулительные ядовитые чувства (змея внутри матери). И его аналитика, и меня тронул этот сеанс. Однако пациент закончил сеанс вопросом об отпуске аналитика и снова заговорил о том, что уедет… Так что он совершает «движение», сдвиг в анализе, но в тот момент, когда сталкивается с утратой — концом сеанса — отпуском аналитика — он снова становится тем, кто уходит — а оставленной будет аналитик. Он не может выдерживать чувство утраты. Чувства обделенного «беженца» (и вина за тяжелую ситуацию переживания нелюбви) должны храниться в «другом». Заключение Я хочу немного остановиться на теме нелюбви, которая связывает фильм с обоими клиническими примерами. В случае первого пациента аналитик сказал мне, что не знает, что его «ударило» (эмоционально), он оказался ошарашенным, лишенным дара речи. Было ли это результатом воздействия спроецированного гнева пациента, который стимулировал его собственный гнев (взрывчатые чувства)? Справлялся ли пациент со своей виной, стимулируя Супер-Эго аналитика, — вызывая у аналитика страх, что он может «дать сдачи», и вину за эти желания? Что это — парализующий эффект беспомощности? Кроме того, аналитик в этом душевном состоянии не мог ощущать сочувствие и доброе отношение к пациенту — он чувствовал нелюбовь. Была создана серая и обшарпанная аналитическая обстановка, а не «хороший ресторан», если воспользоваться метафорой из второго клинического примера. Возможно, таким образом эти пациенты защищают себя от невыразимой печали (отчаяния), когда и не любят, и сталкиваются с нелюбящим объектом? Наверное, эту острую боль может порождать осознание тяжелых утрат, настигших этих пациентов, — первый становится «нелюбящим» отцом, второй — нелюбящим пациентом. Осознание этих ситуаций может быть действительно душераздирающим, — как переживание российского фильма «Нелюбовь». Оба эти пациента ищут помощи и избегают столкновения со своими проблемами. Кажется, теряется сама их способность испытывать любовь и утрату, а их аналитики пытаются справиться с собственными чувствами гнева и беспомощности и снова обрести способность чувствовать «любовь» и сострадание к пациентам. Пациенты навязывают это обращение своим аналитикам; аналитики чувствуют боль и ощущают нехватку чего-то жизненно важного и питающего. В российском фильме двенадцатилетний мальчик убегает от жестоко отвергающей пары, из лишенного любви окружения/дома. Есть сходство между этим мальчиком и описанными выше пациентами, которые бегут от осознания своей потребности любви и от нелюбви своих внутренних миров. Они также, на мой взгляд, отказываются брать на себя ответственность за тайное возбуждение, которое чувствуют, передавая это обращение — когда заставляют другого чувствовать беспомощность, которую они переживают перед детскими травмами. В фильме «Нелюбовь» мы обнаруживаем, что у родителей не полностью отсутствует любовь — оба отчаянно пытаются найти потерявшегося мальчика. Их преследует вина, — как семьи, где есть суицид. И есть мстительная жестокость в том, что им приходится выдерживать. Я начала свой доклад с песни — и хочу закончить его притчей: Старый индейский шаман преподал своим внукам урок искусства исцеления. Он сказал им, что в них, как и в каждом человеке, живут и борются друг с другом два волка. «Один из этих волков порождает болезнь, — сказал шаман. — Он питается тревогой, гневом, ревностью, завистью и сомнением в себе. Другой волк оберегает здоровье. Он питается любовью, состраданием, верой, удачей, счастьем и чувством благополучия». Дети выслушали и записали все, что сказал их дед. Через некоторое время, когда шаман захотел продолжить свои уроки, один из внуков поднял руку. «Погоди секунду, дедушка. Ты не сказал нам, какой волк побеждает». Шаман выслушал вопрос и сразу же сказал: «Разве не очевидно? Побеждает всегда тот волк, которого ты кормишь!» Конечно, это не так просто; эти пациенты сталкиваются с агонией спутанности между самостью и другим; но глубоко ранящая травма может также подпитывать у них как эротизацию, так и проекцию вины. Перевод З. Баблояна. Научная редакция И.Ю. Романова. [i] Brenman Pick, I. The faces of trauma; Between personal and the social. The pleasure of passing on the bad treatment. Report on Kiev seminar, November 2018&