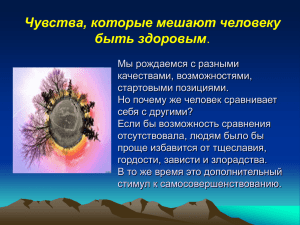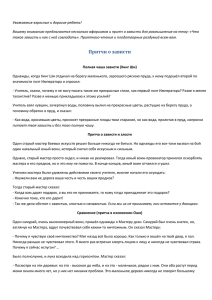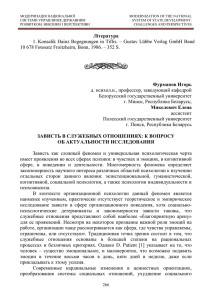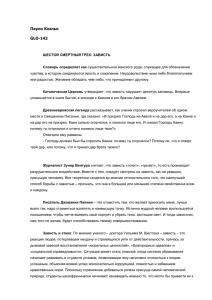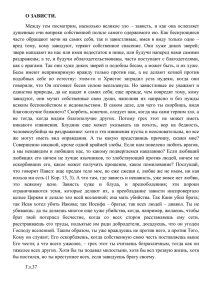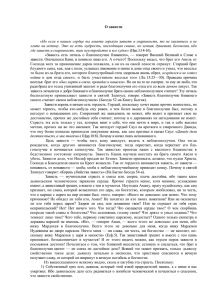Он считает себя ущемленным: патологически завистливая личность 1 Рональд Бриттон Книга «Зависть и благодарность» была написана в последнее десятилетие жизни Мелани Кляйн. Она основана главным образом на анализе взрослых, но опирается на более раннюю аналитическую работу Кляйн с детьми, особенно с Эрной, шестилетней девочкой, которой была посвящена ее статья от 1924 года и которая сказала: «В жизни есть что-то, что мне не нравится» (р. 35). Кляйн написала эту статью, когда проходила анализ у Абрахама, он же впоследствии вел ее супервизию. Когда через сорок лет она обращается к теме зависти, она признает, что вдохновляется его работой; однако не упоминает его статью от 1919 года о затруднениях в анализе пациентов с нарциссическими расстройствами, которая, безусловно, повлияла на Розенфельда. Абрахам описывал, как такие пациенты: «оставляют позицию пациента и теряют из виду цель своего анализа. В частности, они желают превзойти своего врача и обесценить его психоаналитические таланты и достижения. … Во всем этом безошибочно обнаруживается элемента зависти» (Abraham, 1919, pp. 306–307) В «Зависти и благодарности» Кляйн сочетала анализ клинических феноменов зависти и того, как зависть препятствует благодарности, с теориями относительно роли, которую она играет в младенческом развитии. Кляйн отнесла зависть к самой ранней стадии, параноидно-шизоидной, когда, по ее мнению, зависть осложняет упрочение хорошего объекта и необходимое первичное расщепление на хорошее и плохое переживание. Последовавшие горячие дебаты были настолько сосредоточены на младенческом развитии, что клиническая феноменология зависти не получила достаточного внимания. Эта тема, вместе с темой инстинкта смерти/разрушения, перешла в разряд специфически кляйнианских. Идея Фрейда, акцент на врожденной деструктивности, который оказался неприемлемым для ряда его последователей, теперь перешла в теорию Кляйн, и подобным же образом мнение Абрахама о центральной роли зависти в деструктивном нарциссизме было приписано Кляйн и ее последователям. Концепция зависти стала предметом осуждения для одних и талисманом для других. Согласно Джеймсу Гаммилю, который в то время проходил супервизию у Мелани Кляйн, и та, и другая реакция приводили ее в замешательство. Она жаловалась, что некоторые супервизанты приносят материал, в котором они интерпретировали зависть там, где не было ее признаков. «Знаете, – говорила она, – я и не знаю, кто разрушит мою работу – самые пылкие последователи или самые яростные враги! Так бывает всякий раз, когда я пишу важную статью, в которой излагаются новые концепции. Некоторые порывают со мной из-за этих новых концепций; а другие хотят верить, что новая концепция касается всего и объясняет все» (Gammill, 1989). По этим причинам, даже несмотря на то, что данную концепцию использовали Розенфельд и Бион, дальше с теорией о месте зависти в развитии «разбираться» не стали, и ее источниками больше не занимались: некоторые (кляйнианцы) ее приняли, другие (антикляйнианцы) – отвергли. Версия Ханны Сигал, которая очевидно отличается от кляйновской, была принята как ортодоксальная; Сигал противопоставила зависть жадности, которую сочла либидинозным феноменом (Segal, 1964). 1 Britton, R. He thinks himself impaired: the pathologically envious personality. In: Roth, P. and Lemma, A. (ed) Envy and Gratitude Revisited. London, IPA, 2008, pp.124-136. Что мы подразумеваем под завистью? У английского слова «зависть» («envy») два корня: один от старофранцузского envie, что означает желание в смысле обожания, а другой от латинского invidia, означающего злобу, злую волю (согласно Оксфордскому словарю). Именно в первом смысле оно иногда используется в повседневном общении, и мы обнаруживаем его в романах девятнадцатого века, например, авторства Джейн Остин или Энтони Троллопа, когда персонажи не всерьез говорят, что завидуют другим, чтобы передать восхищение, – здесь это, разумеется, означает не прелюдию к нападению, но знак признания. Но чаще всего, от Античности до ранней английской литературы, и от Возрождения до современных текстов данное слово означает неудовольствие и недоброжелательность, вызванные успехом других. Чувство зависти может быть той ценой, которую мы платим за признание у других качеств или способностей, которыми мы не обладаем, но на которые претендуем. Это всплеск боли на волне восхищения. Так же, как любовь, тревога, чувства утраты и вины, зависть и страх зависти встречаются на каждом шагу. Поэтому следует ожидать, что зависть, подобно прочим упомянутым чувствам, будет вспыхивать на каждодневных сеансах анализа, о ней будут сообщать, вспоминать, переживать ее вновь, и так оно и есть. Но у некоторой, небольшой части людей она захватывает аналитическую сцену и их психическую жизнь. Именно это я называю патологической завистью и расстройством личности, в которое она входит. Теологи различных религий: иудаизма, христианства и ислама – придают зависти как источнику деструктивности более существенное значение, чем многие аналитики, и вы не найдете лучшего клинического описания, чем в определении, данном католическим катехизисом для будущих священников: «Зависть – это чувство печали, смущения или неудовольствия, вызываемое при виде превосходства или успеха другого: как в духовной, так и в мирской сфере; из-за того, что мы воображаем, будто наши заслуги этим преуменьшаются. Зависть не только противоположна милосердию, но и приводит к опрометчивому суждению, клевете, умалению достоинств, ненависти и к радости от неудачи другого» (Hart, 1916, pp. 364–365). Она включена в состав семи смертных грехов, «названных так потому, что они суть источники, порождающие великое множество грехов» (Hart, 1916, p. 364). Они являются «страстями», относительно которых дается комментарий, что «у каждого человека … есть страсть сильнее прочих» – «господствующая страсть» – и умерять ее либо сдерживать есть «главная работа духовной жизни» (р. 364). Здесь речь идет о том, что аналитикам важно не забывать: о том, что человек, страдающий от завистливого характера, не только потенциальный агрессор, но также и жертва своей собственной склонности. Такое сочувственное отношение пронизывает отчеты Мелани Кляйн обо всех ее завистливых пациентах, независимо от того, были ли одни детьми, подобно Эрне, которой посвящена статья 1924 года, или же взрослыми пациентами, описанными в работе 1957 года. В «Зависти и благодарности» Кляйн цитирует Книгу Премудрости Соломона (написанную, вероятно, в первом веке на греческом языке эллинистическим евреем в Египте; она входит в греческую версию Ветхого Завета, апокрифы протестантской Библии и во второканонические книги католической Церкви). Этой цитатой она указывает на то, что благодаря зависти зло вошло в мир в виде Дьявола: «Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия Своего; но завистью диавола вошла в мир смерть, и испытывают ее принадлежащие к уделу его». (2: 23–24) Мы могли бы обратить эту логику и сказать, что посредством осознания смерти, конечной природы вещей и ограничений самости в мир вошла зависть. В состоянии нарциссического всемогущества эти ограничения конечности и небеспредельные качества отрицаются. Тем самым предотвращается зависть, но поддержать это [состояние] можно лишь аннигиляцией опыта, что приводит к индивидуальному или коллективному психозу или к заключению веры в бессмертие и в неуязвимость для естественного хода вещей – в религиозную систему. Когда развитие показывает, а опыт пенетрирует, «сверхъестественную» неуязвимость непробиваемого нарциссизма самости, она может быть приписана кому-то другому, кто становится объектом завистливой ненависти. В этом комплексе якобы привилегированный, вызывающий зависть человек, созданный отчасти посредством проективной идентификации, ощущается обладающим качествами, которые завидующий считает по праву своими: и поэтому он чувствует себя ущемленным. Этот источник зависти Мильтон описывает в «Потерянном рае» как причину падения Люцифера, что создает ад, внося зло в мир и приводя впоследствии к падению человечества: «Не спал и Сатана. Отныне так Врага зови; на Небе не слыхать Его былого имени теперь. Один из первых, первый, может быть, Архангел – по могуществу и славе, Всевышним взысканный превыше всех, Он завистью внезапной воспылал, Затем, что Сына Бог-Отец почтил, Столь возвеличив, и Царем нарек, Помазанным Мессией. Гордый Дух Снести не мог соперничества, счел Себя униженным…» (Мильтон, «Потерянный рай», Книга пятая, ст. 658–665 [853–864] (1975, р. 131))2 Прежде чем обсуждать, какой свет это может пролить на источники патологической зависти в психоаналитическом измерении, я бы хотел проиллюстрировать ее проявления и ее связи с гордостью и отчаянием на одном великолепном литературном примере. (Используя сопоставимое исследование клинического случая, я бы слишком сильно нарушил конфиденциальность, но я сталкивался с подобными случаями в практике и, даже еще чаще, в супервизии.) Этот вымышленный персонаж, преподобный г-н Кроли, созданный Троллопом, – блистательно нарисованный портрет, связывающий воедино триаду гордости, отчаяния и зависти (повторю, что встречал в своей практике подобные случаи). 2 Все цитаты из «Потерянного рая» даны в переводе Аркадия Штейнберга. – Прим. перев. Преподобный г-н Кроли впервые появляется как яркий персонаж в побочном сюжете в романе «Фремлейский приход» (1861); он становится центром главной интриги в более поздней книге, «Последняя Барсетширская хроника» (1866). Когда мы впервые встречаем его во «Фремлейском приходе», Троллоп нам говорит: «Г-н Кроли был суровым человеком – суровым, строгим, неприятным человеком, боявшимся Бога и собственной совести … теперь ему было около сорока лет от роду». (Trollope, 1861, p. 139) Г-н Кроли был попечителем3 Хогглстока, бедного прихода, пять лет; до того он со своей женой провел десять жалких, нищих лет, служа попечителем в Северном Корнуолле. И он, и жена происходили из благородных семей, и он был выдающимся ученым. Нищета материально подавляла их и их детей, но еще сильнее она подавляла г-на Кроли психически. Описание г-на Кроли в то время заставляет вспомнить об Иове – и я думаю, это сделано намеренно, – а также, каждого, кто с ней знаком, о клинической картине меланхолии: «Он был повержен – повержен душой и духом. И он жаловался с горечью в голосе, сетовал на то, что мир слишком жесток к нему, что его хребет переломлен тяжким бременем, что Бог покинул его. … Он сидел здесь неумытый, нестриженный, опустив лицо на ладонь, старый халат болтался на нем мешком, он почти ничего не ел, редко говорил, стараясь молиться, но столь часто усилия его оказывались напрасными». (Trollope, 1861, p. 141) Бедность раздула его зависть до невыносимости, заставляя ненавидеть всякого, кто казался ему более благополучным, и презирать себя за ничтожество – этот вердикт он вынес себе сам. Семья г-на Кроли не выбирала нищету, но нищета эта усугублялась его гордой похвальбой, что нет такого человека, у которого он попросил бы помощи. Его упрямство этим не исчерпывалось и препятствовало всякому спасительному финансовому вспомоществованию, – а таковое как раз замаячило впереди. У г-на Кроли был добрый друг юности, который тогда еще не был богат, но мог дать достаточно, чтобы многое изменилось в жизни этой семьи. Помощь этого друга, доктора Арабина, г-н Кроли был в состоянии принять тем меньше, чем больше судьба к тому благоволила. Когда доктор Арабин продвинулся в церковной карьере и удачно женился, получив немалые деньги, дружеское чувство к нему у г-на Кроли угасло настолько, что он не выносил даже его вида. Однако именно доктор Арабин организовал спасение семьи Кроли, так что они оказались в ситуации все еще печальной, но уже принципиально лучшей, получив приход в Хогглстоке, – и их долги были тайно выплачены. Чрезвычайно важно для понимания этой истории знать, что г-н Кроли полагал себя интеллектуально и морально превосходящим своего лучшего друга, причем всегда, еще со времен их учебы. Счастливую судьбу друга поэтому он переживал как несправедливость, но что «собирало ему на голову горящие уголья»4, так это щедрость д-ра Арабина и его супруги. Учитывая то, что мы знаем о гордости г-на Кроли, уязвленной бедностью, и его несгибаемой нравственности, его участь в «Последней Барсетширской хронике» выглядит такой, что хуже и представить невозможно. Он становится источником загадки и скандала, когда использует чек другого человека, чтобы оплатить торговцу просроченный счет. Г-н Кроли не может вспомнить, откуда он взял этот чек, и поэтому его обвиняют в воровстве. Его терзает неуверенность: «Да, – сказал он. – Да, в том-то и вопрос. Откуда он взялся? … И потому, что я не могу сказать вам, откуда Попечитель (curate) – приходской священник, не получавший никакой части десятины, ниже рангом, чем викарий (vicar). – Прим. перев. 3 Библейское выражение из Книги притчей Соломоновых, 25: 22, и Послания к римлянам, 12:20, которое вошло в английский язык поговоркой, которая означает примерно «воздать добром за зло, вызывая раскаяние». – Прим. перев. 4 он взялся, я должен быть – или в Бедламе, как сумасшедший, или в тюрьме графства, как вор». Те, кто его уважают, ни в чем его не подозревают, но беспокоятся о его душевном здоровье; те же, кому он не нравится, осуждают за воровство. А вердикт г-на Кроли самому себе балансирует между этими двумя точками зрения (Trollope, 1866). По мере того, как разворачиваются события, психическая реальность г-на Кроли открывается нам в большей мере. Есть моменты, когда он выходит из темницы персекуторных мыслей и завистливых чувств, куда сам себя поместил, и тогда мы видим, сколь прекрасной и удивительной может быть его гордость. Впервые это демонстрирует один маленький эпизод во «Фремлейском приходе», когда его, сурово аскетичного священника, леди Лафтон попросила наставить на путь истинный ее приятного, обходительного, беспечного викария, который, как она боялась, становится слишком уж общительным. В этой ситуации г-н Кроли не испытывал никакой робости или пиетета, ни малейшей зависти: сначала он указал павшему викарию на его заблуждения, а затем протянул заботливую руку спасения предполагаемому кающемуся грешнику со всей щедростью величия. Троллоп никак все это не комментирует, но мы видим поступки и поведение его персонажа так, как будто сами во всем этом участвуем. Однако мы таким образом узнаем, что этот человек чувствует себя хорошо только тогда, когда ощущает свое превосходство. Мы видим это в гораздо большем масштабе в истории о таинственном чеке. Епископ, под ураганным натиском своей супруги-ханжи, отстраняет г-на Кроли от его приходских обязанностей до формального признания его вины. Технически – это нарушение церковного права. Г-н Кроли мгновенно исполняется уверенности, что с ним обошлись несправедливо, и ощущает прилив бодрости, энергии, он готов к противостоянию. Епископ Пруди – повинуясь приказам г-жи Пруди, этой бесстыжей силы, скрывающейся за церковным престолом – превысил свою власть и попытался освободить г-на Кроли от его духовных обязанностей до суда над ним: а это могла бы сделать только должным образом сформированная Церковная комиссия. Он открыто противостоит паре, нарушившей закон, обращаясь к епископу с формальным почтением и официальной смиренностью, но совершенно игнорируя г-жу Пруди, и наконец заявляя ей, по сути, что она должна знать свое, подчиненное место жены и молчать. Он оказывается тем единственным человеком в Барсетшире, который в конце концов закрывает рот г-же Пруди, защищенный броней своей праведности, и с гордостью демонстрирует ошибку епископа и наглость г-жи Пруди. И в полной противоположности этому блестящему выступлению, когда г-на Кроли несправедливо обвиняют в краже чека, он совершенно теряется. Он не может вспомнить, где он этот чек взял, не может убедить себя в своей невиновности, и, если бы все зависело только от него, он бы пальцем не шевельнул, чтобы защитить себя или свою семью. Наконец его спасло возращение из-за рубежа старого друга доктора Арабина и г-жи Арабин, которая может объяснить, откуда у него этот чек. Именно она положила этот чек на 20 фунтов от себя в конверт, где уже было 50 фунтов, которые ее муж собирался вручить г-ну Кроли, – который этому всячески сопротивлялся, но находился в отчаянном положении. Г-н Кроли совершенно ничего не помнил об этом событии, когда он получил столь унизительные 50 фунтов наличными и еще менее приемлемый дар от женщины, г-жи Арабин, – деньги на пропитание его семьи. Позднее Троллоп писал: «Я не могу заставить себя поверить, что даже такой человек, как г-н Кроли, мог забыть, как он это получил. …» (Trollope, 1883, p. 274). Думаю, здесь психоанализ может предложить посмертную помощь автору. Троллоп, хотя и писал еще до Фрейда, не боялся слова «бессознательный». Он довольно часто характеризовал им отношения, восприятия, мотивацию и эмоциональную реакцию. Но амнезию г-на Кроли он так не называл. Считаю, мы можем предположить у г-на Кроли бессознательное чувство вины, из-за которого он становится тем, кого Фрейд описывал как преступника из бессознательного чувства вины: человеком, добивающимся наказания за одно нарушение, чтобы справиться с другим, которое он не осознает. Мне думается, что амнезия г-на Кроли, которая толкает его к неизбежному обвинению, это продукт виновной психики. Истинный источник этих чувств вины остается для него таким же неосознаваемым, как и свидетельство его невиновности в действительности. То, что он использует чек для облегчения своего материального состояния, возмущенно отказываясь признавать дар и его источник, – это разновидность воровства. Дар друга, облегчивший финансовое положение м-ра Кроли, переживался как унизительное напоминание о том, сколь различна была их судьба, и потому стал источником обиды и усугубления ненависти. М-р Кроли чувствовал себя вправе быть столь же состоятельным (если не больше), как и его старый друг, ныне декан, и его неотступная вязкая [ruminative] обида была чем-то вроде постоянного нападения на добронравие друга. Это, в свою очередь, порождало вину и обрушивало на него ярость его собственных моральных суждений. Чтобы загладить это, он готов страдать от несправедливости. Альтернативой его назначенного самому себе наказанию могло бы стать смелое осознание глубины неблагодарности, движимой завистью: но это, он уверен, свело бы его с ума. Есть и другие, вызывающие еще большую зависть характеристики д-ра Арабина, что сводят Кроли с ума: его терпимость, и кроме того, его относительная свобода от зависти. Г-н Арабин с радостью признает, что г-н Кроли более выдающийся ученый, чем он сам. Самому г-ну Кроли это совершенно недоступно, но он, как нас успешно убеждает Троллоп, признает это в своем друге. Поэтому он несправедлив к своему другу и уродует его образ, когда воображает, потворствуя себе, свой триумф, но когда он сталкивается с виной, то восстанавливает образ друга, признавая его скромность и щедрость. У г-на Кроли беспощадное Супер-Эго, и когда он признает, что был к своему другу несправедлив, на него обрушивается обвинение в неискупимом грехе. Это провоцирует еще более сильное чувство недостойности и прокладывает путь следующим завистливым атакам на тех, кто воспринимается как более добродетельные. Этот цикл нам знаком по анализам некоторых депрессивных пациентов. Его также приписывает Мильтон Сатане в Книге четвертой «Потерянного рая». Сатана появляется в начале Четвертой книги, планируя отомстить Богу, предать своего творца, соблазнив первородную пару; подстрекаемый гневом, он одержим отмщением, негодование ограждает его от всякого сомнения, опасения или жалости: он не просто охвачен гневом, он вне себя от гнева. Однако в момент рождения мстительного проекта его кипящих чувств им на мгновение овладевает раскаянье: «…и в его груди Мятежной страшный замысел, созрев, Теперь бушует яростно, под стать Машине адской, что, взорвав заряд, Назад отпрядывает на себя. Сомнение и страх язвят Врага Смятенного; клокочет Ад в душе, С ним неразлучный; Ад вокруг него И Ад внутри. Злодею не уйти От Ада, как нельзя с самим собой Расстаться». (Мильтон, «Потерянный рай», Книга четвертая, ст. 17-22 [20-30] (1975, р. 85)) Сатана «отпрядывает на себя»: если говорить на нашем языке, он прекращает проецировать и обнаруживает, что ад внутри него, это не тюрьма, в которую он несправедливо брошен. Мильтон также, как и его персонаж Сатана, «отпрядывал» на себя в том смысле, что всматривался внутрь, в собственную человеческую природу, чтобы найти объяснение безостановочной деструктивности Сатаны. Он делает это, погруженный в превратности и сложности депрессивной позиции, отягощенной отчаяньем и невыносимой завистью. Он очеловечивает Сатану, и в этом коротком фрагменте показывает, почему именно этот человек не способен проработать депрессивную позицию и оказывается перед выбором между меланхолией и ролью деструктивного нарциссиста. Сатана не может вынести той мысли, что если он покается и будет прощен, зависть вновь будет провоцировать его на мятежную атаку. Он не может представить, что будет способен сдержать (contain) эти чувства и интегрировать их с признанными в себе восхищением и благодарностью: «Пробудила Совесть вновь Бывалое отчаянье в груди И горькое сознанье: кем он был На Небесах и кем он стал теперь, Каким, гораздо худшим, станет впредь. Чем больше злодеянье, тем грозней Расплата». (Мильтон, «Потерянный рай», Книга четвертая, ст. 23-26 [31-37] (1975, р. 85)) Источники патологической зависти Чтобы далее изучить связь между нарциссизмом и завистью, я бы хотел внимательней исследовать текст Мильтона и, опираясь на него, высказать предположение о возможном отношении между Супер-Эго, Эго-идеалом и идеальным Эго, порождающем зависть. Так же, как Лакан (Lacan, 1977, p. 257), я полагаю, что идеальное Эго и Эго-идеал – не одно и то же; в его терминах, идеальное Эго исходит от «регистра воображаемого», а Эго-идеал от «регистра символического», которое «уже здесь» (Vanier, 2000). Чарльз Хенли (Hanly, 1984) считает, что полезно сохранять термин «идеальное Эго» и отличать его от Эго-идеала. Последний, говорит он, вдохновляющ, это «состояние становления», тогда как идеальное Эго – это иллюзорная, совершенная самость. Я склонен с этим согласиться, и полагаю, что вдохновляющий Эго-идеал является преемником идеального ребенка, который некогда существовал в психике родителя. Сатана (идеальное Эго) чувствует, что низвергнут, когда Бог (Супер-Эго) провозглашает, что его Сын (Христос) есть Мессия (Эго-идеал), а не Сатана – как тот полагал. Он испытывает не только ревность, он «счел себя униженным» – считает себя ущемленным – и потому «воспылал завистью». Ключевой момент здесь заключается в господнем откровении, что, согласно доктрине Троицы, Сын состоит из той же божественной субстанции, что и Отец, и значит, не был сотворен – то есть он, в отличие от Ангелов, не является творением, но, как и Бог-Отец, существовал всегда. «Он завистью внезапной воспылал, Затем, что Сына Бог-Отец почтил, Столь возвеличив, и Царем нарек, Помазанным Мессией. Гордый Дух Снести не мог соперничества, счел Себя униженным…» (Мильтон, «Потерянный рай», Книга пятая, ст. 659–665 [858–864] (1975, р. 131)) Поведано, что Христос состоит из той же субстанции, что и Бог – то есть, он вечная предсуществующая мысль Господа, таким образом – божественная, «Слово», «рожденное, но не созданное», в отличие от Ангелов, в том числе Сатаны, которые были созданы в некоторый момент времени Богом. Таким образом, претензия Сатаны в его бунте против того, что провозглашено Богом, заключается в отрицании провозглашенного и настоянии на том, что он и его собратья Ангелы не были созданы, и потому не обусловлены причинами и следствиями и независимы. Он заявил: «Мы времени не ведаем, когда Нас не было таких, какими есть; Не знаем никого, кто был до нас. Мы саморождены, самовозникли Благодаря присущей нам самим Жизнетворящей силе…» (Мильтон, «Потерянный рай», Книга пятая, ст. 859–861 [1105–1110] (1975, р. 136)) В решающий момент откровения Сатана обнаруживает, что его идеальное Эго, его нарциссическая самость, не совпадает с Эго-идеалом Бога, его сыновнего идеала. Момент, который рождает зависть и уязвляет гордость, – это момент откровения о разрыве между идеальным Эго – то есть, идеализированной самостью, – и Эго-идеалом как предсуществующей идеей совершенства. В терминах Биона – пре-концепция, а в терминологии Лакана – часть символического порядка, нечто, что, по Лакану, «уже-здесь», существовало бы на «стадии зеркала», когда возможно понимание (realization) того, что идеальное Эго регистра воображаемого не является Эго-идеалом символического порядка (Lacan, 1977). В терминах Кляйн это было бы депрессивной позицией, когда начинается отдельное существовавшие самости и объекта и возникает разграничение между воображаемым отношением и отношением, переживаемым в опыте. Это откровение гласит, что источник жизни – вне нее самой, он существует прежде существования самости, состоит из иной субстанции и составляет главную часть асимметричного отношения: родительской идеальной фигуре можно поклоняться, но она не отвечает взаимным поклонением. Это открытие того, что спроецированный идеальный ребенок родителя рожден не из опыта идеализированной самости, но по внутренней, предсуществующей преконцепции в родительской психике. Мне уже приходилось писать, что я считаю зависть не атомом, но молекулой: не элементом личности, но соединением (Britton, 2003). Порождается она, полагаю, сочетанием ряда факторов: признанием раздельности самости и объекта; неудовлетворенным желанием обладать той же природой, что и любимый объект, и получать преклонение в ответ на свое – иными словами, это крушение иллюзий, которое сопровождается пониманием того, что идеализация самости не превращает тебя в Эго-идеал. Думаю, зависть возникает вследствие настойчивой веры в то, что некто обладает этой утраченной идентичностью, что кто-то другой может быть Эго-идеалом, существующим во взаимном поклонении с Супер-Эго. Некоторые дети – например, Эрна (Klein, 1924, p. 46) – так начинают воспринимать родительское отношение. Одна из театрализованных историй шестилетний Эрны весьма напоминает «Потерянный рай»: «Учитель и учительница дают детям уроки хороших манер. … Вдруг дети нападают на них, растаптывают, убивают и поджаривают. Теперь они стали чертями и злорадствуют над мучениями своих жертв. Но вдруг внезапно учитель и учительница уже на небесах, а бывшие черти превратились в ангелов и … совершенно не знают о том, что были чертями. … Бог-Отец, бывший учитель, начинает страстно обнимать и целовать женщину, ангелы поклоняются им и все снова становится хорошо». (Klein, 1924, pp. 36–37) В этом смысле зависть возникает как взаимоотношение между тремя людьми, как и все объектные отношения депрессивной позиции. Мелани Кляйн считает зависть диадической, а Ханна Сигал рассматривает ее как проявление «инстинкта смерти» на параноидно-шизоидной позиции. Я полагаю, что зависть это соединение, которое может образовываться на точке входа в депрессивную позицию. Если к вышеперечисленным элементам, которые ее составляют, добавляется еще и немалая часть врожденной враждебности, это создает потенциально патологический завистливый комплекс. Именно этот элемент, деструктивный инстинкт, который действует на параноидно-шизоидной позиции, осложняет отношения с первичным объектом и, если проносится дальше, на депрессивную позицию, придает переживанию зависти дьявольское измерение. Если зависть является соединением, она может появиться на любой стадии вследствие сочетания своих элементов, и исчезнуть, если они распадутся. Поэтому она может появляться и исчезать как в жизни, так и в анализе. Полагаю, именно это и происходит в жизни большинства людей, и именно это мы обнаруживаем в большинстве случаев анализа. Однако у некоторых людей постоянно сохраняется, как неразложимое соединение в личности, завистливый комплекс, влияющий на все психические возможности и обстоятельства, и окрашивает их в свой цвет. Думаю, это присутствие значительного количества того, что Ханна Сигал назвала бы «инстинктом смерти», а я предпочитаю обозначать как деструктивный инстинкт, исходно направленный вовне. Размышляя над этим, я описал его как ксеноцидный импульс, «врожденную либидо-фобную, анти-объектную склонность, которая стремится уничтожить то, что вторгается в самость и не является самостью» (Britton, 2003, p. 126). Как предположил Бион в своей статье «Нападения на связь», этот деструктивный импульс может также быть направлен на внутреннее сочетание с объектом и даже на аппарат восприятия, который связывает с ним самость (Bion, 1959). Возможно, этот момент проиллюстрирует анализ молодой женщины, который я супервизировал. Пациентка страдала от тяжелого нарциссического расстройства преимущественно деструктивного рода. Ей трудно было выдерживать аналитическую ситуацию, и она делала ее еще более невыносимой для своего аналитика. Обычно она хотела, чтобы аналитик только слушал ее и ничего не добавлял от себя, и сердилась на то, что вынуждена ездить на анализ, причем согласно расписанию, что ей представлялось унизительным подчинением, и очерняла аналитика как с профессиональной, так и с персональной стороны. В то же время она была чрезвычайно требовательной и постоянно настаивала, чтобы ее принимали в то время, когда она хочет. Обнаружив, что анализ ей помогает, она почувствовала обиду и со временем зависть к своему аналитику, а потом, с болью, к воображаемым другим пациентам, которым лечение могло быть приятным. Все это спровоцировало смертоносные фантазии и бешеные отыгрывания, которые немало пошатнули благополучие аналитика. Сновидение, которое я привожу ниже, она увидела в среднем периоде анализа. Сновидение Пациентка Л. кормит ребенка из ложечки – ее мать находится в комнате – Л. не уверена в том, чей это ребенок. По мере того, как она занимается кормлением, ложка становится вилкой, и эта вилка сдирает кожу с губ ребенка, который затем ее поедает. Она обращается к матери за помощью. Мать говорит: делай вот как – и отрывает большие куски рта ребенка вилкой и говорит, мол, вот что ребенок любит есть. Пациентка говорит, что должен быть другой вариант, чтобы ребенок не ел сам себя. – Губы ребенка очень красные, плотно сжаты и выглядят как гениталии. Тогда она понимает, что это не мать, а Х., ее бывшая подруга, и они не кормят ребенка, а занимаются сексом. «В действительности, – рассказала пациентка, – у меня были гомосексуальные отношения с М.; у М. было идеальное тело – я его обожала – “идеальное” это значит, что у нее было именно такое тело, какое, как я воображала, мой отец хотел бы, чтобы имела женщина». Этот сложный материал ярко иллюстрирует, что нарциссическая альтернатива кормлению со стороны объекта представлена в виде инфантильного самопоедания и его трансформации в нарциссические сексуальные взаимоотношения. В этих отношениях пациентка претендует на то, что идеальное Эго (подруга с идеальным телом) – это то же самое, что и Эго-идеал (именно то тело, какое мой отец хотел бы, чтобы имела женщина). Эта пациентка, как и другие, страдающие от завистливого ядра личности, в самом деле чувствовала себя ущемленной любым и всяким успехом окружающих ее людей, и радовалась только их несчастьям. Перевод З. Баблояна. Науч. ред. И.Ю. Романова. Библиография Abraham, К. (1919). A particular form of neurotic resistance against the psycho-analytic method. In: Selected Papers of Karl Abraham, trans. D. Bryan & A. Strachey. London: Hogarth Press, 1927. Bion, W. R. (1959). Attacks on Linking. International Journal of Psychoanalysis, 40: 308–315. Britton, R. (2003). Sex, Death and the Superego. London: Karnac. Gammill, J. (1989). Some personal reflections on Melanie Klein [trans. M. Meloche]. Melanie Klein and Object Relations, 7: 1–15. Hanly, C. (1984). Ego ideal and ideal ego. International Journal of Psychoanalysis, 65: 253. Hart, C. (1916). The Student’s Catholic Doctrine. London: Burns Oates & Washbourne. Klein, M. (1924). An obsessional neurosis in a six-year old girl. In: The Writings of Melanie Klein, Vol. 2: The Psycho-Analysis of Children. London: Hogarth Press, 1975; London: Karnac, 1998. Lacan, J. (1977). The Four Fundamental Concepts of Psycho-Analysis, trans. A. Sheridan. London: Penguin. Milton, J. (1975). John Milton: Paradise Lost. New York: W.W. Norton. Segal, H. (1964). Introduction to the Work of Melanie Klein. London: Hogarth Press. Trollope, A. (1861). Framely Parsonage. London: Everyman’s Library, J. M. Dent, 1906. Trollope, A. (1866). The Last Chronicle of Barset. London: Penguin Classics, 1967. Trollope, A. (1883). An Autobiography. Oxford: Oxford University Press, 1950. Vanier, A. (2000). Lacan, trans. S. Fairfield. New York: Other Press.