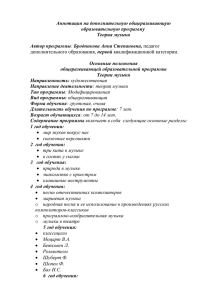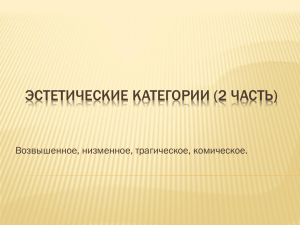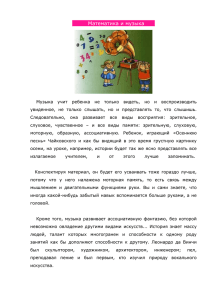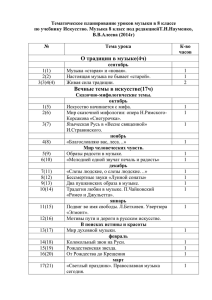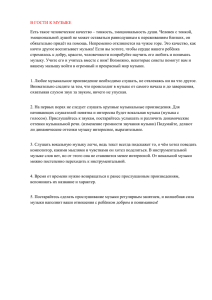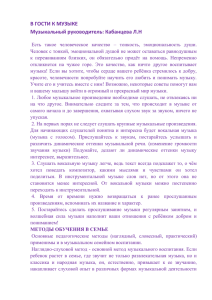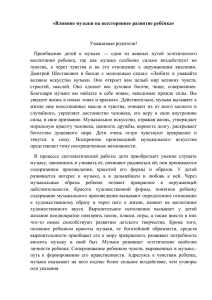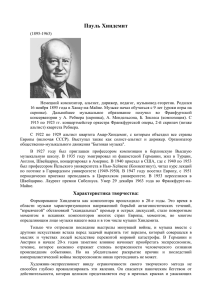Б.Бородин Комическое в музыке Екатеринбург 2002 1 Министерство Культуры Российской Федерации Уральская государственная консерватория им. М.П.Мусоргского Б.Бородин Комическое в музыке монография Екатеринбург 2002 2 ББК Щ 310+ Ю 821 Б 83 Рецензенты: доктор философских наук, профессор Ю.А.Ермаков, кандидат искусствоведения, профессор УГК Е.А.Рубаха Б 83 БОРОДИН Б. Комическое в музыке (монография) Каковы границы комического? Какое место в структуре этой категории занимают такие понятия, как сатира, юмор, сарказм, гротеск, ирония? В какой степени музыка способна к воплощению всего эмоционального диапазона комического? Не противоречит ли это ее специфике? Все эти дискуссионные вопросы музыковедения и эстетики рассматриваются в предлагаемой монографии. Автор дает очерк эволюции комического в музыке, отмечая основные ее этапы, связанные с развитием средств музыкальной выразительности. В книге показано сложное взаимодействие эстетической мысли и художественной практики, приводятся примеры, демонстрирующие преемственность комической образности у композиторов разных эпох. Книга адресована музыкантам-профессионалам интересующимся вопросами музыкальной эстетики. Силуэты в тексте – Ю.Зеленков © Бородин Б.Б.. 2002. 3 и всем, ОГЛАВЛЕНИЕ Комическое в музыке: за и против__________5 Глава первая. Комическое, или Протей_____18 Глава вторая. Улыбки и гримасы___________48 Глава третья. Гость с черного хода_________74 Глава четвертая. Классицизм и романтизм_114 Глава пятая. Освобождение комического___142 Вместо заключения _____________________ 172 Нотное приложение______________________ 175 Список литературы______________________218 Указатель имен__________________________225 Summary________________________________234 4 Посвящается памяти Якова Соломоновича Тубина 5 Комическое в музыке: за и против… Спрашивается, как обстоят дела и вообще – обстоят ли они? Вен. Ерофеев. Из записной книжки «От православного нового года 1981» «Как ни примечателен писатель, как ни значительны его книги, на какие высоты не взбирайся он в своих писаниях,- если ни разу в жизни он не пошутил, не написал ничего смешного или веселого, не блеснул эпиграммой или пародией,- каюсь, такого писателя в глубине души я всегда подозреваю в затаенной бездарности, на меня от такого пророка или мудреца разит величавой тупостью»,- писал в одной из своих последних статей В.Ходасевич (172, 24). Безусловно, мысль поэта субъективна и полемически заострена. В различные исторические эпохи комическое оценивалось по-разному. Но все же оно никогда не теряло своей цены. Воскрешая в памяти образы гениев – этих,по словам А.Шопенгауэра, «маяков человечества» – нельзя не убедиться, что им нередко сопутствовал своенравный дух комизма. Раскатистый смех богов сотрясает Олимп в гомеровской «Илиаде»; великий Леонардо запечатлевает бессмертные облики идеальной красоты – и целый паноптикум «гримас природы», галерею карикатурно-уродливых личин; мудрые шуты сопровождают трагических шекспировских персонажей; в эпиграммах Пушкина мы «по когтям узнаем льва», озорные поэмы автора «Руслана» в своем роде не уступают драматическим… Все это не только всплески избыточной энергии духа, игра могучих творческих сил, но и приметы полноты мировосприятия. Попытки охватить жизнь во всей ее противоречивости, - ибо еще Платоном сказано: «…без смешного нельзя познать серьезного» (130, 298). Эволюция комического в различных видах искусства происходила не одинаково и не равномерно. В каждом из них 5 вырабатывался свой особый язык, сопрягающий свойства исходного материала,- будь то слово, линия, цвет или звук,- и видовые особенности названной категории; возникали образные системы, формировались жанры, в которых комическое находило адекватное воплощение. По давней традиции, исследователи комического, раскрывая его закономерности, особенно охотно привлекают примеры из области литературы и драматического искусства. Действительно, используя слово как гибкий и тонкий инструмент мышления,- в том числе образного,- способный передавать весь спектр интеллектуальной и эмоциональной жизни,- от самого абстрактного до самого конкретного,- эти сферы художественного творчества раньше других овладели богатством комического с исчерпывающей полнотой. Уже мир античности рождает замечательные образцы, в которых все модификации комического – жизнерадостный смех, ирония, сарказм, сатирический гротеск – представлены в классически ясных и совершенных формах: пародийный эпос 1 (“Батрахомиомахия”) , комедии Аристофана, Менандра, Плавта, Теренция, мимы Герода2, сатиры Луцилия, басни Эзопа, диалоги Лукиана. Существование комического в изобразительном искусстве никем и никогда не оспаривалось, хотя оно заявило о себе значительно позже, чем в литературе, а путь его оказался более сложным и извилистым. Античная живопись (например, росписи ваз) практически не дает оснований для разговора о комическом. Лишь элементы дисгармонии в изображении некоторых божеств дионисийского культа (Силен, фавны, сатиры) и мифологических чудовищ (циклопы, гарпии, Минотавр, Горгона, Химера) отдаленно предвосхищают излюбленный прием «Война мышей и лягушек» – поэма, приписывавшаяся в древности Гомеру. Пародирует героический эпос, используя традиционные эпические формулы. Предположительное время возникновения – III в. до н.э. 2 «Мим – это типично эллинистический жанр, дающий натуралистическую зарисовку действительности, в нем преобладают бытовые, житейские ситуации и мотивы» (6, 266). 1 6 изобразительного комизма – намеренную деформацию жизнеподобных форм3. Условный и лаконичный язык современной карикатуры имеет прообраз и в простодушном народном лубке, и в причудливых маргиналиях средневековых рукописей. Вообще стоит отметить некий «литературный компонент», который поддерживал развитие комического в изобразительном искусстве – здесь велика роль фантастических, приземленно-бытовых, забавных, назидательных, наконец, сатирических сюжетов. Тому пример – графические серии Калло, Хогарта, Гойи, Домье, жанровые полотна «малых голландцев», передвижников. Судьба комического в музыке сложилась драматично. Изучение литературы по данному вопросу,- а она не так уж велика по сравнению с огромным количеством общих трудов о комическом,дает поразительную картину: суждения музыкантов, композиторов, музыковедов, исполнителей здесь чрезвычайно редко совпадают с мнениями философов, специалистов по эстетике4. Большинство представителей эстетической мысли (и это их право!) вообще не упоминают о комическом в музыке. Остальные либо отрицают существование музыкального комизма, либо считают его возможности минимальными5. Наиболее распространенную точку зрения хорошо сформулировал М.Каган: «Минимальны возможности создания комического образа в музыке. (…) Пожалуй, лишь в XX веке музыка стала активно искать собственные, чисто музыкальные средства для создания комических образов. (…) И все же, несмотря на важные художественные открытия, сделанные музыкантами XX в., в музыкальном творчестве комическое не завоевало и никогда, видимо, не завоюет такого Отправной точкой подобной деформации является изобразительная конкретность, – во всяком случае, примеры комического в абстрактном, беспредметном искусстве нам неизвестны. 4 Библиографию см. в работах: 24, 50, 59, 61, 99, 161, 201. 5 Перечень авторов, отрицающих существование комического в музыке см.: 203, 686. 3 7 места, какое оно издавна занимает в литературе, драматическом театре, изобразительном искусстве, кинематографе» (66, 207). Предположим, что М.Каган прав. Но и в этом случае остается немало открытых вопросов. Если комедийные возможности музыки минимальны, они все равно нуждаются в исследовании, а не в констатации факта их существования. Согласен, в эстетических трудах, тем более в учебнике, это сделать затруднительно,- здесь необходим другой масштаб. Но если эстетика претендует на всеобщность выводов, она должна охватывать художественную практику всех видов искусства. Начиная с XVII века, композиторы упорно обозначают некоторые свои сочинения как «скерцо» (шутка!), бурлеск, юмореска. Что они вкладывали в эти понятия? Есть ли здесь, помимо формального созвучия с эстетическими терминами, глубинное содержательное родство со сферой комического? А жанр комической оперы? Хорошо, здесь многое зависит от мастерства драматурга, но, как когда-то воскликнул Л.Саккетти,«все же есть нечто и в самой музыке, что делает ее соответствующей смешным словам» (149, 322). Музыковеды многое сделали, чтобы раскрыть это «нечто» – в их трудах содержится масса интересных наблюдений над различными проявлениями музыкального комизма, они пишут о юморе Гайдна и Бетховена, иронии Моцарта, гротеске Малера, сатире Шостаковича. Разнообразие рассматриваемых явлений далеко выходит за рамки XX века и заставляет усомнится в тезисе об изначальной ограниченности комического в музыке. Однажды мне в руки попала книжка «Музыканты улыбаются». В ней под одной обложкой были собраны bons-mots замечательных музыкантов, рассказаны забавные истории, в которые они попадали, описаны курьезные ситуации, из которых они выходили с честью благодаря своему остроумию и находчивости. Словом, сборник не оставлял сомнения в том, что музыканты не обделены чувством юмора. Издание было снабжено юмористическими рисунками. Один из них привлек мое внимание тем, что неожиданно напомнил о разногласиях 8 эстетиков и музыкантов. На нем был изображен пианист, выступающий в концертном зале. Исполнитель буквально корчился от смеха на глазах недоуменной аудитории. Причина его веселья становилась ясна, когда ваш взгляд находил ноты на пюпитре рояля – на них крупными буквами стояло: «Юмореска». Рисунок пробуждал фантазию, и я подумал: а что, если в этом воображаемом концертном зале собрать вместе сторонников и противников комического в музыке, дать им возможность высказаться, поспорить,- уверяю вас, здесь собрались бы интереснейшие люди, и «прямая трансляция» их беседы могла бы заменить нам академический «обзор литературы». Ведь в книгах, пьесах, кинофильмах, которые можно объединить под рубрикой «Жизнь замечательных людей», давно никого не удивляет ставший штампом нехитрый беллетристический прием, когда великие, прогуливаясь или наблюдая из окна кареты за страданиями народа, время от времени глубокомысленно изрекают цитаты из своих собственных сочинений. Итак… Знакомая всем любителям музыки приподнятовозбужденная атмосфера зала перед началом концерта. Публика постепенно рассаживается. Слышен сдержанный гул голосов. Из общего равномерного шума слух невольно выхватывает отдельные связные реплики, обрывки разговоров. «Музыка не может производить комический эффект. Музыкального остроумия не бывает, как не бывает и музыкальных шуток. Если музыка стремится быть комической, вызывать смех, она сама становится смехотворной и только» (111, 1, 322),- это голос гейдельбергского профессора, историка и литературоведа Г.Гервинуса. Его слова подхватывает А. Шлегель: «Дурное, подлое музыка вообще не может выразить, даже если бы и захотела; она может давать только резкие, грубые, пронзительные мелодии, которые лишь нашими ассоциациями обращаются в нечто низкое и комическое» (111, 1, 348). 9 Веско и отчетливо прозвучала речь Г.В.Ф.Гегеля: «Объединение мелодического и характерного заключает в себе ту опасность, что, стремясь к более определенному описанию, можно легко преступить тонко очерченные границы музыкально-прекрасного, в особенности когда приходится выражать насилие, эгоизм, злобу, вспыльчивость и прочие крайности односторонних страстей» (31, 2, 322). «Прекрасных и добрых явлений музыки гораздо больше, чем достойных презрения, и они гораздо значительнее» (111, 1, 334),- вступает в беседу И.В.Риттер. «В музыке есть нечто священное, она может живописать лишь благое и этим отличается от других видов искусств» (111, 1, 365),- охотно подтверждает Жан-Поль. Вы заметили? До сих пор звучала лишь немецкая речь. Но вот реплика француза – критика и педагога Ф.-Ж.Фетиса: «Если нужно, чтобы музыка стала интерпретатором острот, шуток и прибауток, то сразу заметна ее полная непригодность для этого. Если музыкант ничего не хочет скрыть из остроумия поэта, он стушуется, чтобы дать ему выявиться и поэтому будет слаб и скован; если же музыкант упорствует и хочет внести что-то свое, он становится назойливым» (114, 106). Разговор подытоживает А. Шопенгауэр: «Существенная серьезность музыки, когда совершенно изгоняется из ее непосредственной сферы комическое, смешное, объясняется тем, что объект музыки – не представление, относительно которого возможны иллюзии и смех, но непосредственно сама воля, а воля по сущности своей – то самонаисерьезнейшее, от чего зависит Все» (111, 1, 165). Общее согласие внезапно было нарушено голосом человека, внешний вид которого вызвал недоумение и замешательство присутствующих. Действительно, среди костюмов XIX-го века – фрачных пар, строгих профессорских сюртуков, ставших привычными для нас во время разговора, его наряд выглядел довольно экстравагантно: короткие бархатные панталоны, расшитый золотом камзол, шпага и шляпа с пером выдавали представителя совершенно другой эпохи. Пробираясь к своему месту он быстро говорил по-итальянски: «Скажут, что не 10 подобает сочетать серьезную и веселую музыку, что это унижает музыканта. Но приятное и серьезное связаны друг с другом, как отец и сын. Об этом говорит Аристотель; Гомер и Вергилий являют тому пример. (…) Я хорошо знаю, что некоторые пи первом взгляде на мои каприччио могут расценить их как низкие и пустые; но да будет им известно, что для обрисовки комического персонажа нужно столь же тонкости, мастерства, естественности, как и для изображения мудрого рассудительного старца» (цит. по: 145, 1, 54). Это Орацио Векки из Модены (1550-1605), которому современники посвятили следующую эпитафию: «Он так блистал своими открытиями в музыке и поэзии, что легко превзошел все таланты всех времен. (...) Первый соединив гармонию с комическим даром, он заставил восхищаться собой весь мир» (145, 1, 53). На речь Векки горячо откликнулся Р.Шуман: «Не очень образованные люди, в общем, склонны слышать в музыке без текста либо страдание, либо радость – или уж (среднее между ними) грусть; они не в силах расслышать в музыке более тонкие оттенки чувства, как, например, гнев и раскаяние, относящиеся к страданию, безмятежность и благодушие, и прочее, относящееся к радости, отчего им столь трудно и дается понимание таких мастеров, как Бетховен, Франц Шуберт, которые всякое жизненное состояние умели переводить на язык звуков» (187, 289). Его поддержал писатель и композитор Э.Т.А. Гофман: «В этом я вполне уверен, а гениальные художники доказывали это на сотню ладов. В музыке может заключаться выражение забавнейшей иронии, она преобладает в великолепной опере Моцарта “Cosi fan tutte”» (111, 2, 41). Но, пожалуй, пора оставить нашу воображаемую аудиторию и поразмышлять об услышанном. Как мы видим, спор шел не только и не столько о комическом в музыке, сколько о границах ее выразительных возможностей. Те, кто считали комическое чуждым природе музыкального искусства, очевидно, исходили из определенной концепции этой категории. В маленькой трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери» есть 11 примечательная сцена: Моцарт, задумав угостить Сальери «нежданной шуткой», приводит к нему слепого скрипача. Моцарт Из Моцарта нам что-нибудь! Старик играет арию из Дон-Жуана; Моцарт хохочет. Сальери И ты смеяться можешь? Моцарт Ах, Сальери! Ужель и сам ты не смеешься? Сальери Нет. Мне не смешно, когда маляр негодный Мне пачкает мадонну Рафаэля, Мне не смешно, когда фигляр презренный Пародией бесчестит Алигьери. Пошел, старик! Моцарт Постой же: вот тебе. Пей за мое здоровье. Старик уходит. Здесь сталкиваются не только два противоположных характера, но и две эстетические позиции. Не случайно готовность к шутке, способность подмечать смешное, радоваться ему, получать наслаждение от юмористических ситуаций, которые подбрасывает жизнь, Пушкин дарит гению. Для его Моцарта жизнь артистична, она неотделима от искусства: смех, веселье, влюбленность, образы смерти (“виденье гробовое, незапный мрак”), возвышенное и трагическое,- все исполнено поэзии, все равноправно вплетается в мозаику жизни и искусства. Для второго персонажа, Сальери, жизнь и творчество противопоставлены; «искусство дивное» требует от своего «жреца» – музыканта – благоговейного и самоотречённого служения. По сути дела, «искусство безграничное», о котором он 12 с восторгом говорит, имеет весьма определенные границы: это сфера возвышенного, вне которой музыка перестает существовать как искусство. Вспомним: со времен аристотелевской эстетики комическое соединялось с низменным, безобразным6, следовательно, было недостойно претворения в музыке, которая понималась как звуковое воплощение преимущественно возвышенного и прекрасного. Взаимодействие двух точек зрения, одна из которых постулирует иерархию эстетических ценностей, а другая – их равноправие, оказало огромное воздействие на эволюцию музыкального комизма. Отголоски борьбы слышны даже на исходе XX-го столетия. Так, М.Каган свой тезис о минимальных возможностях комического в музыке объясняет тем, «что музыка, по самой своей природе является искусством непосредственного выражения чувств, переживаний, душевных движений человека, и чем более возвышенные, благородные, одухотворенные эмоции она выражает, тем больше ее художественная сила» (66, 208). Темпераментным возражением М.Кагану звучат слова Д.Д.Шостаковича из статьи «Счастье познания»: «Что считать человеческой эмоцией? Неужели только лирику, только печаль, только трагедию? Разве смех не имеет право на этот благородный титул? (…) Я хочу отвоевать законное право на смех в так называемой “серьезной” музыке» (185, 42). Разговор, подслушанный нами в воображаемом концертном зале, заставляет задуматься еще о двух аспектах, связанных с восприятием комического в музыке. Адекватному пониманию музыкального комизма препятствуют предвзятые эстетические установки, с которыми слушатель подходит к произведению, и недостаток слухового опыта. А.А.ГоленищевКутузов пишет в своих воспоминаниях о М.П.Мусоргском: «Помню, как теперь, впечатление мое, когда в первый раз я услыхал знаменитый “Раёк”,- я решительно ничего не понял; присутствующие все хохотали до упаду; со всех сторон 6 См.: 9, 650. 13 раздавались восклицания: “Чудесно! Тузово!” и т.д. Я был в недоумении и вопросительно поглядывал кругом,- мне, наконец, подробно объяснили смысл сатиры, назвали лиц, против которых она была направлена,- и, наконец, я сумел убедить самого себя, что действительно “Раёк” удивительное произведение. Несмотря на то, идя домой вечером вдвоем с Мусоргским, я решился его спросить не без некоторой робости: признает ли он сам свой “Раёк” художественным произведением. - Вы, кажется, изволите быть недовольны, господин поэт? – добродушно усмехнулся Мусоргский. - О нет, нет, – поспешил я возразить,- совсем не то! Мне только кажется, что “Раёк” – шутка; остроумная, злая, талантливая, но все-таки шутка, шалость… - А как за эту шалость на меня озлился ***! – прервал меня Мусоргский. – В концерте встретил меня, придавил к стенке в виде любезности и кричит, что узнал себя. Хохочет, а самого так и подергивает от злости» (110, 136). Голенищев-Кутузов не сразу понял «Раёк» потому, что, видимо, был недостаточно знаком с теми музыкальными явлениями, которые высмеял Мусоргский. Но и впоследствии, когда ему раскрыли подоплеку этой сатиры, он все же посчитал ее не вполне достойной гения композитора. И это не случайное недоразумение – поэт считал, что в сочинениях вроде «Савишны», «Козла», «Классика», «Семинариста» Мусоргский пошел ложным путем7. Зато от «Саула», «Колыбельной», «Ночи», сцены у фонтана из «Бориса» Голенищев-Кутузов приходил в восторг,- вот пример, как определенные воззрения ограничивают поле эстетического восприятия. В самом деле, ведь нельзя же к таким могучим умам, как Шлегель, Гегель, Шопенгауэр применить резкое определение Шумана «не очень образованные люди», которым он обозначал музыкальных филистеров, не понимающих тонкостей музыкального языка. Однако настороженное отношение к возможности комического в музыке, по-видимому, имело свою объективную основу в 7 См.: 110, 136. 14 художественной практике, и к этому вопросу нам придется скоро вернуться подробнее. Но несколько слов по этому поводу надо сказать и сейчас. В концертных залах иногда смеются. Этот факт трудно отрицать. Смех слышен на выступлениях «Виртуозов Москвы», камерного оркестра под управлением Лианы Исакадзе (программа «Музыканты улыбаются»), когда эти коллективы исполняют классические образцы так называемого «легкого» жанра. Смех раздавался на традиционных первоапрельских вечерах в Зале им. П.И.Чайковского, на абонементных концертах Московской филармонии «Гротеск и ирония в музыке» (сезон 1986-1987 г.г.), на премьере «Антиформалистического райка» Д.Шостаковича в Большом зале Московской консерватории. Откровенный хохот сотрясал торжественные своды Большого театра на балете А.Шнитке «Эскизы». Правда «тональность» смеха в академических концертных залах и музыкальных театрах несколько иная, чем на выступлениях бесчисленных эстрадных пародистов или в кинотеатрах, на демонстрации даже самых посредственных кинокомедий. Но почему бы не предположить, что все это свидетельствует вовсе не о минимальных возможностях музыкального комизма, а о его большей опосредованности, более сложной связи с жизненным и художественным опытом слушателя. К тому же смех и комическое далеко не тождественные понятия и отношения между ними не сводятся к прямой пропорциональной зависимости. Если вспомнить скандально-известные премьеры многих новаторских сочинений, например, парижскую премьеру «Весны священной» И.Стравинского,- то смех может оказаться только свидетельством непонимания, неприятия, возмущения, то есть реакцией, выражающей негативную оценку, следствием эстетической предвзятости. Осознание же подлинно комического иногда сопровождается всего лишь «затаенной улыбкой духа, которая может и не приводить в движение лицевые мускулы» (48, 115). Заранее скажу: музыка особенно могущественна именно в этом эмоциональном спектре. 15 Рассматривая комическое в музыке, музыканты и философы шли разными путями, исходили из разных отправных точек. Философы слишком часто зависели от фундаментальных положений своих систем, и с концептуальных высот эстетических теорий музыкальный комизм оказывался не всегда различимым. Композиторы отдавали предпочтение практике, следуя в этом примеру Диогена, который в ответ на утверждение некоего философа, что «движения не существует», молча поднялся и начал сосредоточенно ходить перед ним взад-вперед. Суждения музыкантов, как правило, основываются на богатом слуховом опыте, живом, субъективном ощущении музыки. Родоначальником такого подхода стал Р.Шуман – в «Новом музыкальном журнале» за 1834 год он опубликовал небольшой эстетический этюд, полемически озаглавленный «Комическое в музыке». Эта заметка вызвала к жизни целый ряд работ под таким же или сходным названием, задачей которых было описание соответствующих художественных средств 8. Зачастую этим дело и ограничивалось – демаркационная линия между эстетикой и музыковедением оставалась неприкосновенной9. Примерно со второй половины 20-го столетия положение начинает меняться, и граница между двумя областями знания все чаще нарушается с той и с другой стороны. В общеэстетических трудах появляется краткая характеристика музыкальных средств комического10, а музыковеды приходят к мысли, что необходимы «не только поиски комических образов в музыкальном произведении, но такой его анализ, результаты которого можно было бы изложить в понятиях и категориях, присущих эстетике, См. работы Б.Неймана (119), V.W. Cobbet (195), M.Flothuis (201), H.F.Gilbert (202), H. Ossberger (210) 9 В качестве примера назову книгу Т.Вайдля «Музыкальный юмор Бетховена», в которой педантично систематизированы бетховенские интонемы комического (215). 10 У Б.Дземидока (46, 234-235) и Н.Крюковского (79, 142). 8 16 включить их в эстетический ряд» (26, 99)11. В этом видит свою задачу и автор книги, предлагаемой вниманию читателей. Эта тенденция видна в работах М.Бонфельда (24; 25), Т.Заковыриной (61), В.Медушевского (105; 106, 31), Е.Назайкинского (116, 226-227; 117), А.Сохора (155, 206), А.Цукера (174), В.Грюна (203), Д.Кидда (206). 11 17 Глава первая. Комическое, или Протей Смешное строптиво. Жан-Поль. «Приготовительная школа эстетики» 1 Комическое часто сравнивали с Протеем – мифическим морским старцем, обладающим способностью к перевоплощению. Многообразие эстетических концепций отражает многоликость категории – ведь комическое обладает исторической, национальной и индивидуально-психологической спецификой. Поиски универсального определения напоминают поиски «философского камня». Сущность комического видели в безобразном (Аристотель: 9, 650), в «разрешении чего-то важного в ничто» (Кант: 68, 351), в противоположности возвышенному (Шеллинг: 180, 273), в несоответствии сущности и явления (Гегель: 31, 3, 579), в автоматизме (Бергсон: 18), в сублимации агрессивности (Фрейд: 169), в отклонении от нормы (Дземидок: 46). Как известно, опыты алхимиков привели к открытию фундаментальных законов химии. В эстетике поиски «магической формулы» высветили различные грани комического, раскрыли своеобразие его эстетических модификаций1. Психологи и физиологи, например, Гефдинг (37), Селли (152), Спенсер (156; 157), Щербак (188), позднее Фрейд (169),изучали смех как эмоциональную реакцию на определенные ситуации в жизни и искусстве2. Смех понимался как «выброс» психической энергии, которая была сэкономлена остроумным,и поэтому менее «энергоемким», чем обычное,- сопряжением Под эстетическими модификациями подразумеваются понятия, связанные со сферой комического: юмор, сатира, сарказм, ирония, гротеск и т. п. 2 Современные взгляды на психологию смеха представлены в работах А.Лука (94; 95; 96), П.Симонова и П.Ершова (153). 1 18 далеких понятий (Селли), либо путем изобретательного обхода «табу», воздвигаемого разумом против инстинкта (Фрейд). Влияние естественнонаучных теорий смеха не обошло и эстетику. Предложенную Селли типологию ситуаций, вызывающих смех (152, 61-92), в несколько переработанном виде можно найти у Монро (209, 40-76). Стремление к упорядочению средств комического характерно для работ Ю.Борева (26), Б.Дземидока (46), А.Натева (118), В.Проппа (135), в которых широко применяются эмпирические методы. Некоторая произвольность опытов строгой систематизации очевидна: число групп, объединяющих либо комическое ситуации, либо художественные приемы их воплощения, может быть различным, вполне вероятна их дальнейшая дифференциация или, напротив, укрупнение, сведение к меньшему количеству – такие спекулятивные построения отнюдь не гарантируют охвата всех возможных вариантов комического и, кроме того, не исключают проникновения явлений, в действительности не вызывающих комический эффект. Поэтому создание «периодической системы элементов» комического – задача, пожалуй, невыполнимая. Самая детальная классификация не сможет учесть существования некоторых промежуточных форм, а стремление во что бы то ни стало «инвентаризировать» все термины, имеющие хождение в сфере комического, вносит лишь путаницу. Ю.Борев, например, помимо дефиниций юмора, сатиры, гротеска и других важных областей комического, дает определения остроты, каламбура, шутки, насмешки и т.д. Он пишет: «Насмешка – прямая обидная издевка, протекающая в форме сатирически заостренной, эмоционально насыщенной критики. (…) Насмешка – сатирическая шутка» (26, 107). Следовательно, – см.: шутка. На той же странице читаем: «Когда предмет насмешки общественно неопасен и эта критика носит юмористический характер – перед нами – шутка. (…) Шутка – юмористически безобидная насмешка». Ю. Борев последовательно противопоставляет юмор и сатиру, как полюса 19 комизма. Но представьте, что после весьма язвительного замечания в ваш адрес, вам говорят: «Не обижайтесь, это только шутка!». Тут вы вполне резонно можете возразить (конечно, если обиделись): «Нет, это не шутка! Это насмешка! Вы так больше не шутите!»… А какой смысл приобретает, если попытаться применить определение Ю.Борева, чеховская фраза «насмешливое мое счастье»,- остается только догадываться. Заманчивые попытки афористических определений лишь отчасти достигают своей цели: схватывают явление в его статике, а стало быть, – формально. Бабочка в коллекции, пришпиленная булавкой, снабженная номером и латинской надписью,- мертвая бабочка. Изучая только ее, мы ничего не узнаем о стадиях ее превращения и отнесем гусеницу и куколку одного вида к разным классам насекомых. Когда Л.Данько в книге о комической опере XX-го века пишет: «Фарс – низшая форма гротеска» (43, 59),- то возникает возможность, проведя противоположную логическую операцию, предположить, что гротеск - высшая форма фарса,- вывод несколько неожиданный, вряд ли подразумевавшийся исследователем. Это свойство комического – ускользать из «ловушек» формальной логики, вызвало риторический вопрос Б.Кроче: « Возможно ли, на самом деле, логически определить ту линию, которая разделяет комическое и некомическое, улыбку и серьезное настроение и разграничить точным образом то всегда изменчивое непрерывное целое, в виде которого раскрывается жизнь?» (78, 105). Гибкостью, текучестью отличаются как внешние границы категории, так и ее внутренняя структура: понятия, обозначающие частные проявления комизма, настолько мобильны, синонимичны, что порой полностью зависят от контекста. Поэтому любая «жесткая» классификация не адекватна протеистической сущности комического. Определенные преимущества дает гибкая классификация, устанавливающая лишь крайние точки эмоциональной шкалы, соответствующие границам категории, как они понимаются тем или иным автором. Например, у Дж. Фейблмена – это радость и 20 насмешка (199), у Д. Вустера – комедия и сатира (216, 37). В «поле тяготения» этих полюсов группируются все модификации комического. Критерием классификации служат: у Вустера и Фейблмена – степень критического отношения, у Борева и Дземидока – социальные функции той или иной формы. При последовательном проведении идеи гибкой классификации оказывается, что можно рассматривать комическое не изолированно, само по себе, но лишь во взаимодействии с прекрасным, безобразным, трагическим и т.д., как часть системы эстетических категорий (см.: 79; 182; 190). Помимо логических координат система обладает еще и временными: ее закономерности и тенденции наиболее отчетливо проявляются в историческом развертывании. С целью определения этих тенденций предпримем краткий исторический экскурс. 2 А.Лосев, анализируя процесс становления эстетических категорий, писал: «В отличие от самых общих философских категорий, таких, например, как “бытие”, “случайность”, “необходимость”, которые не имеют в своей основе какого-либо вполне конкретного и непосредственно чувственного, предметного прообраза, категории эстетики первоначально означали какие-либо предметы или чувственные ощущения» (93, 370). Чувственная первооснова комического – смех. Все многообразие его проявлений образует смеховой мир или смеховую культуру (термины М.Бахтина), отражение которой в эстетическом сознании той или иной эпохи составляет содержание категории комического. Одной из наиболее древних была синкретическая форма смеховой культуры. Смеховые и серьезные культы равноправно существовали в фольклоре первобытных народов. В стихийном и целостном отражении всех моментов бытия «комический» и «серьезный» взгляды на мир были тесно спаяны между собой. Прославление божества сочеталось с его осмеянием. По мнению 21 О.Фрейденберг, здесь «семантика смеха заключается в идее регенерации, обновления, притока жизненных соков» (171, 233)3. Обрядовому смеху приписывалась способность не только повышать жизненные силы, но даже воскрешать мертвых: «Смех (…) избавляет от смерти и недуга, исцеляет, врачует; улыбка возвращает жизнь. Раньше, в связи с новым культом земли-родительницы в семантику “смеха” вводится и новый элемент, фаллический, оргиастический» (170, 101). Согласно египетскому папирусу третьего века до н.э., божественный смех сотворил мир (16, 80). Эту сторону смеховой культуры можно назвать утверждающей тенденцией, воплощающей созидающее начало. Уже в доклассовом обществе появляется и противоположная тенденция смехового мира – отрицающая, несущая некий разрушительный потенциал. «Страх перед осмеянием является величайшим позитивным фактором в жизни первобытных народов. Он охраняет существующий порядок и более могуществен и тираничен, чем может быть любое установление ограничительного и принудительного характера»,отмечает П. Рэдин (211, 51). Р.Эллиот пишет об аборигенах Тасмании: «Одной из наиболее могущественных форм общественного неодобрения является осмеяние. (…) Они [аборигены] используют его в целях социального контроля» (197, 67-69). В древней Александрии «раз в году был обычай объезжать на телегах весь город, останавливаться перед домом любого жителя и предавать его брани; этот обряд назывался “очищением души” (…). Брань уже перешла здесь в порицание, а насмешка в обличение» (170, 108). Так смех становится фактором социальной регуляции, приобретает характер инвективы, осуждающей несоответствие определенным идеалам. Если синкретическому смеху древности был свойственен наивно-диалектический взгляд на мир, то в дальнейшем, с Концепция О.Фрейденберг словно бы предваряет книгу М.Бахтина, посвященную смеху средневековья и Ренессанса (16). 3 22 развитием классового общества, в обособившихся отрицающей и утверждающей тенденциях как бы «персонифицировались» моменты диалектического развития. Каждый класс, каждая общественная группа и каждый включенный в нее индивид вырабатывают свое представление о смешном, сохраняют свой особый смеховой мир, который представляет собой часть, причем отнюдь не изолированную, смехового мира своей эпохи. В процессе дифференциации эстетического сознания подключается важный, все возрастающий фактор: взаимодействие художественной практики и теоретической мысли. Оно отмечено огромным количеством прямых и обратных связей, которые непрестанно разветвляются, образуя сложные, порой причудливые сочетания. У Аристотеля и его последователей смех теряет универсальность, связывается с безобразным, низменным, порочным, занимает подчиненное положение по сравнению с возвышенным и серьезным. Более того, Стагирит, исходя из своей концепции «золотой середины», отнюдь не каждый вид смеха считает достойным предметом для искусства. Вольный смех древней аттической комедии (V в. до н. э.) он находил слишком грубым, предпочитая более строгие формы и умеренный тон новой комедии (IV в. до н. э.). Разница между ними, по его мнению, такая же, как между шуткой раба и шуткой свободного человека (9, 142)4. Так возникает эстетика, в основе которой лежит иерархия ценностей. Ей присущ рационализм, нормативность, культ формы, строгая субординация жанров5. Сопряженное с этой эстетикой искусство классицистской ориентации – это искусство обретенной гармонии, воплощающее бытие как данность,- идеализированную, законченную, соразмерную. Любой конфликт здесь требовал разрешения, всякая дисгармония предполагала возвращение к извечной гармонии. Это искусство, в котором, по словам Гегеля, «способ Подобные эстетические ограничения вслед за Аристотелем постулировали Деметрий (45, 260-266) и Цицерон (173, 103). 5 Аристотель доказывал превосходство трагедии над эпосом (см.: 9, 679-680); в эстетике классицизма жанры делились на «высокие» и «низкие». 4 23 формирования внешнего материала состоит, с одной стороны, в придании ему правильности, симметрии и закономерности, а с другой стороны, в сообщении ему единства. Это единство заключается в простоте и чистоте того чувственного материала, которым искусство овладевает как внешней стихией существования своих созданий» (31, 1, 256). Поэтому комическое здесь жестко регламентировано, отделено от других эмоциональных сфер: «единство тона»,- серьезного или шутливого,- не могло быть нарушено. Идея равноправия, взаимосвязи эстетических ценностей также была рождена в эпоху античности. Еще Платон указывал на родство категорий, говоря, что «…искусный трагический поэт является также и поэтом комическим». Эстетика этого направления соприкасается с искусством аклассической ориентации, отражающим мир в его вечной незаконченности, в изменениях, становлении, с искусством, воспринимающим «противоречивость, как неотъемлемую черту всего сущего» (13, 17). Классицистской завершенности здесь противостоит тенденция к «открытой форме», уравновешенность пропорций уступает место мнимой бесформенности, хаотичности, четкая разграниченность образных сфер сменяется их взаимопроникновением, оборачивается сложной многозначностью. Комическое становится частью трагедийных и философских концепций. Такая трактовка комического восходит к античной традиции «серьезно-смехового» или «серьезносмешного». В качестве ее художественных особенностей называют: смешение высокого и низкого, пародии на высокие жанры, пародийно переосмысленные цитаты, нарочитую многостильность, различные авторские личины (см.: 15, 122140). Одним из наиболее распространенных жанров серьезносмехового был жанр меннипеи, который характеризуется «исключительной свободой сюжетного и философского вымысла. (…) Самая смелая фантастика и авантюра внутренне мотивируются, оправдываются, освещаются здесь чисто философской целью – создавать исключительные ситуации для 24 провоцирования и испытания философской идеи…» (15, 131). Черты этого древнейшего жанра обнаруживают произведения Данте, Сервантеса, Шекспира, Свифта, Гете, Гофмана, Гоголя, Достоевского, Булгакова6. Дихотомию классического и аклассического не следует воспринимать буквально. В реальной художественной практике они редко выступали в чистом виде. По словам Барсовой, «…тенденции сосуществуют, иногда преобладая одни над другими, иногда достигая диалектического синтеза. (…) Греческое искусство классического периода создало не только “Канон” Поликтета, но и терракотовых старух, статуэтку “Педагог с ребенком”, изображающую дряхлого старика с младенцем на руках, и др. Античная греческая литература оставила нам не только высокую трагедию, но и комедии Аристофана, не только диалог Платона, но и диалог Лукиана, снижающие, пародирующие высокое искусство. Одновременно с классицизмом Никола Пуссена во Франции первой половины XVII в. родилась графика Жака Калло, одного из родоначальников гротеска (13, 13). Любая эстетическая система, обобщая современную художественную практику, пыталась интегрировать смеховую культуру, вернее, вобрать и канонизировать, прежде всего, те ее черты, которые соответствовали бы фундаментальным положениям данной системы, или, по крайней мере, не наносили бы ей большого ущерба. Хорошо известно, что в периоды господства нормативной эстетики ее абсолютизация в официальной идеологии вела к бурному росту противоположной тенденции на уровне неофициальном, оппозиционном. Протест социальных низов в эпоху кризиса античного полиса нашел выход в учении философов-киников, для литературы, эстетики и «стиля жизни» которых было характерно демонстративное Маркс писал о трагедиях Шекспира: «Одной из особенностей английской трагедии, настолько отталкивающей чувства француза, что Вольтер даже назвал Шекспира пьяным дикарем, является причудливая смесь возвышенного и низкого, ужасного и смешного, героического и шутовского» (101, 362). 6 25 нарушение общепринятых канонов, пародийная перелицовка всех традиционных установлений (см.: 8). «Целый необозримый мир смеховых форм и проявлений противостоял официальной и серьезной (по своему типу) культуре церковного и феодального средневековья» (16, 92). Смеховой мир Древней Руси создал такое своеобразное явление, как юродство, в котором опрокинуты соотношения мира культуры и антикультуры7. В свою очередь, эстетические ограничения формировали культуру смеха, чувство меры, вне которого явление уже не могло восприниматься комически,- следовательно, формировали комическое как эстетическую категорию. В отличие от ограничивающей, регламентирующей роли классического искусства и эстетики, аклассический тип художественного восприятия способствовал расширению сферы эстетически допустимого. Именно с этим связано увеличение удельного веса комического в эстетике романтизма: так в «Приготовительной школе эстетики» Жан-Поля комическое оказывается универсальной категорией, которая пронизывает собой всю эстетическую систему. Единство категории комического как отражение смехового мира в эстетическом сознании исходит из единства и противоположности утверждения и отрицания. Вообще в сознании каждой эпохи запечатлевается весь «спектр» общественного бытия: его прошлое, настоящее и ростки будущего. Например, синкретизм, универсальность, свойственные смеховому миру доклассового общества, «Своим поведением (своими поступками-жестами) юродивый показывает, что именно мир культуры является миром ненастоящим, миром антикультуры, лицемерным, несправедливым, не соответствующим христианским нормам… Он живет в своем мире, который не является обычным смеховым миром. Впрочем, смеховой мир юродивому очень близок. Поступки – жесты и слова юродивого одновременно смешны и страшны,- они вызывают страх своею таинственной, скрытой значительностью и тем, что юродивый, в отличие от окружающих его людей, видит и слышит что-то истинное, настоящее за пределами обычной видимости и слышимости» (89, 4). 7 26 длительное время оставались характерными приметами народного празднично-смехового восприятия. «От античных дионисий и сатурналий до европейских народных празднеств, не всюду исчезнувших и поныне, тянется одна линия развития»,отмечает В.Пропп (134, 139). Смех был неотъемлемой частью церемониалов триумфа и обряда похорон в Древнем Риме (см.: 16, 9; 171, 106). Органическим сочетанием разрушительного и созидательного начал в полной мере были отмечены «праздники дураков» и «пасхальный» смех средневековья, святочный и масленичный смех Древней Руси, карнавальный смех Ренессанса. Их преемниками в более позднее время стали народные театрально-игровые формы: балаган, театр масок, скоморошьи игры. В народном искусстве, развивавшемся в недрах этой традиции, приобрел самостоятельную эстетическую ценность преимущественно положительный, жизнеутверждающий аспект мира: чувство оптимизма, радостное сознание избытка сил. С.Аксаков так вспоминает атмосферу святочных игрищ в деревне: «Каким-то хмелем веселья, опьянением радости проникнуты были все. Взрывы звонкого дружного смеха часто покрывали и песни и речи» (3, 70). «Сплошное веселье, пестрая непринуждённая жизнь, свежесть наслажденья» восхищали Ф.Энгельса в Рейнских празднествах (111, 2, 272). Разумеется, веселье, радость и комическое,- понятия отнюдь не тождественные. Но нигде они так тесно не соприкасаются, как в народном празднично-смеховом восприятии, воплощая эстетический идеал в его наиболее демократическом аспекте. Поэтому утверждающая тенденция стремится к выявлению этого идеала в сфере комического. В процессе дифференциации эстетического сознания отрицающая тенденция приобрела богатейшую гамму оттенков. Деструктивный потенциал смеха, во все века настойчиво вытеснявшийся господствующей идеологией, исподволь «разъедал», казалось бы, несокрушимые монолиты. У многих на памяти мощная волна анекдотов, то здесь, то там прорывавшая 27 бюрократическую плотину застоя8. Разрушая догмы, фетиши, стереотипы, комическое служило и служит катализатором развития, и в этом смысле, как сказал Герцен, «смех одно из самых сильных орудий против всего, что отжило и еще держится Бог знает на чем важной развалиной, мешая расти свежей жизни и пугая слабых» (33, 190). Отрицающая и утверждающая тенденции взаимосвязаны, между ними невозможно провести четкой границы. Практически все исследователи отмечают утверждающий, позитивный характер народного празднично-смехового восприятия. Но нельзя не заметить, что в средние века оно уже одним своим содержанием отрицало господствующую идеологию,- отрицало через утверждение тех земных ценностей, тщету которых провозглашала клерикальная ортодоксия. Отрицание не было активным, самодовлеющим элементом народного смеха. По словам М.Бахтина, «отрицающий насмешливый момент был глубоко погружен в ликующий смех материально-телесного возрождения и обновления. Смеялась “вторая природа человека”, смеялся материально-телесный низ, не находивший себе выражения в официальном мировоззрении и культе» (16, 85. Курсив мой.- Б.Б.). Но скрытый отрицающий момент был действенным и достигал результата. Об этом свидетельствуют многочисленные исторические документы, в которых запечатлена борьба церкви против народной смеховой культуры. Римский папа Лев IV (847-855 г.г.) в своем послании к епископам требует: «Запрещайте песни и пляски женщин в церкви; избегайте дьявольских песен, которые простой народ обычно поет в ночные часы над мертвыми, и народный смех и хохот» (113, 318.- Курсив мой.- Б.Б.). «Видим игрища утоптанные, с такими толпами людей на них, что они давят друг друга (…), а церкви стоят пусты»,- сетует древнерусский автор «Поучения о казнях Божиих». Видимо, чтобы церкви не стояли пусты, был издан «Патриарший указ от 24 декабря 7193 (1684) 8 Написано в 1991 году (Б.Б.). 28 года о запрещении чинить игрища в навечери рождества Христова, а также в продолжение святок» (цит. по: 17, 57, 91). Если утверждающая тенденция стремится к воплощению эстетического идеала, то отрицающая часто раскрывает несоответствие этому идеалу. Следовательно, если в первом случае идеал утверждается напрямую, то во втором – через отрицание чуждых ему явлений, то есть в отрицающей тенденции содержится скрытый момент утверждения. Сатирик, казня смехом несовершенства мира, исходит из своих представлений о должном. Гегель говорил: «Благородный дух, добродетельная душа, которой отказано в осуществлении своего сознания в мире порока и глупости, отвращается то со страстным возмущением, то с тонким остроумием или холодной горечью от находящегося перед ним существования, негодует или издевается над миром, который прямо противоречит его абстрактной идее добродетели и правды» (31, 2, 224). СалтыковЩедрин утверждал: «Чтобы сатира была бы действительно сатирой и достигала своей цели, надобно, во-первых, чтоб она давала почувствовать читателю тот идеал, из которого отправляется творец ее, и, во-вторых, чтоб она вполне ясно сознавала тот предмет, против которого направлено ее жало» (150, 637). В эстетических системах, восходящих к классицизму, был абсолютизирован функциональный, телеологический подход к комическому – «исправителю нравов»9. Подобная точка зрения долгое время господствовала в советском литературоведении и советской эстетике10. Назойливые призывы идеологических «жрецов» разных времен дать «светлые идеалы» порой вызывали Поэты эпохи Просвещения уже в названиях своих сатир указывали, на кого они направлены (например, сатира А.Кантемира «На хулящих учение»). Мольер считал: «…обязанность комедии состоит в том, чтобы исправлять людей, забавляя их» (109, 510). 10 Приведу несколько характерных заголовков: Николаев Д. Смех – оружие сатиры.- М., 1962; Чаплыгин Ю. Смех в наступлении.- М., 1960; Михалков С. Сатира – орудие коммунистического воспитания // Моя профессия. Статьи, выступления, заметки.- М., 1962. С. 63-82. 9 29 протест настоящих художников против вульгарно-утилитарного взгляда на комическое. Вспомним гневную отповедь Гоголя, назвавшего смех единственным положительным лицом своей комедии. Вспомним язвительное заключение рассказа М.Зощенко «Землетрясение», в котором нетрудно расслышать отзвуки «директивных статей»: «Чего хочет автор сказать этим художественным произведением? Этим произведением автор энергично выступает против пьянства. Жало этой художественной сатиры направлено в аккурат против выпивки и алкоголя. Автор хочет сказать, что выпивающие люди не только другие более нежные вещи – землетрясение и то могут проморгать. Или как в одном плакате сказано: “Не пей! С пьяных глаз ты можешь обнять своего классового врага!” И очень даже просто». Сколько стилистических пластов таится в этой блестящей пародии! Какую эволюцию претерпела здесь классическая концовка «мораль сей басни такова», как изуродована она идеологическим прессом! Но жив, жив курилка… Нет, комическое невозможно обуздать – оно способно посмеяться над своей теорией. Д. Лихачев проницательно заметил, что смеховой мир «имеет свою инерцию. Смеющийся не склонен останавливаться в своем смехе» (89, 35). Причем инерция наблюдается как в утверждающей, так и в отрицающей тенденциях, образуя их «теневые стороны». В утверждающей тенденции отмеченная черта определяется чувством превосходства, которое ряд авторов считают типологическим свойством комического (см.: 141; 194). Чувство превосходства могут вызывать как примитивные поводы для смеха (человек поскользнулся на банановой кожуре, нечаянно ударил молотком по пальцу и 30 т.д.)11, так и более сложные. Таково, например, удовлетворенное сознание своей интеллектуальной проницательности. «Смеясь над глупцом, я чувствую, почему он глуп,- следовательно, я в это время кажусь себе намного выше его»,писал Н.Г.Чернышевский (179, 294). Но не надо забывать, что превосходство может быть мнимым,- тогда сам смеющийся рискует превратиться в объект смеха. Глупость – весьма распространенная мишень для насмешки12. С.Кржижановский считает, что на этом стержне держатся комические ситуации ранних комедий Шекспира, где «глупое и смешное почти совпадающие понятия». Основной признак шекспировского смеха – «стремление превратить осмеивающего в осмеиваемого» (77, 143). Формулу «отклонение от нормы» некоторые исследователи также считают универсальной для комического (см.: 46). Странное, чуднóе, эксцентричное, экстравагантное, в чем бы оно ни выражалось – в одежде, речи, манерах, вкусах, в образе мыслей – должно быть готово встретить насмешливый взгляд. Нелепы, а потому смешны, фрак на пляже и пляжный костюм на официальном приеме. Даже раскованная атмосфера карнавала, освобождая от цепей повседневности, диктует свои правила, не менее последовательные, чем каноны обыденной жизни. Смешно все, что не кстати, что выбивается из привычного порядка вещей: Все чередой идет определенной, Всему пора, всему свой миг; Смешон и ветреный старик, Смешон и юноша степенный… Д.Монро объединяет их в раздел под названием “маленькие несчастья” (209, 5). 12 А. Кернан считает глупость основной мишенью сатиры (205, 99). 11 31 Снисходительную улыбку может вызвать даже сама манера шутить, если она отличается от принятой в данном обществе. Вновь приходят на память строки из «Онегина»: Тут был в душистых сединах Старик, по-прежнему шутивший: Отменно тонко и умно, Что нынче несколько смешно. Все это довольно безобидные примеры. Но среди случаев, подчиняющихся данной формуле, есть и драматические: «…смешным может быть всякое уродство, которое может представить правильно сложенный человек»,- отмечает А.Бергсон (18, 108). Думаю, не надо говорить, как соотносится такой смех с этикой и эстетикой. Но, с другой стороны, это давняя традиция: глядя на хромого Гефеста, смеялись боги Олимпа; горбуны, карлики, уродцы составляли домашнее увеселение и потешную свиту коронованных и титулованных особ. Новое слово в науке, искусстве всегда сопряжено с выходом за пределы привычного. Обыденное сознание нередко встречало презрением и насмешкой мнимо «сумасшедшие идеи», которые впоследствии оказывались общепринятыми истинами, творения безвестных или скандально ославленных художников, которых потомки назовут гениями. Такой постыдный, издевательски-торжествующий смех не раз раздавался в истории человечества и относится к ее трагическим страницам. Отрицающий момент здесь выходит из-под спуда, демонстрируя всю условность наших разграничений. Этот глумливый смех можно если не оправдать, то в определенной степени понять, найти в ворохе вопиюще-несправедливых фактов рациональное зерно. Видимо, смех не только разрушает старое, отжившее, но и грубой рукой «проверяет на прочность» новое. Когда новорожденный не подает голос, акушерка легонько шлепает его, чтобы ребенок закричал,- то есть начал дышать, жить. Смех Торжествующей Нормы отличается простодушной жестокостью. 32 Насмешка – беспечная повитуха; она не соизмеряет свой замах и не заботится, выживет ли младенец после ее шлепка. Оборотная сторона отрицающей тенденции, ее инерция наблюдается в феномене «кощунного смеха», как его определил И.Е.Забелин, исследуя быт допетровской Руси. Он пишет: «Вообще дóлжно заметить, что шутовство, ирония, сатира, комическое или карикатурное представление всего чинного, степенного и важного в жизни составляли в нашем допетровском обществе как бы особую стихию веселости. Но, разумеется, этот старый допетровский смех над жизнью не включал в себя никакой высшей цели и высшей идеи. Он являлся простым кощунным смехом над теми или другими порядками и правилами быта, являлся просто игрою тогдашнего ума, воспитанного на всяком отрицании и потому вообще ума кощунного. Никакого чистого идеала впереди у него не было; никакой борьбы во имя такого идеала он не проводил. Это было на самом деле наивное или же отчасти лукавое глумление жизни, выражавшее лишь другую крайнюю сторону того же глубокого и широкого ее отрицания, на котором она развивалась в течение столетий» (60, 268). Подобный смех находится уже на периферии комического: ведь комическое, напомним, это смеховой мир, пропущенный через эстетическое сознание своей эпохи, следовательно,- эстетические ограничения неизбежны. Агрессивность тотального отрицания, часто наблюдаемая в кризисные времена, порой переходит эти границы. Мом, мифический бог насмешки, в конце концов, был низвергнут Зевсом с Олимпа, в наказание за постоянное злословие против богов. 3 Если комическое в искусстве представить мощной рекой, со множеством рукавов, заводей и плесов, в эту реку будут впадать три главных притока: пародия, быт, фантастика. Питая сферу комического, они во многом определили ее эволюцию. 33 Приемы пародии многочисленны и разнообразны (см.: 122; 131). Их объединяют два момента: зависимость от объекта пародирования и смеховая трансформация этого объекта. Стихия пародийности прорывается на самых ранних этапах становления эстетического сознания. Эта нота слышна уже в древнейшем культовом смехе: «…при отправлении обрядовых церемоний наряду с действующими лицами, так сказать серьезного, обрядового порядка, на стадии распада первобытнообщинного строя выступают специальные комические персонажи, которые пародируют обрядовое действие, перемежают его шутками и буффонадой, стремясь вызвать смех у присутствующих зрителей» (2, 4). Эти персонажи, по мнению А.Авдеева, уничтожали «мистическое отношение к обряду, так сказать, взрывали обрядовое действие изнутри и помогали процессу перерождения обряда в театральное представление» (2, 5). Пародийные похоронные обряды, связанные с древнейшими земледельческими культами описаны С.Максимовым (97, 300301) и В.Проппом (134, 274). Их особенность состоит в том, что «похороны обставляются не трагически, а, наоборот, комически. Имитация горя носит характер пародии и фарса, а похороны иногда кончаются бурным весельем» (134, 274). Мифологические празднества в честь Диониса дали жизнь трагедии и комедии. Первоначальное тождество «находит подтверждение в сатириконе, который представляет собой драму, потенциально содержащую в себе и комедию, и трагедию» (170, 167). О.Фрейденберг считает, что древней комедии так и не удалось полностью отделиться от трагедии, комедия осталась жанром “прислоненным”, следующим за трагедией, как ее пародия» (170, 188). Любопытно, что наибольший всплеск пародийности вызвали именно наиболее развитые формы трагедии: Аристофан, превознося Эсхила, безжалостен к Еврипиду (см.: комедию “Лягушки”). Авторитет гомеровского эпоса у древних греков был непререкаем. «Илиада» и «Одиссея» считались совершенными, образцовыми творениями; цитаты из них служили вескими аргументами в философских спорах (к ним, судя по диалогам Платона, часто 34 прибегал Сократ). Но в «Батрахомиомахии» все традиционные эпические формулы забавно перелицованы: обращение к Музе, описание вооружения героев, их «кровавые» поединки, советы богов Олимпа. «Пародия распространяется даже на имена: царь лягушек Вздуломорда является сыном Грязевика (Грязного), погречески Пелея (ср. “Ахиллеса, Пелеева сына”) и царевны Водной (ср. морская нимфа Фетида)» (6, 1, 80). «В первой половине IV в. (до н. э. - Б.Б.) мифологическая пародия составляет значительную долю продукции комических поэтов…»,- утверждает В.Ярхо (191, 52). Смеховой мир средневековья знает пародии на Священное писание (parodia sacra), пародийные ученые трактаты, эпосы (животные, шутовские, плутовские); пародии на молитвы, псалмы, службы (например, “Акафист кабаку”), на монастырские порядки были распространены в Древней Руси (см. 5). Наверное, в сознании человека, в том числе эстетическом, имеется какой-то защитный психологический механизм, на уровне инстинкта предохраняющий от односторонности восприятия, настроенный всюду выискивать антитезу к сущему. Если этот механизм не всегда срабатывает на уровне индивида, то в сообществе его действие безотказно. Иначе трудно объяснить тот факт, когда какое-либо явление, едва оформившись, сразу подвергается попытке его пересмотреть, перевернуть, переиначить. Дух пародии мне представляется каким-то агрессивным «вирусом» комического, который способен внедряться в любое создание интеллекта. У истинных ценностей к нему крепкий иммунитет, – легко переболев, они обновленными возрождаются в культуре последующих поколений; но все ложное, временное, непрочное, претенциозное этот «вирус» разрушает. Иногда на месте развалин вырастает новое творение,- пародия остается в веках, оказавшись жизнеспособней своего оригинала (например, «Дон-Кихот» Сервантеса, задуманный как пародия на рыцарский роман). Быт – богатейший источник комического. Ведь смех – это чисто человеческое явление, а что ближе к человеку, чем его 35 повседневная жизнь? К тому же быт консервативен, и на этом фоне ярче проступают всевозможные несуразности и несоответствия. Быт – это разнообразие ситуаций, взглядов, характеров, это сфера людских взаимоотношений – от тончайших психологических нюансов до простых чувств, объединяющих народы. Отнюдь не случайно, что комическая нота «Илиады» связана с очеловечиванием мира богов: ссоры, распри, перебранки, уязвленное самолюбие, взаимные упреки и обвинения,- все это по типу конфликтов мало чем отличается от «страстей», сотрясающих, допустим, коммунальную кухню в рассказах М.Зощенко. В средневековых мистериях элемент комического также возникал в результате бытового снижения библейских персонажей. «В религиозные сюжеты вторгаются красочные бытовые подробности: жена Ноя не желает идти в ковчег, хотя потоп уже начался,- она никак не может оторваться от кувшина с крепким добрым вином; пастух дарит новорожденному Христу пару старых чулок его жены; старуха из Вифлеема колотит суповой ложкой солдат Ирода, пришедших убивать детей; Мак-овцекрад завертывает украденного ягненка в детские пеленки и выдает его за новорожденного» (14, 103). Быт долгое время являлся чуть ли не основной потенциальной областью комического, потому что утверждение в эстетике иерархии ценностей привело к сословному ограничению этой сферы в искусстве,- оно прочно и надолго связывается с персонажами, стоящими на нижних ступенях социальной лестницы. Возникают сценические типы, амплуа, которые уже заведомо считались носителями комического начала: хитрые рабы, жадные гетеры, разбитные сводни – в аттической комедии; неуклюжие пастухи и землепашцы, грубые солдаты – в средневековых мистериях; проказливые дзанни итальянской комедии. По свидетельству Г.Зубовой, «слово “клоун” в значении “мужик” появилось в английском языке в 1563 году, но через 10-15 лет оно стало названием сценического амплуа. Происхождение слова соответствовало происхождению образа: этот персонаж всегда был простолюдином, чаще всего – слугой или крестьянином, реже – ремесленником» (64, 187-188). 36 Интересно, что бытовых деталей последовательно избегали в жанре высокой трагедии классицизма, в которой действовали мифические и квазиисторические персонажи. А.Бергсон на этот счет язвительно заметил: «Герои трагедии не пьют, не едят, не греются, и даже не садятся» (18, 124). Особенно наглядно сословное разграничение комического проявляется в приеме параллелизма, когда влюбленной паре господ сопутствует влюбленная пара слуг, причем, по наблюдению Кржижановского, нижний «этаж» часто пародирует верхний (77, 132). Народное празднично-смеховое восприятие стало основой утверждающей тенденции комического в искусстве. Здесь царствует жизнерадостный смех, буйная веселость, торжествует позитивный аспект всего сущего. Но увеселения, праздники, карнавалы – это тоже быт, его «солнечная сторона»: ведь в человеке всегда живет потребность вырваться из монотонного автоматизма повседневности, нарушить ее отупляющеразмеренный ход, расцветить фантазией. Комическое и фантастику сближает общая черта – нарушение привычного порядка вещей. В народной фантазии реальность окружена сонмом духов, причудливых созданий, иррациональных существ, символизирующих светлые и темные грани действительности. Их запечатление в народном и профессиональном творчестве формировало круг выразительных средств не только странного, необычного, но и пугающего, недоброго. Мир дисгармонии проникает в искусство. Этот мир находился на периферии античной культуры. «Мом – сын Никты, брат Танатоса, Гипноса, Гесперид, мойр, Немесиды и Эриды, т.е. связан с мрачными и вредоносными космическими силами» (108, 170). Так на мифологическом уровне прослеживается родство комического и мрачной фантастики. В средние века, под влиянием христианства, антиномия прекрасного как гармонии и безобразного как дисгармонии трансформируется в противопоставление добра и зла. В 37 искусстве Ренессанса добро предстает в совершенных формах идеальной красоты, зло – в отвратительных «сатанинских» личинах (полотна Босха, графические листы к «Апокалипсису» Дюрера). На этом пути были открыты приемы деформации художественного образа, которые сыграли значительную роль в эволюции комического. Позднее, в эпоху романтизма, диалектика добра и зла в искусстве усложняется: зло порой принимает обольстительный облик, а добро – внешне непривлекательный. 4 Вернемся к нашему разделению отрицающей и утверждающей тенденций. Они не являются самостоятельными формами комического и наиболее наглядны лишь в своем предельном значении – это как бы «стрелки компаса», позволяющие сравнить между собой разные модификации категории, рассмотреть систему различительных отношений, составляющих ее структуру. Такие понятия как сатира, юмор, сарказм, гротеск, ирония обладают хотя и весьма широким, но определенным содержанием, освящены традицией, имеют богатую историю,- поэтому на них необходимо остановится подробнее. В противном случае наш эстетический экскурс рискует уподобиться поучительному путешествию прутковского персонажа – князя Батог-Батыева, который очутился в самой восточной стране, где и впереди восток, и с боков восток, и сзади тоже восток,- везде и повсюду один нескончаемый восток! Разграничение юмора и сатиры как неких антиподов канонизировано обыденным сознанием – тому примером многочисленные газетные и журнальные «отделы» и «уголки» сатиры и юмора, чуть ли не официально существующие статусы «писателя-сатирика», «писателя-юмориста». Но так ли правомерно это противопоставление? Абсолютное большинство авторов подчеркивает общественный характер, радикальность средств, присущих 38 сатире. Мишенью сатиры, начиная с «Сатир» Ювенала, во все века служили социально значимые явления – она всегда «активно борется со злом с позиции определенного идеала» (46, 9). Поэтому можно сказать, что сатира находится всецело в русле отрицающей тенденции; критерий сатиры – обращение к социально опасным явлениям, которые находятся в антагонистическом противоречии с идеалом. Давно замечено, что гневный, проповеднический тон сатиры «своей горечью смыкает уста смеха» (58, 140). Смех редуцирует, исчезает, уступая место действенным чувствам негодования, отвращения, презрения. Здесь, когда пафос отрицания достигает предела, комическое, в своем крайнем выражении, смыкается со сферой трагического, образуя пограничную область трагикомического (см.: 30, 640; 178). Взаимосвязь категорий прослеживается отчетливо: понятие «несоответствия» часто фигурирует в дефинициях как комического, так и трагического13. Бытует мнение, что юмор,- в отличие от уничтожающей сатиры,- в целом положительно оценивая объект, видит в нем отдельные недостатки и, мягко указуя на них, способствует их исправлению, то есть объект в результате становится еще положительнее. Это мнение – вульгаризация сложного понятия. Юмору совсем не пристала роль постного морализатора. В действительности юмор – величайшее завоевание смеховой культуры. В нем на личностном уровне вновь возникает единство «серьезного» и «комического», склонное к многозначной как сама жизнь оценке. Не случайно наиболее содержательные концепции юмора появились именно в эпоху Ср., например, статьи «Комическое» в Философской или Литературной энциклопедиях с марксовым определением трагического, как коллизии «…между исторически необходимым требованием и практической невозможностью его осуществления» (101, 495). 13 39 романтизма, с ее психологизмом и обостренным ощущением мировой дисгармонии 14. Многосторонний взгляд предполагает сознание относительности любых установлений. Огромная «эвристическая сила» юмора – разрушителя стереотипов, замечательно раскрытая Н.Дмитриевой (см.: 48; 49), свидетельствует о его принадлежности к отрицающей тенденции. Предельное выражение юмора, связанное с «изнанкой» отрицающей тенденции – так называемый «черный юмор»,- абсолютизирует всеобщую относительность понятий и может покинуть область комического. Патологический «черный юмор» – своеобразная форма нейтрализации отрицающей тенденции, «отдушина для больного общества, пожирающего самое себя» (198, 87). Но юмор не только понимает неизбежность противоречий, но и заведомо утверждает противоречивость бытия. Эта черта, как говорилось выше, характеризует искусство аклассической ориентации. Полнота отражения жизни, присущая юмору, сказывается в реалистической трактовке характеров. А.С.Пушкин подчеркивал эту особенность образов Шекспира: «Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока, но существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков; обстоятельства развивают перед зрителем их разнообразные и многосторонние характеры. У Мольера скупой скуп – и только; у Шекспира Шейлок скуп, сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен» (137, 65). Воплощенной сущностью юмора можно назвать шекспировских шутов. По словам Н.Зубовой, «шут был одновременно и бытовой фигурой и сложным символом народной мудрости, прикрытой личиной глупости» (64, 191). Юмор нередко оказывается рядом с философским «В юморе все текуче, противоположности здесь повсюду переходят друг в друга как в мире простых явлений. (…) Ничто не бывает только возвышенным и трагическим без того, чтобы земной и даже примитивный облик не снизил его до смешного и незначительного»,- такова диалектика юмора по К.Зольгеру (214, 351). 14 40 глубокомыслием. В.Розанов как-то заметил о смехе Вл. Соловьева: «Какой странный у него был этот смех, шумный и может быть маскирующий постоянную грусть. Если кому усиленно не было причин “весело жить на Руси”, то это Соловьеву» (144, 240). Философичность юмора позволяет в, казалось бы, безнадежном положении предчувствовать и искать возможность выхода – это одна из сторон его антидогматизма. Существует даже «юмор отчаяния», когда человек пытается представить свое поражение незначительным, и поэтому, хотя бы субъективно, одерживает победу. Л.Н.Толстой так описывает свой разговор с измученным нуждой крестьянином: «Он шутливо перекосил рот. Но с тех пор, как он раз при мне упустил слезы, я уж знал, что значит эта шутка – надо шутить. Если не шутить, то надо или красть, или повеситься, или раскиснуть и реветь, как баба, говорил его взгляд,- а тошно» (164, 313). Юмор выживал даже в аду сталинских застенков, принося облегчение и надежду. А.Солженицын рассказывает, как на одном из этапов заключенных по чьему-то недосмотру второй раз за день повели в тюремную баню: «Это привело нас к раскатистому хохоту – ну и головотяпы! Хохоча, мы разделись, повесили одежки наши на те же крючки, и их закатили в ту же прожарку, куда уже закатывали сегодня утром. Хохоча, получили по пластинке гадкого мыла и прошли в просторную гулкую мыльню смывать девичьи гульбы. Тут мы оплескивались, лили, лили на себя горячую чистую воду и так резвились, как если б это школьники пришли в баню после последнего экзамена. Этот очищающий, облегчающий смех был, я думаю, даже не болезненным, а живой защитой и спасением организма» (154, 84). «Защитная» функция юмора связана с утверждением личности и ее ценности. Тема духовной стойкости «маленького человека», его бесстрашного вызова судьбе – одна из характернейших тем юмора, особенно в XX-м веке,своеобразная метафора человеческого существования. Юмор выступает как величайший гуманист: апология человеческого в человеке, как бы глубоко оно не было запрятано, радость и боль 41 за него в высшем своем проявлении сближают комическое с областью возвышенного. Таким образом, можно сказать, что юмор принадлежит как отрицающей, так и утверждающей тенденции. Следовательно, его выделение в самостоятельную форму комического неправомерно. Не обосновано и противопоставление юмора и сатиры, так как эти понятия лежат в разных плоскостях. Сарказм полностью принадлежит отрицающей тенденции. Косвенным доказательством здесь могут служить определения, которые буквально срослись с этим понятием: сарказм называют убийственным, разящим, беспощадным15. Для него характерна прямота, определенность позиции, отсутствие иносказаний и недомолвок. Так наотмашь бьет стихотворение Б.Слуцкого, описывающее заседание высокой кинематографической инстанции: Семь с половиной дураков Смотрели «Восемь с половиной», И порешили: «Не таков Сей фильм, чтобы пошел лавиной, Чтобы рванулся в киносеть, Чтоб ринулся к билетным кассам Народ,Его могучим массам Здесь просто нечего смотреть!» Откровенная тенденциозность сарказма часто проявляется в кульминационных моментах сатирических произведений как своеобразный “coup de grăce”. Вот пример из стихотворения Саши Черного «Стилисты»: Весьма выразительна этимология термина – греческое sarkasmós, от sarkázō, что обозначает: рву мясо. 15 42 «Эти вазы, милый Филя, Ионического стиля!» - «Брось, Петруша! Стиль дорийский Слишком явно в них сквозит…» Я взглянул: лицо у Фили Было пробкового стиля, А из галстука Петруши Бил в глаза армейский стиль. Естественно, удары, разящие без промаха, не нуждаются в частом повторении – произведение не может состоять из одних кульминаций. Саркастические пассажи сверкают на фоне более умеренного тона высказывания. Поэтому сарказм можно отнести скорее к разряду локальных художественных приемов, чем к эстетическим модификациям комического. Эмоциональный диапазон иронии чрезвычайно широк. Говорят об иронии мягкой, сочувствующей – и едкой, язвительной. Существуют понятия иронии истории, трагической иронии, самоиронии. Все это свидетельствует о многозначности термина. Напомним механику «сократовской иронии». Для Сократа это способ обнаружения истины. Притворяясь единомышленником, он «поддакивал» своему оппоненту, будто бы разделяя его точку зрения, и постепенно приводил ее к абсурдному выводу, обнаруживая ограниченность якобы очевидных для здравого смысла истин. Скрытая двойственность зачастую подчеркивается в определениях иронии. Д.Вико писал: «…этот троп образован ложью, которая силой рефлексии надевает на себя маску истины» (29, 149). По словам Ф.Шлегеля, «шутку принимают всерьез, а серьезное в шутку» (183, 176). Ирония избегает прямолинейности: смысл высказываемого уходит в подтекст. В романе «Евгений Онегин» язвительную характеристику «причудниц большого света» А.С.Пушкин сопровождает примечанием: «Вся сия ироническая строфа не что иное, как тонкая похвала прекрасным нашим соотечественницам. Так Буало, под видом укоризны, хвалит Людовика XIV. Наши 43 дамы соединяют просвещение с любезностью и строгую чистоту нравов с этою восточною прелестью, столь пленившую г-жу Сталь» (126, 165). Здесь завуалированная насмешка получает оправдание, которое ее не столько смягчает, сколько подчеркивает. Выспренность примечания, поданная без нажима, диссонирует с общим тоном строфы, которому свойственна отточенная простота лексики и синтаксиса. Но отрицание, выраженное в форме утверждения, все же сохраняет легкий след утверждения. Ирония недоверчиво относится к высокопарным фразам (вспомним знаменитую реплику Базарова: “Друг Аркадий, не говори красиво”). Она «стыдится» пафоса, как в утверждении, так и в отрицании. Серьезное часто в себе самом содержит насмешку над собой, а насмешка и даже издевка, заключая в себе серьезное, иногда возвышается до трагедии. Девизом этой «надмирной» трагической иронии могут служить слова А.Блока: «Не слушайте нашего смеха, слушайте ту боль, которая за ним» (23, 270). «Стереоскопичность» видения роднит иронию с юмором. В концепциях романтиков эти понятия подчас невозможно отделить друг от друга – ирония здесь также универсальна, как и юмор16. Но ирония не тождественна юмору. Его глубинная философичность, вскрывающая противоречия жизни, проявляется, как уже отмечалось, и в утверждении, и в отрицании. В иронии преобладает отрицающая тенденция. Даже замаскированная похвала, высказанная в виде порицания, несет в себе некий разрушительный потенциал. Иронии свойственна своя инерция. Ироническое суждение рождается лишь в перекрестном свете противоположных мнений, и беспокойный дух рефлексии не склонен останавливаться перед отрицанием уже, казалось бы, найденной – опять же с помощью отрицания! – истины. Тогда ироническое суждение предстает некоей интеллектуальной Зольгер писал: «…дух художника должен собрать все направления одним всевидящим взглядом. И этот над всем парящий, все разрушающий взгляд мы называем иронией» (60, 381). 16 44 игрой, в результате которой суждение «пульсирует», колеблется в тщетной попытке обрести четкие очертания (см.: 91, 80). Кристаллизацию гротеска справедливо соединяют с категорией безобразного (см.: 88, 287). По мнению Ю.Манна, «термин “гротеск” обязан своим происхождением настенным орнаментам, обнаруженным в конце XV- начале XVI века Рафаэлем и его учениками при раскопках засыпанных землей древнеримских помещений – гротов. Растения, животные, человеческие лица составляли в этих необычайных орнаментах причудливые, странные сочетания» (100, 15). Явления, обозначенные этим термином, конечно, существовали значительно раньше – напомню стих Гомера, в котором описывается химера: «Лев головою, задом дракон и коза серединой» (“Илиада”, VI, 181; перевод Н.Гнедича). Гротеск обусловлен фантастически деформированным восприятием и претворением действительности, в результате которого парадоксально сближаются далекие эмоциональные и образные сферы, а преувеличение и окарикатуривание выходят за рамки правдоподобия, давая отображаемому новое, неожиданное освещение. Гротеск – это попытка творческой фантазии охватить и передать противоречия мира в их наиболее наглядном, гипертрофированном выражении. Поэтому гротеск как художественный прием складывается во взаимодействии хотя и различных по эмоционально-смысловому значению, но целостных образов. XX-й век обогатил гротеск новым мотивом: техника, как продукт человеческого разума, отчуждается от своего творца, являя мир механических чудовищ, враждебных человеку (213, 197-198). В чаплинском фильме «Новые времена» кадры безликой толпы, утром спешащей на работу, монтируются с кадрами, изображающими стадо баранов. Эпизод с аппаратом, кормящим рабочего, занятого на конвейере, наглядно демонстрирует порабощение человека технократической цивилизацией. Бедный Чарли, попавший между шестеренок 45 огромного передаточного механизм – правдивая метафора, объединяющая старый и новый мотивы гротеска. Свойственная гротеску предельная поляризация противоречий используется в сатирических целях, образуя пограничную сферу трагического гротеска, в которой комическое смыкается с областью ужасного. Мрачная фантастика, выступающая в самом приземленном, прозаическом обличье, кошмары, ставшие реальностью,- таков трагический гротеск, лежащий в основе жанра антиутопии. Это предостережение, высказанное в форме доказательства “ad absurdum”. Подведем итоги. Чувственной первоосновой категории комического является смех. Смех – врожденная реакция, срабатывающая на различных уровнях психики, взятых в их взаимодействии, и поэтому обладающая множеством тончайших оттенков. Психологический фундамент смеха - чувство юмора, способность подмечать и продуцировать смешное. Можно предположить, что чувство юмора представляет собой развитие некоего психологического защитного механизма, сторонами которого являются: стремление к гибкости, мобильности мышления, предохранение от какой бы то ни было абсолютизации, постоянная «проверка на прочность» как старого, так и нового,- одним словом, такого механизма, который стихийно отражает диалектику жизни. Как и любая способность, чувство юмора многофункционально, тесно связано со всем психическим миром человека и может проявляться в различных сферах деятельности. Его актуализация в эстетическом сознании составляет сущность комического. Поэтому юмор пронизывает собой весь эмоциональный спектр названной категории. Историческое развертывание комического протекает в сложном взаимодействии утверждающей и отрицающей тенденций. На уровне личности самые важные проявления этого взаимодействия связаны с наиболее полным и гармоничным 46 осуществлением ее творческого потенциала. В социальном плане главные аспекты воплощают кардинальное направление развития общества и служат катализаторами этого развития,ведь недаром Протею приписывалась способность не только изменять свой облик, но и предсказывать будущее. 47 Глава вторая. Улыбки и гримасы Тот, кто смеется, не отличается от того, кто плачет ни глазами, ни ртом, ни щеками, но только неподвижным положением бровей, которые соединяются у того, кто плачет, и поднимаются у того, кто смеется. Леонардо да Винчи 1 По сложившейся традиции, имманентные средства воплощения комического в музыке принято рассматривать на материале инструментальной непрограммной музыки, как наиболее свободной от внемузыкальных элементов1. Подобное ограничение представляется не вполне корректным: ведь непроходимой пропасти между инструментальной и вокальной, программной и непрограммной музыкой не существует,напротив, наблюдается их теснейшая взаимосвязь. Во-первых, общеизвестно явление «скрытой программы», определяющей содержание многих образцов так называемой «чистой музыки». Ассоциативная сфера произведения, его опосредованное родство с другими видами искусства, с философскими идеями, течениями общественной мысли – словом, его бытие в контексте истории культуры привносит черты программности, понятийной определенности в сочинения с обобщающими жанровыми названиями «соната», «симфония», «концерт» и т.п. Назову такие параллели, как творчество Бетховена (непрограммное по преимуществу) – и философия Канта, поэзия Шиллера, Гете; музыка Шопена – и поэзия Мицкевича. Вовторых, литературная программа, симбиоз музыки с поэтическим текстом или со сценическим действием не 1 Как на необходимое условие, на это указывает Б.Дземидок (46, 142). 48 приводят к кардинальному изменению принципов музыкальной драматургии. Литературная программа часто становится, по словам Р.Штрауса, лишь «творческим поводом для создания выразительной формы и для музыкального развития ощущений» (цит. по 75, 245). История музыки знает также случаи, когда композитор формулирует программу уже post factum – по канве готового музыкального произведения, конкретизируя его образное содержание, направляя ассоциативное мышление слушателя. Да и для слушателя, даже в сочинениях «по праву рождения» программных, музыка – конечно, если она не несет чисто иллюстративной функции – является ведущим «информационным каналом». Инструментальные переложения вокальных произведений (например, листовские транскрипции песен Шуберта), или концертные варианты оперных сцен (скажем, «Смерть Изольды», «Полет валькирий» Вагнера), несомненно, несут в себе, по сравнению с оригиналом, несколько иное качество. Но для слухового восприятия основного эмоционального тона музыки программа, даже детализированная (как в «Фантастической симфонии» Берлиоза), текст, даже гениальный (как в «Лесном царе» Гете-Шуберта) эффектный сценический антураж (как во многих сценах вагнеровской тетралогии) – не играют определяющей роли. Мы потрясены трагизмом диалогов «Лесного царя» и в оригинальной версии, и в транскрипции Листа, захвачены безудержным вихрем и титанической мощью «Полета валькирий» и на оперной сцене, и в концертном исполнении. Другое дело, что взаимодействие музыкальных и внемузыкальных элементов создает свою «систему координат», свое измерение, восприятие которого вносит существенные коррективы, важные подробности, углубляющие и обогащающие наше понимание произведения. Предпринимаемая рядом исследователей дифференциация видов музыкального комизма на простой и сложный (см. 61; 161)2, или средств его воплощения на 2 Это деление предложено Б.Дземидоком (46, 91). 49 «структурные» и «семантические» (см. 206, 73) не решают проблемы классификации – намеренные нарушения синтаксиса непременно будут и семантически значимы. Если композитор помещает чужую тему в определенный контекст, или как-то нарушает целостность ее структуры, он меняет ее значение. Это изменение воспринимается адекватно, если нам известен ее первоначальный смысл, - таким образом, примат семантики или синтаксиса практически недоказуем. Следовательно, изучая комическое, целесообразнее разделять не различные виды музыки или типы музыкального комизма, а лишь различные формы воплощения комического: 1 – имманентные средства музыкального языка; 2 – средства, основанные на сочетании музыкальных и внемузыкальных элементов3. Эти основные формы находятся в сложном взаимодействии, их обособление возможно лишь в порядке абстрагирования. В какую группу, например, нам отнести различные случаи звукоподражания с комической целью, если они выражаются только средствами музыки? Или как поступить с музыкальными цитатами, скрытыми или явными, особенно в тех случаях, когда цитируются темы, отрывки, интонации «отягощенные смыслом», ставшие в истории музыки символами каких-либо понятий или ситуаций (средневековая секвенция Dies irae, бетховенская «тема судьбы» из Пятой симфонии? Как классифицировать аллюзии, намеки, отсылающие слушателя к различным стилистическим моделям? Поэтому когда композитор оперирует «первозданной» звуковой материей или «реальностью искусства», необходимо выделить и некую промежуточную форму, связанную с приемами конкретизации музыкального языка. Эти приемы постепенно внедрились и пронизали имманентную логику звуковых построений, образуя словно бы капилляры, по которым в музыку «перетекала» внемузыкальная Г.Григорьева различает собственно музыкальные и музыкально-текстовые средства комического (40, 6). 3 50 понятийность. В художественной практике музыка обособилась от остального мира звуков, обрела упорядоченность, начала вырабатывать свои нормы, формируя свойства исходного физического материала – звука – в соответствии с общими закономерностями психики. Отталкиваясь от своего природного «праязыка» - неупорядоченных, но уже несущих некое сообщение звуков, - музыка, становясь искусством, очищала их от первичной информативности, создавала на их основе «вторую реальность», лишь опосредовано связанную с миром простых явлений. В отличие от слова, способного обладать прямой номинативной связью с конкретным обозначаемым предметом, каждая интонема музыкального языка охватывает свой круг значений. Но и эта изначальная неконкретность существует во «второй реальности» искусства лишь в снятом виде. Именно поэтому А.Ф.Лосев имел право утверждать, что «смысл музыки, т.е. ее подлинный явленный лик, ее подлинный феномен, никогда и ни при каких обстоятельствах не может быть отличен признаками физическими, физиологическими или психологическими» (92, 13). Все последующие рассуждения о выразительности, изобразительности, психологизме становятся возможными лишь потому, что в процессе исторического развития этой «второй реальности» искусства образуется и постоянно увеличивается своеобразный «культурный слой», состоящий из ритмоинтонационных комплексов с прочно закрепленной за ними семантикой. Сюда входят интонемы, ставшие знаками определенных состояний (например, мелодика lamento), прикладные жанры, несущие чуть ли не в каждом своем элементе сообщение о среде, обстоятельствах и типизированной содержании своего бытования, наконец, «сгустки» информации – «темы-символы», принявшие за время своего существования «груз смысла», способность быть прочитанными однозначно. На определенном этапе зрелости музыка, некогда отделившаяся от мира природных звуков, попыталась к нему вернуться, овладеть им, ассимилировать его в своей системе, 51 сделать фактом искусства. Звукоподражания, сперва примитивные, претерпевали дифференцирование, возникали звуковые структуры с богатейшей гаммой оттенков (например, подражание смеху). Так при помощи все усложняющейся системы этих комплексов осуществляется связь реальности жизни и «реальности искусства». А.Ф.Лосев, сопоставляя музыку и психические процессы, писал: «Психологический поток беспорядочен и мутен; он все время несется вперед и форма протекания его в высшей степени случайна. Музыка, наоборот, известна лишь в стройнейших и законченных музыкальных образах, и о какой бы бесформенности и хаосе она не говорила, все же сама она дана в строжайшей форме, и иначе нельзя было бы говорить об искусстве музыки» (92, 15). Именно логика держит и не дает расползтись подвижной протоплазме чувства, организует самый текучий, нерасчлененный «природный материал». Имманентная музыкальная логика и внемузыкальная понятийность сращиваются, проникают друг в друга. Семантически стабильные ритмоинтонационные комплексы образуют в свою очередь еще одну систему смысловых отношений, которая подчиняется уже не только имманентной музыкальной логике, но и логике внемузыкальной понятийности4. Музыкальный язык обрастает ассоциациями. В одну интонацию оказывается возможным «свертывать» целые эпохи (см. 106, 15). Возрастают требования к исторической чуткости слуха. Квалифицированный слушатель должен моментально схватывать и оценивать репрезентативность звучащей законченной смысловой ячейки – фразы какого-либо сочинения. В его сознании она обретает свой исторический контекст, происходит настройка на определенный тип исторического восприятия, ориентация слушателя в «историческом пространстве» музыки. Следующий этап восприятия связан с Например, в музыке барокко важнейшим организующим фактором были риторические тропы (см. 62), принципы построения сонатной формы у венских классиков соотносимы с диалектическим категориальным аппаратом немецкой классической философии. 4 52 расшифровкой музыкального сообщения в рамках уже установленной системы координат. Здесь чрезвычайно важен эффект жанровой конкретизации. Обращаясь к жанровым моделям, композитор использует их «информативный потенциал», их прикрепленность к определенной общественной среде, их функциональную связь с различными ситуациями в жизни человека – словом, создает достоверный образ «места действия». Тематические образования, выделившиеся на фоне этих «обстоятельств места и времени», по законам синестезии способны преобразовываться в гипотетические «действующие лица» произведения. Характер и даже внешний вид персонажей ассоциативно устанавливается на основе индивидуального восприятия их интонационных характеристик. Например, тип движения (равномерный - неравномерный) ассоциируется с устойчивостью нервных процессов, проявляющихся в жестах, поступках; тембр связывается не только с голосом и характером, но и с физическими параметрами, например, с комплекцией (толстый – худой). Мелодика – пожалуй, наиболее сложный и неоднозначный фактор, тесно связанный с исторически мобильной семантикой интонаций, гибко передающий постоянство и изменчивость внутренней жизни «персонажа». Ее жанровое освещение способно указывать даже социальную принадлежность. Ладовый колорит (естественно, только в произведениях с тональной организацией) играет большую роль в осознании эмоциональной доминанты музыки. Подобная образная персонификация, конечно же, далеко не универсальный путь восприятия музыки и возможна лишь при определенных условиях рельефности тематизма, которая не всегда входит в замысел композитора. Но для создания комических ситуаций в музыке она очень важна. Ведь объект и субъект комического – человек. Обстоятельства, в которые он попадает, обретают (или не обретают) комизм лишь по отношению к человеку и лишь потом – как средства характеристики тех или иных персонажей. Поэтому средства воплощения комического формировались, прежде всего, как 53 средства индивидуализированной характеристики. интонационной 2 Для того чтобы предварительно сформулировать принципы воплощения комического в музыке, я не вижу другого пути, кроме эмпирического. Сочинение, анализ которого стал бы отправной точкой, должно отвечать двум основным требованиям: 1 – быть рассчитанным на комический эффект, который подтверждался бы непосредственной слушательской реакцией; 2 – представлять достаточно устойчивые нормы музыкального языка. Таким условиям, как мне кажется, соответствует «Юмореска» Р.Щедрина. Это произведение способно вызвать улыбку в самой различной аудитории, к тому же оно вполне традиционно, поэтому наблюдения над ним могут дать повод для последующих обобщений. Итак, вслушаемся в музыку… «Юмореска» начинается лаконичным «антре». Маркированные басы (словно удары литавр) сразу же устанавливают тональность Ре-бемоль мажор. Им отвечает реплика, в которой интонация восходящей малой секунды ассоциируется с glissando тромбона (пример 1)5. В первом разделе сложной 3-х частной формы перед нами будто бы проходит парад-алле цирковых музыкальных эксцентриков. Впечатление комически-важного шествия достигается настойчивым проведением характерного для марша фактурногармонического стереотипа – тонико-доминантовых шагов баса. В «Юмореске» этот прием доведен до предельного схематизма – на всем протяжении пьесы бас интонирует лишь тонику и доминанту, не покидая пределов Ре-бемоль мажора. Тональная ограниченность баса расшатывается изложением мелодии в 5 Нотные примеры даны в конце книги. 54 партии правой руки, интонации которой «закодированы» еще во вступлении: тема «вызванивается» с диссонирующими призвуками, как на ударном инструменте с неточным интонированием. Обнаженное противопоставление крайних регистров фортепиано откровенно гиперболично. Мерная поступь нарушается ритмическими запинками: после внезапной паузы вклинивается акцентированный нисходящий мотив, который деформирует такт, расширяя его на одну четверть. В дальнейшем этот мотив становится комичным в своей неизменности. Его формообразующая роль, помимо повторности, детерминирована функционально – в нем концентрируются тоны, максимально чуждые основной тональности (пример 2). Элегантные скачки – «жонглирование» звуками – и хроматизмы среднего построения первой части прерываются невозмутимым «рефреном», который подводит к повторению первоначальной темы: она насмешливо высвистывается в предельно высоком регистре. Новое появление рефрена в конце первого раздела встречается улыбкой – периодичность уже зафиксирована сознанием, и каждая очередная его вылазка предвосхищается слушателем. Осью симметрии «Юморески» является средний раздел. Звуки марша на время умолкают. Музыка «топчется» в нарочито фальшивых гармониях неуклюжего танца, каждая фраза которого сопровождается вызывающим выходом баса. Комизм раздела построен на уже знакомых приемах: на деформации аккордовых и мелодических структур (намеренная фальшь), на примитивизации ритма (унылая повторность формул), на сопоставлении (аккордовая фактура – одноголосие, контраст регистров, противоположная направленность интонаций – вниз-вверх), на неожиданности музыкальных событий (внезапное появление одноголосия, смена динамики) (пример 3). Кульминация пьесы совпадает с началом репризы. На фоне возобновленной маршевой пульсации проходит размашистое solo среднего голоса – контрапункт, сопровождаемый ехидными «комментариями» в верхнем 55 регистре. Затем следует новый слуховой обман – резкая смена динамики и смена регистра в партии правой руки. Далее реприза дословно повторяет экспозицию – композитор словно «притупляет бдительность» нашего слуха, оправдывая его ожидания. Сильнодействующий трюк припасен для коды, «под занавес». После осторожно удаляющихся терций и секст с намеренной фальшью кадансирующих в основной тональности, после благозвучно истаивающих «флажолетов», после замедления, цезуры и паузы, когда кажется, что пьеса благополучно завершена, вдруг нелепо, невпопад грохочет финальный Ми-бемоль-мажорный аккорд (и это в пьесе, не имеющей ни одного тонального отклонения!). Здесь неизменно возникает смех в зале, заполняя такт паузы, предусмотрительно оставленный композитором (пример 4). Обобщая данные анализа, можно выделить следующие принципы претворения комического: 1 – принцип неожиданности – внезапные ладотональные сдвиги, интонационные «странности», нарушающие, на первый взгляд, логику развития, резкие изменения метроритма, перепады динамики; 2 – принцип сопоставления – столкновение семантически далеких интонационных и образных сфер, «игра» регистров и тембров; 3 – принцип деформации – намеренное искажение ладовых, ритмических, фактурных норм музыкального языка, необычные тембровые краски (деформация тембра); 4 – принцип примитивизации – нарочитое утверждение «нормы», гипертрофия жанровых, интонационных, ритмических, фактурных стереотипов, вызывающая их критическое переосмысление6. К сходным выводам приходят Г.Григорьева и Т.Левая. Г.Григорьева говорит о несоответствии различных элементов или о нарушениях привычных слуху закономерностей; о сильных немотивированных контрастах; о деформации отдельных сторон музыкального языка; о гиперболе (30, 4-5). 6 56 3 Теперь рассмотрим эти принципы, как по отдельности, так и во взаимодействии, и попытаемся соотнести их с различными типами комической образности, с эстетическими модификациями категории комического. Принцип неожиданности Этот прием был замечен еще Жан-Полем, который, как известно, довольно настороженно относился к музыкальному комизму. Он писал в «Приготовительной школе эстетики»: «Нечто подобное задору ничтожащего юмора, как бы некоторое выражение презрения к миру, можно слышать и в музыке, например в гайдновской,- она целые последовательности звуков уничтожает другими и беспрестанно мечется между пианиссимо и фортиссимо, между престо и анданте» (58, 155). Именно на этом принципе основано большинство комических ситуаций в Фантазии До мажор Гайдна, в которой автор нагнетает художественные средства, постоянно нарушая инерцию восприятия все более радикальным способом. Начинается Фантазия задорной танцевальной темой. Указание темпа – Presto – можно было бы дополнить пометкой alla tedesco,- настолько чувствуется здесь стихия именно немецкого танца с его простодушной веселостью. Активный квартовый затакт с характерной артикуляцией – словно жест скрипача, взмахом смычка подчеркивающий начало танца (пример 5). Уже во Т.Левая указывает: 1 – на обнажение и подчеркивание примитива; 2 – на юмор парадоксов и разного рода «нарушения»; 3 – на юмор обманутых ожиданий, постоянные обманы слуха и нарушения инерции восприятия (ладовой, структурной, ритмической); 4 – на юмор несоответствия (см. 84, 25-31). Более дифференцированный (но и более беспорядочный) перечень предлагает З.Лисса (87, 402). 57 втором предложении первоначальный мотив динамизирован, проходит в звонком высоком регистре в динамике forte вместо piano. В дальнейшем он проводится в канонической секвенции, а затем - с причудливым контрапунктом в среднем голосе (примеры 6 и 7). К совершенному кадансу, окончательно устанавливающему тональность Соль мажор, композитор приходит через поступенное хроматическое восхождение, после которого проворный и отважный пассаж (как распрямившаяся пружина долго сдерживаемой энергии) звучит свежо и остроумно (пример 8). Новая тема, с ее мягкими «валторновыми» ходами и «флейтовыми» наигрышами, растерянно останавливается на доминанте Соль мажора. Повторы успокаивают, «усыпляют» слушательское внимание – композитор создает «инерцию торможения». Внезапные мощные раскаты Си-бемольмажорного арпеджио дают новый импульс развитию и активизируют восприятие. Наш слух мгновенно перестраивается, и мы улавливаем полутоновые тяготения, на которых и построен «обман». Комизм здесь заключен в непредсказуемости: отмеченный гармонический оборот вполне закономерен, но не очевиден, и потому – остроумен (пример 9). Такая интерпретация обусловлена общим эмоциональным тоном произведения7. Жанрово-бытовые интонации, оживленные танцевальные ритмы сразу же вводят в русло комедии. Поэтому мы ждем эксцентрических поворотов, как ждем шуток от клоуна, вышедшего на арену. В другом контексте сходный прием был бы прочитан иначе. Вспомним хотя бы переход к разработке в первой части бетховенской сонаты ор. 57, где появление отдаленной тональности Ми мажор связано с энгармоническим переосмыслением звуков (es, ces, as). Но таинство модуляции, которое совершается в гулкой тишине этих тактов, не допускает Этот параметр у Кестлера назван «эмоциональным климатом произведения» (207, 46), у Кидда – «чувством эстетической принадлежности» (206, 73), у Сумароковой – «эстетическим полем» (161, 9). 7 58 комического толкования – мятежная атмосфера экспозиции настраивает слушателя на восприятие драмы (пример 10). Принцип сопоставления Контраст образных сопоставлений действует как внезапный сюжетный поворот. Таков переход от Adagio к финалу в Первой симфонии Бетховена, который в начале XIX века «нередко выпускался дирижерами из боязни вызвать смех у публики» (4, 178). В этих тактах последования нерешительных интонаций, вкрадчиво, на ощупь завоевывающих звуковое пространство, сменяются легко взбегающим пассажем скрипок, который начинает блестящее рондо – неуверенность и осторожность уступают место безоглядному веселью (пример 11)8. В финале Первого фортепианного концерта Д.Шостаковича патетический возглас виолончелей вдруг «съезжает» в банальный каданс, после которого солирующая труба на фоне примитивного аккомпанемента проводит развязную мелодию, основанную на избитых «шлягерных» интонациях. Доминантовый аккорд, с купеческой удалью «ухнувший» в партии фортепиано, довершает картину наглого, разгульного веселья. Столкновение семантически полярных интонационных пластов – «высокого» и «низкого» – подчеркнуто тембровой характеристикой: суровый унисон струнных, экспрессивная интонация уменьшенной квинты противопоставлены яркому тембру трубы с ее назойливо-общительной лексикой (пример 12). Тип комизма в приведенных примерах различается, несмотря на сходство приемов, и находится в прямой зависимости от интенсивности сопоставления. Если в симфонии Бетховена контраст осуществляется в рамках единой стилистической системы, то в Концерте Шостаковича подчеркнута несовместимость возвышенного и банального. Необходимо сразу же оговориться, что здесь, да и в последующих примерах, можно обнаружить «поддержку» других принципов создания комического. Подробнее об этом будет сказано ниже. 8 59 Поэтому в первом случае все происходящее оценивается в границах утверждающей тенденции, а во втором – в пределах отрицающей. Иногда прием регистровых и тембровых сопоставлений двух образов превращается в их диалог – они словно персонифицируются в «действующие лица» произведения. Напомню перекличку в коде первой части Сонаты ор. 79 Бетховена: «перебранка» ворчливых форшлагов нижнего регистра и звонких – верхнего (пример 13). Но вот и другой пример: в танце Бюрократа из балета Шостаковича «Болт» контраст регистров и тембров достигает эксцентрической остроты и поэтому приобретает сатирическое звучание. Робкие реплики Просителя (флейта piccolo) пресекаются грозным рыканием «начальственного» баса (тромбон glissando) (пример 14). Нетрудно заметить, что во всех приведенных выше музыкальных примерах принцип сопоставления поддержан принципом неожиданности. Может даже возникнуть вопрос о правомерности их разделения. В самом деле, жизнерадостная тема финала Первой симфонии Бетховена звучит неожиданно после робкой интродукции, грозный рев тромбона («Болт» Шостаковича) неожиданно обрывает флейту piccolo. Поэтому определим, что критерием вычленения какого-либо приема в отдельный принцип воплощения комического для нас будет являться его способность создавать комическую ситуацию не только в содружестве с другими приемами, но и самостоятельно. Неожиданные тональные смещения, изменения динамики и т.д. даже в пределах однородного тематического материала способны дать комический эффект (см. «Юмореску» Щедрина). Интонационные и стилистические сопоставления (Первый фортепианный концерт Шостаковича), регистровые и тембровые контрасты («Болт») также причастны комизму. Следовательно, вполне правомерно и выделение этих художественных приемов в самостоятельные принципы воплощения комического. Если искать внешние аналогии, то принцип неожиданности можно было бы сопоставить с 60 комизмом положений, в то время как принцип сопоставления связан скорее с комическим контрастом характеров. Комические двойники-антиподы чрезвычайно распространены в мировой комедиографии: допустим, если один из них высокий и худой, то другой – обязательно низенький и толстый, если у одного голова напоминает «редьку хвостом вверх», то у другого – «редьку хвостом вниз», один смел, решителен, безрассуден, другой – труслив и «себе на уме»9. Принцип деформации Диапазон этого приема широк. Деформация может затрагивать любые параметры музыкального языка и различные жанровые модели. Наиболее безобидные ее проявления – комическая имитация неумелой, фальшивой игры. В «Секстете деревенских музыкантов» В.А.Моцарта скрипач в «виртуозной» каденции забирается в высокую позицию и начинает безбожно фальшивить (пример 15). Резко диссонирующий ре-бемоль в первой части “Minimax” Хиндемита, где струнный квартет подражает полковому духовому оркестру, автор объясняет тем, что у валторн якобы замерз четвертый вентиль (пример 16)10. Политональное сочетание мелодии солирующей трубы и струнного квинтета в «Польке» из Первой сюиты для малого оркестра И.Стравинского образуется, по остроумной догадке А.Шнитке, как бы из-за ошибки переписчика, благодаря которой партия трубы “in B” исполняется на трубе “in C” (пример 17). Деформация часто применяется для выражения критического отношения к чему-либо, как эффективный фактор снижения. Удлинение на одну восьмую первого такта темы «Королевского марша» из «Истории солдата» Стравинского приводит к несовпадению долей – «ковыляющий» ритм перечеркивает внешнюю помпезность шествия (пример 18). Эта закономерность наглядна в истории клоунады – вспомним классическую пару «рыжего» и «белого» клоунов (см. 139, 66-87). 10 См. 203, 683. 9 61 Деформация жанровых признаков (в данном случае вальсабостона) придает ироническое звучание Прелюдии Ля-бемоль мажор Шостаковича: «томная» мелодия от «полноты чувств» не укладывается в вальсовую трехдольность, а постоянные истаивания, замирания комичны в своей гипертрофированной выразительности. Сатирическая характеристика Леньки Гульбы из балета Шостаковича «Болт» также связана с «ядовитой», чувственной атмосферой гротескно-деформированного вальсабостона (пример 19). Однако деформация не всегда служит комизму. Во фрагменте «Монтекки и Капулетти» из балета «Ромео и Джульетта» С.Прокофьева резкое переченье, искажающее мелодическую линию, своей трагической напряженностью вызывает ассоциации с эскизами к «Битве при Ангьяри» Леонардо да Винчи, запечатлевшими обезображенные яростью лица воинов. Подобное восприятие подготовлено жестким, «готическим» инструментальным колоритом, аккордами, звучащими как удары бича, непреклонной, косной «темой вражды», провозглашаемой басами (пример 20). В таком контексте интонационная деформация кажется криком боли. Сходный прием, попав в совершенно иные условия, вызывает противоположную реакцию: разноголосица интонаций, жанров в финале Первого фортепианного концерта Шостаковича отражает социальную пестроту периода НЭПа, и в этой среде намеренно фальшивый «интонационный жест» трубы напоминает кривую обывательскую ухмылку превосходства (пример 21). Если сущность принципов неожиданности и сопоставления мы сравнили соответственно с комизмом ситуаций и комизмом характеров, то механизм принципа деформации, затрагивающей «сердцевину» музыкальной выразительности (интонацию, ритм), справедливо сопоставить с приемами карикатуры, заостряющей индивидуальные особенности персонажа, нарушающей его пропорции. Литературной аналогией здесь может служить комическая речевая характеристика или описание внешности, отражающие глубинный комизм характеров. 62 Принцип примитивизации Этот принцип, в отличие от предыдущих, находится полностью в русле отрицающей тенденции. Можно различить три аспекта его применения. Первый из них носит откровенно пародийный характер. Поле его распространения – категория банального (см. 57). Это нарочитое использование жанровых, интонационных, ритмических, гармонических, фактурных стереотипов, парадоксальное утверждение уже «одряхлевшей», исторически отжившей «нормы», которая из организующего начала превратилась в «общее место», потеряла свой эмоциональный заряд, свою индивидуальную информативность. Если всевозможные нарушения, свойственные принципу деформации, приводят к фальши, несовпадениям, дисгармонии, то здесь мы находим, напротив, стремление к соответствию ожиданиям. Этот принцип будто бы «потакает» инерции восприятия, предлагает лежащую на поверхности «интонационную накипь», но, в то же время, дает нам почувствовать ее отличие от истинной выразительности,- в искусстве, как и в жизни, не бывает «второй свежести». От уровня квалификации слушателя во многом зависит верное восприятие не только этого «штампа», но и его критическая оценка. «Тема клятвы» из оперы «Нос» Д.Шостаковича комична в своем «неистовом романтизме», в явной вторичности приемов. В рамках эстетики романтизма можно констатировать полное соответствие ситуации: горделивые фанфары трубы на фоне взволнованного тремоло струнных напоминают героические лейтмотивы вагнеровского «Кольца». Но в антиромантической стилистике оперы ходульная напыщенность этой темы становится анахронизмом (пример 22). Принцип примитивизации здесь дополнен на стилистическом уровне принципом сопоставления, который подчеркивает прямолинейность локального соответствия. Возникает любопытная стилистическая параллель: известно пристрастие многих персонажей Гоголя и Достоевского к выспренной 63 лексике, взятой из арсенала эпигонов романтизма, которой, по обывательскому мнению, должны выражаться «высокие», «красивые» чувства, одним словом «парение эдакое». (Вспомним хотя бы Хлестакова: «Для любви нет различий… Мы удалимся под сень струй» и т.д.). Второй аспект можно определить так: пошлость чувств ведет к пошлости их воплощения. Например, в вальсе Балерины из балета И.Стравинского «Петрушка» собраны, по словам А.Шнитке, «любимые приемы дачных таперов – образуемая путем механического передвижения руки с тонического трезвучия на соседнее уменьшенное трезвучие «доминанта», <…> беспомощные потуги на фигурации, ритмическое заполнение выдержанных нот тупыми репетициями, “шикарное” тоническое арпеджио» (184, 232) (пример 23). Комизм кукольного примитива поддержан принципами неожиданности и деформации: «…разрывом вальсовой ткани и внедрением затейливых оборотов, мотивов или странных узоров в необычном регистре, в неподходящий, казалось бы, момент, в чуждую им по характеру музыку» (10, 38). Когда к корнет-апистону Балерины пристраивается контрапункт бас-кларнета, исполняющего тему Арапа, начинает действовать принцип сопоставления, превращая дуэт в пародию на классическое балетное pas de deux. Третий аспект принципа примитивизации покидает сферу пошлого, банального для прямого и непосредственного запечатления безобразного, ужасного,- музыка вплотную приближается к границам возможного в искусстве. Если обращение к «штампам» обличает косность отжившего, то здесь обнажается нечто, изначально враждебное человеческой природе: жестокие силы зла. По наблюдению М.Тараканова, для характеристики отрицательного важны «…такие приемы музыкальной выразительности, которые, по сравнению с музыкальным языком остальных образов, вызывают у слушателя ощущение необычного» (162, 221). Предельная схематичность неодушевленных интонаций, преобладание метра над ритмом, мертвенная автоматичность, порой экстремальный уровень 64 динамической интенсивности, тембровый «дискомфорт» для слушателя создают образы агрессивной бездуховности, бесчеловечности. Если комическое здесь и возможно, то лишь в виде трагического гротеска. Такова Токката из Восьмой симфонии Д.Шостаковича. Неуклонное, безжалостномеханистическое остинатное движение прорезается все более и более интенсивными возгласами, основанными на скорбном интервале малой ноны. На кульминации эти выкрики достигают колоссального уровня экспрессии и, подхваченные всем оркестром, переосмысливаются в стон страдания, а затем – в резкую ноту гневного протеста. Средства негативной характеристики нагнетаются до такой степени, что становится явственно ощутима «та страшная грань, за которой улыбка оборачивается гримасой боли» (83, 8). Комическое переходит в свою противоположность – трагическое. Так на уровне выразительных средств осуществляется родство эстетических категорий. 4 Если механизм рассмотренных принципов при всей развитой структуре внемузыкальных смысловых связей, определялся, в основном, имманентной музыкальной логикой, то для промежуточных принципов, содержание которых будет изложено ниже, оказывается важнее логика внемузыкальной понятийности. Один из них – принцип имитации – связан с воплощением звуков реальной жизни: смеха во всех его эмоциональных оттенках, криков животных, птиц, различных шумов и т.п. Следующий – принцип ассоциации – использует информативный потенциал «реальности искусства»: это отдельные интонации, ставшие сигналами какого-либо явления, стилевые и жанровые модели, явные и скрытые цитаты, примененные с комической целью. Нетрудно заметить, что эти принципы не ограничиваются только областью комического, а вообще являются средствами конкретизации музыкального языка. Но, повинуясь логике внемузыкальной понятийности, они 65 могут быть использованы и с комической целью. С другой стороны, они подвержены воздействию имманентной музыкальной логики. Например, в контексте произведения звукоподражание, стилевая аллюзия или цитата иногда воспринимаются как нечто несопоставимое или неожиданное, известная тема или привычная интонация могут оказаться деформированными, признаки того или иного жанра – примитивизированными. В последнем случае возникает полное тождество с одним из аспектов принципа примитивизации. Это совпадение объясняется тем, что перед нами - точка пересечения двух систем: ведь приемы воплощения комического являются лишь частью художественных средств музыкального языка. Типологические признаки здесь перекрещиваются с родовыми, комизм рождается в их встрече. Принцип имитации Ф.М.Достоевский как-то заметил: «Смех – есть самая верная проба души». Начиная с торжествующего смеха Нерона из «Коронации Поппеи» Монтеверди имитация смеха в вокальной и оперной музыке становится важной деталью интонационной характеристики. В итальянской опере buffa оформилась целая традиция «ансамблей смеха». Ее классический пример – мужской терцет (№16) из “Cosi fan tutte” Моцарта. Легкий серебристый смех колоратурных сопрано, сардонический хохот баритонов и басов образуют вокальную культуру смеха. В инструментальную музыку смех проник, видимо, вместе с кругом буффонных образов. Ритмическая сторона мелодики buffa (скороговорка, репетиции, короткие попевки) сама по себе близка смеховой моторике, которая представляет собой серию коротких энергичных выдохов. Поэтому частые повторы одного или нескольких звуков при соответствующем жанровом освещении создают иллюзию смеха. Аберт часто говорит о смеющихся, хихикающих, ухмыляющихся мотивах у Моцарта (1, ІІ, ı, 255). В музыке романтиков нередко слышен зловещий, инфернальный, «мефистофелевский» смех («Мефисто-вальс» 66 Листа, «Сатаническая поэма» Скрябина). «Откровенно, простовато научились смеяться в джазе саксофоны и кларнеты»,замечает Е.Назайкинский (116, 61). Если подражание смеху встречается даже в непрограммной инструментальной музыке, то имитация различных шумов, криков, как правило, иллюстрирует комические ситуации программы или литературного текста. На редкость изобретательная «сюита» натуралистических звучаний (сопение, храп, стоны, зевки, потягивания) сопровождает пробуждение майора Ковалева в третьей картине оперы «Нос» Шостаковича. В гротескной сцене суда над Жанной, который вершат отцы католической церкви в обличье зверей (оратория А.Оннегера «Жанна д`Арк на костре») присяжные заседатели – бараны – на все вопросы судьи Кошона (свиньи) отвечают блеянием (пример 24). Принцип ассоциации Один из его аспектов – прием жанровой конкретизации – уже рассматривался в предыдущем разделе. Комический эффект здесь возникает при появлении каких-либо жанровых признаков в абсолютно чуждом для них контексте, или парадоксальном сочетании различных жанров. Блестящий пример трагифарсового «жанрового гибрида» содержится во фрагменте «Бал» из «Ревизской сказки» А.Шнитке. Бал открывается вальсом Чичикова и мертвых душ. В первых тактах сосредоточенно и отрешенно провозглашается канонический напев православной заупокойной службы «Со святыми упокой». Он монтируется с вальсовой интродукцией, написанной «в лучших традициях» провинциальной садово-парковой музыки: избитый басовый ход от доминанты к тонике подводит ко вступлению надрывной мелодии (пример 25). В ней слышится не только издевка, но и боль. Как в неприглядном и бесформенном строении, безвкусно окрашенном, с облупившейся штукатуркой, снабженном потрепанными вывесками каких-то неведомых контор, что-то все же притягивает наш взор, и, присмотревшись, 67 мы начинаем различать гармоничные очертания некогда прекрасного храма, обезображенного нелепыми, неумелой кладки пристройками,- так и во внешне банальном облике этой мелодии под слоем обветшавших интонации проступает благородная печаль русской элегической вальсовости (пример 26). Цифры [58] – [59] этой партитуры демонстрируют возможности тембра как носителя определенных жанровых традиций. Тему знойного танго композитор поручает низкой меди. Тоскливый, саднящий душу вой наспех собранной, полутрезвой кладбищенской музыкальной команды чудится в этой тембровой краске. А в верхнем слое фактуры слышны повизгивания скрипки, смех флейты – «жизни мышья беготня». Если цитирование обиходного напева «Со святыми упокой» ограничивается номинативной функцией, привносящей в контекст семантику смерти, то во фрагменте «Чиновники» «Танец меленьких лебедей» Чайковского включается в ассоциативный ряд. Равномерно-семенящее движение знаменитого балетного номера уморительно передает деловитосуетливую, угодливо-трепетную пластику мелкой чиновной братии – коллежских регистраторов, титулярных советников. Из внемузыкальных ассоциаций, особенно действенных в атмосфере театрального спектакля, вполне может возникнуть саркастическая мысль о мнимой «лебединой» чистоте и непорочности продажных столоначальников и «кувшинных рыл». Фугато, построенное на той же теме, создает впечатление какого-то невероятного столпотворения, «разворошенного муравейника». Все мельтешит и движется, будто на улицы Петербурга выбежали те самые, хлестаковские «тридцать пять тысяч курьеров». Цитаты, помимо номинативной и ассоциативной функций, способны играть роль своеобразных метафор. В музыке с текстом знакомая тема или интонация «переводит» словесные понятия в звуковой ряд. В «Крейцеровой сонате» из «Сатир» (ор. 109) Д.Шостаковича даже само название стихотворения Саши Черного, торжественно объявляемое 68 солистом, тянет за собой клубок ассоциаций. Современники поэта, конечно же, сразу вспоминали знаменитую повесть Л.Толстого, бурную полемику об институте брака, о положении женщины, развернувшуюся в прессе после ее опубликования. В кризисное для русского общества время, после революции 1905 года эта тема возникает в виде пресловутой «проблемы пола». Проклятые вопросы, Как дым от папиросы, Рассеялись во мгле. Пришла Проблема Пола, Румяная фефёла, И ржет навеселе. - со злым сарказмом писал Саша Черный. В таком историческом контексте заголовок воспринимался как метафора демократических идеалов, а содержание, за ним скрывающееся, свидетельствовало об их подмене и профанации. Кроме заголовка, в «Крейцеровой сонате» Саши Черного нет ни цитат, ни стилистических заимствований. Подчеркнутые бытовизмы стихотворения придают названию ироническое звучание. Шостакович переносит этот внешний по своему типу контраст – то есть контраст между заголовком и стихотворением – внутрь самого произведения. В музыке происходит «материализация метафоры»: отталкиваясь от названия стихотворения, композитор вводит цитату из вступительного Adagio «Крейцеровой сонаты» Бетховена. Театральный характер приема очевиден: Мейерхольд в своем «Ревизоре», в сцене мечтаний городничихи вывел целую толпу гусаров-поклонников; в спектакле А.Эфроса «Женитьба» при упоминании покойного отца Агафьи Тихоновны, Тихона Пантелеймоновича, у которого «рука была с ведро величиной», на сцене появлялся актер, демонстрирующий эту огромную пятерню. В «Крейцеровой сонате» Шостаковича, помимо метафорической, цитата несет и 69 семантическую функцию; причем, взаимодействуя с текстом, заимствованный материал сам претерпевает определенные изменения. За предшествующие четыре номера у слушателя уже вполне сформировалась инерция восприятия именно сатирического цикла, и поэтому фраза «из Бетховена» ориентирована не на углубленное постижение ее смысла, а на знаковое восприятие,- это символ высокого этического начала. Цитата специально взята композитором «в кавычки»: фортепиано имитирует сначала звучание скрипки, а затем вступление пианиста (пример 27). Столь же наглядно продемонстрировано и «снижение» этического идеала. Четкие очертания бетховенских гармоний постепенно оплывают, деформируются их функциональные связи; из Ля мажора музыка как бы ощупью пробирается к доминанте ми минора. Одновременно с тональной происходит и «стилистическая модуляция» - в ми минор вводит виолончельная фраза вступления к ариозо Ленского из «Евгения Онегина» Чайковского. Мягко синкопированный аккордовый фон подготавливает вступление знакомой мелодии. Но вновь происходит неожиданная стилистическая перекраска – вместо темы ариозо звучит унылый «шарманочный» вальс11. В стихотворении Саши Черного все события даны от лица воображаемого автора. Шостакович насыщает изложение элементами театрализации: авторская речь прерывается вздохом скучающего Квартиранта (такты 55-57). Цитата из Чайковского, мелодраматически звучащая в басу (ремарка espressivo), приводит к контрастному разделу – «портрету» прачки Феклы. Ее разбитная пляска представляет собой модификацию «Чижикапыжика». Пляска переходит в залихватские притопы Allegro, в котором возгласам солиста «Квартирант, квартирант…» отвечают разухабистые октавы фортепиано (пример 28). После генеральной паузы вновь звучит скучающий вальс Квартиранта. Поразительный пример далекой «стилистической модуляции» есть во Втором виолончельном концерте Шостаковича, где грозная «тема фатума» из Четвертой симфонии Чайковского постепенно превращается в мотив «Купите бублики» (цифры [99] – [100] партитуры). 11 70 При обращении к Фекле мелодическая линия расцвечивается томными хроматизмами, опять вызывающими глубокий вздох Квартиранта: «Ух!». «Игривые» ферматы придают кульминационной сцене опереточный характер (такты 131, 137138). Фривольный танец, основанный на интонациях «Чижика», начинается не сразу, а с раскачки. Квартирант подводит «теоретическую базу» под свои действия: «Ты народ, а я интеллигент», - а в это время музыка показывает истинную цену его «интеллигентности», переходя в разнузданный перепляс фортепианного соло, с таперским шиком скандирующего аккордовые параллелизмы. В самозабвенном угаре Квартирант с ухарским «припаданием» на слабую долю выкрикивает: «Я тебя, а ты меня, а я тебя, а ты меня поймем!». В такой сатирически заостренной, циничной форме предстает тезис о связи интеллигенции с народом. В музыке Шостаковича подхвачена тема вульгаризации идей, подмены подлинного мнимым. Чем же, как не вульгаризацией сложных понятий являлись распространенные в советском искусствознании догматически суженные представления о реализме, народности, новаторстве? И разве при взгляде на творчество иного композитора, паразитирующего на народной песне, опошляющего искусство нехитрым набором ремесленных приемов, не проступает неожиданно его внутреннее сходство с предприимчивым Квартирантом, столь прямолинейно осуществлявшим свою связь с народом. Рассматривая «Крейцерову сонату» Шостаковича, мы не могли обойти различных аспектов взаимодействия слова и музыки. Вновь приходится убеждаться в относительности какихлибо разграничений и классификаций в живом искусстве музыки. В предыдущих разделах довольно часто приводились примеры из области вокальных жанров. Поэтому уже есть основания условно выделить два противоположных принципа взаимодействия слова и музыки, обеспечивающих комический эффект: соответствие и намеренное несовпадение. 71 В первом случае музыка и слово находятся приблизительно в одной эмоционально-смысловой сфере. Своими средствами – интонационно, динамически, ритмически – музыка подчеркивает, «подает» словесный комизм, находит ему музыкальный эквивалент. Это может быть тон высказывания: например, доверительный, «конфиденциальный» строй музыкальной речи в «Червяке» Даргомыжского. Или же это меткий интонационный штрих, подчеркивающий ключевые слова или иллюстрирующий определенные жесты, как в песне Бородина «Спесь», где мелодическая линия, «с боку на бок переваливаясь», рисует нам походку персонажа, а ехидные имитации в аккомпанементе насмешливо комментируют слова «ростом-то Спесь аршин с четвертью» (пример 29). Иногда соответствие музыки и слова сдобрено изрядной долей иронии. Нелепый текст принимается как бы всерьез. М.Каган, отстаивая свой тезис о минимальных возможностях музыкального комизма, приводит афоризм Д.Рескина: «Можно петь об утраченной любви, но нельзя петь об утраченных деньгах» (см. 66, 208). Но ведь если петь об утраченных деньгах с той же «страстью», что и об утраченной любви, то как раз и получается один из приемов создания комического. Подобный прием хорошо известен в литературе. Еще Эразм Роттердамский говорил: «Ежели ничего нет нелепее, чем трактовать важные предметы на вздорный лад, то ничего нет забавнее, чем трактовать чушь таким манером, чтобы она отнюдь не казалась чушью» (146, 7). Знаменитые комики часто выходят смешить с серьезной миной. Такая разность потенциалов между целью (смехом) и средством (мрачной серьезностью) как раз и вызывает мощный разряд веселья. Это прием часто используется в целях пародии. «Чрезмерный восторг» из Пяти романсов на слова из журнала «Крокодил» Шостаковича пародирует казенный «гражданский пафос». Этот «романс» - концентрированное воплощение того недавнего времени, когда громом неуемных славословий пытались заглушить реальные жизненные проблемы, когда произведения официально оценивались не по художественным 72 достоинствам, а по формально понятой принадлежности к «актуальной тематике». В «романсе» можно обнаружить полный набор дежурных приемов, характерных для конъюнктурного псевдоискусства, в частности, для ремесленных «величальных кантат» в духе монументального «соцреализма». Тут и громогласное вступление, прерываемое зычным возгласом солиста: «Первый хлеб!»,- и мерно рокочущие арпеджио аккомпанемента, и «гимнические» интонации вокальной партии, и импозантное фортепианное соло аккордового склада, предполагавшее при исполнении в «правительственных концертах» присутствие за роялем самого композитора – автора подобных опусов. Подъем к помпезной кульминации, на которой заканчивается произведение, поддержан динамическим нагнетанием четвертных нот в сопровождении. В заключение тоника мощно утверждается шаблонным для такого рода сочинений приемом – плагальным кадансом. Лукавое соответствие высокопарного текста и музыки оборачивается кричащим противоречием, создающим неотразимый комический эффект, когда солист патетически заявляет, что хлеб нового урожая пахнет «комбайнерскими руками, пропитанными керосином». Примеры, приведенные в этой главе, были взяты без какой-либо хронологической последовательности, сгруппированы только благодаря единству художественных приемов создания комического. Но отмеченные принципы появились далеко не одновременно и в историческом контексте их взаимодействие значительно сложнее. «Развертывание» категории комического в музыке имеет свои особенности; мы рассмотрим их в последующих главах. 73 Глава третья. Гость с черного хода Акрополь все еще виден вдали Козьма Прутков «Спор древних греческих философов об изящном» 1 В отличие от литературы, в музыке практически невозможно детально проследить эволюцию комического от самых истоков европейской культуры – от эпохи античности. Историческая изменчивость «интонационного фонда» (Б.Асафьев) и принципов его организации не сравнимы с аналогичными процессами в вербальных и визуальных видах искусства. Древнегреческая буквенная нотация, известная по немногим сохранившимся фрагментам, поддается расшифровке, переносу в современную систему записи, но таким образом возможно лишь приблизительно воскресить внешние акустические формы, а их содержательное наполнение остается недоступным,- как искусство эта музыка умолкла для нас навсегда. Только на основании косвенных свидетельств, содержащихся в музыкально-теоретических трактатах и литературных источниках, можно высказывать какие-либо предположения и делать осторожные выводы об ее эмоционально-смысловой стороне. Музыка в жизни древних греков занимала настолько важное место, что даже чисто профессиональные вопросы регулировались «правительственными постановлениями». Известен декрет спартанских эфоров, направленный против «авангардиста древности» Тимофея Милетского. Декрет гласил: «Так как Тимофей Милетский, прибывший в наше государство, пренебрегает древней музой и, играя, изменяет 7-струнную кифару [и] вводит многозвучие, он портит слух молодежи многострунностью и пустейшим, низменным и сложным 74 мелосом» (цит. по 34, 208). В результате Тимофей был присужден к отсечению «лишних» из 11 струн его кифары. Синкретизм – основная черта музыкальной практики рассматриваемой эпохи. Музыка развивалась в теснейшей связи с другими видами искусства. Двойственность природы дионисийского культа, этой колыбели «мусических искусств», сочетающего идею смерти и возрождения, радости и страдания, сказывалась в обрядовом обиходе. Комос1- процессия ряженых, «фавнов и сатиров рой» - сопровождал свое шествие песнями, проникнутыми то печалью, то безудержным весельем, которое выплескивалось в разнузданном вакхическом танце кордаке (или кордаксе). Вспомним пушкинское «Торжество Вакха»: …Но воет берег отдаленный. Власы раскинув по плечам, Венчанны гроздьем, обнаженны, Бегут вакханки по горам. Тимпаны звонкие, кружась меж их перстами, Гремят – и вторят их ужасным голосам. Промчалися, летят, свиваются руками, Волшебной пляской топчут луг, И младость пылкая толпами Стекается вокруг. Поют неистовые девы; Их сладострастные напевы В сердца вливают жар любви; Их перси дышат вожделеньем; Их очи, полные безумством и томленьем, Сказали: счастие лови! Их вдохновенные движенья Сперва изображают нам Стыдливость милого смятенья, Желанье робкое – а там Восторг и дерзость наслажденья. 1 К этому слову восходит этимология комического. 75 Музыка, песня, танец, связанные с праздничным, оргиастическим аспектом культового действия, нашли развитие в аттической комедии. Всеобщая радостная пляска, венчающая «Лисистрату» Аристофана, еще сохраняет живую связь театрального представления с обрядовым праистоком. Даже в переводе читателя захватывает напряженный рост экстатического чувства: Выходят лаконцы в сопровождении флейтистов Лаконец (флейтисту) О милый друг, возьми-ка флейту ты, Чтоб я прошелся в пляске и пропел Афинянам и нам совместно песню! Притан Бери скорее флейту: видят боги! (Лаконцу) Пусть вашей пляской насладится взор! (…) (К пляске Лаконца присоединяется хор) Радуйтесь! Радуйтесь! Слава вам! Ноги высоко подкинем все, Как победители! Слава! Эвай, эвой, эвай, эвой! («Лисистрата», перевод Д.Шестакова под ред. Ю.Шульца) Пародийная направленность комедии по отношению к трагедии часто распространялась и на музыку. В трагедиях 76 унисонное пение хора обычно сопровождалось аккомпанементом двойной флейты, которая состояла из двух камышовых трубок, имеющих свой мундштук. Софокл ввел в обиход сольное пение актера, получившее название монодии. Наибольшее количество новшеств принадлежит Еврипиду: его выразительные монодии, исполняемые в не употреблявшемся прежде «смешанном лидийском» ладу потрясали современников. Но именно его творения чаще всего подвергались нападкам комедиографов2. «Музыкальную часть» трагедий Еврипид доверял Тимократу Аргосскому и Кефисофонту, которые, по-видимому, не чуждались новаций. Поэтому в «Лягушках» Аристофана осуждаются не только литературные достоинства еврипидовского стиха, но и жестоко высмеиваются музыкальные изыски. Разгневанный Эсхил (один из персонажей комедии Аристофана) в сердцах восклицает: Несите лиру! Впрочем не нужна Здесь лира. Подавайте мне трещотку И бубенцы. О, муза Еврипида, Под грохот надо песню петь твою! (Перевод Ю.Шульца) Затем под аккомпанемент бубна, вместо традиционных авлоса или кифары, он запевает пародийную монодию, где в хаотической бессмыслице смешивает стихи из различных трагедий Еврипида. Эту замену мелодического инструмента ударным можно посчитать дополнительным приемом комического снижения3. Язвительная насмешка Аристофана не щадила даже общепризнанные ценности – в комедии «Всадники» рабы Никий и Демосфен жалобно скулят, издевательски См. 191, 52-54. К сожалению, в известной мне литературе даже не упоминаются имена музыкантов, которые могли бы работать с Аристофаном. Хотя об его коллеге из Древнего Рима – Теренции, сообщается, что он сотрудничал с Флакком, рабом Клавдия. 2 3 77 подражая печальным мелодиям знаменитого флейтиста Олимпа (VII в. до н. э.). Из сведений об инструментальной музыке Древней Греции для нашего обзора наиболее интересны свидетельства о появлении программных инструментальных произведений. Самое раннее из сообщений датируется 586 годом до н. э. – именно в этом году авлетист Саккад из Аргоса на пифийских играх в Дельфах исполнил пятичастный ном, изображающий битву Апполона со змеем Пифоном4. Тенденция к звукоизобразительности, картинности окажется впоследствии одним из важнейших направлений, по которым происходила эволюция музыкального комизма. Музыкально-теоретические воззрения античности отличаются постоянством и огромным пиететом перед традиционными установлениями. Как утверждает Е.Герцман, «сила традиции, авторитет древних ученых и неприкосновенность издавна сложившихся параграфов теории были настолько велики, что какие-либо новые соображения, индивидуальный подход к тому или иному вопросу или необычная трактовка художественного явления – почти полностью исключались. Достаточно сказать, что со времен Аристоксена (IV в. до н. э.) – наиболее раннего из теоретиков, работы которого сохранились,- вплоть до эпохи Боэция (конец V в. н. э.), то есть на протяжении почти десяти веков (!), античная музыкальная теория постулировала одни и те же положения» (34, 18). Музыка понималась «как эмпирическое умение, относящееся к инструментам» и как точная наука «о мелодии, звуке, о творчестве ритма» (151, 2, 192), требующая математического выражения (“пифагорейская школа”). Изучение самой стихии звука, музыки как акустического феномена, поиски ее места в иерархии звучащей природы, - это 4 Его программу см.: 145, 1, 70. 78 направление прослеживается в музыкальной эстетике вплоть до конца XVIII века5. Музыка как явление общественной жизни стала предметом учения об этосе, выдвинутого Платоном и развитого впоследствии Аристотелем. Лад, ритм, тембр, согласно Платону, несут в себе этическое начало, способны оказывать воспитательное воздействие, благотворное или пагубное. В идеальном государстве разрешается лишь такая музыка, которая помогает формированию совершенного гражданина – мудрого, добродетельного, мужественного. Таким требованиям, по мнению Платона, отвечают песнопения в дорийском и фригийском ладах, сопровождаемые игрой на лире или кифаре (Платон был противником чисто инструментальной музыки). Взгляд Аристотеля не столь ригористичен. Он признает гедонистическую ценность музыки «ради интеллектуального развлечения, то есть ради успокоения и отдохновения от напряженной деятельности» (7, 203-204), допускает использование различных ладов, хотя и не в одинаковой мере. Исходя из своей концепции мимезиса (подражания природе), он формулирует идеи, удивительно созвучные «теории аффектов» эпохи Просвещения: «Ритм и мелодия содержат в себе ближе всего приближающиеся к реальной действительности отображения гнева и кротости, мужества и уверенности и всех противоположных им свойств, а также и прочих нравственных качеств. Это ясно из опыта: когда мы воспринимаем нашим ухом ритм и мелодию, у нас изменяется и душевное настроение. Привычка же испытывать горестное или радостное настроение при восприятии того, что подражает действительности, ведет к тому, что мы начинаем испытывать те же чувства и при столкновении с житейской правдой» (7, 194-195). Для судеб музыкального комизма решающей оказалась общая направленность античной эстетики, ее стремление к упорядоченности и нормативности. В поздней античной 5 См., например, переписку Гете и Цельтера (111, 1, 239-274). 79 традиции музыка, наравне с грамматикой, логикой, арифметикой, геометрией и астрономией, входит в число «семи свободный искусств» - корпус тогдашней учености. В средние века все в него входящие дисциплины попали под эгиду церкви и были призваны служить богословию. Незыблемость христианских догматов предполагала устойчивость и строгую регламентированность культовых мелодий, которые к концу VI века были объединены в канонизированный свод – антифонарий. Церковная музыка прочно связывается со сферой возвышенного, отделяясь от музыки жанрово-бытовой, в рамках которой находило свое выражение народное празднично-смеховое восприятие. В противовес аскезе григорианского хорала, музыка народный празднеств «…воспевала чувственные радости и наслаждения. Как правило, она бывала связана с танцем или театральными зрелищами, что, естественно, придавало ей большую эмоциональную выразительность» (181, 12). Церковь к ней относилась враждебно. Ортодоксы утверждали, что духовное искусство вдохновляется Богом, а светское – дьяволом, и устанавливали между ними строгую границу (см. 193, 101-102). Бродячие музыканты, увеселители народа – жонглеры не пользовались расположением священнослужителей6. Но народные напевы все же раздавались и под сводами храмов. В 11- 12 в.в. в церкви допускались представления так называемой литургической драмы, в которой разыгрывались театрализованные библейские сюжеты. Они включали в себя жанровые сценки, где нередко звучали народные мелодии 7. Имеются свидетельства, что здесь применялась игра на музыкальных инструментах, а иногда исполнители даже отказывались от традиционной латыни. Эти еретические вольности время от времени пресекались. Так, в 1240 Сохранилась жалоба оскорбленного монаха Ордериха, который с обезоруживающим простодушием доносил своему начальству: «Остроумный жонглер непристойные песни обо мне сочинил и пел их мне в обиду» (113, 327). 7 Грубер приводит некоторые из них, имеющие откровенно плясовой характер (см. 41, 172-173). 6 80 литургическая драма изгоняется из храмов. Но сближение народной и церковной музыки продолжалось. В мистериях, сменивших литургическую драму, благочестивые сюжеты оживлялись комедийными фигурами пастухов, крестьян и слуг. «Хоры, отдаленно связанные с действием, как у Баха, служащие для украшения или назидания (это начинается еще с XII века, с “Действа об Адаме”), песенки, порой веселые, чаще грубошутовские, в промежутках между трагическими сценами, музыкальные прологи, фрагменты»,- такой описывает музыку мистерий Р.Роллан (145, 1, 25). На рубеже средневековья и Ренессанса народно-песенные интонации, задорные танцевальные ритмы уже охотно используются в культовых сочинениях для выражения «беспечного веселья, единодушного ликования» (82, 49). Подобный тип образности, конечно, нельзя назвать музыкальным комизмом – это лишь предпосылки, в результате развития которых народная музыка, связанная со смеховой культурой, становится основой утверждающей тенденции музыкального комизма. 2 Вплоть до эпохи венского классицизма, пишет В.Конен, «…комедийное начало неотделимо от круга интонаций народной и жанрово-бытовой сферы. На протяжении длительного времени собственно комедийное и просто жанрово-бытовое не дифференцировалось сколько-нибудь определенно» (74, 228). Скажу осторожнее: жанрово-бытовая сфера долгие годы оставалась допустимым прибежищем, потенциальной областью комического. Уточнение представляется уместным потому, что даже на самых ранних этапах истории музыки все же просматриваются отдельные черты дифференциации комического и жанрово-бытового, которые связаны с зачатками отрицающей тенденции. Их можно заметить, например, в пародийных элементах музыки античной комедии. В средние века бурный расцвет пародий на все официальные идеологические установления затронул и музыку. В этом плане 81 особенно показательны маргинальные формы католической культуры. В VI – IX веках во многих западноевропейских странах были распространены театрализованные представления, устраивавшиеся младшим клиром при активном участии прихожан, получившие название «Празднеств глупцов» или «Ослиных обеден». В эти дни низшее духовенство получало в помещении церкви полную свободу действий: «В церквях пели нарочито непристойные песни, играли в кости, ели и пили, порою алтари предавались поруганию…» (28, 104). С торжественными славословиями, распеваемыми на мотив строфической песни, в церковь вводился наряженный осел. Такими же шутливыми восхвалениями сопровождалось избрание и коронование «папы дураков». Все это действительно неотделимо от народной и жанрово-бытовой сферы. Но вот для «праздничной литургии» специально создавались пародийные мессы, где не только искажался канонический текст, но и культовые напевы представали в намеренно фальшивом, окарикатуренном виде. Здесь намечается один из важнейших принципов воплощения отрицающей тенденции в музыке, согласно которому критическое отношение к тем или иным жизненным явлениям выражается и осознается через снижение соответствующих жанровых традиций. Нормативность официальной эстетики угнетала, подавляла ростки отрицающей тенденции, вытесняя ее в область периферийной и оппозиционной культур, в сферу фольклора (ведь народная музыка, противопоставляемая музыке церковной, невольно обретала некий критический потенциал). Так осознается еще один принцип, сопрягающий проявление отрицающей тенденции с нарушением эстетических норм. Отмеченные принципы стали предпосылками дифференциации комического и жанрово-бытового. В Древней Руси носителями народной смеховой культуры были скоморохи8. В потешных сценках, которые они А.Г.Фаминцын считает, что слово скоморох – производное от арабского maskhara (смех, насмешка); ряд видоизменений которого существует в 8 82 разыгрывали, в сатирических сказках, шуточных песнях нередко звучали социально-обличительные мотивы, за что скоморохи преследовались церковью и правительством. В «Поучении» зарубского черноризца Георгия (XIII в.) дается предостережение добрым христианам: «Смеха бегаи лихого, скомороха, и сла точьхара, и гудця, и свирца не оуведи оу дом свой глума ради» (цит. по 17, 49). Полна негодования «Челобитная нижегородских попов» (1636 г.), направленная царю Алексею Михайловичу: «Медветчики с медведи и плясовыми псицами, а скомороси и игрецы з бубнами и с зурнами и со всякими сатанинскими блудными прелесми и в бубны бьюще и в сурны ревуще и в личинах ходяще, и срамная в руках носяще и ина неподобна деюще…» (там же, 171). Указы Алексея Михайловича, прозванного «тишайшим», предписывали суровые кары для «скоморохов з домрами, и с гусли, и с волынками». Один из них (1648 г.), направленный воеводе Тимофею Федоровичу Бутурлину, гласит: «А где объявятся домры, и сурны, и гудки, и гусли, и хари и всякие гуденные бесовские сосуды, и тыб те бесовские велел вынимать и, изломав те бесовские игры, велел жечь» (там же, 177). Об ином отношении к скоморохам говорят образцы народного поэтического творчества. В былине «Вавило и скоморохи» весел́ые люди оказываются справедливыми и всесильными святыми, способными карать зло и вознаграждать добро (см. 147, 357-358). Челобитные и указы дают представление об инструментарии скоморохов, Традиции их искусства жили и развивались в балаганных ярмарочных представлениях, в деревенских игрищах, сохранявших отголоски древних языческих культов – святочных и масленичных. Музыка скоморохов оставила свой след и в хороводно-плясовых песнях, инструментальных наигрышах, в пародийных сказах скоморошинах. «Пещные действа», разыгрываемые на Рождество, во многом напоминали западноевропейские языках народов Восточной и Южной Европы в том же или близком значении (165, 84-85). 83 мистерии. Комический элемент здесь представляли фигуры двух «халдеев», которые вталкивали благочестивых отроков в «пещь огненную», а потом в страхе падали ниц при появлении ангеласпасителя, ниспосланного во избавление мучеников (см. 71, 61). Таким образом, в искусстве Древней Руси мы наблюдаем процессы, сходные с происходившими в Западной Европе. В дальнейшем (примерно с XVII века) начинается более тесное сближение двух культур. 3 Освобождение музыки от практических прикладных функций, начавшееся в эпоху Ренессанса, связано с коренным изменением эстетического сознания. В художественной практике эпохи сочетаются формы (как правило культовые), уходящие своими корнями в средневековье, и новые (преимущественно светские), воплотившие дух своего времени. Так «Священные представления», распространенные в Италии XIV-XVI веков, близки средневековым мистериям. Театрализованные «таинства веры» и христианские предания разыгрывались в церкви или на паперти. Художественное оформление, бутафория, машинерия и музыкальная часть отличались пышностью и великолепием9. В масках – роскошных развлекательных представлениях английского двора XVI века – сюжеты носили уже пасторальномифологический характер; действие объединяло бальные танцы, шествия ряженных, выступления певцов, комедийные диалоги, сатирические сценки, инструментальные пьесы, мелодекламацию. Пародийный двойник этого жанра – антимаска – превращался в настоящий фарс. Его музыка включала натуралистические эффекты: подражание пению нищих, имитацию птичьего гомона (см. 72, 13). Многочисленные танцы, плясовые, застольные песни использовались в Сюжет «Успения Богородицы», как восторженно сообщает старинная хроника, сопровождало «пение небесных сонмов, игра волшебных инструментов, радость, оживление, смех всего неба» (цит. по 145, 3, 37). 9 84 излюбленных народных увеселениях, получивших название drolls – забавы. «Дух комизма» все увереннее проникает в музыкальное искусство. Интонации и ритмы веселых народных песен вплетаются в изощренные контрапунктические построения мастеров строгого стиля10. У нидерландских полифонистов сама полифония становится объектом своеобразных профессиональных «шуток», остроумной игры композиторского мастерства. Таковы забавные манипуляции с темой cantus firmus΄а у Обрехта, в результате которых к ней прибавляются все новые тона (пример 30). У Жоскена Депре канон в приму осложняется бурдонным гудением баса (в духе простейших аккомпанементов уличных музыкантов) и упрямым повторением ре первой октавы в среднем голосе. Эта «виртуозная» партия, по преданию, была написана для Людовика XII, при дворе которого служил композитор – король, по-видимому, не отличался блестящими вокальными данными (пример 31). В музыке Ренессанса, как и в других видах искусства, отбрасываются онтологические ценности средневековья, утверждается место человека в новой системе мироздания. Впечатления внешнего мира буквально заполонили музыку, она широко открывается для постижения и отображения повседневности; композиторы пристально вглядываются и вслушиваются в окружающую жизнь, радостно окунаются в ее пестроту и многообразие, пытаются передать ее во всей яркости красок. Все наиболее значительные жанры светской музыка охотно обращаются к бытовой тематике. Строго регламентированные полифонические формы сменяются более гибкими и свободными. Естественно, для комического здесь открывается гораздо больший простор, чем в культовых сочинениях. Сюжетам, положенным на музыку композиторами Возрождения, легко найти аналогии в области литературы. Вполне раблезианские сценки запечатлевает Орландо Лассо в 810 См. примеры из месс Обрехта, приведенные Грубером (41, 296). 85 ми голосном мотете, где монахи, в изрядном подпитии, путают текст духовного гимна с песенкой вагантов, или в сатирической chanson «Богородицу прочитать сумеешь?», в которой один монах экзаменует другого на знание молитвы. Создатель жанра мадригальной комедии – Орацио Векки из Модены (1550-1605) в произведении «Сиенские вечеринки, или Различные нравы, показанные современной музыкой» строит сюжет, по формальным признакам близкий «Декамерону» Боккаччо. Композитор рисует веселое общество, собравшееся вокруг очага и коротающее вечера в играх и развлечениях. В первый вечер проводится своеобразный «актерский турнир» - по правилам игра каждый должен изобразить то, что ему укажет председательствующий: обезумевшего от любви сицилийца, умирающего от неразделенной страсти француза, чопорного испанца, евреев, кричащих в гетто и т.д. Молодые люди забавляются, беседуют, флиртуют и расходятся лишь с первым криком петуха11. Мантуанцу Алессандро Стриджо в «Болтовне женщин за стиркой» (1584 г.) удается достичь удивительного сочетания юмора и лиризма: непринужденные разговоры, сплетни о господах, смех, поцелуи, перепалки, ссора и примирение подсмотрены взглядом поэта. Некоторые сочинения эпохи вызывают ассоциации с жанровой живописью: так И.Эккард из Кенигсберга весьма картинно изображает «Толпу на площади св. Марка (1589 г.), где на фоне застольной песни наемного солдата звучат реплики фланирующего дворянина, разгорается ссора двух нищих, но все перекрывают выкрики Несколько слов о том, как проходили представления мадригальных комедий: певцов и музыкантов скрывал занавес; актеры на сцене читали пролог, предваряли исполнение сцен стихотворным (в терцинах) изложением их содержания и, в заключение, танцевали под музыку. При пении диалогов вокалисты делились на две группы; при чем ведущим должен быть тот голос, который мог бы принадлежать соответствующему персонажу (например, если это женщина – то сопрано, если мужчина – то бас или тенор); если же на сцене было одно действующее лицо, то все голоса объединялись (см. 145, 1, 56-58). 11 86 торговца, который, стремясь быть услышанным в уличном гаме, с каждой репризой вступает на тон выше. Довольно отчетливо прослеживается влияние народного комического театра. Джованни Кроче, руководитель капеллы собора святого Марка в Венеции в своем «Приятном и веселом карнавале» (1590 г.) выводит вереницу традиционных масок: донну Питтоку, Рыбака, Буранелло. В «Амфипарнасе» Орацио Векки (1597 г.) действуют маски commedia dell´arte, и каждая изъясняется по-своему: доктор Грациано – на болонском диалекте, старик Панталоне – на венецианском, слуги – на бергамасском, миланском или тосканском наречиях, капитан Кардоне – на испанском языке. Р.Роллан считает, что многие сцены этого сочинения своим задором напоминают партитуры Россини (145, 1, 64). Несомненно, во всех приведенных примерах комизм определяется литературной основой – музыка лишь покорно следует за ней. Собственно музыкальные приемы создания комического здесь сводятся к звукоподражаниям, музыкальным «иллюстрациям» каких-либо внешних обстоятельств, и, вместе с тем, к изображению индивидуальных особенностей персонажа, его пластики, манеры говорить, его внутреннего состояния, проявляющегося в характерных жестах. Прием звукоподражания применялся чрезвычайно охотно и не всегда был напрямую связан с комической тематикой, образуя скорее некую пограничную с комическим область, где стремление к изобразительности и картинности принимало черты забавного и курьезного. Например, Клеман Жанекен в своих произведениях подражает пению птиц («Жаворонок», «Соловей», «Пение птиц»), звукам охоты («Охота на оленя»), грохоту сражений («Взятие Булони», «Битва при Мариньяно», «Битва при Меце»), болтовне женщин («Музыкальный сад»), призывным возгласам торговцев («Крики Парижа»). Эти образцы трудно назвать комическими: здесь лишь проявляется глубоко земное, чувственное мироощущение художника, для которого жизнь – неиссякаемый источник 87 вдохновения. Но в песне Орландо Лассо «Слушайте новость» звукоизобразительные детали раскрывают комические коллизии текста, в котором описывается как ловят, ощипывают и, наконец, съедают рождественского гуся. Мадригал Хуана дель Энсины (1446-1534 г.г.) обрамляется подражанием голосу кукушки, дающей шутливый совет влюбленным кавалерам (пример 32). Механизм подобного эффекта нельзя назвать совсем простым. С одной стороны, это опосредованное слуховым опытом и включенное в музыкальную систему подобие звуков реальной жизни конкретизирует ситуацию, отображенную в музыке, придает ей наглядность, но остается лишь внешним приемом, эстетическое содержание которого определяется контекстом. С другой стороны, музыка подражает звукам природы, которые сами по себе не смешны (так ли уж много комизма в кудахтанье курицы, гоготании гуся, крике осла?). Однако появление их подобия в искусстве, казалось бы, наиболее далеком от конкретности, воспринимается уже как нарушение эстетической нормы. Таким образом, звукоподражание вызывало и вызывает смех как деталь, конкретизирующая и усиливающая комизм внемузыкальной ситуации, и как нечто неуместное в высокоорганизованном искусстве звука, хотя, отчасти, оправданное комическим или – шире – жанрово-бытовым контекстом. Некоторые композиторы Ренессанса были настолько увлечены открывающимися звукоподражательными возможностями и так охотно забавлялись, применяя этот прием, что комизм приобретал черты откровенного дурачества, впрочем, весьма изобретательного. В «Контрапункте животных» Андриано Банкьери из Болоньи (1568-1634 г.г.) лай собаки, мяуканье кота, крики галки, кукование кукушки причудливо соединяются с канцонеттой влюбленных, сплетнями тетушки Бернандины и с партией баса, исполняющего бессмысленный текст на макаронической латыни. Музыкальные иллюстрации внешних обстоятельств хотя и связаны со звукоподражанием, но далеко выходят за его рамки, включая в себя жанровые элементы. В четырехголосной 88 фантазии Жанекена «Битва при Мариньяно» (1515 г.) звуки военных сигналов, обрывки солдатских песен лишь воспроизводят «звуковую атмосферу»12 действия. Сходный прием полифонического наложения в «Амфипарнасе» О.Векки применяется уже для усиления комической ситуации. Композитор передает невероятную суматоху, которую поднял в еврейском квартале слуга Панталоне – Франкатриппа, пришедший к ростовщику: синагогальные напевы, брань и сердитые выкрики искусно объединяются в этом ансамбле. Так музыка овладевает средствами жанровой изобразительности. 4 Следующий шаг на пути конкретизации музыкального языка связан с формированием средств индивидуализированной интонационной характеристики, которое начинается в светской музыке XVI века в результате ее сближения с театром. В мадригальных комедиях появляются детали, подчеркивающие некоторые внешние особенности персонажей, причем сперва выбираются наиболее наглядные из них: например, физические недостатки, дефекты речи (в «Амфипарнасе» О.Векки старый Панталоне, заикаясь, объясняется в любви куртизанке Гортензии). Композиторов все больше привлекает мир человеческих чувств, к которому они подходят с присущим эпохе рационализмом. Непоколебимая уверенность в могуществе разума, свойственная Ренессансу, в искусстве проявляется в стремлении к объективности. Методология искусства смыкается с принципами научного мышления. Композиционные приемы и правила линейной перспективы в изобразительном искусстве были практическим применением законов оптики; изображению человеческой фигуры, цветка, животного предшествовали – как у Леонардо анатомические, ботанические и анималистические штудии. В музыке передача душевных состояний предварялась 12 Термин А.Сохора (155, 181). 89 наблюдением над «механизмом» различных чувств. Композиторы изучали и систематизировали движения сердца, как астрономы – орбиты планет. Настоящий компендиум эмоциональных состояний, выраженных в музыке, содержится в книге Джулио Каччини “Le Nuove Musiche” (1601 г.); вечер третий из «Сиенских вечеринок» О.Векки посвящен интеллектуальному состязанию, участники которого соревнуются в изображении тончайших оттенков грусти и любви. Такая направленность постепенно утверждается и в эстетических воззрениях. Крупнейший итальянский теоретик и композитор XVI века Джозеффо Царлино отводил человеку центральное место в системе мироздания, считая гармонию его души созвучной и соизмеримой с гармонией природы. Воскрешая идеи античности, он говорил о единстве этического и эстетического, подчеркивал воспитательную роль музыки, считая слух самым полезным из чувств. Развивая аристотелевскую концепцию мимезиса, Царлино уделял большое внимание проблеме взаимоотношения музыки и слова, выдвинул целый ряд положений, предвосхищавших теорию аффектов. Так, при сочинении музыки нисходящее движение он рекомендовал связывать со словами, выражающими печаль, мрачное, глубокое, страх, жалобу и слезы и, наоборот, восходящее – со словами о возвышенном, могущественном, подъеме, радости, смехе (см. 113, 497). «Что же касается ритма,советовал он – то сначала нужно посмотреть, каково содержание слов речи; если они веселые, следует применять движения бойкие и быстрые» (цит. по 82, 49). Многие музыканты второй половины XVI века были захвачены идеями музыкальных теоретиков античности. Флорентиец Винченцо Галилей, отец великого ученого, в своем трактате «Диалог о старой и новой музыке» осуждает полифоническое искусство, считая его «варварским», «готическим» (то есть средневековым) и призывает вернуться к простой и выразительной монодии древних греков. В пасторалях «Сатир» и «Отчаяние Филено» (1590 г.) подобную попытку предпринял Эмилио дель Кавальери, 90 который хотел, чтобы «сей возрожденный им (rinnovata) вид музыки заставил слушателей испытать разнообразные переживания: жалость и радость, слезы и смех» (цит. по 145, 2, 25). Музыкальная драма, drama per musica – этот жанр, родившийся во Флоренции в закатную пору Ренессанса, жанр, который, по мнению его создателей – деятелей флорентийской камераты,- воскрешал музыкально-драматические представления античности,- стал важнейшим связующим звеном, соединившим музыку Возрождения и нового времени, сыграл решающую роль в развитии имманентной музыкальной образности, во многом определил эволюцию музыкального комизма13. Ранние образцы жанра носили подчеркнуто аристократический характер – сюжеты были почерпнуты из античной мифологии. Но к середине XVII века опера из «княжеской забавы» (Р.Роллан) становится жанром более демократическим, популярным в различных слоях общества. Этому способствует открытие публичных оперных театров14. Демократизация оперы ставила новые требования перед композиторами. Представление нуждалось в успехе – следовательно, авторы были обязаны позаботиться о сценических эффектах, способных если не поразить воображение публики, то хотя бы увлечь или развлечь ее. Музыка должна была нравиться, быть доступной для самого неискушенного уха – и на оперную сцену хлынули интонации и ритмы народных песен. Смех стал желанным на оперных подмостках. Происходящие процессы очень напоминали взаимоотношения комического и трагического в древнегреческом театре. Персонажи разделяются сословно: сферу возвышенного образуют фигуры богов, полубогов и героев, с которыми отождествляет себя знать; комическое же оказывается уделом По мнению В.Конен, вплоть до венских классиков комическое находило прибежище, в основном, в театральной музыке; именно опера служила творческой лабораторией, в которой происходила кристаллизация инструментального тематизма, в том числе – комического (см. 74, 227-228). 14 Первый публичный оперный театр был открыт в 1637 году в Венеции. 13 91 действующих лиц бытового плана – простолюдинов, шутов, солдат, слуг, нотариусов и т.д. Мимический талант итальянского народа, его способность карикатурно воспроизводить смешные черты, подмеченные в обыденной жизни, с помощью театра нашли свое воплощение в музыке15. Энергичные ритмы, легко запоминающиеся мелодии в сочетании с яркими сценическими жестами приобретают новое качество. Пластику персонажей, их физические особенности, манеру говорить композиторы учатся передавать в интонационно-ритмических комплексах, которые, с одной стороны, тяготеют к запечатлению индивидуального, а с другой стороны – сами типизируются, переходя из сочинения в сочинение. В венецианской опере процветало гротескное изображение различных телесных несообразностей и недостатков. В бурлескных сценах фигурировали горбуны, хромые, глухие, заики, придурковатые недотепы. Известный пример подобного плана содержится в «Ясоне» (1648-1649 г.г.) Франческо Кавалли. Заикание горбатого хвастуна – шута Демо здесь выглядит весьма органично, в полном соответствии сценической ситуации: со своей репликой Демо справляется только после нескольких сочувственных и нетерпеливых подсказок собеседника – Ореста (пример 33). В Неаполе героями интермедий становились забавные фигуры хвастливого солдата, проказливого пажа, разбитной кормилицы, в Риме были популярны комические образы влюбленных старух. Индивидуализация интонационных характеристик не ограничивается вокальной партией – оркестр начинает «комментировать» действие, обогащать диалоги своими репликами. Любопытные образцы таких инструментальных дополнений Ромен Роллан находит в опере Якопо Мелани «Танчья, или Подеста из Колоньоле», которая имеет характерный подзаголовок «мещанская и деревенская драма». Этот подзаголовок свидетельствует о том, что оперные фабулы начинают покидать не только олимпийские высоты, но и область 15 См. 1, 1 410-411. 92 исторических преданий. Комическое тяготеет к современности, «замешано» на быте. Поэтому первые собственно комедийные оперные спектакли наследуют не только тематику мадригальных комедий, но и некоторые ее традиционные приемы – например, звукоподражание. Музыкальная комедия «Надейся, страждущий» (музыка Вирджилио Мадзокки и Марко Марадзоли, либретто кардинала Джулио Роспильози по новелле Боккаччо), поставленная в 1637 году в Риме, содержит эффектную интермедию, которая по-новому воплощает излюбленный сюжетный мотив мадригалистов – сцену шумной ярмарки. Новое заключается в том, что вместо полифонического сплетения голосов, передающего гомон толпы, в ней один на другой нанизываются разнохарактерные хоровые и речитативные эпизоды: покупатели торгуются с уличными разносчиками товара, девушки смеются, лекарь расхваливает свою микстуру, проезжают кареты, телега, запряженная быками. В «Танчье» Я.Мелани простодушный крестьянин Чакино, сетуя на свою незадачливую судьбу и любуясь беспечным счастьем всех живых существ, подражает в своем пении крикам петуха, осла, овцы и лягушки. С комедийными персонажами врывается живая языковая стихия – неаполитанский, венецианский, калабрийский диалекты. Диалектизмы становятся столь массовым явлением, что либреттист Джованни Андреа Монильи, соавтор «Танчьи», был вынужден сопроводить издание этой пьесы специальным словарем. Как когда-то в мадригальных комедиях, действующие лица сближаются с традиционными типами народных карнавалов, с масками commedia dell`arte. От импровизационных фарсов перенимается манера, допускающая прямое обращение актера к публике, разрушающее иллюзию его единства с персонажем, подчеркивающее игровое начало. Все это исследователи квалифицируют как зарождение особенностей оперы buffa. Типичные буффонные обороты (скороговорка, подпрыгивающие короткие мотивы) содержит партия слуги Табакко из оперы М.Марадзоли и А.Аббатини «Нет худа без 93 добра» (1653 г.), стремительные окончания актов здесь уже напоминают искрометные финалы buffa. В молодом оперном искусстве мы отметили пока лишь один путь развития комической образности – сферу быта. Но неугомонный «вирус насмешки» с самого начала не ограничивается этой вотчиной и начинает беспокоить мифологических или квазиисторических героев. Еще не успел оформиться в классическом виде жанр оперы seria, а смех уже начал свою разрушительную и, одновременно, созидательную работу. В 1619 году (!) римлянин Стефано Ланди в «Смерти Орфея» представил легендарного перевозчика усопших душ – Харона – в облике горького пьяницы, распевающего веселую застольную. В «Осмеянной Диане», «лесной сказке» Джачинто Корнакьолли (музыка) и Франческо Паризани (либретто), поставленной в 1629 году, весьма игриво и вольно трактуется миф о Диане и Эндимионе; друзьями Амура здесь оказываются персонифицированные Шутка и Смех. Сцену пира богов на Олимпе из «Золотого яблока» Марка Антонио Чести Р.Роллан сопоставляет со страницами «Орфея в аду» Оффенбаха. В «Святом Алексее» (1632 г.) Стефано Ланди впервые в истории музыки появляется комизм инфернального оттенка: интермедии представляют проделки дьявола, который превращается в медведя, балет демонов в адской пещере. Чертовщина, недобрая фантастика позднее (у Моцарта и романтиков) станет источником новых для музыки форм комического, связанных с отрицающей тенденцией. Зачатки отрицающей тенденции к середине XVII века дают о себе знать не только в драматургии опер, но и в пародийных элементах музыки. Когда оперные либреттисты в погоне за благосклонностью публики начали уснащать свои творения экзотическими сценами страшных катастроф, ужасных смертей, невероятных путаниц, заклинаний потусторонних сил и т.д., насмешливый скептицизм пародий становится оплотом здравого смысла. Знаменитое заклинание Медеи из первого действия «Ясона» Кавалли, которое своим драматизмом оказывало почти гипнотическое воздействие на публику, 94 передразнивается в шутливом заклинании дьявола у Мелани («Танчья», 3 действие). Благодаря такому трезвому взгляду комической опере и в дальнейшем удастся избежать многих крайностей оперы seria – например, злоупотребления вокальной виртуозностью, ходульности сюжетов, диктата певцов-кастратов. Бесконечные каденции и рулады здесь чаще всего пародийны, сюжеты крепко «стоят на земле», используются только естественные голоса. Говоря о комическом в музыке XVII века, невозможно пройти мимо творчества Клаудио Монтеверди. В истории искусства есть ключевые фигуры, которые силой своего гения становятся средоточием традиции прошлого, выразителями устремлений своей эпохи и, одновременно, генераторами новых идей,- таков Монтеверди. Он близок к художникам Возрождения: его путеводной звездой было древнегреческое искусство, девизом – подражание природе. Композитор неутомимо изучал проявления чувств, стремясь найти их адекватное выражение в музыкальных фразах – вокальных и инструментальных. В предисловии к «Воинственным и любовным мадригалам» (1638 г.) он замечает. Что до сих пор музыке были доступны лишь немногие чувства, а выражение многих доселе неведомых для нее душевных движений требует от музыканта новых созвучий. Мастерство Монтеверди многогранно. Он одинаково свободно владеет «старой» мадригальной полифонией и «новой» речитативной манерой. Но главное, что возвышает его над современниками - это новый тип музыкального мышления, прокладывающий дорогу в будущее. XVII век пересматривал идейное наследие Ренессанса. Процесс происходил чрезвычайно болезненно, порой драматически. Беспокойный разум, осознав крушение прежних идеалов, напряженно ищет ответы на главные вопросы бытия. «Что такое человек во Вселенной? – вопрошает Блез Паскаль, – небытие в сравнении с бесконечностью, все сущее в сравнении с небытием, среднее между всем и ничем. Он не в силах даже приблизиться к пониманию этих крайностей – конца мироздания 95 и его начала, неприступных, скрытых от людского взора непроницаемой тайной, и все равно не может постичь небытие, из которого возник, и бесконечность, в которой растворяется» (126, 123). Какое горестное отрезвление после ренессансного обожествления человека! Если ранее «срединное» положение человека в иерархии сущего служило доказательством его могущества, то теперь – это свидетельство трагического одиночества, эфемерности существования, балансирующего между двумя безднами. С Монтеверди в музыке утверждается личностное начало, трагизм индивидуального сознания. Главная тема его творчества – человек. Предложение либреттиста написать сочинение в аллегорическом роде вызывает его резкую отповедь: «Что такое эта пьеса – “Пелей и Фетида, морская сказка”? Фантасмагория, в которой участвуют вереницы чудищ, хоры тритонов и сирен, ветры, “амурчики”, “зефирчики”. Тут должны петь ветры, то есть Зефиры и Бореи; как же, дорогой синьор, могу подражать я говору ветров, если они не говорят? И как могу я через их посредство воздействовать на чувства? И как могут эти гиппогрифы и химеры растрогать? Ариадна трогает потому, что она женщина, Орфей – потому, что он живой человек, а не ветер» (цит. по 145, 1, 97-98). Приверженность к художественной правде определила место комического в творчестве Монтеверди. Ему мы обязаны одним из первых образцов жанра скерцо – сборник “Scherzi musicali a tre voci”, изданный в 1607 году, содержит инструментальную Интраду, канцонетты на шуточные тексты и танцевальные пьесы. Но главным его достижением в этой области стало сочинение отнюдь не комическое – опера «Коронация Поппеи» (1642 г.). Композитор достигает поразительной рельефности характеристик, выражая мудрое спокойствие Сенеки, страстность Поппеи, простодушие пажа; бурная радость Нерона выплескивается в блестящих колоратурах, в гневе его речь захлебывается от ярости (примеры 34а, 34 б). Монтеверди с шекспировской смелостью смешивает средства высокой трагедии и бытовой комедии: драматический 96 монолог Оттона соседствует с грубоватыми разговорами солдат, скорбная, благоговейная атмосфера эпизода смерти Сенеки сменяется буффонной сценой пажа и служанки (пример35). В ход действия вмешиваются высшие силы – Паллада, Меркурий, Венера, Амур, и было бы ошибкой видеть в этом только дань времени, которое испытывало пристрастие к мифологическим сюжетам16. Либретто Ф.Бузинелло, может быть, помимо воли автора содержало рудиментарные черты античной литературной традиции серьезно-смехового: свободу вымысла, дополняющую историческую хронику Тацита фантастическими деталями, «полифоничность» высказывания, трактовку комического как неотъемлемой части трагических коллизий. Эти черты оказались созвучными устремлениям композитора. Вспомним: в венецианской и неаполитанской оперных школах вполне допускалось смешение комического с трагическим и возвышенным, но, как правило, интермедии вводились в чисто практических целях – чтобы не наскучить зрителю, вовремя переключить его внимание, позабавить его. Комическое у Монтеверди – не внешний драматургический прием, а один из способов постижения мира. Под его пером историкомифологический сюжет преобразуется в музыкальнофилософское размышление о природе жертвенности и деспотизма, низости и благородства. В XVII веке музыка как искусство развивалась необычайно интенсивно. В 1649 году выходит трактат Р.Декарта «Страсти Души», который стал философской основой теории аффектов (см. 44). Окончательно складывается и утверждается основополагающее для европейского слуха противопоставление мажорного трезвучия, как радостного, светлого, и минорного – как печального и меланхолического. Идеи «теории аффектов», основы мажоро-минорной системы распространяются повсеместно, достигают европейских окраин. В далекой России автор «Мусикийской грамматики» Н.Дилецкий так определяет 16 Такова, например, концепция Т.Ливановой (см. 86, 55). 97 предназначение музыки: «Мусикия есть яже своим гласом возбуждает сердца человеческие ово (или) к веселию, ово к печали». – Далее он указывает на ладовую принадлежность аффектов: « Ут, ми, соль – веселаго пения, ре, фа, ля – печального пения» (47, 271). В это время помимо оперы зарождаются жанры духовной оратории, кантаты. Настоящий расцвет переживает инструментальная музыка, в многообразных формах которой вырабатывается стройная система выразительных средств. До сих пор развитие музыки происходило в сотрудничестве с другими видами искусства. Благодаря опоре на их конкретность, понятийную определенность в музыке сложились интонационно-ритмические комплексы с фиксированной семантикой, которые и в отрыве от движения, слова, сценического действия оставались носителями ранее присущего им смысла. В новых инструментальных жанрах, таких как фуга, токката, ансамблевая и сольная соната, кончертогроссо, музыка сбрасывает строительные леса, которыми ее окружали другие виды искусства, и начинает воздвигать свой собственный эмоционально-ассоциативный мир, который подчиняется имманентным законам музыкальной логики. Инструментальная музыка, как в свое время и культовая, испытала мощное воздействие народного искусства. Под его влиянием формируется сфера, которую еще нельзя назвать собственно комической, но где ощущается предрасположенность к комизму. Бесхитростные мелодии, привлекавшие внимание английских верджинелистов, как нельзя лучше соответствовали незатейливым сюжетам их сочинений («Посвист возницы», «Волынка» У.Берда, «Буффоны», «Королевская охота» Дж. Булла). Народно-песенные интонации даже в ученом контрапункте выдавали свое происхождение. Так, в органных и клавирных пьесах Дж. Фрескобальди Р.Грубер находит «попевки и интонации, вплоть до народных песен, которые, между прочим, пелись при показе дрессированных медведей и обезьян» (41, 240). Возникают инструментальные аналоги жанров, связанных с комическим – каприччио, скерцо. Жанр каприччио происходит 98 из мадригала, от которого, в соответствии с этимологией слова (итал. capriccio - каприз, прихоть), отличался большей свободой, причудливостью в смене эпизодов. В начале XVII века это название перешло к виртуозным полифоническим пьесам свободного строения (12 Каприччио для органа Дж. Фрескобальди – 1624 г.). Вместе с названием в инструментальную музыку проникло типизированное содержание вокального предшественника. Выдумка, богатство фантазии, чувство необычного, странного, забавного, занимательного,- все это, как и в мадригалах, нередко воплощалось при помощи звукоизобразительных приемов, действующих на жанрово-бытовом фоне. Например, в «Причудливом каприччио» для скрипки соло К.Фарина (1627 г.) программные сценки народной жизни обильно уснащаются звукоподражательными деталями. Скерцо, некогда представлявшее собой трехголосную канцонетту, в своих инструментальных образцах приближалось по характеру к каприччио (симфонии, скерцо А.Троило, Scherzi musicali для виолы да гамба и баса И.Шенка). Сходный путь проделал жанр кводлибета. Его юмористический эффект основывался на сочетании разнохарактерных, иногда даже разноязычных, популярных мелодий, что встречалось еще в средневековых мотетах. Инструментальный кводлибет, отказавшись от словесного текста, сохранил принцип построения (И.Фирданк, «Каприччио в виде кводлибета» - 1641 г.). 5 Драматическое мироощущение эпохи, отмеченной такими социальными потрясениями, как Тридцатилетняя война и контрреформация, а в сфере эстетического сознания – кризисом ренессансного гуманизма,- отразилось в антиномии основных художественных течений – барокко и классицизма. В начале XVII столетия Дж. Марино, названный современниками «поэтом пяти чувств», уподобил мир разбившейся о землю партитуре, которую небесный маэстро низвергнул с высот, рассердившись 99 на фальшивое пение дьявола. Художники барокко все же руководствовались этой в беспорядке составленной из разрозненных листов партитурой; представители классицизма пытались ее собрать и вновь пронумеровать страницы. Движение, изменчивость форм, экспрессивность барокко противостоят эмоциональной уравновешенности, статике, структурной завершенности классицизма. Барочный тип художественного мышления конфликтен по своей природе: подобно тому, как унаследованная от Ренессанса вера в человека отравлена сознанием тщетности его усилий, так и текучесть, обильная детализация, дробная орнаментальность, особенно наглядные в архитектуре и поэзии, изнутри подтачивают внешне импозантные, монументальные формы (см. 65, 87-88). В классицизме конфликт как бы выносится за скобки: стремление создать нечто прочное, безусловное, раз и навсегда построенное по законам красоты и гармонии вырывает предмет искусства из временного потока, разделяет действительность и ее творческое отображение. Причудливые аллегории, избыточная метафоричность литературы барокко имеют свой эквивалент в музыке. Речь идет о «символике мотивов», которая сыграла важную роль в закреплении интонационной семантики, в оформлении пространственно-временных представлений (см. 56, 167-173). Символы носили преимущественно серьезный, онтологическофилософский характер, нередко с религиозной эмблематикой; могли обозначать небо и землю, воды и твердь, нисхождение Святого Духа и грехопадение Адама, непоколебимый оплот веры и мир, погрязший в грехах; число голосов зависело от сакральных чисел христианства17. Символы, которые в какой-то степени соприкасаются с комическим, почти неотличимы от звукоизобразительных или звукоподражательных приемов – это давно нам известное Например, мерное шестиголосное движение хоровых масс в Sanctus из симинорной мессы Баха соответствовало взмахам крыл серафимов, предстоящих Господу. 17 100 воплощение «природных» звуков. Но их эстетическое содержание совершенно иное: в контексте произведения они получают не прямое, а метафорическое значение. Такова имитация смеха во вступительных хорах баховских кантат №31 “Der Himmel lacht” («Небо смеется») и №110 “Unzer Mund voll Lachens” («Наш рот полон смеха»). Таким «олимпийским» смехом разражался Гендель в хорах Allegro, «захватывая своим весельем, которому нельзя сопротивляться, весь зал» (145, 2, 271). Бах и Гендель не отказываются и от простого звукоподражания. В качестве примеров у Баха назову «Фугу в подражание почтовому рожку» из «Каприччио на отъезд возлюбленного брата», Фугу из Ре-мажорной Сонаты для клавира с темой “all` imitatio Gallina Cuccu” (в подражание курице и кукушке). У Генделя – диалог соловья и кукушки из Allegro органного концерта (ор. 7, №1). В этих случаях метафорического «переноса смысла» не происходит, так как сами произведения не имеют «второго плана», тогда как в предыдущих примерах смех – это символ интенсивности переживания радости как религиозного чувства. Нотная графика также имела дополнительное символическое значение. В творчестве И.Баха можно найти множество примеров подобного рода: хорошо известен рисунок «лежащего креста», образованный нотными знаками (тема фуги до-диез минор из первого тома «Хорошо темперированного клавира»), символическое изображение «восхождения на Голгофу» (Речитатив Евангелиста из «Страстей по Иоанну»). Проникая в светские сочинения, сходные приемы могут с успехом дополнять какую-либо комическую деталь текста. Так в Речитативе (№5) «Кофейной кантаты» Баха ее персонаж, старый ворчун Шлендриан с осуждением говорит о пышном кринолине, о котором мечтает его дочь, а гротескный скачок в вокальной партии наглядно демонстрирует ширину этого новомодного наряда (пример 36). Гений Баха универсален как по широте охвата жизненных явлений, так и по многообразию стилистических истоков, 101 переплавленных в глубоко индивидуальную творческую манеру, выходящую за рамки барокко. Юмор, эта неотъемлемая черта высокоорганизованного интеллекта, как мы уже могли убедиться по немногим примерам, был очень свойственен душевному складу композитора. Наряду с образами возвышенной скорби, христианского смирения, этической чистоты в его творчестве немало страниц, отмеченных неподдельным весельем, добродушной насмешкой, лукавой улыбкой, в которых гармонично соединились две главные составляющие его мироощущения: здоровая «крестьянская» основа и цеховое «музыкантское начало» (56, 19). Таковы фуги До-диез мажор, Соль мажор, Си-бемоль мажор из первого тома «Хорошо темперированного клавира», “Badinerie” из Второй оркестровой сюиты, Партита Соль мажор для клавира и т.д. В остроумном «Кводлибете», венчающем «Гольдберг-вариации», Бах предстает не только «веселым сыном Тюрингии» (Форкель), дерзнувшем ввести в сферу возвышенного музыкальную забаву своих предков, но и изощренным полифонистом, продолжающим традицию полифонических шуток. Музыка его светских кантат свидетельствует о замечательном мастерстве индивидуализированных интонационных характеристик, которое, конечно же, не обошлось без влияния оперного искусства. Например, медленный эпизод Увертюры из «Крестьянской кантаты» носит комически «назидательный» характер, резко контрастирующий с предшествующими оживленными фрагментами (пример 37а). Важное, неторопливое движение унисонов прерывается длительными остановками на опорных звуках, упрямо возвращается к одной и той же мысли. Ассоциативно ощущается даже мимика «персонажа»: когда мы слышим сопоставление натуральной и пониженной II-й ступени, легко представить, как пожилой крестьянин, глядя на проказы молодых, сурово хмурит брови. Нарочито угловатая структура эпизода (2+2+2+2+1+1+2+1+1+2) довершает комический эффект. Прием жанровой изобразительности достоверно воссоздает в «Крестьянской кантате» звуковую среду 102 оживленной деревенской улицы. Литературный текст расцвечен диалектизмами, музыкальная ткань насыщена популярными мелодиями: в аккомпанементе Речитатива звучит лукавый Großvater, основой арии сопрано является знаменитая «Испанская фолия», в Увертюре звучит зажигательная мелодия «бродячего скрипача», которая вполне могла бы фигурировать в одной из Венгерских рапсодий Листа (примеры 37б, в, г). Любопытно отметить, как в «Крестьянской кантате» комедийная трактовка жанрово-бытового сюжета делает возможным нарушение эстетических канонов барокко на уровне художественных средств и на уровне формы. В первом случае это связано с отступлением от привычных синтаксических структур, таким, как забавные ритмические перебои в коде Увертюры (пример 38). Во втором случае – с необычным строением произведения. Кантата состоит из 24-х номеров – для Баха это случай экстраординарный. Более того, именно здесь наиболее ярко проявляется тип мышления, по сути противоположный барочному, Музыке барокко свойственно длительное пребывание в одном эмоциональном состоянии, которое воплощается в принципе «единства аффекта», темповая стабильность на протяжении крупных разделов формы (см.: 192, 53). Но если обратиться к «Крестьянской кантате», то уже в Увертюре – перед нами калейдоскоп настроений. Непрерывность движения нарушается радикальнейшим образом – в 88-ми тактах шесть раз меняются темп и размер! Оживленный трехдольный танец сменяется по-детски наивной двудольной темой (пример 39). Пасторальное Andante, едва успев прозвучать, уступает место затейливым наигрышам скрипки (пример 40). Далее следует «педантичное» Adagio, после которого плясовая мелодия с венгерским колоритом подводит к репризе первого эпизода. Контрастный монтаж коротких и сочных бытовых зарисовок создает в скромной по объему и по оркестровке Увертюре впечатление «многолюдья»: образам «тесно» в отведенном им пространстве, они «толпятся», образуя живописные группы, как на жанровых и, одновременно, метафорических полотнах Питера Брейгеля Старшего,- перед нами предстает яркая реалистическая 103 картинка. Причем картинка, созданная чисто инструментальными средствами, без дополнительного воздействия слова или театральных элементов, что говорит о значительной зрелости имманентных выразительных средств музыки. Анализ баховской кантаты позволяет сделать вывод, что претворение в ней комического сопряжено с выходом за пределы барочной эстетики. В образной системе классицизма эта закономерность прослеживается еще определеннее. Как известно, комическое здесь занимало невысокую ступеньку в иерархии эстетических ценностей. В музыке, которая считалась непосредственным выражением преимущественно возвышенного и прекрасного, для него оставалось совсем немного места. В итальянской барочной опере допускалось смешение разнородных элементов – высокого и низкого, серьезного и шутовского. Во французской лирической трагедии, которую можно назвать наиболее полным воплощением эстетики классицизма в музыкальном искусстве, подобные вольности решительно осуждались. Однако сам родоначальник жанра – Жан-Батист Люлли, «абсолютный монарх» французской музыки, иногда покидал горние выси трагедии и, повинуясь, видимо, своему горячему итальянскому темпераменту, нарушал те жанровые и сословные ограничения, которыми эстетика классицизма опутывала комическое. Его первая опера – «Кадм и Гермиона» (1673 г.) еще сохраняет роли буффонного репертуара: влюбленной кормилицы, изворотливого слуги, трусливого африканца. Но здесь уже сказывается атмосфера Франции: ария кормилицы “Ah, vraiment je vous trouve bonne” мало чем отличается от водевиля. Не без влияния традиций французского искусства возникает и гротесковый дивертисмент – балет великанов в честь плененной принцессы Гермионы18. В Ко времени создания своей первой оперы Люлли приобрел большой опыт в сочинении придворных балетов, соприкоснулся с жанром «высокой комедии», будучи автором музыки к комедиям-балетам Мольера. 18 104 «Альцесте» (1674 г.) ревнители «чистоты жанра» были шокированы бурлескной сценой с Хароном (начало 4-го действия), простонародными напевами арий Ликомеда, Сезифы, Стратона, посчитав их особенно неуместными в античном сюжете. Прохладный прием, оказанный «Альцесте», послужил, как говорит Р.Роллан, «хорошим предупреждением для Люлли» (145, 3, 150). Начиная с «Тесея» (1674 г.) подобные нарушения становятся редкими, не столь радикальными и ограничиваются преимущественно областью забавного. Но комическое попыталось укорениться и на этой скудной почве, найдя опору в классицистской концепции «подражания природе». В дуэте афинских старцев («Тесей») немощь персонажей дает повод для грациозной карикатуры. Трио дрожащих от холода жителей Гипербореи из 4-го действия «Изиды» (1677 г.) имело огромный успех, и его мелодия стала популярным водевильным напевом (пример 41). Изгоняемый из самой лирической трагедии, дух комизма «вгрызается» в нее извне. Его первой жертвой стали стихи либреттиста Люлли – Филиппа Кино. Затем, еще при жизни Люлли, арии и даже сцены из его опер безжалостно пародировались – возвышенный текст заменялся шутовским, известные мелодии распевались в неподходящих ситуациях19. (Попутно замечу, что этот нехитрый прием новой подтекстовки, входящей в противоречие с музыкой и «снижающий» ее, до сих пор с успехом используется, например, эстрадными пародистами.) Для эволюции комического важно отметить не сам факт несоответствия музыки и текста, а то, что оно является нарушением эстетической нормы, которое становится допустимым лишь с комической целью. 6 На рубеже XVII-XVIII веков идея «подражания природе» утверждается в инструментальной музыке, которая переживает 19 В.Брянцева приводит целый ряд примеров подобного рода: 27, 24-34. 105 период какого-то упоения своими выразительными и изобразительными возможностями, вполне сравнимый с «открытием внешнего мира», происшедшим в вокальной музыке Ренессанса. Музыка берется за все – от величественных картин до ничтожных предметов. В знаменитом цикле Иоганна Кунау «Музыкальное представление некоторых библейских историй в 6-ти сонатах, исполняемых на клавире» (1700 г.) композитор передает скорбь и безумие Саула, укрощаемое сладкозвучными струнами арфы Давида20, страх и трепет израильтян перед Голиафом, полет камня из пращи Давида, грузное падение гиганта. А клавесинист Жозеф Боден де Буамортье (1689-1775 г.г.) в пьесе «Блоха» забавно подражает прыжкам насекомого, которому в истории музыки будет суждена определенная известность благодаря Бетховену и Мусоргскому (пример 43). Поэтичные картины природы и быта живописует Вивальди в скрипичных концертах «Времена года», «Ночь» (первый в истории музыки ноктюрн), в концерте для двух валторн «Охота». И.С.Бах также отдал дань этому увлечению («Каприччио на отъезд возлюбленного брата»). В непрограммной инструментальной музыке богатство внешних впечатлений находит выражение в многообразии стилевых и жанровых истоков. Например, в Сонате Ре мажор (К.492) Д.Скарлатти одно за другим следуют построения различной жанровой природы: перекличка терций (в духе «каччи») сменяется настойчивой фразой, в конце которой страстный «гитарный отыгрыш» заявляет об ее испанском происхождении; коплементарная ритмика следующего раздела напоминает об искусстве полифонии; в заключительной теме слышится радостное оживление тарантеллы,- и все это объединено в весьма лаконичную форму (пример 44). В дополнение к звукоподражательной и жанровой изобразительности растут ассоциативные возможности музыки. Безумие Саула передается через намеренное нарушение языковых норм – бурным пассажем с параллельными квинтами (пример 42). 20 106 Творчество Франсуа Куперена открывает перед нами целую галерею запечатленных мгновений. «Бабочки», «Пчелы», «Тростники», «Вязальщики», «Жницы», «Сборщицы винограда», «Развевающийся чепчик»,- эти и им подобные названия призваны пробуждать фантазию слушателя. «Тонкая кисть миниатюриста», ювелирная детализация интонаций применяется композитором в его обаятельных женских портретах. Национальные типы (Флорентинка, Испанка), темпераменты и характеры (Страстная, Трудолюбивая, Скорбная, Нежная, Кокетливая, Наивная), эмоциональные состояния (Стыдливость, Верность, Желание),- запечатление лишь этого, далеко не полного перечня требует от музыканта поистине неистощимой изобретательности и чрезвычайно тонкой дифференциации слуховых ощущений. Более того, ряд пьес представляет собой портреты конкретных лиц, и, как утверждал сам Куперен в предисловии к одному из сборников, в его исполнении их находили довольно похожими (80, 64). Это утонченное искусство, которое некоторые исследователи решаются сопоставлять с «Характерами» Лабрюйера (см. 107, 90), в своем внимании к оттенкам, нюансам, полутонам уже не могло обойтись рационалистически выверенной классификацией «теории аффектов»,- ведь даже в пору ее наивысшего развития количество систематизированных аффектов не превышало трех десятков (у Ф.В.Марпурга – 27). Для эволюции комического (напомню: она неразрывна с процессом развития музыкального языка) чрезвычайно важны и плодотворны эти попытки запечатлеть едва уловимые душевные градации. Эта дорога ведет к психологизму Моцарта и романтиков, на этом пути будут найдены средства для выражения тончайших различий между эстетическими модификациями комического (например, между юмором и иронией). В сфере собственно комического Куперен также был новатором. Ему принадлежит, наверное, первый в истории музыки инструментальный памфлет. Это пятичастный цикл «Карнавал великой и старинной Менестрандизы» (из Сюиты 107 №11)21. Здесь нет и намека на психологизм, зато в избытке примитивные формы музицирования: неизменно гудящий бурдонный бас, незамысловатые гаммаобразные пассажи. В пьесах, которые композитор по-театральному называет актами, перед нами проходит процессия старцев и нищих (пример 45), жонглеров, сатиров, бродячих музыкантов с медведями и обезьянами (пример 46); в пунктирном ритме ковыляют «инвалиды, искалеченные службой в Менестрандизе» (пример 47). Все заканчивается страшной суматохой, рисующей «Разгром и беспорядочное бегство всей труппы из-за пьяниц, медведей и обезьян» (пример 48). Если рассматривать музыку в содружестве с программой, то это сочинение уже может претендовать на звание сатирического. Жанровые признаки использованных композитором ритмоинтонационных формул точно указывают на их социальную принадлежность, а подчеркнутая примитивность их претворения вносит ощутимый критический оттенок: ведь появление примитива у такого изысканного художника, как Куперен – это грубое нарушение эстетической нормы, которое подразумевает негативную оценку. Другое дело, что для современного слушателя этот сатирический оттенок сглажен, нивелирован, отступления от нормы не воспринимаются столь остро,- увы, мы привыкли к более радикальным средствам, «историческая перестройка слуха» не всегда удается. К тому же сила сатиры – в ее злободневности, Боюсь, что возмущение корпоративными порядками и уровнем музицирования тогдашних городских музыкантов для нас несколько потеряло свою актуальность, поэтому объект сатиры мы воспринимаем умозрительно и отстраненно. Но ведь и в художественной литературе сатирические вещи покрываются Под криптограммой Mxnxstrxndxsx, вынесенной в подзаголовок цикла, подразумевается корпорация менестрелей Братства св. Жюльена – сохранившееся со средних веков цеховое объединение городских музыкантов. Оно имело монополию на обучение музыке в Париже и враждовало с «Музыкой короля». Метризу победил Люлли. Но, несмотря на это, Куперену в начале карьеры тоже пришлось с ней схватиться (дело дошло до суда). 21 108 «патиной времени», сквозь которую огонь сатиры уже не обжигает. В XVIII веке эволюция музыкального комизма вошла в новую фазу развития, связанную с утверждением жанров итальянской оперы-буффа, французской комической оперы, английской балладной оперы. В них оформилась вольная стихия комизма, которую в опере-сериа пытались обуздать, перенося в интермедии, эти своеобразные «резервации» комических персонажей, отделявшие их от основного действия,- а в лирической трагедии стремились вообще изгнать, как нечто чуждое и эстетически сомнительное. Но потребность в комическом, если уж оно проникло в музыкальное искусство, была неуничтожима. Смех демократичен; прототипов комических персонажей было легко найти в повседневной жизни, в масках народных представлений; ситуации, в которые они попадали (при всей гротесковости преувеличений) были близки и понятны, в отличие от квазиисторических коллизий с участием Артаксерксов, Сарданапалов, Семирамид и т.д. Серьезные оперы «большого стиля» были важными и необходимыми формами музыкальной драмы. В опере-сериа музыка обретает типизированные формы выражения аффектов, вырабатывает певческий стиль бельканто, в лирической трагедии – овладевает приемами выразительной декламации, живописной манерой (сцены жертвоприношений, гроз, штормов и т.п.). Эти художественные средства достаточно гибкие, меняющие свою структуру в умелых руках художника, одним словом – они жизнеспособны. Но форма, их породившая, начинает окостеневать. В пору созревания (венецианская, неаполитанская, римская школы XVII века) оперное искусство не чуждалось комического. Комическое было «растворено» в сюжетах и музыке как необходимый «витализирующий» элемент, через него осуществлялась связь с современностью, благодаря его очищающей силе опера перерастала свои штампы, в которые с течением времени неминуемо превращались некогда свежие и новаторские приемы. Борьба созидательных, 109 формотворческих сил и сил форморазрушающих, «форморазъедающих», открывающих простор для дальнейшего развития, означала жизнь жанра. Когда в соответствии с эстетическими воззрениями эпохи были сделаны попытки очистить серьезный жанр от комического, или, по крайней мере, обособить, разъединить различные образные сферы, в таком «дистиллированном» жанре усилились кризисные тенденции, он постепенно ветшал, терял жизненные соки22. Опера превращается в пресловутый «концерт в костюмах», где царят капризные примадонны, заносчивые кастраты, и распадается единство драмы и музыки. Комическая опера во всех ее национальных модификациях так же непредставима без своей «высокородной» сестры - «серьезной» оперы и так же от нее зависима, как аттическая комедия от трагедии. И в той, и в другой паре действует закон, согласно которому комедийные персонажи передразнивают серьезных. Нищий – персонаж знаменитой «Оперы нищего» Дж. Гея,- представляя вниманию публики зрелище, нанесшее сокрушительный удар по итальянской антрепризе в Лондоне, предупреждал публику, что она услышит здесь сравнения, встречающиеся в самых знаменитых операх: «с мотыльком, пчелкой, кораблем, цветком и т.д. Кроме того, добавляет он,- у меня есть сцена в тюрьме, которую женщины находят волнующей и очаровательной» (32, 512)23. Автор музыки – К.Пепуш, помимо мелодий известных баллад, использовал темы Дж.-Б.Бонончини, Г.Перселла, Г.-Ф.Генделя. В 3-м действии (явление 13) композитор дает пародию на речитатив – каждая фраза текста исполняется на свой популярный мотив. Иногда цитаты получают сатирическое звучание: в хоре разбойников из 2-го действия «Смельчаки, вперед!» используется марш из оперы Генделя «Ринальдо», В начале XVIII века либреттисты П.Метастазио и А.Дзено возглавили оперную реформу, в результате которой хотели убрать интермедии из оперсериа; того же требовала парижская придворная публика от Люлли. 23 Следует заметить, что сцены в темнице и в дальнейшем будут одним из самых популярных мотивов оперной драматургии. 22 110 исполнявшийся при смене караула у Букингемского дворца; в Увертюре цитируется куплет «Однажды под вечер я сбился с дороги», в котором высмеивался премьер-министр Роберт Уолпол (1676-1745 г.г.). «Интонационная характеристика комедийных образов как бы нарочито бросает вызов принципам выразительности бельканто»,- замечает В.Конен (74, 228). Выработанные поколениями виртуозов каноны пышной колоратурной техники встречают здесь лишь снисходительную улыбку. Тяга к естественности – к жизненным реалиям, безыскусным народным напевам, наконец, к натуральным голосам – стала источником обновления оперного искусства. «…Италия, создав оперу-буффа,- писал Г.Аберт,- стала располагать искусством, которое, энергично подчеркивая естественное начало и вступая в оппозицию против всяческих рутинных установлений, недвусмысленно проявляло родственную близость по отношению к новым веяниям. (…) Большинство композиторов, работающих в жанре оперы-буффа, на свой лад осуществляло важнейшую новаторскую цель – достижение непринужденности и гибкости выражения, свободы в смене настроений» (1, 1, ı, 344). Пребывание в сфере комического «развязывает руки», освобождает от догм, провоцирует на все более смелое нарушение узаконенных установлений. Поэтому, стараясь вызвать смех и одобрение публики, либреттисты,- да и композиторы,- не сковывают свою фантазию рамками привычного. В комической опере становится возможным то, что было бы абсолютно исключено в серьезной. Стремление к естественности лишь ярче оттеняет экстравагантное. Лишь в комической опере могла появиться такая экстраординарная по тем временам оркестровая краска, как шуточное solo контрабаса (Б.Галуппи, «Три смешных любовника», ария Онофрио - №9 из первого действия), или карикатурно-деформированная цитата, как в «Безумном кавалере» Т.Траэтты (где в арии Гвидо из второго действия звучит знаменитая глюковская ария Орфея в нарочито примитивной инструментовке). Только здесь оправдывалась дерзость композитора, завершившего арию «диссонансом, 111 настоящей фальшивой нотой, как будто голос не имел сил подняться до верной» (145, 2, 172), как это сделал Р.Кайзер в «Цирцее». Постепенно формируется круг ситуаций, персонажей, выразительных средств уже заведомо комичных – комический элемент обретает структурную определенность. Некоторым сюжетным мотивам будет суждена долгая жизнь. Например, мир театра, с его поэзией, страстями и интригами, с улыбкой будет представлен в таких сочинениях, как «Прекрасная истина» Пиччини (1762 г.), «Певица» Й.Гайдна (1767 г.), «Директор театра» Моцарта, «Оперная репетиция» Лорцинга, «Ариадна на Наксосе» Р.Штрауса – то есть на протяжении двух веков. Помимо бесчисленных ворчливых опекунов, изобретательных влюбленных, находчивых слуг,- словом персонажей сугубо бытового плана, перед нами предстает и мир забавной экзотики, который найдет свое классическое претворение в моцартовских «мнимых албанцах» (“Cosi fan tutte”), «турках» («Похищение из сераля»), «свирепых» россиниевских янычарах («Итальянка в Алжире»). Однако эта формообразующая тенденция имела свою теневую сторону: в начале XIX века некогда новаторские приемы теряют свою свежесть, превращаются в шаблоны,- увы, этой участи не избежал даже такой антидогматический жанр, как комическая опера. Но его роль была выполнена – буффонный тематизм стал основой комедийной сферы инструментальной музыки мангеймцев, а затем и венских классиков24. Рассмотренные этапы эволюции музыкального комизма позволяют сделать вывод об ощутимой неравномерности развития утверждающей и отрицающей тенденций,- первая значительно преобладает над второй. Все определеннее просматривается закономерность, согласно которой нарушение эстетических норм в произведениях, связанных с комизмом, Мангеймцы осуждались некоторыми критиками за то, что нарушали принцип эстетического единства, вводили в музыку «хромое, немелодичное, низкое, шутовское, растерзанное…» (цит. по 145, 3, 301). 24 112 становится предпосылкой дифференциации комического и жанрово-бытового. Говоря о появлении комедийных героев оперы, Р.Роллан произнес броский афоризм: «…с черного хода входят слуги; раз ступив на сцену, они уже не уйдут с нее, им там понравится настолько, что они выставят за дверь своих господ» (145, 1, 165). По сути дела, комическое явилось для профессиональной музыки европейской традиции таким непрошеным Гостем с черного хода. Гость пока знает свое место и почтительно сидит в указанном ему углу, Но его алчные глаза начинают все смелее поглядывать на владения Возвышенного. 113 Глава четвертая. Классицизм и романтизм Как огромный циклопический глаз – познавательная способность девятнадцатого века обращена в прошлое и будущее. О. Мандельштам «Девятнадцатый век» Ты поймешь тогда, как злобно Насмеялось все, что пело… Н.Гумилев 1 «Просвещение,- писал И.Кант,- это выход человека из состояния несовершеннолетия, в котором он находился по собственной вине» (69, 27). Казалось, что отныне путь человечеству указан. Это путь познания окружающего мира, познания самого себя, путь, озаренный светом всемогущего Разума. Вопрос о границах различных видов искусств, об их иерархии для мыслителей Просвещения был далеко не праздным. Ведь истинное искусство, согласно высказыванию Гете, всегда «покоится на глубочайших твердынях познания, на самом существе вещей, поскольку нам дано его распознать в зримых и осязаемых образах» (36, 28). Как и рационально организованное общественное устройство, искусство могло быть совершенным, правильным лишь в том случае, если оно следовало своей истинной, изначальной природе. Поэтому не удивительно, что именно эстетика Просвещения впервые напрямую заговорила о возможности выражения комического в музыке. Согласно концепции И.-Г.Гердера, смех – чисто человеческое явление двойственной природы: физической и духовной. «Человек – это животное, которое способно 114 смеяться». Гердер считал, что в архитектуре, скульптуре, живописи нет места для комического. Но, по его словам, «музыка шутливая, несерьезная не лишена своей ценности: разве крайняя энергия нашего бытия, яркие вспышки ума – это не шутки, не радость?» (111, 1, 89). И.Кант даже находил нечто общее между музыкой и поводом для смеха. Это, он считал, «два вида игры с эстетическими идеями или же с представлениями рассудка, посредством которых, в конце концов, ничего не мыслится и которые могут благодаря одной лишь своей смене и, тем не менее, живо доставлять удовольствие» (111, 1, 81). Сущность удовольствия по Канту – «чувство здоровья». Энергия бытия, чувство здоровья – неотъемлемые качества школы венского классицизма. Ее образная система отличается высокой степенью обобщенности, способной выражать общечеловеческие идеи, и в то же время – семантической определенностью, дающей возможность воплощения индивидуального чувства. Равновесие общечеловеческого и индивидуального воспринимается здесь как объективный тон высказывания. Благодаря стабильности языковых средств слушатель всегда с большей долей вероятности может предположить, что будет дальше. Нарушение инерции восприятия, заинтриговывающее, подстегивающее его внимание, становится важным фактором развития музыкальной мысли, Но когда нарушение превышает эстетически приемлемую норму, а контекст допускает комическое толкование – возникает комический эффект. Поэтому принципы неожиданности и сопоставления встречаются у венских классиков наиболее часто. Й.Гайдн – величайший музыкальный комедиограф. Его шутки восхищали современников и не стареют до сих пор. Один из самых знаменитых его эффектов – это неожиданный динамический контраст, Tutti fortissimo c ударом литавр, звучащее после простодушной темы, исполняемой pianissimo pizzicato (из Andante симфонии №94). В комизме регистровых и 115 тембровых сопоставлений порой обнаруживается театральность музыки Гайдна. В жанрово-бытовом освещении вопросноответные структуры воспринимаются как диалог, а при наличии дополнительных характеристических деталей – как комический диалог. Образчик этого приема – начало Менуэта из квартета Фа мажор (ор. 77, №2), где комический эффект возникает благодаря бойкому ритму и гармонической остроте: из-за противоположного движения голосов секундовые созвучия не сразу получают разрешение (пример 49). Как средство комической образной персонификации Гайдн с успехом применяет оркестровые тембры. По наблюдению Ю.Кремлева, «…флейта и фагот раньше других духовых инструментов индивидуализируются в оркестре Гайдна – очевидно, в силу присущих им полярных выразительных возможностей, а также в силу того, что живой блеск и жанровый юмор были особенно присущи творчеству Гайдна» (76, 94). Дуэт флейты и фагота из трио менуэта Симфонии №101 – пример такого комического диалога. Иногда природную противоположность тембров композитор подчеркивает динамикой, создавая прямо-таки гротескное впечатление: в медленной части Симфонии №93 тихим замирающим звукам флейт грубо отвечает «мычание» фаготов (цифра 5 партитуры, такты 8-10). Контрастные сопоставления и нарушения синтаксиса далеко не исчерпывают комедийной палитры Гайдна. В менуэте из Симфонии №38 композитор поручает гобою весьма экстравагантный мелодический рисунок, построенный на гигантских интервальных шагах, который вполне можно квалифицировать как применение принципа деформации (пример 50). Наблюдаются и другие, более тонкие приемы, когда, по словам Т.Вайдля, автор «как бы заставляет слушателя поверить в серьезное отношение к событию и только потом приводит его к тому, что перед ним – сдвиг серьезного и несерьезного» (215, 23). В этом случае речь идет не только о нарушении семантической инерции, но и о многозначности непритязательного на первый взгляд образа. Например, в 116 Ариетте с вариациями Ми-бемоль мажор первое предложение темы сразу же определяет жанровую основу сочинения и, казалось бы, не предвещает ничего необычного – это чинный галантный менуэт. Последующий секвенционный оборот – «учтивые поклоны» - подтверждает впечатление. Но вдруг, как неуместная реплика в светской беседе, появляются совершенно «инородные» такты, нарушающие квадратность темы. Если их сопоставить с темой финала симфонии «Медведь», в которой Гайдн обращается к народным наигрышам, то можно сказать, что звуки «придворного оркестра» сменяются «пиликаньем бродячего музыканта» (пример 51а, б). В дальнейшем вариационном развитии эти «чуждые» такты в наибольшей степени подвержены изменениям, Создается впечатление, что вариации пытаются смягчить, оправдать нелепую выходку «дикаря-деревенщины». Во второй вариации бег шестнадцатых обвивает, обволакивает простонародные интонации, маскируя их «низкое происхождение» (пример 52). Последующие метаморфозы двутакта всегда остроумны и неожиданны. Иную роль играет каданс, завершающий каждое предложение темы, который проходит почти без изменения через весь цикл. В его постоянстве присутствует важность и невозмутимость – это воплощенный этикет. Вариации каждый раз по-новому освещают рефрен, придавая ему разный смысл. Стилистические контрасты внутри темы могут быть восприняты как отголосок (может быть непреднамеренный) типичного для эпохи Просвещения «руссоистского» противопоставления человека «испорченного» цивилизацией и человека «естественного»1. Симпатии Гайдна, несомненно, на стороне последнего – ведь и сам автор «Времен года» был «веселым музыкантом из народа, шпильманом» (212, 93). Напрашивается также аналогия с философской повестью Вольтера «Простодушный», обнажающей конфликт природных импульсов, свойственных человеку, и этикета, регламентирующего их проявление. 1 117 Гений Моцарта открыл новую страницу в эволюции комического. Г.Аберт считает, что любовь к простонародному комизму он унаследовал от своего отца – Леопольда Моцарта, который в «Бурлескной симфонии» и в программных дивертисментах «Катание на санях», «Деревенская свадьба» отдал изрядную дань «зальцбургскому духу Гансвурста» (1, 1, ı, 65)2. Уже в десятилетнем возрасте Вольфганг пишет «Музыкальную галиматью» (KV 32) – сочинение, в котором он окидывает веселым взглядом пеструю картину современной музыкальной жизни: цитата из Генделя здесь прекрасно уживается с популярными немецкими песенными и танцевальными мелодиями, чопорный менуэт, мрачное Adagio – с деревенскими волыночными наигрышами, а заключительная фуга построена на мотиве популярной песни «Вильгельм ван Нассау». Что же касается зрелых лет композитора, то есть все основания утверждать, что непритязательное искусство «скрыпача слепого», так позабавившее пушкинский персонаж («Моцарт и Сальери»), не оставляло равнодушным и реального прототипа – Моцарт любил и умел подмечать смешное3. Во всяком случае solo скрипки из «Секстета деревенских музыкантов» написано словно бы под свежим впечатлением от подобного музицирования (пример 15). В менуэте из этого же сочинения имитируется фальшивое интонирование валторн. Здесь, наверное, впервые в истории музыки появляется авторская ремарка, не допускающая буквального прочтения – предписание dolce (нежно), исходя из контекста, можно понимать лишь иронически (пример 53). «Секстет» заканчивается смелой политональной «кляксой»,- вплоть до начала XX века трудно Части «Бурлескной симфонии» имеют названия «Сеньор Панталоне», «Арлекин»; в «Катании на санях», помимо натуралистических приемов (звон бубенцов, щелканье бича), изображается «Баба, дрожащая от холода»; в «Деревенской свадьбе» слышатся уличные напевы, наигрыши волынки, радостные возгласы, выстрелы из пистолета. 3 Однажды в кофейне Моцарт написал менуэт для нищего скрипача, который сразу же потребовал гонорар за это сочинение у издателя Моцарта (1, 2, ı, 53). 2 118 найти нечто подобное. Нарушение норм у Моцарта настолько выходит за рамки привычного, что принимают вид дерзких деформаций – ладовых, ритмических, гармонических, фактурных. Броские эффекты «Музыкальной шутки» носят все же внешний характер и оправданы тем, что они, в сущности, являются разновидностью звукоподражания. У Моцарта встречаются более сложные и опосредованные приемы, которые можно назвать музыкальным эквивалентом иронии. В миниатюрной опере «Директор театра» он применяет модель помпезной оперной увертюры, претерпевающей ряд тонких деформаций. Так, «неквадратное» шеститактное строение главной партии придает ей непропорционально усеченный вид (пример 54), распевная побочная партия вдруг начинает «заикаться» (пример 55), доминантовый предыкт к репризе строится на неуклюжих секвенциях (пример 56), а чрезмерный «героизм» шумной коды невозможно воспринимать всерьез (пример 57). Эстетические нормы увертюры «большого стиля» подтачиваются изнутри, дозированное нарушение композиционных пропорций, при полном внешнем «благополучии», расстраивает гармонию выразительных средств, приводит к пародийному снижению всей образной сферы. Моцарт – блистательный мастер индивидуализированных интонационных характеристик. Если у его предшественников эти средства развивались по двум автономным направлениям – как выразительные, передававшие динамику чувства и мысли, и как изобразительные, воплощавшие пластику персонажа, его внешние особенности, манеру говорить,- то у Моцарта происходит их сближение. В сфере комического он переходит от типизированной буффонной мелодики к интонационному реализму – маски уступают место людям, привычные комедийные типы обретают многомерность, плоть и кровь. Например, фигура докучливой покинутой возлюбленной, над которой не преминул бы посмеяться автор традиционной оперыбуффа, в «Дон-Жуане» вызывает сочувствие. В душе донны 119 Эльвиры оскорбленное чувство любви вытесняет все на свете – и в ее арии (из первого действия) безраздельно господствует одна тональность. Беззащитно и трогательно звучат лишь два отклонения в соль и до минор. Минорные омрачения связаны с иронически-насмешливыми a parte Дон-Жуана, «инкрустированными» в арию (пример 58). И происходит чудо – реплики согреваются теплой моцартовской улыбкой сопереживания. «Родословная» Лепорелло восходит, конечно же, к типу комических слуг. Но отнюдь не трафаретным комическим страхом, а неподдельным ужасом наполнены его восклицания “Dite di no, dite di no!” (скажите нет!) в сцене появления статуи Командора (пример 59). Так комическое растворяется в жизненном потоке, входит в него полноправным компонентом. Иногда оно осознается лишь как тонкий сплав, сочетающий круг образно-эмоциональных представлений персонажа и авторский взгляд со стороны4. Универсальность моцартовского юмора, его психологизм направлены к мироощущению романтизма. Но с другой стороны этот юмор связан корнями с древней традицией смеховой культуры. Например, античный принцип серьезно-смехового возрождается в «Волшебной флейте» (1791 г.). Просвещенческие идеи победы разума и гармонии здесь воплощены в причудливой форме оперы-сказки, вобравшей в себя различные сценические и музыкальные жанры: от средневековых мистерий – до итальянской оперы и немецкого зингшпиля, от простонародной песенки – до изощренных полифонических построений. Философская мысль раскрывается при помощи экзотического сюжета, насыщенного масонской символикой: возвышенное непринужденно сочетается с комическим, грандиозное с трогательным. В построении сюжета встречаются прямые аналогии с типичными для жанра меннипеи фабульными ходами: мотивы испытания, искушения, двойничества (ПапагеноГ.Аберт отмечает: «…Моцарт словно и сам наделен слабостями и пристрастиями своих персонажей, только воспроизводит их с высоты, возвышается над ними. (…) Иногда кажется, будто автор с сочувствием и веселой усмешкой взирает на собственные творения» (1, 2, ı, 16). 4 120 Папагена, Тамино-Памина), фантастических существ, персонифицирующих абстрактные понятия. По сути дела, воплощая классицистскую по духу концепцию, Моцарт пользуется принципами мышления аклассической направленности: он сближает полярные образные сферы, смешивает их (что совсем недопустимо в эстетике классицизма), внешне совсем не заботится о единстве стиля. Единство возникает не на уровне выразительных средств, а на уровне концепции в целом. Зло и фантастика – в этом сочетании Моцарт также предшествовал романтикам. Эта сфера пограничная с комическим станет для них источником новых художественных открытий. А пока в «Волшебной флейте» лишь пунктиром намечается принцип ее воплощения, который можно сформулировать так: характеристика инфернального должна отличаться от привычных в данном стиле особенностей музыкального языка, создавать впечатление чего-то странного, необычного. Холодновато-виртуозные колоратуры Царицы ночи выполняют именно такую функцию. Комизм Бетховена ближе к гайдновскому, психологизм и ирония ему мало свойственны. Приемы этого рода собраны и скрупулезно систематизированы Т.Вайдлем. Это список включает следующие пункты: в области динамики – внезапные изменения звучности, подчеркивание начального тона мелодии, усиление звучности на слабые (женские) окончания фраз, динамический контраст (piano – cresc. – piano subito), тихие, исчезающие окончания (Багатели До мажор, ор. 33 и Ре мажор, ор.119); в мелодике – стаккато, повторение одного звука, гротескные скачки, октавные прыжки мотива (Allegretto Восьмой симфонии), короткие мотивы, разделенные паузами, неожиданные остановки; в области ритма и метра – синкопы, «ломбардский ритм», нарушение ритмической равномерности, внезапная смена темпа; в гармонии – неожиданные модуляции. Специальные разделы исследования посвящены технике баса (бас-буффо), контрасту мотивов, а также использованию 121 тривиального и примитивного (ля-минорная тема из финала Первого фортепианного концерта) (см. 215, 38-156). В этом перечне мы видим знакомые приемы неожиданности, деформации и даже примитивизации, хотя пример из Первого фортепианного концерта не кажется убедительным (развитие этого принципа – в будущем). Все неожиданности и сопоставления у Бетховена отмечены печатью мощного темперамента. Особенно своеобразны внезапные – «на полном скаку» - остановки на слабых долях мельчайших метрических ячеек (см., например, окончание Скерцо из Сонаты ор.110 или семнадцатую вариацию из ор. 120). Столкновение семантически далеких сфер также имеет больший перепад значений, чем у Гайдна (см., например, переход от Adagio к Финалу в Первой симфонии). Музыка Бетховена бывает настолько изобразительна, что слушатель может представить себе целые комические сцены. Г.Берлиоз пишет о третьей части Шестой симфонии: «Каждый раз, когда гобой начинает наивную и веселую, как крестьянская девушка в праздник, мелодию волынки, старый фагот выдувает свои две ноты. Если мелодия модулирует, фагот молчит, спокойно отсчитывая паузы до тех пор, пока опять появится основная тональность, и тогда он снова вставляет свои неизменные фа, до, фа» (21, 185). Оригинальный комическиизобразительный штрих, требующий от пианиста даже некоторого актерства, содержится в последних тактах «Песни о Блохе», где предписанная композитором весьма эксцентричная аппликатура словно заставляет аккомпаниатора демонстрировать ловкость и проворство, необходимые для истребления надоедливых насекомых (пример 60). В тематизме безудержно веселого финала Шестой фортепианной сонаты раздается настоящий раскатистый хохот – пианистка М.Гринберг называла эту часть «Гимном смеху». Вообще модус простодушной веселости, юмор «крестьянской закваски» доминирует у Бетховена. Даже в тех немногих случаях, когда в его сочинениях вдруг начинают проглядывать пародийные черты, композитор все же не оставляет своего излюбленного эмоционального 122 диапазона. В нарочитой классичности одного из самых светлых его сочинений – Восьмой симфонии, В.Конен усматривает «восхитительно тонкую пародию на идеалы века Просвещения» (73, 322). Даже беглый обзор творчества венских классиков позволяет заключить, что комическое занимает в нем довольно значительное место. Развиваются его инструментальные средства. Полностью сформировалась техника индивидуализированной интонационной характеристики: принципы неожиданности, сопоставления, деформации. Ощутимо преобладает утверждающая тенденция. Жанровобытовая сфера остается основным прибежищем комического. Поэтому принцип примитивизации, связанный, в основном, с воплощением отрицающей тенденции, не получил еще большого распространения. Но высокий уровень организации выразительных средств создает предпосылки для более детализированной семантики, лишь опосредовано связанной со своим жанрово-бытовым прообразом. Юмор и ирония Моцарта предвосхищают достижения XIX века; радикальность применяемых деформаций, неоднозначность характеристик, психологизм – эти качества найдут новую жизнь в романтической иронии. У классиков начинают пробиваться ростки отрицающей тенденции – готовится почва для появления сатиры в инструментальной музыке. Во всяком случае, уже намечается механизм, по которому критическое отношение к тем или иным мировоззренческим идеалам демонстрируется через снижение соответствующих жанровых традиций. Такой оттенок слегка ощутим в Ариетте Ми-бемоль мажор Гайдна, Увертюре к «Директору театра» Моцарта, в Восьмой симфонии Бетховена. В двух последних примерах заметна также имманентная функция музыкального комизма: он становится важным фактором обновления музыкального языка и, следовательно, форм эстетического сознания. Энергия, оптимизм, чувство нравственного и физического здоровья, выраженные в 123 законченной, рационально-объективизированной форме,- эти свойства сонатно-симфонических финалов в музыке классиков явились обобщением стихии народного празднично-смехового восприятия. Это средоточие светлого, свежего, радостного, гармоничного образует комплекс средств утверждающей тенденции и составляет главный итог названного этапа эволюции музыкального комизма. 2 У композиторов-романтиков происходит отчетливо выраженная поляризация комической образности. С одной стороны, сохраняется комизм жанрово-бытовой, поэтизирующий жизнь народа, нередко погруженный в наивный мир народной фантастики; с другой – формируются и разветвляются средства негативной характеристики, причем их удельный вес стремительно нарастает. Они являются закономерным продолжением средств индивидуализированной интонационной характеристики, их новым качеством. Их действие отнюдь не ограничивается комическим, но существенно затрагивает сферы злого, фантастического. Именно в сопоставлении жанрово-бытового и демонического заключается основной драматургический конфликт «Вольного стрелка» К.-М. Вебера. Простая диатоника, мягкое звучание валторн рисуют светлые картины природы, песеннотанцевальные мелодии народного склада передают поэзию крестьянской жизни, в которой находится место шутке (песня Килиана с хором крестьян - №1 из первого действия). Дьявольское начало (Каспар, Самуэль) характеризует мелодикогармоническая неустойчивость – обилие хроматизмов, уменьшенные гармонии, которые предстают в загадочном и тревожном оркестровом наряде (тремоло струнных, холодноватые тембры флейты-пикколо, кларнета, фагота, настороженные и таинственно-приглушенные удары литавр). Сцену в Волчьем ущелье, конечно же, нельзя отнести к 124 комическому, но средства запечатления зла в дальнейшем будут связаны с отрицающей тенденцией комизма. Склонность романтиков к фантастике, эксцентрике, гротеску – словом, ко всему, что выделяется из повседневности, противоречит обыденности, одна из сторон их неудовлетворенности действительностью. Это создает важную предпосылку для развития комической образности – смелое нарушение эстетических канонов, расширение рамок эстетически допустимого. Другой, не менее важной предпосылкой является обостренное внимание к жизни человеческого духа – психологизм, понимание уникальности человеческой личности, ее противопоставление безликой «толпе», а отсюда – любовь к портретности (в музыке Берлиоза, Шумана, Листа множество примеров подобного рода). Как некогда в эпоху Возрождения, позднее – на заре Просвещения, музыка на новом витке своего развития опять обращается к человеку, чтобы на этот раз заглянуть в самые потаенные изгибы его души. Т.Курышева в книге «Театральность и музыка», отдавая должное глубине постижения внутреннего мира в музыке романтиков, утверждает, что «игровое начало, комическое как тип мышления, как форма выражения глобальных идей, естественно оставались для композиторовромантиков чуждыми» (81, 142)5. Но разве, погружаясь во внутренний мир, они могли не заметить драгоценные крупицы юмора? Разве романтическая ирония, сердцевина которой – разлад мечты и действительности,- не становится формой выражения глобальных идей. Или ее проявления в музыке недостаточно отчетливы? Все это представляется спорным. Напротив, именно романтизм сумел передать антиномию человека и мира не только как процесс, в результате которого вновь обретается нарушенная гармония, но и как извечное состояние. Поэтому именно романтизм дал толчок развитию в музыке могущественных сил отрицания, преодолев ограничительные барьеры классицистской эстетики. 5 «Разумеется, речь идет о господствующей тенденции»,- добавляет автор. 125 “Mit Humor” – одна из любимых ремарок Шумана. В этой образной сфере огромная роль у него принадлежит жанровым элементам, которые часто используются как «знаки» определенной социальной среды. В «Карнавале» ор. 9 добродушный и чинный «Немецкий танец» в контрасте с демонической «трансцендентальной» фигурой Паганини воспринимается как воплощение филистерства. Перед нами – типичное для романтиков противопоставление художника и толпы. Для подобной трактовки чрезвычайно важно именно сопряжение образов. Только в сопоставлении с юношескипобедительной темой «Марша Давидсбюндеров» Großvater осознается как противоборствующее начало. Шуточная песенка о том, «как бабушка замуж за дедушку шла», с такой теплотой, можно сказать, с ностальгией по уходящему детству выведенная в «Бабочках», и в «Карнавале» остается символом патриархального уклада. Герой цикла «смеясь, расстается со своим прошлым», он видит ограниченность, бюргерскую приземленность, но не безобразие и не враждебность этой среды. Ирония – основная форма выражения отрицающей тенденции, родовая черта романтиков. В главной партии Сонаты си минор Листа дерзновенный порыв, воплощающий «фаустианское» начало, сменяется сардоническим смехом Мефистофеля (пример 61). Семантика элементов здесь базируется на классических моделях, но гармонический фундамент у них – другой. Характерное для героических тем движение по аккордовым звукам у Листа построено на уменьшенном септаккорде. «Стучащий» элемент В.Цуккерман связывает со знаменитым бетховенским мотивом из «Аппассионаты» и Пятой симфонии. Но в его гармоническом оформлении также происходит «движение в сторону неустойчивости, сперва – не покидая главной тональности, а далее – выходя за ее пределы» (176, 22). Но, помимо музыкальных ассоциаций, этот элемент главной партии может быть воспринят и более непосредственно – как некая имитация издевательского смеха. Эта трактовка очевидна в ритмическом 126 рисунке фразы и в характерной отрывистой артикуляции, близкой именно «смеховой моторике». Дальнейшие трансформации этого мотива раскрывают листовскую диалектику добра и зла: зловещая фраза неожиданно предстает в манящем и обольстительном облике, а затем приобретает наступательный характер (пример 62). Горькой иронией проникнут шумановский романс «Напевом скрипка чарует» из цикла «Любовь поэта». Завораживающее кружение вальса в фортепианной партии, парадоксальное единство скорбных секундовых интонаций и оживленного танцевального ритма, создают поразительный эффект многоплановости (пример 63). Язвительность слышна в №11 из этого цикла – «Её он страстно любит». Гротескные скачки и синкопы аккомпанемента, гипертрофия танцевальности, особенно ощутимая с появлением шестнадцатых на словах «ей приглянулся другой», подчеркивают обыденность ситуации, с которой не может примириться разбитое «сердце поэта» (пример 64). В последнем примере жанровые элементы выступают в качестве средства снижения. Но Шуман не был первооткрывателем этого приема. Революционный шаг, приведший к появлению сатиры в инструментальной музыке, был, как известно, совершен десятью годами ранее Гектором Берлиозом в финале «Фантастической симфонии» (1830 г.), где «неземная» тема возлюбленной из первой части предстает в вульгарно-пляшущем ритме и образ недосягаемой мечты низводится до «кабацкого напева» (20, 33). Тембровая драматургия дополняет прием жанрового снижения – живое тепло струнных сменяется визгливым звучанием малого кларнета. Любопытно отметить, что вновь новаторский прорыв комического осуществляется в образной системе, близкой традиции серьезно-смехового. «В мениппее,- писал М.Бахтин,впервые появляется и то, что можно назвать моральнопсихологическим экспериментированием: изображение необычных, ненормальных морально-психологических 127 состояний, человеко-безумий всякого рода (“маниакальная тематика”), раздвоения личности, необузданной мечтательности, необычных снов, страстей, граничащих с безумием, самоубийств и т.п.» (15, 134). Что же это, как не характеристика литературной программы, воплощенной в «Фантастической»? Сходный круг образов нетрудно найти также в некоторых циклах Шумана («Карнавал», «Фантастические пьесы», «Пестрые листки»). И это не случайно – ведь традиция серьезно-смехового поддерживается в русле аклассического художественного мышления. Открытие Берлиоза надолго опередило свое время. По словам Г.Орджоникидзе, «именно в романтическую эпоху противоборствующее человеческой мечте получает этикоэстетическую оценку» (123, 304). Однако у большинства композиторов эта оценка выступает в предельно обобщенном виде: в противопоставлении человека и судьбы, добра и зла, жизни и смерти. Активный, наступательный характер злых сил часто запечатлевался через гротескно-устрашающее преломление жанра марша. Вспомним грозное «Шествие на казнь» из той же «Фантастической», циклопический лейтмотив великанов из «Золота Рейна» Вагнера – образ грубой первобытной силы. В подобных случаях негативная этическая оценка осознавалась через негативную эстетическую и не конкретизировалась в социальном плане. Социальная конкретность сатирической направленности, воплощенная через прием жанровой изобразительности, появляется в творчестве Ж.Оффенбаха. Уличные интонации и ритмы галопов, кадрилей, канканов указывали точный «адрес» его насмешек, бичующих нравы Второй империи. Помимо этой «номинативной» функции, жанр выступает здесь как средство негативной характеристики, в такой форме сохраняются рудименты иерархической эстетики. Было бы ошибкой ограничивать достижения романтизма проявлениями отрицающей тенденции. Игровое начало, хотя и в меньшей степени, ему также не было чуждо: ведь народное 128 искусство для романтиков – источник поэзии. Танцевальная стихия привлекала Шуберта, Шумана, Шопена, Листа, Брамса, Дворжака, а затем и Малера, Р.Штрауса. Конечно, не всякое обращение к танцу приводило к созданию комических образов. Но трудно отрицать, что у названных композиторов, помимо лирико-психологической трактовки танца, встречаются воплощения народной танцевальной музыки, связанные именно со смеховым миром. Например, в некоторых мазурках Шопена Б.Асафьев слышит «взрыв буйного веселья юности, хороводы ботичеллиевской весны Возрождения, звон заздравных песен и праздничное задорное ликование, как на картинах деревенского упоения “сытостью жизни” у старых фламандцев» (11, 91). Так продолжается утверждающая тенденция музыкального комизма. Один из чистейших ее образцов – «Нюрнбергские мейстерзингеры» Р.Вагнера, где обращение к народно-песенной стихии, связанное с сюжетом, определило полнокровное, жизнеутверждающее мироощущение всей партитуры 6. Ренессансная щедрость чувств, бьющее через край веселье торжествующе звучит в финале «Фальстафа» Дж. Верди. Старинная буффонная традиция «ансамблей смеха» отливается им в строгие формы фуги, создавая апофеоз Шутке и Смеху (пример 65). Утверждающая тенденция жила в высших достижениях так называемого «легкого жанра» - в творчестве «короля вальсов» Й.Штрауса, который возвел сферу бытового музицирования в ранг высокого искусства. Если его лирические вальсы полны романтического шарма, тонкой одухотворенности, то быстрые танцы – кадрили, польки, галопы – привлекают своим задором, очаровательным легкомыслием, «легким дыханием» (если воспользоваться бунинской метафорой). В оркестровке нередки пикантные звукоизобразительные детали (например, в польке «Гром и молния»). Блестящие марши семейства Штраусов абсолютно лишены тяжеловесной Отрицающая тенденция нашла выражение в образе Бекмессера – «филистера от искусства». 6 129 парадности. Их праздничный тонус изрядно приправлен обаятельным фанфаронством («Радецки-марш» Й.Штраусаотца), либо не без улыбки поданной экзотикой («Персидский марш» Й.Штрауса-сына)7. Поэтичность и пьянящее остроумие музыки этой славной династии сохранилось как «остров радости» посреди драматических коллизий искусства XIX века. 3 Развитие русской ветви европейской музыкальной культуры имело свои особенности. В начале XVIII века в связи с реформами Петра I начинают укореняться европейские формы музицирования. К концу столетия формируется национальная композиторская школа. Комическая опера, получившая развитие в последней трети столетия, представляла собой бытовую комедию с персонажами из народа. Здесь встречаются весьма знакомые по истории оперы сюжетные мотивы. Например, секстет из оперы «Санкт-Петербургский гостиный двор» (1792 г.) В.Пашкевича построен на выкриках уличных разносчиков, предлагающих свой товар. Музыка опер основывалась на подлинных народных мелодиях. Комизм определялся сюжетом, порой остро сатирическим, как в «Американцах» Е.Фомина – произведении, направленном против крепостного права (1788 г., либретто И.Крылова). В арии Фолета из этой оперы мы встречаемся с любопытным предвосхищением комедийной сцены Фарлафа и Наины из «Руслана и Людмилы» Глинки: отрывистые интонации великолепно передают испуг персонажа (пример 66). В монологе Скрягина из «Скупого» (1782 г.) В.Пашкевича намечается тенденция к речевой выразительности, к мелодии, «творимой говором» (см. 125). Не здесь ли берет Вспоминается характеристика одного из маршей Шуберта, данная Шуманом в статье «Комическое в музыке»: «…Эвсебий совершенно ясно различает целый австрийский ландштурм, с волынками впереди, с колбасами и окороками на штыках» (187, 289). 7 130 начало принцип интонационного реализма, исповедуемый Даргомыжским и Мусоргским. К началу XIX века русская музыка начинает испытывать влияние раннего романтизма, с его поэтизацией народной жизни и склонностью к фантастике. В музыке возникает новая образная сфера таинственного, загадочного, зловещего, развиваются приемы романтической звукописи. Все это происходит на фоне ярко выраженной национальной характерности материала. Из примеров подобного рода назову сцену заклинания духов (вновь знакомый мотив!) из «Аскольдовой могилы» А.Н. Верстовского. Так появляются предпосылки возникновения средств негативной характеристики, важных для воплощения отрицающей тенденции. Подобно Пушкину в русской литературе, Глинка развил и синтезировал классические, романтические и реалистические черты, надолго определив пути русской музыки. По своей тематике комические образы Глинки вполне укладываются в рамки раннего романтизма: это стихия народного юмора, празднично-смехового восприятия, представленная плясовыми мелодиями, уснащенными каскадом юмористических деталей; фантастические, гротескные образы злых сил; ассимилированные черты оперы-буффа. Первая линия блестяще раскрыта в «Камаринской», где, по характеристике В.Цуккермана, «истолкованию в духе юмора подвергаются почти все стороны музыкальной речи» (175, 358). В формах европейского инструментального мышления Глинка возрождает древние традиции скоморошьего искусства8. Музыкальные традиции скоморохов послужили основой целого комедийного направления в русской классике. Их приметы – дробная речитативная скороговорка, плясовые ритмы – слышны как в оперной (Скула и Ерошка в «Князе Игоре» Бородина, скоморошьи образы «Снегурочки», «Садко», «Сказки о царе Салтане» Римского-Корсакова и др.), так и в инструментальной музыке (от «Камаринской» Глинки – до «Шута» Прокофьева и «Петрушки» Стравинского). 8 131 Вторая линия – образы зла – представлена фигурами Наины и Черномора. Начиная с лейтмотива Наины, острые звучания высоких деревянных духовых обретут в русской музыке семантику недоброго, гротескно-фантастического (лейтмотив Бомелия из «Царской невесты», тема феи Карабос из «Спящей красавицы»). Создавая образ Фарлафа, Глинка перенес на отечественную почву традиции баса-буффо, обогатив типичные приемы (отрывистые фразы, угловатые интонационные ходы, потешная скороговорка) тенденцией к речевой выразительности (испуганные реплики в сцене с Наиной). Художественное открытие Даргомыжского – сатирический романс-сценка, исполняемый как бы от первого лица. Будучи приверженцем «натуральной школы», композитор создает омузыкаленную речь. Его девиз: «Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды»,- претворяется в обостренном внимании к деталям литературного текста, в тактичной изобразительности аккомпанемента9. Своим «Титулярным советником» Даргомыжский продолжил тему «маленького человека», к которой впервые в русской музыке в 40-х годах обратился А.Алябьев (песни «Изба», «Деревенский сторож», «Кабак» на стихи Н.Огарева, «Нищая» на стихи П.Беранже). Но если у Алябьева она решена в драматическом плане (лишь в «Кабаке» отдаленно слышна разгульная «забубенная» нота), то у Даргомыжского ощутимо присутствует добрая и горькая улыбка сочувствия. «Юмор отчаяния» - вот точка соприкосновения темы «маленького человека» и категории В своих потешных сказах скоморох часто выступал от имени персонажа, «подавая» его актерски. Это свойственно вокальным сценкам Даргомыжского, Мусоргского, а позднее – Шостаковича. 9 Вспомним извилистые, «пресмыкающиеся» интонации «Червяка», угодливую «походку» чиновника на словах «Ведь я червяк в сравненье с ним»; сварливую скороговорку жены мельника (песня на стихи Пушкина «Мельник»). 132 комического. Так в русской утверждаются социальные мотивы. музыкальной культуре В своих воспоминаниях И.Е.Репин писал: «В начале шестидесятых годов жизнь русская проснулась от долгой нравственной и умственной спячки, прозрела. Первое, что она хотела сделать,- умыться, очиститься от негодных отбросов, от рутинных элементов, отживших свое время. Во всех сферах и на всех поприщах искали новых, здоровых путей. Молодость и сила свежей русской мысли царила везде, весело, бодро шла вперед и ломала без сожаления все, что находила устарелыми, ненужным. Не могла же эта могучая волна не захватить и русского искусства…» (140, 154). Это было время, когда русская художественная культура ощутила себя частью общественной жизни. Борьба идей в искусстве несла заметный отпечаток публицистических споров. Художники, входившие в «Товарищество передвижных художественных выставок» противопоставляли себя официальной Академии художеств, обращаясь не к мифологическим и историческим сюжетам, а к повседневной жизни народов России. Наследники славянофилов - идеологи «почвенничества», среди которых были братья Достоевские, А.Григорьев, Н.Страхов, сплотившиеся вокруг журналов «Время», «Эпоха», проповедовали идею сближения интеллигенции с народом. Народничество и позитивистская по своей направленности эстетика Н.Чернышевского, воинствующий «реализм» Д.Писарева,- эти разнородные явления говорили об неустанных поисках общественной мысли, которая хотя и не всегда критически осваивала пришедшие с Запада идеи, но все же обретала определенную самостоятельность. Влияние «почвенничества» нельзя не заметить в эстетике композиторов «Могучей кучки». При всех различиях творческих путей ее представителей, на первых шагах их объединяло стремление к национальной самобытности, неприятие «консерваторского академизма». В атмосфере горячих дискуссий, столкновения мнений юмор всегда найдет себе место. Собрания кружка «новой композиторской школы» часто 133 оглашались смехом. Ученик А.П.Бородина – химик М.Ю.Голдштейн сохранил для нас живые впечатления об этих минутах в заметке «Шутки А.П.Бородина»: «Это не был юмор человека недовольного, пессимистически настроенного, это был скорее юмор жизнерадостного, веселого человека, смеющегося над тем, что смешно, но смеющегося без желчи, без желания уязвить или обидеть кого-либо своим смехом. (…) В этом отношении Бородин отличался и от Даргомыжского, и от Мусоргского. Музыкальные сатиры – в особенности последнего – почти всегда носили характер злой едкой насмешки» (39, 143). Действительно, в области отрицающего комизма, пожалуй, никто из русских композиторов XIX века не мог сравняться с автором «Райка». Его музыкальные памфлеты были безжалостны к «верховным жрецам опрокинутых идолов». В полемической зарисовке «Классик» «елейное» благозвучие, нейтральные интонации, добропорядочные кадансы рисуют комический образ консерватора и догматика, со «священным» ужасом отвергающего «новейшие ухищрения». Комизм усиливается вторжением средней части, в которой красочные аккордовые последования, моделирующие гармонический язык «крайних» романтиков, беспокойный тонус (авторская ремарка Тревожно) символизируют эти новшества, преподнесенные, кстати, не без усмешки (пример 67 а). Она чувствуется в преувеличении динамических контрастов, в какой-то суетливой возбужденности тона. Мертвенная гладкость, закругленность крайних частей, их угодливая благонамеренность враждебны настоящему, не скованному догмами творчеству. Мусоргский подчеркивает отсталость, несовременность адептов академизма, тщательно воспроизводя «классические» нормы: плавное голосоведение, общую уравновешенность высказывания (ремарка: Не скоро, спокойно). Забавный штрих – стыдливочувствительное восходящее задержание на словах «Я в меру страстен» (пример 67 б). В «Райке» композитор, прибегая к формам фольклорного театра, выводит шаржированные фигуры известных деятелей – «музыкальных воевод». Сатирическое отношение к ним 134 выражается через гиперболизацию соответствующих жанровых и стилистических признаков. В салонном вальсе «О, Патти, Патти!» перед нами – язвительная насмешка над итальяноманией. Композитор утрирует особенности «блестящей» вокальной манеры. Бессмысленные повторы слогов, игривое staccato, каденция, завершающаяся «виртуозной» трелью,- все эти «колоратурные красоты» в исполнении баса звучат еще более забавно. Наивное вагнерианство А.Н.Серова Мусоргский передает макароническим сочетанием «тевтонского с нижегородским». Гимн «преславной Евтерпе» (покровительнице РМО великой княгине Елене Павловне), распеваемый «с усердием, во все горло» на мотив плясовой «Из-под дуба, из-под вяза», заканчивается сладкозвучными арфаобразными пассажами, которые возносятся ввысь, как курения фимиама. «Раек производил взрывы хохота» (115, 86). Но даже ближайшее окружение Мусоргского не всегда было способно оценить его опыты в других областях комического. Композитор сообщает А.А.Голенищеву-Кутузову: «…на первом показывании 2-го действия “Сорочинской” [ярмарки] я убедился в коренном непонимании музыкусами развалившейся «кучки» малорусского комизма: такою стужею повеяло от их взглядов и требований, что “сердце озябло”, как говорит протопоп Аввакум. (…)В томто гоголевский комизм и заключается,- добавляет Мусоргский,что ничтожные для нас интересы чумаков да деревенских торговцев воплощены во всей искренней правде» (115, 198). Эта правда не имела ничего общего с бескрылым правдоподобием. Думается, Мусоргский смог бы повторить слова Достоевского: «…то, что большинство называет почти фантастическим и исключительным, то для (…) меня иногда составляет самую сущность действительного. Обыденность явлений и казенный взгляд на них – по-моему, не есть еще реализм, а даже напротив» (53, 169). Поэтому юмор Мусоргского не исчерпывается меткими характеристическими деталями, рисующими «тончайшие черты природы человека» (115, 109) и проявляется не только в рамках традиционных форм. Юмор 135 живет в быте (в светлых и темных его сторонах), в фантастике (в народных суевериях, «чертовщине»), он растворен – для зоркого взгляда – во многих обстоятельствах жизни, как бы глубоки и трагичны они не были. Сквозь призму юмора видится светлый мир детства («Детская») – и жуткие лики смерти («Песни и пляски смерти»), богатство и нищета, радость и отчаяние. Свободное проникновение юмора в драму и даже трагедию казалось современникам странным, новым и непривычным10. Вновь перед нами – пример аклассической, принципиально антииерархической эстетики. Творения Мусоргского вбирают в себя традиции серьезно-смехового: в «Картинках с выставки», «Песнях и плясках смерти» принципы построения напоминают о жанре мениппеи. Юмор Мусоргского – русский юмор. Русь во всем многообразии встает перед нами со страниц его партитур: уединенная монастырская келья, где теплится негасимая лампада народной совести, разгульная вольница, «русский бунт, бессмысленный и беспощадный», кремлевские палаты, придорожная корчма, потаенный скит, державные властители, приставы, «калики перехожие», юродивые, попы-расстриги; различные области необъятного государства, люд всяческого звания и сословий,- все и вся имеет свой самобытный язык, свои формы выражения. Поэтому древние традиции серьезносмехового, укоренившись на российской почве, принесли диковинные плоды. Кинический мотив «мудрости-безумия», который прошел через средневековье и Ренессанс в облике мнимо-наивных «простецов», взыскующих правды и глаголющих вещие речи, здесь соединяется с родственным, истинно русским мотивом юродства. Одетый в рубище, «скорбный разумом» провидец олицетворяет беззащитность Сам Мусоргский это отлично сознавал: «Не так давно было, что от «Савишны» и «Семинариста» хохотали, пока не было кем следует растолковано музыкусам, что обе картинки имеют трагическую закваску. «Варлаам с Мисаилом» (в «Борисе») вызывали смех, пока не показались в сцене «бродяг»: тогда смекнули, какие опасные звери эти, по-видимому, смешные люди» (115, 199). 10 136 истины. Наряду с этим можно назвать болезненный «юмор самоуничижения», которое «паче гордости» («Озорник», «Светик Савишна»)- порой он проглядывает не только в музыке, но и в письмах Мусоргского. «Юмор отчаяния», безысходности, разгульной тоски, надсадного, рвущего душу веселья выплескивается у Мусоргского в форме горького пляса – парадоксальном соединении далеких ритмоинтонационных комплексов: лихорадочно оживленной танцевальности и скорби («По грибы», «Гопак», «Трепак»). На интонационном уровне здесь наиболее значимы «трения» малых секунд: если за нисходящим интервалом прочно закрепилась семантика lamento, то восходящая малая секунда, да еще взятая на альтерированной ступени, несет в себе ощущение преодоления какой-то преграды, трудного, иногда мучительного восхождения (именно такой оттенок тяжкого подъема ощутим, скажем, в теме баховской Фуги соль минор из первого тома «Хорошо темперированного клавира». Сочетание этих значений, поддержанное танцевальным ритмом, создает сложный сплав, в котором именно жанровый, танцевальный элемент становится проводником и носителем оттенка комического (пример 68). Высокая гражданственность, обостренная отзывчивость на общественное неустройство, социальную несправедливость – важная традиция российской художественной культуры, которая, видимо, была призвана компенсировать затрудненное развитие демократических форм государственности. И в этой сфере никто из композиторов XIX века не мог сравниться с Мусоргским. Он верил в социальную действенность своих обличений и цензурным запрещением «Семинариста» гордился как признанием этой действенности, как первым «огненным крещением» музыканта. «До сих пор цензура музыкантов пропускала,- писал он,- запрет “Семинариста” служит доводом, что из “соловьев, кущей лесных и лунных воздыхателей”, музыканты становятся членами человеческих обществ, и если бы всего меня запретили, я не перестал бы долбить камень, пока из сил не выбился; ибо несть соблазна мозгам и зело великий пыл от запретов ощущаю» (115, 87). Общую тенденцию сатиры 137 Мусоргского можно вновь определить словами Достоевского: «Трагедия и сатира – две сестры и идут рядом, а имя им обеим, вместе взятым,- правда» (52, 608).Такое понимание комического все же не было господствующим в русской музыке. Даже глубоко национальные, колоритные фигуры Скулы и Ерошки из «Князя Игоря» Бородина в эпическом пространстве оперы выполняют интермедийную функцию. А традиция музыкальных памфлетов найдет свое достойное продолжение лишь в творчестве Шостаковича. Любопытный пример памфлета охранительной, консервативной направленности имеется у Цезаря Кюи. Это небольшая фортепианная пьеска «Мечты фавна после чтения газеты», посвященная «модернистам – с восхищенным почтением». Судя по заглавию, пародирующему название поэмы Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна», острие произведения нацелено на стиль Клода Французского. Но если обратиться к музыке, то сразу выясняется, что пародия вышла мало похожей. Наиболее точно Кюи подметил лишь одну особенность мелодики Дебюсси – лаконичные «темы-зовы». Все остальные пародируемые стилистические признаки чужды автору «Пелеаса»: примитивная трехчастная форма, простоватая метроритмическая организация, грубые политональные соотношения партий обеих рук. Даже заключительная «острота» - исполняемые на forte диссонирующие октавы на фоне тихого фа-диез-минорного аккорда – из-за несовместимости со стилем предполагаемого оригинала также оказывается не лучшего качества (пример 69). Комизм Римского-Корсакова наиболее своеобычен там, где соприкасается со сферой недоброго, пугающего – будучи великолепным мастером оркестра, он находил для нее впечатляющие краски. В своем трактате «Основы оркестровки» композитор говорит, что в области комизма, иронии, фантастики его художественное чувство часто требует «применения тембра, по характеру как раз противоположного настроению мелодии…» (142. 23). Зловещие тембры низких деревянных духовых, 138 таинственные звучания засурдиненной меди, нетрадиционные способы игры на струнных (например, sul ponticello),- все эти средства негативной тембровой характеристики, изобретательно представленные в «Кащее бессмертном», обогатили палитру русской музыки, повлияли на тембровую драматургию раннего Стравинского («Жар-Птица»), Шостаковича. Сатирический шедевр Римского-Корсакова – «Золотой петушок» стал своего рода энциклопедией его комедийных приемов. Для сатирического снижения он широко применяет намеренное несоответствие сценической ситуации и музыки: в сцене заседания царской думы используются интонации скоморошьей песни «Шарла-Тарла из партарлы», любовное признание Додона звучит на теме «Чижика-пыжика». Урапатриотические настроения официальной пропаганды композитор высмеивает при помощи стилистических и жанровых аллюзий: хвастливая реплика царевича Афрона, пародирующая язык правительственных военных сводок, строится на деформированной арии Руслана «Дай, Перун, булатный меч мне по руке» (пример 70)11. Прообраз разухабистого марша Додона – парадные военные марши. О том, что сатира оказалась меткой и «дошла» до адресатов, свидетельствуют цензурные затруднения, испытанные оперой на пути к ее постановке, осуществленной уже после смерти композитора. Нелегкая сценическая судьба произведения в дальнейшем, видимо, была предопределена смелым разоблачением верховной власти12. То новое, что внес в музыкальный комизм П.И.Чайковский связано с ритмоинтонационным комплексом образов зла. Вслед за Глинкой, злые силы у Чайковского обычно запечатлеваются в колких, суховатых звучаниях деревянных В опере, написанной в 1907 году, несомненно, проявились настроения глубокого разочарования, которые усилились в русском обществе после поражения в Русско-японской войне (1904-1905 года). 12 В сталинские времена «Золотой петушок» практически исчез из репертуара советских театров. 11 139 духовых. Характеристика зла отличается интонационной и гармонической усложненностью, создающей ощущение чего-то необычного, странного,- вновь это зло, идущее рядом с фантастикой. Другая ипостась зла у автора «Лебединого озера» - императивные провозглашения грозных «тем рока», подобных бетховенской «теме судьбы» из Пятой симфонии. Здесь зло предстает в трагическом аспекте, как некая сила, извечно враждебная человеку, как предельно обобщенная антитеза его существования. Все это вполне соответствует эстетике романтизма. Но процессуальность высказывания, умение «вытягивать», как говорил Асафьев, из идеи все новые и новые качества, привели композитора к новаторской трактовке скерцозной сферы. Скерцо-марш из Шестой симфонии проходит путь «от вкрадчивого шепота-шуршания до злобного натиска во всеоружии ритмического властного веления» (12, 256). Жанр марша, доказав еще у Берлиоза и Вагнера причастность к семантике устрашения, начинает все активнее обнаруживать свои агрессивные потенции. Приведенные выше примеры свидетельствуют, что многие новаторские явления русского музыкального искусства вышли из романтизма. Скрябинская ирония также принадлежит к романтической ветви. Иронический смех увеличенных гармоний (ремарка riso ironico), прерывающий лирические излияния в «Сатанической поэме», несомненно, родственен мефистофелевским образам Листа. Изысканную эмоциональную атмосферу создает композитор в пьесе «Иронии» (ор.56, №2) (пример 71). Интервалы, характерные для «тем томления» секунды, септимы, тритоны – порхают здесь в легком изящном танце. Танцевальная основа чуть подчеркнута острым полетным штрихом и повторностью метроритмического строения. Но, благодаря умеренному динамическому уровню, гибкой фразировке миниатюра звучит вкрадчиво и грациозно. Такой утонченно-пряной ироничности еще не знало романтическое искусство. 140 «Русская литература – самая профетическая в мире,писал Н.Бердяев,- она полна предчувствий и предсказаний» (19, 63). Факт поразительного художнического предвидения, относящийся к музыке, можно найти в «Бесах» Ф.М.Достоевского. Это описание фортепианной импровизации Лямшина «Франко-прусская война» - поистине звучащие страницы, с огромной силой передающие музыкальные впечатления. «Гаденькие» звуки» “Mein lieber Augustin”, появляющиеся «где-то сбоку, в уголку» от упоенной своим величием «Марсельезы», разрастаются до колоссальной мощи: «…слышатся сиплые звуки, чувствуется безмерно выпитое пиво, бешенство самохвальства, требование миллиардов, тонких сигар, шампанского и заложников. “Августин” переходит в неистовый рев…» (51, 252). Такого разгула злых сил в музыке XIX века еще не существовало. Писатель предугадал выразительные средства, которые станут характерными для века ХХ – интенсификацию средств негативной характеристики, которая приводит к дегуманизации образов. 141 Глава пятая. Освобождение комического Не мирового ль там хаоса Забормотало колесо? А.Белый 1 Один из идеологов раннего романтизма – И.-В.Риттер, прославляя могущество музыки, писал: «Композиторы управляют целым родственным человеку племенем; по их велению являются слуги и ангелы, но и бесов они тоже способны вызывать. Однако последнее никогда не удается им так, как первое…» (111, 1, 334). Музыканты ХХ столетия научились вызывать целые полчища бесов: средства негативной характеристики, унаследованные от эпохи романтизма, находят свое крайнее выражение, как в комическом, так и в трагическом. Связующим звеном оказалось творчество Густава Малера, продолжающее линию романтической иронии. «Жуткое, ироническое, гнетущее уныние» (98, 170), - так сам композитор определил характер Похоронного марша из Первой симфонии, который можно назвать образцом трагической иронии. Действительно, то, что траурный марш основан на теме шуточного канона, который звучит в миноре, вместо мажора, то, что он предстает в парадоксальном тембре засурдиненых контрабасов, играющих в непривычно высоком регистре; что мерное движение погребального шествия неуловимо переплетается с разухабистой, «цыганистой» мелодией, - все это придает части пугающую трагическую двойственность. Постепенное вступление голосов канона, накопление горизонталей создает физически зримое ощущение кинематографического приема – постепенной «смены планов»: «камера» отдаляется и захватывает все более широкие горизонты. На этой головокружительной высоте события, происходящие «внизу», теряют всякую осмысленность. 142 Фантасмагорическая процессия, постоянно сбивающая на пляс, в своей остраненности вызывает чувство трагикомической бесцельности. Если для иронии характерно симультанное совмещение конфликтных элементов, то у Малера прослеживаются несколько иные закономерности, позволяющие говорить о претворении гротеска. Это либо фантастически неправдоподобное противопоставление целостных систем, либо зловещая трансформация первоначального образа, приводящая к его переосмыслению и снижению. Примером первого рода является контраст преимущественно идиллического характера первой части Четвертой симфонии и сумрачного Скерцо. Во втором случае – можно назвать пугающее преображение классически ясных тем экспозиции, которое они претерпевают в разработке первой части этой же симфонии. Навеянное легендой о проповеди Антония Падуанского рыбам, Скерцо Второй симфонии задумано композитором как «сатира…на род людской» (98, 462). Основным средством негативной характеристики является здесь прием деформации. Могучее, безостановочное, гипнотизирующее движение какого-то дьявольского лендлера подхватывает и вовлекает в свой круговорот все новые и новые причудливые тембры, в сплетении которых мелькают зловещие staccatti фаготов, иронические трели кларнетов, мерные постукивания металлического прута, карикатурно изломанный, будто искаженный волнующейся водной толщей, гротескный мелодический контур кларнета in Es (пример 72). Сопоставление различных типов музыкального мышления, различных жанрово-стилистических планов (вплоть до банального), сочетание, казалось бы, взаимоисключающих интонационных сфер, масштабность симфонического дыхания, грандиозность концепций, их философская насыщенность, - эти качества свидетельствуют о принадлежности искусства Малера к аклассической тенденции. Трактовка комического в единстве с трагедийными коллизиями позволяет отнести его творчество к традиции серьезно-смехового. У Малера намечается 143 закономерность, связывающая различные типы комической образности с определенными пластами музыкальной культуры. Утверждающая тенденция и сферы к ней приближенные привлекают круг классицистских реминисценций, как это сделано в первой части Четвертой симфонии. Отрицающая тенденция соединяется с обращением к «низкой» лексике. Так продолжается поляризация комической образности, увеличивая амплитуду значений за счет интенсивного развития именно отрицающей тенденции. В памяти потомков самое драматическое прошлое покрывается неким идеализирующим флером. «Век девятнадцатый, железный, воистину жестокий век» в нашем воображении обретает идиллические очертания. Топот конницы, артиллерийская канонада, лязг железа на полях его сражений заглушаются грохотом ракетных обстрелов, ревом стартующих космических кораблей. И пока трудно предположить, что подобная аберрация восприятия будет возможна по отношению к ХХ столетию. В бурные эпохи социальных катаклизмов, когда на глазах современников рушатся некогда незыблемые основы, разительно изменяется привычная картина мира; жизнь и искусство, обыденное сознание и философия в такие времена пронизываются «жестким излучением» эсхатологических предчувствий. Великие научные революции ХХ века продемонстрировали не только созидательную, но и разрушительную мощь интеллекта. История преподала человечеству ряд убедительных уроков по практической эсхатологии, после которых оно почувствовало весьма реальную, а не гипотетическую угрозу своего уничтожения. Век величайшей гордыни Homo sapiens, покорившего своей власти тайны материи, мог бы стать веком его смирения, осознания единства с природой, ответственности за все живое. Искусство ХХ века – под стать своему времени. Фантастическое смешение различных направлений – вплоть до антиискусства, антикультуры,- полифония стилей и методов создают чрезвычайно сложную картину. Если ограничиться 144 рамками интересующей нас тематики, то можно констатировать, что к началу столетия оформились и вошли в профессиональный обиход основные принципы воплощения комического, базирующиеся на имманентной логике музыкального языка. Благодаря развитию инструментальной культуры они получили подобающий оркестровый наряд. «Именно современный оркестр,- писал М.Равель,- как мне кажется, дает возможность подчеркнуть, усилить комические эффекты» (138, 52). В самом деле, для оркестра Р.Штрауса, наследника программного симфонизма Берлиоза и Листа, кажется, нет ничего невозможного. Композитор обладал замечательным даром конкретно-чувственного выражения различных сторон действительности, от самых абстрактных – до рядовых, единичных, житейских. Он умел находить лаконичные темысимволы, которые хотя и не исчерпывали всего содержания какого-либо понятия, но давали ему впечатляюще-декоративное воплощение (такова величественная «тема природы», открывающая симфоническую поэму «Так говорил Заратустра»). В традиционной романтической звукописи и звукоподражаниях Штраус проявлял неистощимую изобретательность. В его сочинениях мы слышим блеяние баранов, стекание капель с промокнувшего героя («Дон Кихот»), шум водопада («Альпийская симфония»), бег спортивных саней, шуршание разворачиваемой газеты, шелест тасуемых игральных карт («Интермеццо») и даже музыкальный эквивалент ремарок «весь в отца» и «весь в мать» («Домашняя симфония»). Во всеоружии блестящего мастерства композитор с какой-то ренессансной жадностью обнаруживает и запечатлевает поэзию самых незначительных моментов бытия. Гармоническое единство интонационной и тембровой характерности присуще «действующим лицам» штраусовских симфонических поэм. Неукротимый «жизненный порыв», гедонистическое упоение чувственной красотой мира увлекает в «портрете» Дон Жуана. Лейтмотивы Тиля Эйленшпигеля из одноименной симфонической поэмы становятся настоящим символом юмора. Знаменитое solo валторны с вызывающе 145 дерзким, акцентированным восходящим задержанием и широким нисходящим движением, смело преодолевающим звуковое пространство, прекрасно ассоциируется с отвагой, бесстрашием юмора. Второй лейтмотив, порученный резко звучащему кларнету in D, своими интонационными гримасами передает насмешливость, остроту, язвительность (пример 73). Коду произведения Ф.Бузони называл «апофеозом бессмертного юмора». Грандиозную картину «божественного смеха», который дарует человеку отраду и освобождение от всех земных страстей, Штраус рисует в свободной композиции по Ницше «Так говорил Заратустра» (эпизод «Выздоровление») – оркестр словно озаряется ярким светом, трепещет, звенит, вибрирует, переливается звуковыми бликами. «Этот венок смеющегося, этот венок из роз: я сам признаю священным свой смех… О высшие люди, научитесь же у меня смеяться!» - провозглашает Заратустра (121, 255-256). Воплощение отрицающей тенденции у Р.Штрауса чаще всего связано со специфическими красками тембровой палитры и элементами пародийности, кстати, весьма умеренными. В «Тиле», для характеристики мнимого глубокомыслия ученых, композитор привлекает мрачный хор трех фаготов, басового кларнета и контрафагота. Пронзительные крики деревянных духовых, элементарные пустые квинты меди представляют карикатурный облик «врагов» в «Жизни героя». В пародийносхоластической фуге из поэмы «Так говорил Заратустра» запутанный контрапункт символизирует заблуждения мысли («О науке»). Жалобные стоны легко раненого барона Окса (2-е действие «Кавалера розы») сопровождается слегка шаржированным траурным маршем, придающем сцене ироническую окраску. Автор «Саломеи» прошел через искусы позднего романтизма и эмоциональный надрыв экспрессионизма к классической ясности и уравновешенности. Он один из немногих композиторов рубежа XIX-ХХ веков, в творчестве которых барочные, классицистские и романтические традиции соединились с критицизмом новой художественной эпохи. Данью наступившему веку стал сатирический вокальный цикл на 146 стихи Альфреда Керра «Зеркало торгаша» (№8 этого цикла пророчески назван «Искусству угрожают торгаши»). Но если принимать во внимание высшие достижения композитора, его место в истории музыки, то можно определенно утверждать, что музыка ХХ столетия не пошла по пути Штрауса. 2 ХХ столетие в музыке началось с открытой оппозиции позднему романтизму. Поворот созревал исподволь, его точная локализация во времени довольно затруднительна. Романтизм никогда не представлял собой однородного монолитного образования. Даже во времена его безраздельного господства сохранялся некий «плацдарм» классицизма. В романтизме «академического» направления (Мендельсон, отчасти Брамс) поддерживалось равновесие классических и аклассических тенденций. В произведениях, условно говоря, «гиперромантиков» (Берлиоз, Лист, Вагнер) оно основательно нарушено, но и здесь романтическая стихия подчинялась формообразующей воле рассудка. Листовский принцип монотематизма, вагнеровская система лейтмотивов по-своему не менее рациональны, чем классическая сонатная форма. Как определенную дань классицизму можно трактовать обновление сонатно-симфонического цикла, происшедшее в жанрах программной симфонии и симфонической поэмы. В последней трети XIX века пробуждается интерес к доклассической музыке. В творчестве С.Франка, С.Танеева, К.Сен-Санса, М.Регера вновь становятся актуальными барочные принципы формообразования. Даже воспринятые со своей внешней стороны (как, например, у Сен-Санса) они привносят с собой соответствующий тип содержания – благородную патетику, возвышенную скорбь, единство объективного и субъективного,- которое значительно отличалось от романтической рефлексии, психологизма, чувственных порывов. Возрожденные традиции свидетельствовали о важном процессе историзации композиторского мышления, о все возрастающем сознании 147 исторического единства европейской культуры. Хотя эти традиции не противополагались романтическому мироощущению и тем более не содержали в себе активного отрицающего момента, их уже можно назвать своеобразной латентной альтернативой романтизму. Такие художественные течения, как импрессионизм, символизм, экспрессионизм (вернее то, что принято считать их аналогами в музыкальном творчестве) вышли из недр позднего романтизма и поэтому также не обладали энергией активного отрицания. В них было другое: чувство стилевой законченности, исчерпанности, логического завершения. Импрессионизм стал прямым наследником романтической пейзажности (линия поздний Лист – Дебюсси, Равель). Символизм нашел свой прообраз в философичности и ассоциативном богатстве романтической музы (Лист, Вагнер – Скрябин). Экспрессионизм довел до предела ее иррациональные мотивы (Малер - Шенберг, Берг). Но в некоторых случаях критический взгляд на поздний романтизм обнаруживается даже у художников, непосредственно к нему примыкающих. К.Дебюсси и М.Равеля очаровывают создания экзотических для европейца музыкальных цивилизаций. Их поиск устремляется к истокам национальной культуры, но, когда их взор останавливается на кумирах минувшего, в нем чудится искра легкой иронии. Лукавая улыбка над изысканностью салона витает в элегантной равелевской транскрипции куплетов Зибеля из оперы Ш.Гуно «Фауст» - пьеса названа «В манере Шабрие» (1913 г.). Вызывая возмущение правоверных вагнерианцев, Дебюсси, безо всякого пиетета, ввергает цитату «из Вагнера» в оскорбительную для адептов «искусства будущего» фривольную атмосферу мюзик-холла («Кукольный кекуок» - 1908 г.) (пример 74). Надо сказать, что именно вагнеровское наследие приняло на себя основной удар пробудившегося критицизма. Ему словно было предопределено искупить почти все «грехи» уходящего художественного миросозерцания – велеречивость, выспренность, торжественную сакральную тяжеловесность. «Вагнеровский панцирь» удалось сбросить с себя Рихарду 148 Штраусу, который в молодости находился в поле притяжения Байрейта и даже был поименован Рихардом Вторым. В томлениях дуэта Октавиана и Маршальши, открывающем блистательную партитуру «Кавалера розы», он явно не всерьез обнаруживает бывшее пристрастие к музыке автора «Тристана». И это лишь начало – композиторы нового поколения будут беспощадны. Впереди яростное отрицание основ вагнеровского искусства в эстетических манифестах французской «Шестерки», заявлявшей: «Долой Вагнера!». Впереди скандал, разгоревшийся вокруг оперы П.Хиндемита «Нуш-Нуши» (1921 г.), где автор в двусмысленной фарсовой ситуации не без сарказма процитировал из того же «Тристана» мотив тромбона и слова короля Марка, укорявшего Тристана в предательстве. Впереди - «ложный экстаз» (85, 168) дуэта из оперы «Новости дня», низводящий взрывы сердечных чувств до откровенного кича (пример 75). Дерзкий дух насмешки нашел воплощение в творчестве Эрика Сати. Лапидарная манера его миниатюр словно полемизировала с многословием эпигонов романтизма, с утонченностью импрессионистического письма. Эксцентрические заголовки нередко пародировали поэтические названия Дебюсси, сочетая демонстративный антиэстетизм и импрессионистическую описательность: «Три настоящие дряблые прелюдии (для собаки)», «Автоматические надписи», «Сушеные эмбрионы». Одинаково непочтительной трансформации Э.Сати подвергает известные классические и народные мелодии, мотивы популярных оперетт. Пародийные цитаты часто сопровождаются мистифицирующими, а то и откровенно шутовскими ремарками. Пьесу «Голотурия»1из цикла «Сушеные эмбрионы» автор предписывает исполнять «как соловей, у которого болят зубы». В следующей пьесе опуса – «Эндриофтальма» - появление темы трио Траурного марша из Сонаты №2 Шопена комментируется следующим образом: 1 Здесь и далее – названия моллюсков. 149 «Здесь цитата из знаменитой мазурки Шуберта». Альбом пьес «Спорт и развлечения» открывает «Неаппетитный хорал», посвященный «сморщенным старцам и глупцам» - согласно ремарке, композитор вложил в него «все, что знал о скуке». Страницы «Бюрократической сонатины», обязанной своим тематизмом известнейшей До-мажорной Сонатине Клементи, которую не минует никто из обучающихся игре на фортепиано, испещрены деловитым описанием размеренной жизни чиновника (пример 76). Замечу в скобках, что практика юмористических обозначений придумана не Сати – нечто подобное встречается уже в музыкальном памфлете Ф.Куперена «Карнавал великой и старинной Менестрандизы». Таким образом, и Дебюсси, и Сати припадали к одному источнику. Но «духовная родословная» Сати, как мне кажется, переносит нас еще дальше вглубь веков. О Сати трудно говорить только как о композиторе. Творчество метра «аркейской школы» было закономерным продолжением стиля жизни, в котором скепсис по отношению к буржуазным жизненным ценностям занимал довольно значительное место. В Сати было что-то от античного философа-киника, ненароком забредшего в парижское предместье. Отрицающая тенденция ощутимо преобладает в юморе Сати, выступая то в виде дружеского подтрунивания (например, по отношению к Дебюсси), то в форме желчных карикатур (цикл «Понятия в их различных смыслах» - 1913 г.). Здесь мы впервые сталкиваемся с явлениями, дотоле неизвестными в музыке – самодовлеющая избыточность некоторых эскапад позволяют говорить об инерции отрицающей тенденции2. Антиромантизм – безусловно, одно из самых влиятельных течений начала ХХ века. «Вообще, как в наше время можно быть романтичным?» - воскликнул в одном из интервью молодой И.Стравинский.- По моему мнению, романтика раз и навсегда похоронена как в искусстве, так и в жизни» (159, 81). Но все же 2 Об этом см. в монографии Г.Филенко (167, 63) 150 романтизм продолжал жить. И дело тут совсем не в том, что еще не смолкли голоса последних композиторов-романтиков (Р.Штрауса, С.Рахманинова, Я.Сибелиуса). Элементы романтического мироощущения встречаются во все века,видимо, «витамин» романтизма просто необходим человечеству. При пристальном взгляде на антиромантизм в нем обнаруживаются поразительные черты сходства с явлением, которое он так безоговорочно отрицает. Я имею в виду объединяющие их антибуржуазные тенденции. Романтическое неприятие филистерства, его ограниченного приземленного меркантилизма, пресного образа жизни и добропорядочного, академически «правильного» искусства в начале ХХ столетия находит аналогию в презрении к «искусству сытых», в многочисленных «пощечинах общественному вкусу». Антиромантизм оказывается проявлением антибуржуазности. Подобно мифическому царю Мидасу, превращавшему все, к чему он прикасался в золото, буржуазия, по мнению «новых бунтарей», опошляла то искусство, которое она духовно осваивала. Именно поэтому некогда революционный романтизм превратился в слегка щекочущую нервы послеобеденную забаву богатых снобов. Но сколько чисто романтического максимализма в подобном антиромантизме! Если отбросить внешний антураж, воспевание машин и других чудес технократической цивилизации, то в провиденциальных мистериях русского футуризма нетрудно услышать знакомую горделивую ноту художников-романтиков, «штурмующих небо», а в поэтизации города, урбанистической «второй природы» усмотреть отделенное родство с романтической пейзажностью. Все же отмеченная общность, в основном, ограничивается сходством ситуации во взаимоотношении художника и социума, а тип художника, его душевная организация, ценностные ориентиры претерпели разительные перемены. Музыка покидает чертоги возвышенного, она, вслед за другими видами искусства, 151 открывает “Neue Sachlichkeit” («новую вещественность»)3. Д.Мийо озвучивает коммерческие каталоги цветов и сельскохозяйственных машин, Э.Кшенек – железнодорожное расписание. В противовес овеянному ореолом таинственности вдохновенно-демоническому творцу, вновь вышла из небытия скромная фигура старинного цехового музыканта, исполняющего свой долг. Пафос самовыражения трансформировался в пафос профессионализма, спонтанные всплески чувств, самозабвенные восторги, строчки, написанные «кровью сердца» уступили место культу мастерства, «умному деланию». Многозначительная недосказанность вытесняется предельно трезвой лапидарной определенностью, психологические изыски, тонкие движения души становятся неуместными в упоении физическим феноменом движения. «Необходимость заново вспомнить раз и навсегда такие презираемые ныне понятия, как техника, ремесло, ремесленник, которые я противопоставляю туманной терминологии, составленной из слов вдохновение, искусство, художник. Все эти слова мешают разглядеть то, что уже рассчитано, уравновешено, отмечено дыханием отвлеченного духа»,- заявлял И.Стравинский (159, 135). В таком контексте привычные термины наполняются новым содержанием, их переосмысление становится свидетельством перелома в эстетическом сознании. Возьмем, например, понятие иронии, которое так много значило в мироощущении романтизма, где оно было сращено с универсальным переживанием трагической двойственности бытия. В стремлении изжить, вытеснить мучительную раздвоенность романтический художник переселял раздиравшие его антитезы в создания своей фантазии, хотя бы таким образом восстанавливая душевную целостность4. Те две души в одной Так называлось рационалистическое и урбанистическое течение в немецкой живописи 20-х годов. 4 Э.-Т.-А. Гофман во время своих ночных «вигилий» за письменным столом был иногда так напуган созданиями своей фантазии, что будил жену и 3 152 груди, о которых говорил гетевский Фауст, жадно стремились стать самостоятельными сущностями. Мефистофель оказывался не только посланцем ада и высших сил, но и порождением самого Фауста, и инкорпорацией его разрушительной аналитической мысли, усталого скепсиса, мрачной резиньяции. Мефистофель берет на себя ту часть фаустианского жизненного опыта, где накопились разочарования, яд от распада идеалов, поэтому лишь после встречи с ним Фауст вновь обретает утраченную юность. И совсем ни при чем здесь ведьма с ее учеными мартышками, волшебным напитком и вдохновеннобессмысленными заклинаниями,- вся эта дань традиционной инфернальной атрибутике. Ведь романтической иронии, несмотря на серьезную основу, часто свойственна определенная декоративность (этим недугом поражен и романтический пафос). Любой демонизм становится смешон, когда ирония – это не modus vivendi, а модная поза – «разочарованный лорнет», «москвич в гарольдовом плаще». В Новейшее время ирония становится не способом чувствования, а принципом мышления, оборонительным и наступательным оружием, охраняющим подступы к святая святых, разлагающим действительность магическим кристаллом, сквозь который проступает изначальная конфликтность сущего. Иронический конфликт переходит вовне, освобождает душу художника, но отягощает разум, теряющий четкую границу между истиной и заблуждением, дезориентирует нравственное чувство, искушая относительностью добра и зла. Романтизм подготовил почву новому художественному мышлению. Укрепляясь, тенденция к расширению сферы эстетически допустимого переборола многовековые эстетические запреты и открыла дорогу в музыку низменному и безобразному. Своеобразным манифестом, утверждающим выразительные возможности музыки, стали «Два портрета» (1908 г.) Б.Бартока. Они носят названия «Идеал» и «Урод», усаживал ее рядом с собой. Чтобы успокоить писателя она сидела в его кабинете и вязала чулок. 153 причем второй - оказывается гротескным преображением первого. Приемы деформации, дегуманизации первоначально применялись, в основном, для прямого запечатления зла. В свою очередь, развитие отрицающей тенденции комического трансформировало средства индивидуализированной интонационной характеристики в средства негативной характеристики, в которых приемы деформации и дегуманизации играли далеко не последнюю роль. Многообещающая встреча двух образных систем – зла и комического – произошла еще в «Фантастической симфонии» Г.Берлиоза. Но этого было недостаточно, чтобы преодолеть инерцию эстетического сознания, которое длительное время продолжало гасить отрицающую тенденцию. Мощный разрушительный импульс иерархическая эстетика получила от экспрессионизма. В нервной экзальтации «Лунного Пьеро», эмоциональной исступленности «Ожидания» А.Шенберга романтический мир чувств подводится к болевому порогу: «…печаль становится обреченностью, депрессией, отчаяние превращается в истерию, лирика кажется разбитой стеклянной игрушкой, юмор становится гротеском…» (189, 189-190). Творчество А.Берга, генетически родственное позднему романтизму, продолжает мелеровскую тему трагизма человеческого существования. Но автор «Воццека» рассматривает ее не в грандиозных масштабах всего человечества или титанической личности героя, а в поведанной с пронзительной силой сострадания драме «маленького человека», униженного и оскорбленного. Социально-разоблачительные мотивы бездуховности, абсурдной повседневности претворяются в гротескно деформированной трактовке бытовых жанров («Хоровод» и «Марш» из Трех пьес для оркестра, ор. 6; музыка деревенского кабака в «Воццеке»). Если у Малера низменная лексика служила фактором снижения, то у Берга она оказывается еще и объектом деформации. В интенсивности деформации передается степень критического отношения к отображаемому, что сразу же расширяет возможности воплощения отрицающей тенденции. 154 3 В первой трети ХХ столетия в музыку врывается новый быт, экспрессивные и возбуждающие ритмы джаза. Завоевывая Европу, джаз нес с собой новое звуковое миросозерцание. Если, по проницательному замечанию В.Конен, над европейской музыкальной культурой реял «условный дух Дон-Кихота», то афро-американская музыка выражала «простонародное сознание Санчо Пансы» (73, 27, 35). Соответственно разной была их трактовка комического: если в музыке европейской традиции оно преломлялось «сквозь облагороженную сферу чувств», то менестрельному искусству, в виде которого Европа впервые познакомилась с новой музыкальной цивилизацией, был изначально свойственен «фривольный комедийный дух, окрашенный особым колоритом скрытой иронии, насмешки, скептицизма. (…) От регтайма и блюзов настроение «кривляния» и «усмешки» проникло в эстрадный жанр и стало очень характерным признаком его выразительности» (73, 131,курсив В.Конен). Психологический строй развлекательной эстрады, восходящей к джазу, прижился в композиторской практике – американский дичок был привит к стволу европейской культуры. У мастеров старшего поколения «кривляние» и «усмешка», свойственные ассимилируемому явлению, окутывались смягчающей атмосферой элегантности и шарма («Менестрели», «Кукольный кекуок», «Маленький негритенок» К.Дебюсси, фокстрот Чайника и Чашки из оперы «Дитя и волшебство» М.Равеля). Но уже И.Стравинский в Ragtime для одиннадцати инструментов и в Piano-rag-music попытался дать портрет нового стиля с фотографической точностью, в котором не стал скрывать главное, что оставляло привкус развязной насмешливости – нарочитую, демонстративную аэмоциональность. В процессе раздвижения эстетических горизонтов, укрепления отрицающей тенденции новая музыка быта с ее специфическим образным строем пришлась как нельзя кстати. В противовес романтической тяге к необычному, музыка 155 повернулась лицом к повседневности,- без прикрас, без привычной идеализации. Банальное становится фактом искусства. Первые опыты в этом направлении были эпатирующими. В «Параде» Э.Сати вульгарная звуковая атмосфера балагана вызывала у публики такой же шок, как и стрекот пишуших машинок в оркестре или кубистические декорации Пикассо. У молодого Хиндемита характерные формулы и даже мелодии модных танцев выступают уже не только средством эпатажа, но и запечатленной приметой времени. В 1924 году Д.Мийо пишет целую серию балетов на современные комедийные сюжеты, которым дает примечательные жанровые определения, немыслимые в романтическом балете: пантомима-фарс («Бык на крыше»), танцевальная оперетта («Голубой экспресс»), балет-сатира («Салат»). Уличные интонации в их первозданной подлинности пронизывают эти партитуры. Во всех приведенных примерах стихия звучащего быта, помимо оттенков банального, влекла за собой разнообразные градации насмешливости. Насмешливость начинает ассоциироваться со звуковым строем легкожанровой эстрады. Это значение закрепится настолько прочно, что появление ее элементов сразу раскрепощало средства комического. Насмешливость не склонна оставаться в строгих рамках. Разрушая старый художественный строй, она затрагивает все, что считалось возвышенным и серьезным, - например, культуру античности. Если в «Ариадне на Наксосе» Р.Штрауса ирония по отношению к «барочной античности» становится поводом для изящной эстетической игры, то в мифологических «операхминутках» Д.Мийо («Похищение Европы», «Покинутая Ариадна», «Избавление Тесея») осовремененный и обытовленный мир богов и героев становится жертвой зубоскальства. Современная жизнь тем более не была застрахована от насмешки. В нарочито-огрубленной трактовке интонационного материала, который сам по себе был носителем насмешливого начала, композиторы находили особый изыск. При умеренной степени деформации насмешка не вытесняла 156 поэтичность. Эти два качества прекрасно уживаются в кантате Ф. Пуленка «Бал-маскарад». При значительной степени деформации жанр механизируется, теряет соизмеримость с миром человека. Быт неожиданно обретает свою демоническую сторону, которая до поры таилась в рутине, неумолимой повторяемости жизненных процессов. Карикатурно деформированные элементы легкожанровой эстрады становятся действенным средством воплощения отрицающей тенденции. Замечательные образцы подобного рода содержит оратория А.Оннегера «Жанна д´Арк на костре». В сцене «Жанна во власти зверей» сталкиваются жанровые признаки бравурного вальса и джазового музицирования (ариозо Борова), старинный cantus firmus и развеселенький опереточный мотивчик, сопровождающий латинский текст смертного приговора. Эстрадные куплеты венчают «всепьянейшую литургию» в оратории К.Орфа “Carmina burana” (1934-1936 г.г.). Принципы деформации и примитивизации, примененные к жанру марша, оказались способны создавать жуткие картины агрессивного натиска зла. Таков тяжеловесный «марш роботов» из 3-й части «Литургической симфонии» А.Оннегера, для которого автор, по его словам, «умышленно выковал идиотскую тему». Низменное, безобразное, банальное, выражаемое при помощи дегуманизирующих выразительных средств, образовали средоточие отрицающей тенденции в музыке. Таким образом, музыка овладела всем эмоциональным спектром категории комического. Эффект внезапности, свойственный качественному скачку, порой воспринимается как неожиданный «прорыв комического», спровоцированный внешними по отношению к музыке причинами. Например, Т.Курышева в монографии «Театральность и музыка», говоря о «вторжении» комического, доказывает определяющую роль театра в этом процессе. Она пишет: «На гребне мощного возрождения игровой стихии в культуре и художественном мышлении, уже обретя высочайшее мастерство в отражении и отображении сложных и 157 разноречивых процессов бытия, испытывая огромное воздействие иных художественных систем и, прежде всего, зрелищно-театральных форм, музыка практически заново осваивала это канал. Никогда ранее она не знала столь сильного вторжения комического в его разных формах» (81, 142,- курсив мой – Б.Б.). По сути дела Т.Курышева переносит в другую эпоху концепцию В.Конен, изложенную в книге «Театр и симфония». Но закономерности, отмеченные на ранних стадиях развития музыкальной образности, не применимы к этапу «высочайшего мастерства». Стихия театральности, несомненно, воздействует на эволюцию музыкального языка, но к Новейшему времени его семантическая система настолько разработана, что влияние театра уже нельзя считать определяющим. Поставим вопрос: «Какая новая эмоционально-образная сфера была сформирована в музыке под воздействием театра в XIX-ХХ веках?». Вряд ли мы сможем найти на него такой же убедительный ответ, как если бы этот же вопрос был задан по отношению к XVI­XVII векам. Т.Курышева пишет об игровом, зрелищном начале музыки, о «персонификации звучаний», но все это существовало и у венских классиков, причем в достаточно развитом виде. Музыка и театр в Новейшее время – равноправные партнеры, поэтому речь может идти не об одностороннем «воздействии», но о взаимодействии, в результате которого и театр иногда ассимилирует музыкальные приемы, то есть становится вполне возможным и процесс, обратный отмеченному Т.Курышевой5. Что же касается термина «вторжение», то он не правомерен хотя бы потому, что в тех или иных формах комическое всегда присутствовало в музыке XIX века. Ложное впечатление внезапного прорыва комического объясняется сменой форм эстетического сознания, происшедшего на рубеже веков. В.Мейерхольд создавал своего «Ревизора», исходя из принципов «музыкализации спектакля», выстраивая его по закономерностям музыкального произведения (см. 70). 5 158 4 В музыке ХХ века главные достижения в сфере комического связаны с именами И.Стравинского, С.Прокофьева, Д.Шостаковича. Стравинский – традиционалист и новатор, обладающий чрезвычайно дисциплинированным и, в то же время, парадоксальным мышлением. Известный эстетизм творческой манеры, подчеркнутое внимание к формально-художественной стороне, тяга к «вечным темам»,- эти факторы сужают круг его комических образов: в них преобладает игровое начало. Композитор не ограничивается претворением различных моделей музыкального языка, он воссоздает тип культуры и от него идет к типу комизма. В каждой эстетической системе, которую «примеривает» Стравинский, юмор окрашивается в разные тона. Лишь к романтизму он с молодости выработал стойкий иммунитет: пожалуй, только в «Поганом плясе» из балета «Жар-птица» можно заметить воздействие романтических приемов запечатления «нечистой силы», воспринятых через образцы петербургской композиторской школы. Стихия русского веселья свойственна фольклорной линии комизма Стравинского. В балете «Петрушка» (1911 г.) в гомон ярмарочной толпы вплетаются искусно переданные инструментовкой крики балаганных зазывал, наигрыши гармошки, «всхлипывания» шарманки, перезвоны бубенцов, разудалый топот кучерской пляски. Партитуру отличает отточенное мастерство жеста, великолепной иллюстрацией которого служит бесшабашный выход «ухаря-купца». Энергичный гаммаобразный взлет удивительно точно соответствует широкому жесту подгулявшего гостя, направо и налево швыряющего ассигнации (пример 77). Древнее искусство скоморошества становится моделью «Байки про Лису, Петуха, Кота да Барана» - веселого представления с пением и музыкой (1917 г.). Б.Асафьев заметил, что «…звери “Байки” даны в звукохарактерном подражании сквозь те интонации, в каких 159 человек в своем быту их имитирует, а не в плане подражания природе птичьей и звериной» (10, 117). Помимо подобного «дважды-подражания» условность происходящего подчеркивается отчетливой зависимостью интонаций от преувеличенной актерской мимики и жестикуляции (пример 78). В «Истории солдата» (1917 г.) элементы фольклорной архаики сочетаются с ритмоинтонациями джаза, уточняя традиционную фабулу бытовыми реалиями послевоенной Европы. Если у романтиков музыкальный язык, связанный со злом, дьявольщиной, тяготел к необычному, выходил за грани привычных норм, то Стравинский предлагает сугубо обытовленную трактовку этой сферы, насыщая ее элементами джаза. «Танец дьявола» - сгусток энергии, которая прорывается в многократных въедливых акцентах, в борьбе метра и ритма (пример 79). Авторское посвящение памяти Пушкина, Глинки и Чайковского, предпосланное партитуре комической оперы «Мавра» (1922 г.), указывает отправные точки традиции «русской европейскости», продолжателем которой сознавал себя Стравинский. Источником и объектом комического здесь является городской мелос. Песня Параши «Друг мой милый…» обнаруживает несколько утрированные черты жанра «русской песни»: прихотливую ассимметричную ритмику, переменный метр, размашистый мелодический рисунок (пример 80). Пылкая страстность «жестоких романсов» под гитару иронически воспроизводится в песне Гусара (пример 81). В двух Сюитах для малого оркестра (1921 и 1925 г.г.) Стравинский проявил себя мастером современного бытового гротеска. Жанры, подвергнутые им артистически-изящной деформации,- отнюдь не средства и не поводы для сатирической характеристики, а материал для остроумного звукового комбинирования, виртуозно исполненные легкие карикатуры. Эту же линию продолжает Октет для двух тромбонов, двух труб, двух фаготов, кларнета и флейты. Здесь во второй части – Теме с вариациями – появляется забавный галоп, в котором слышны реминисценции юмористического вариационного цикла, 160 написанного кучкистами на тему «Тати-тати» (пример 82). Веселье финала сопоставимо с гайдновским, и не случайно, что фагот является тут главным «комическим персонажем» (пример 83). В «Цирковой польке для молодого слона» (1942 г.) в грузном, неуклюжем звучании меди намеренно фальшиво воспроизводится тема «Военного марша» Ф.Шуберта,- это последний по времени образец эксцентрики Стравинского. В опере «Похождения повесы» (1948-1951 г.г.), завершающей неоклассицистский период, комическое соприкасается с драматическими моментами, что соответствует нормам взятой композитором модели – моцартовской drama giocoso. Беспутная судьба Тома Рекуэла прослежена от невинных юношеских мечтаний до трагической кончины в сумасшедшем доме. Вокальная партия его искусителя – Ника Шедоу - решена во вкрадчивой речитативной манере, которая лишь изредка выдает зловещую сущность персонажа (пример 84). В поздних произведениях Стравинского (особенно додекафонных) комическое почти исчезает. Последний пример – построенная по модели средневековых мистериальных интермедий сцена перебранки Ноя с супругой из кантаты-аллегории «Потоп» (1962 г.). Правда комизм этого эпизода определяется, в основном, сценической ситуацией: ссора библейских персонажей заканчивается пощечиной. В области комического Стравинский – гистрион, престижитатор. К его услугам – «запасники» мировой культуры: терпкий юмор фольклорных представлений, мотивы средневековых мистерий, мир буффонных персонажей («Пульчинелла»), просвещенческое морализаторство Хогарта, простодушный смех водевиля, цирковая эксцентриада. Личность художника оказывается вместилищем единой европейской культуры. Юмор С.Прокофьева наиболее ярко проявляется в рамках индивидуальной лексики. Он тщательно избегал любых расхожих интонаций, прямых стилистических заимствований и аллюзий и, тем более, полностью открещивался от «интонационного 161 сленга». Даже используя семантически устоявшиеся ритмоинтонационные комплексы, композитор их кардинально переосмысливает, наполняет новым содержанием. Если сопоставить язвительный смех аккордов в пятом «Сарказме» Прокофьева с эпизодом смеха из «Сатанической поэмы» А.Скрябина, восходящим к мефистофелевским образам Ф.Листа, то можно обнаружить черты общности: напряженное звучание диссонирующих увеличенных гармоний, ритмическая имитация хохота6 (пример 85). Но концепция Прокофьева далека от инфернальных трактовок романтизма. Она более конкретна, реалистична, психологически достоверна и продолжает традиции характеристических сцен М.Мусоргского. Об этом говорит авторская программа: «Иногда мы зло смеемся над кем-нибудь или чем-нибудь, но когда всматриваемся, видим, как жалко и несчастно осмеянное нами; тогда нам становится не по себе, смех звучит в ушах, но теперь он смеётся уже над нами» (132, 155). Подобное единение комического с драматическим и даже трагическим свойственно партитурам «Игрока» и «Огненного ангела». В «Игроке» это единение подчиняется закономерностям психологической драмы, передавая противоречивость человека, опутанного уродливыми условностями социальных отношений. В «Огненном ангеле» оно принимает форму трагического гротеска босховского масштаба, сопрягающего идеальное и реальное, земное и небесное, божественное и дьявольское. В «Огненном ангеле» Прокофьев как нигде близок традициям серьезно-смехового. Готическую серьезность романа В.Брюсова он время от времени нарушает довольно эксцентричными интермедиями, взятыми из арсенала «театра представления». В первом действии слова гадалки комментируются спором хозяйки постоялого двора и работника, по-разному понимающих ее бормотание. В сцене у Агриппы Неттесгеймского его уверения в своей непричастности к черной магии прерываются сердитыми репликами трех скелетов, восклицающих, стуча костями: «Ты лжешь!». В сцене дуэли (3 действие) чрезвычайно иронично 6 Замечено И.Нестьевым (120, 120). 162 звучит менторская фраза лекаря: «Мой юный друг, мы не в десятом веке. В шестнадцатом столетии нет невозможного для медицины». Наперекор традиции, партию Мефистофеля композитор поручает тенору. Его смех, согласно авторскому указанию, должен быть «хриплым и вовсе невеселым». Гротеск «Огненного ангела» неоднороден. В нем есть страницы, напоминающие об иронически-декоративной чертовщине «Любви к трем апельсинам». Такова сцена в таверне из четвертого действия, где Мефистофель под «вакханалию» оркестра съедает кельнера. Другая линия гротеска связана с подлинным трагизмом. Во второй картине третьего действия смятенного Рупрехта преследует издевательский смех невидимого женского хора, повторяющего слова любви Ренаты. Колоссального эмоционального напряжения достигает финальная сцена в монастыре. В едином вихре сплетаются экстатические обличения Ренаты, поддерживающий ее хор монахинь, уродливая пляска одержимых, исступленное поклонение Вельзевулу, грозные слова Инквизитора и его свиты. В грандиозной сцене максимально используется гротесковый потенциал приема навязчивых повторов. В прокофьевской музыке для театра и кино нередки деформированные жанровые детали, конкретизирующие характеристику персонажей или ситуации. Например, благостный хорал в восьмой картине «Обручения в монастыре» прерывается пьяными восклицаниями отца Елустафа. Музыка «псов-рыцарей» из кантаты «Александр Невский», по замыслу автора, должна быть «неприятна русскому уху» (133, 229). Поэтому, записывая в студии для фильма С.Эйзенштейна сигнал крестоносцев, Прокофьев экспериментировал с расположением инструментов по отношению к микрофону, чтобы получить эффект необычного, деформированного тембра валторны. В приведенных примерах художественные средства снижения обусловлены сюжетом. В инструментальной музыке Прокофьева обличительные образы зла, как правило, обретают конкретность лишь в драматургическом контексте произведения, как антитеза добру, представленному одухотворенным 163 мелосом. Так яростному натиску вступления Шестой симфонии с его мрачным колоритом низких медных противопоставлены основные темы первой части – задумчиво-печальная главная партия и нежно-мечтательная побочная. Средний раздел финала Восьмой фортепианной сонаты осознается как «эпизод нашествия» в противопоставлении фразе-причету из побочной партии первой части. Начало Allegro brusco Первой скрипичной сонаты воспринимается как отрицание Andante assai, проникнутого «былинно-эпическим духом» (120, 522). Подчеркну национальную почвенность образов добра. Зло же воплощается противоположными средствами – национальнонейтральными – и его социально-историческая конкретность зачастую уходит на второй план. Весьма показательно, что тема агрессивной пошлости, столь значимая для Шостаковича и столь упорно им разрабатываемая, совсем не затронута Прокофьевым. Эмоциональной доминантой смеха Прокофьева является оптимизм, стихийное жизнелюбие, коренящееся в редкой гармоничности, уравновешенности, душевном здоровье его натуры. Поэтому так заразительно передает композитор веселье народных празднеств, стихию карнавала («Любовь к трем апельсинам», «Обручение в монастыре», карнавальные образы «Ромео и Джульетты»). Здесь царствует «меткий юмор Прокофьева, его неиссякаемое чувство характерного» (120, 505). Последние произведения композитора (Девятая фортепианная соната, Седьмая симфония) озарены просветленной улыбкой, в которой детская чистота сочетается с жизненной мудростью. 5 Комическое у Д.Шостаковича носит совершенно иной оттенок. Строчка О.Мандельштама «Мне на плечи кидается векволкодав» актуальна и для автора «Катерины Измайловой». Юмор был крепким бастионом, защищающим свободу творчества от чудовищного идеологического диктата. Смех Шостаковича оказался грозным оружием, силу которого не сразу распознали жрецы тоталитарной власти. «Тоталитаризм 164 уничтожил свободу мысли до степени, немыслимой в какуюлибо из предшествующих эпох,- писал Дж. Оруэлл.- Причем важно понимать, что контроль над мыслью носит не только негативный, но и позитивный характер. Тоталитаризм не только запрещает вам говорить, даже думать об определенных вещах,он прямо предписывает, что вы должны думать, он создает для вас идеологию, он пытается управлять вашими чувствами, навязывает вам модель поведения» (124, 55). Шостакович будил мысли и чувства своих современников. «Нищенской похлебке» официальной философии противостояли глубокие философские обобщения его симфонических полотен, повествующих о добре и зле, смерти и бессмертии. Его проникновение в запутанные лабиринты индивидуального сознания, запечатление диалектики души открыто полемизировало с концепцией «человекавинтика». Его обостренная совестливость, болезненная реакция на несправедливость не умещались в прокрустово ложе «классового подхода». Музыка Шостаковича раскрепощала сознание, возрождала дух свободы. В смехе молодого Шостаковича, при всей его дерзости и остроумии, многое принадлежит своему времени. Его ранним балетным и театральным партитурам свойственно плакатное – в духе сатирических пьес В.Маяковского – противопоставление молодости, душевной ясности, физического здоровья, выраженных в бодрых, энергичных, «тонизирующих» маршах и танцах, и звуков уходящего мира – пошловато-знойных, зазывночувственных, расслабляющих ритмах легкожанровой эстрады 7. Перед нами интересный эстетический феномен. С одной стороны, отмеченный контраст совпадает с антибуржуазной тенденцией европейской культуры, как она выражена, допустим, у Хиндемита или «Шестерки»: деловитый спортивный дух оказывается антиподом «загнивающей» эстетике фокстрота. С другой стороны, музыка к «Клопу», партитуры «Болта» и «Золотого века» - уже явления советской культуры, в которых Такое же разграничение двух культур отличает режиссерское решение близких по времени спектаклей Вс. Мейерхольда («Д.Е.», «Лес»). 7 165 ощутима печать советских идеологических штампов 20-х годов. Особенно откровенно это проявляется в балетных либретто, которые гораздо однозначнее сочиненной для них музыки. Видимо, пафос революционного преобразования искренне захватил композитора. Полетные, овевающие свежим ветром шестнадцатые в аккомпанементе «Песни о встречном», звонкие, подстегивающие аккорды фортепиано в коде финала Первого фортепианного концерта необычайно чутко отражали учащенный пульс времени. Кинетическая энергия ритма, увлекая за собой, создает ощущение радостного нетерпения, которое вотвот разрешится каким-то счастливым событием. В обнаженности конструкций, остроте штриха озорных галопад вдруг начинает проглядывать нечто совсем другое – самодовлеющий ритмический напор не дает возможности перевести дух. Движение приобретает характер нервной взвинченности,- и уже не радость, не упоение слышится в безостановочном беге, а лихорадочность и надсада. В отличие от Стравинского, для которого сфера банального была забавным объектом музыкального остроумия, для Шостаковича 20-х – она основа для создания хлестких портретов нэпманов, бюрократов, соглашателей, вредителей и других персонажей сатирического паноптикума тех лет. Но смелость и упорство, с которыми художник обращался к музыке «дна», весьма радикальные средства ее утрировки, значительный «удельный вес» подобных образов в системе выразительных средств,- все говорит о том, что перед нами нечто большее, чем заурядный жанр иллюстративного фельетона. В безвкусной «малинке», которая «в течение суток несется из всех щелей кафе, ресторанов, пивных, кино, мюзик-холлов» (185, 43), в поразительной живучести и агрессивности этой «звуковой среды», он, как мне кажется, услышал трагедию культуры, страшное понижение уровня духовной жизни, которым сопровождались жестокие социальные катаклизмы, «нашествие внутреннего варвара» (168, 216). Стилевой перелом, происшедший в начале 30-х годов, свидетельствует, что Шостакович распрощался с иллюзиями 166 молодости. Это чутко отметил венгерский музыковед Янош Мароти. До 30-х годов,- говорит он,- композитор господствует над тривиальными жанрами и житейскими ситуациями, высится над ними. Впоследствии «тривиальное превращается из осмеянного прошлого в угрожающее настоящее. (…) Теперь сам композитор в качестве страдающего субъекта подвергается тем самым жизненным ситуациям, над которыми он до сих пор лишь посмеивался свысока, (…) Его скерцо демонизируется, а значит,вновь романтизируется. Стравинский не является более идеалом, им становится Малер» (104, 64). Если по отношению к раннему Шостаковичу, говоря о сатире, правомерно применять понятие «театр представления», то уже в опере «Леди Макбет Мценского уезда» ему удается создание не только метких внешних характеристик, но и передача предельной интенсивности переживания. «Мастерство жеста» становится частью более широкой стилевой системы, в которой эксцентрика и психологизм занимают свои места, усиливая и дополняя друг друга. Возможно, здесь повлияло новое качество театральности ХХ века, синтезировавшего (например, в творчестве Вс. Мейерхольда 20-30-х г.г.) открытие «условного» и «психологического» направлений. Случайно или закономерно, но именно с начала 30-х годов, когда Шостакович обретает зрелость, начинается наиболее жесткий период «руководства» советской музыкой, с приливами и отливами продолжавшийся до 50-х годов. Начинается противостояние художника и власти. Средствами своего искусства композитор стремился высказать гневное слово протеста, слово, способное найти отклик в сердцах миллионов. Поэтому, при всей необычайной интенсивности и обобщенности, обличительное образы Шостаковича обладают предельной для музыки конкретностью. Высокая степень конкретности связана с особой ролью средств с устоявшейся семантикой. Жанровые и интонационные модели, стилистические аллюзии, цитаты и автоцитаты выполняют, прежде всего, понятийную функцию8. 8 См. 135, 27-28. 167 Блестяще владея приемами создания комического, композитор точно указывает объект сатирического снижения, обращаясь не к жанру вообще, а к социально и исторически конкретной модификации жанра. Поэтому его сатира ведет борьбу не с абстрактными «темными силами», а с вполне реальными: с агрессивной бездуховностью, со сталинщиной, с фашизмом9. Сфера комического подверглась такой же понятийной дифференциации. Здесь появляются постоянные тематические образования, которые становятся «темами-символами». Мелодический ход, начинающийся с активного квартового затакта, становится «кочующей» юмористической интонацией. Впервые он встречается в Прелюдии Фа-диез мажор (ор.34, №13) (пример 86а). Затем, в озорном финале Первого фортепианного концерта он становится основой издевательского «шлягера» solo трубы (пример 86 б). Его контуры проглядывают в напористой теме Скерцо из фортепианного Трио (пример 86 в). На основе этих интонационных заготовок в романсе «Макферсон перед казнью» (ор.62) (пример 86 г) формируется «лейтмотив Юмора», проходящий в одном из ключевых моментов Тринадцатой симфонии («Пляс Юмора» из второй части) и в оркестровой интермедии «Ответа запорожских казаков константинопольскому султану» из Четырнадцатой симфонии (примеры 86 д, е). Тема Юмора имеет свою родословную. Один из наиболее вероятных ее прообразов – веселый рефрен финала из Симфонии №92 («Оксфорд») Гайдна (пример 87). Характерная деталь – синкопированное восходящее задержание – может напомнить solo валторны из «Тиля Эйленшпигеля» Р.Штрауса, интонационный оборот из юмористической песни Г.Малера «Похвала знатока», повествующей о певческом состязании кукушки и соловья, которое судит Осел, мотив из Рондо-финала его же Пятой симфонии. Смелая, задорная «тема По сообщению Л.Лебединского, Седьмая симфония была начата еще до войны. Знаменитая «тема нашествия» имеет более широкий гуманистический смысл, чем это виделось официальной идеологии. Эта тема, считает Лебединский, по замыслу автора, «не только антигитлеровская, но и антисталинская» (83). 9 168 Юмора» становится наследницей богатейших традиций юмористического тематизма (пример 88 а, б, в). Другая ипостась юмора запечатлена в переходящем из сочинения в сочинение «лейтмотиве шутовства». Язвительный мотив, сочетающий танцевальный ритм со скорбными секундами, звучит в романсе «Макферсон перед казнью»10, в «Песнях Шута» из музыки к «Королю Лиру» (1940 г., спектакль БДТ, режиссер Г.Козинцев), в восьмой части Четырнадцатой симфонии («Ответ запорожских казаков константинопольскому султану»), в третьей части Четырнадцатого квартета, в «Четырех стихотворениях капитана Лебядкина» (пример 89 а, б, в, г, д). Этот глумливый, юродствующий юмор, скрывающий боль за насмешкой, продолжает мусоргианскую линию «горького пляса». Наиболее близко к историческому прототипу он звучит в «Песне о нужде» (вокальный цикл «Из еврейской народной поэзии») (пример 90). В той или иной форме комическое у зрелого Шостаковича вездесуще. Юмор проникает в лирику – именно поэтому она так светла, застенчива, целомудренна. Без юмора немыслимы его трагедийные и философские концепции. С другой стороны, сочинения сатирические нередко имеют драматургическую подоплеку. Поэтому не будет преувеличением сказать, что Шостакович является продолжателем традиции серьезносмехового. Об этом свидетельствует предпоследнее сочинение композитора, завершающее комическое направление его творчества,- «Четыре стихотворения капитана Лебядкина» (ор. 147). Первый номер цикла – «Любовь капитана Лебядкина» собрал воедино три «пиесы» любовного содержания, приписанные Достоевским бойкому перу своего зловещего персонажа. Пародийность литературной основы подчеркнута музыкой, которая проходит путь от примитивного, предельно схематизированного вальса, передающего фантастически косноязычную бессмыслицу текста («Любви пылающей граната В авторской оркестровке романса (1971 г.) «тема Юмора» поручена флейте-пикколо, «тема шутовства» - фаготу,- признанные «комические актеры» европейского оркестра вновь выступают в своем амплуа. 10 169 лопнула в груди Игната»), до апофеоза «лирических чувств» кульминационного проведения темы из арии Елецкого, переходящей в развязный танец (пример 91). Следующий образчик графоманских упражнений капитана – басня «Таракан» - дал композитору возможность, помимо остроумных звукоизобразительных моментов, иллюстрирующих перипетии псевдоглубокомысленного сюжета, употребить приемы театрализации. Лебядкин, выступая с чтением очередного опуса, откровенно паясничает, и в партии фортепиано многократно проводится «мотив шутовства». Чтение прерывается торопливыми репликами, которыми Лебядкин то пытается успокоить шокированную аудиторию, то сбивчиво комментирует свое невразумительное творение. Нарочитая помпезность «Бала в пользу гувернанток» шаржирует черты традиционных для оперы бальных эпизодов (петербургский бал в «Онегине», выход царицы в «Пиковой»). Пятидольный метр в деформированном виде воспроизводит величавую поступь полонеза. Разгульные синкопы в коде, на словах «Плюй! Торжествуй!», разительно напоминают заключение арии князя Галицкого из «Князя Игоря» («Пей! Гуляй!»). «Светлая личность» - четвертое стихотворение, вошедшее в цикл, по сюжету романа не принадлежит капитану Лебядкину, В «Бесах» это – прокламация, распространяемая в городе. Ее текст – пародия на стихотворение Н.Огарева «Студент». Памфлет Достоевского является полемическим выпадом против фразеологии бунтарства. Как символ опошления идей, в партии фортепиано возникают искаженные очертания основной темы хора «Расходилась, разгулялась» из «Бориса Годунова», темы, воплощающей силу народного гнева. Включая пародию «Светлая личность» в один ряд с писаниями капитана Лебядкина, Шостакович уточняет концепцию цикла: фанатическая узость «революционной фразы», ее разрушительная направленность парадоксально сближается с духовным бесплодием цинизма. В эпохи, отмеченные сменой форм эстетического сознания, искусство активно отторгает свое недавнее прошлое. 170 Такая ситуация особенно благоприятна для различных форм комического, которое здесь выполняет свои «санитарные» функции, разлагая обветшавшие художественные структуры. В музыкальном искусстве своеобразие ХХ столетия заключается в том, что музыка уже к началу века овладела внушительным запасом средств создания комического и впервые смогла участвовать в этом очистительном процессе почти на равных с другими видами искусства. Становится обозримой историческая перспектива европейской музыкальной цивилизации. В воплощении комического оказывается возможен некий аналог «игры в бисер» - артистическое манипулирование культурными ценностями, воссоздание различных моделей композиторского мышления, их игровая трансформация. Включение в круг музыкальных образов всех видов негативного расширило сферу эстетически допустимого, освободило комическое от многовековых запретов, привело к резкому возрастанию отрицающей тенденции, которая в своих крайних выражениях вторгается в область трагического. 171 Вместо заключения Мы бродим в неконченом здании, Мы бродим по шатким лесам. В.Брюсов «Остановка – это накопленное движение»,- заметил О.Мандельштам. Думается, эти слова справедливы по отношению к современному состоянию музыкального комизма. В нем отчетливо проявляется ретроспективная направленность. Восприятие и претворение комического связано, в основном, с традиционными нормами музыкальной лексики и синтаксиса. Фольклор, расширенная ладотональность, круг интонаций с достаточно определенной семантикой, жанровая изобразительность, тембровая драматургия,- вот привычный арсенал музыкального комизма. Новые грани открывает обращение к ранее редко использовавшимся в симфонической музыке фольклорным пластам (такова, например, роль частушки в творчестве Р.Щедрина); появление синтезаторов расширило возможности тембровых деформаций; не исключено возникновение новых «жанровых гибридов» (таких, как похоронный вальс-марш у Шнитке). Но все это лишь дополнения к уже существующим художественным приемам. Создается впечатление, что, широко распространившись в музыкальном искусстве, комическое замедлило свой поступательный бег. В течение ряда веков комическое играло роль «разведчика нового», расширяло сферу эстетически допустимого, Но во второй половине ХХ века эта функция заметно угасает. Произведения, отмеченные принципиальной новизной художественных средств, теперь, как правило, не вторгаются в 172 область комического. Ведь развитие комической образности было всегда связано с обособлением странного, необычного, фантастического, для чего была важна стабильность языка, высокий «фон упорядоченности» (термин Н.Паркинсона). Отражая противоречия эпохи, музыкальный язык второй половины ХХ века не только усложнился технологически, но и потерял былую универсальность, существовавшую хотя бы в рамках европейской профессиональной традиции. Теперь практически каждый крупный художник вырабатывает индивидуальные закономерности организации звуков. Продолжается процесс интеграции культур внеевропейского типа (О.Мессиан, например, обращается к ладовым системам индийской, японской, полинезийской музыки). Для рядового слушателя – а эта категория в наше время весьма неоднородна – язык современной симфонической и камерной музыки далеко не всегда обладает образной дифференциацией, сравнимой с языком классики (в широком смысле этого слова),- восприятие музыки становится отчасти и социологической проблемой1. Комическое веками развивалось в тесной связи с бытовыми жанрами. Но никогда еще не существовало такого гигантского разрыва между «академической» музыкальной культурой и музыкой быта, как в наши дни. Индустрия развлечений, массовая культура,- эти явления скорее социального, чем художественного порядка, отпугивают многих музыкантов «академического» направления. Если для композиторов 20-30-х годов (например, для П.Хиндемита, К.Вайля) современная им легкожанровая эстрада служила и приметой времени, и средством снижения, и объектом комического, то в музыке конца ХХ века трудно найти нечто аналогичное. Здесь время обобщений еще впереди. Ясно одно: зная характер этой своенравной категории, можно быть уверенным, что комическое не исчезнет с палитры музыкального По мнению Ф.Фишера, именно недостаточная дифференцированность образной системы резко ограничивает возможности комизма в атональной музыке (200). 1 173 искусства, и композиторы будущего,- как это уже не раз бывало,обратившись к накопленному художественному богатству, откроют новые горизонты музыкального комизма. В искусстве ничего не проходит бесследно, ведь музы рождены Мнемозиной – богиней памяти. 1990-1991г.г. (Екатеринбург, Москва, с. Зилаир) 174 Нотные примеры Р.Щедрин «Юмореска» 1 2 175 3 4 5 Й.Гайдн. Фантазия До мажор 176 6 7 8 9 177 10 Л.Бетховен. Соната №23, ор. 57 (1 ч.) 11 Л. Бетховен. Симфония №1 (Финал) 178 12 Д.Шостакович. Концерт для ф-п с оркестром №1 (Финал) 13 Л.Бетховен. Соната №25, ор. 79 (1 ч.) 179 14 Д.Шостакович. «Болт» 15 В.А.Моцарт. «Секстет деревенских музыкантов» П.Хиндемит. «Minimax» 16 180 17 И.Стравинский. Полька 18 И.Стравинский. «История солдата» 19 Д.Шостакович. «Болт» 181 20 С.Прокофьев. «Ромео и Джульетта» 21 Д.Шостакович. Концерт для ф-п с оркестром №1 (финал) 182 22 Д.Шостакович. картина) «Нос» (2-е действие, 5-я 23 И.Стравинский. «Петрушка» 183 24 А.Оннегер. «Жанна д’Арк на костре» 25 А.Шнитке. «Ревизская сказка» 184 26 27 Д.Шостакович. «Сатиры» на слова Саши Чёрного 185 28 186 29 А.П.Бородин. «Спесь» 30 Я.Обрехт. Фрагмент мессы Жоскен Депре. Канон 31 187 32 Хуан дель Энсина. Мадригал 33 Ф.Кавалли. «Ясон» 188 34 а К.Монтеверди. «Коронация Поппеи» (Акт второй, сцена шестая) б (Акт первый, сцена девятая) 189 35 (Акт второй, сцена пятая) 36 И.С.Бах. Кантата № 211 «Кофейная» Schlendrian: И.С.Бах. Кантата №212 «Крестьянская» 37 а 190 б в г Allegro 38 39 191 40 Ж.-Б.Люлли. «Изида» 41 Les Trembleurs 42 Й.Кунау. Соната «Давид и Саул» 192 43 Ж.-Б. де Буамортье. «Блоха» 44 а Д.Скарлатти. Соната Ре мажор (К.492) б в 193 45 Ф.Куперен. Сюита №11. «Празднества великой и старинной Менистрандизы» Seconde Acte 1er Air de Viéle – Les Viéleux, et Les Gueux 46 Troisiéme Acte Les Jongleurs, Sauteurs, et Saltinbanques avec les Ours, et les Singes 47 Quatrième Acte Les Invalides: ou gens Estropiés au Service de la grande Mxnxstxndxsx 194 48 Cinquième Acte Dèsordre, et Dèroute de toute la troupe; Causès par les Yvrognes, les Singes, et Ours Très vite 49 Й. Гайдн. Квартет Фа мажор, ор. 77, №2 195 Й.Гайдн. Симфония №38 (Менуэт) 50 51 а Й.Гайдн. Ариетта с вариациями Ми-бемоль мажор б Й.Гайдн. Симфония №82 («Медведь»), Финал 196 52 Й.Гайдн. Ариетта с вариациями Ми-бемоль мажор (вар. 2) 53 В.А.Моцарт. «Секстет деревенских музыкантов» (Менуэт) 197 54 В.А.Моцарт. «Директор театра», Увертюра (г.п.) 55 (побочная партия) 198 56 (разработка) 57 (кода) 199 58 В.А.Моцарт. «Дон Жуан», ария донны Эльвиры 59 Л.Бетховен. «Песня о Блохе» 60 61 Ф.Лист. Соната си минор (г.п.) 200 62 63 Р.Шуман. «Напевом скрипка чарует» 201 64 Р.Шуман. «Её он страстно любит» 202 65 Дж.Верди. «Фальстаф» 66 Е.Фомин. «Американцы» 67 а М.П.Мусоргский. «Классик» 203 б 204 68 М.П.Мусоргский. «Гопак» 205 69 Ц.Кюи. «Мечты фавна после чтения газеты» 70 Н.А.Римский-Корсаков. «Золотой петушок» 71 А.Скрябин. «Иронии», ор. 56, №2 206 72 Г.Малер. Симфония №2, Скерцо 73 Р.Штраус. «Тиль Эйленшпигель» 74 К.Дебюсси. «Кукольный кекуок» 207 75 П.Хиндемит. «Новости дня» 76 Э.Сати. «Бюрократическая сонатина» 208 77 И.Стравинский. «Петрушка» 78 И. Стравинский. «Байка про Петуха, Кота да Барана» 79 И.Стравинский. «История солдата» («Танец Дьявола») 209 80 И.Стравинский. «Мавра» 81 82 И.Стравинский. Октет 83 И.Стравинский. Октет, финал 210 84 И.Стравинский. «Похождения повесы» 85 а С.Прокофьев. Сарказм №5 211 б 86 а А.Скрябин. «Сатаническая поэма» Д.Шостакович. Прелюдия ор. 34, №13 212 б Д.Шостакович. Концерт для ф-п с оркестром, Финал в Д.Шостакович. Фортепианное трио, ор.67, Скерцо г Д.Шостакович. «Макферсон перед казнью» 213 д Д.Шостакович. Симфония №13, 2-я часть («Юмор») е Д.Шостакович. Симфония №14, 8-я часть 87 Й.Гайдн. Симфония №92, финал 88 а Р.Штраус. «Тиль Эйленшпигель» Volles Zeitmaß (sehr lebhaft) б Г.Малер. «Похвала знатока» 214 в Г.Малер. Симфония №5, финал 89 а Д.Шостакович. «Макферсон перед казнью» б Д.Шостакович. «Песни Шута» в Д.Шостакович. Симфония №14 215 г Д.Шостакович. Квартет №14 д Д.Шостакович. Пять стихотворений капитана Лебядкина 90 Д.Шостакович. «Песня о нужде», ор. 79, №7 216 91. Д.Шостакович. Пять стихотворений капитана Лебядкина 217 Список литературы 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Аберт Г. В.А.Моцарт.: в 2-х частях, 4-х книгах. М., 1978-1984. Авдеев А.Д. Маска и ее роль в процессе возникновения театра. М., 1964. Аксаков С.И. Собрание сочинений. М., 1955.- Т. 2. Альшванг А. Людвиг ван Бетховен. М., 1971. Андриянова-Перетц В. Очерки по истории русской сатирической литературы XVII века. М.- Л., 1937. Античная литература. Греция. Антология.: в 2-х частях. М., 1989. Античная музыкальная эстетика. М., 1960. Антология кинизма. М., 1984. Аристотель. Собрание сочинений в 4-х томах. М., 1984. Т.4. Асафьев Б. Книга о Стравинском. Л., 1977. Асафьев Б. Мазурки Шопена// Шопен, каким мы его слышим. М., 1970. Асафьев Б. О музыке Чайковского. Избранное. Л., 1972. Барсова И. Симфонии Густава Малера. М., 1975. Бартошевич А. Комедии предшественников Шекспира// Шекспировский сборник. М., 1967. Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965. Белкин А. Русские скоморохи. М., 1975. Бергсон А. Смех// Собрание сочинений в 5-ти томах. СП б., 1914. Т. 5. Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. Берлиоз Г. Избранные письма. Л., 1984. Книга первая. Берлиоз Г. Избранные статьи. М., 1956. Библиографическая информация по проблемам юмора и сатиры.: Составитель Гельфанд Н. М.: АН СССР, ИНИОН, 1975. Блок А. Ирония// Собрание сочинений в 6-ти томах. М., 1971. Т. 5. Бонфельд М. Комическое в симфониях Гайдна.: Канд. дисс. Л., 1979. Бонфельд М. Пародия в музыке венских классиков// «Советская музыка», 1977. №5. Борев Ю. Комическое. М., 1970. Брянцева В. Французская комическая опера XVIII века. М., 1985. Булучевский Ю., Фомин В. Старинная музыка. Словарь-справочник. Л..1974. Вико Д. Основание новой науки об общей природе наций. Л., 1940. Гартман Н. Эстетика. М., 1958. Гегель Г.-Ф. Эстетика.: В 4-х томах. М., 1968. Гей Дж. Опера нищего//Английская комедия XVII­XVIII веков.: Антология. М., 1989. 218 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. Герцен А. Собрание сочинений в 30-ти томах. М., 1958. Т. 13. Герцман Е. Античное музыкальное мышление. Л., 1986. Гессе Г. Степной волк //Избранное. М., 1977. Гете И.-В. Простое подражание природе, манера, стиль// Собрание сочинений в 10 томах. М., 1980. Т.10. Гефдинг Г. Очерки психологии. М., 1892. Гоббс Т. Избранные произведения в 2-х омах. М., 1964. Т. 1. Голдштейн М. Шутки А.П. Бородина// А.П.Бородин в воспоминаниях современников. М., 1985. Григорьева Г.В. Русская и советская комическая опера.: Автореф. канд. дисс. М., 1967. Грубер Р. Всеобщая история музыки. Часть первая. М.. 1965. Гуревич Е. Сатирический музыкальный театр Брехта-Вайля// Вопросы теории и эстетики музыки. Л., 1975. Вып. 14. Данько Л. Комическая опера в XX веке. М.-Л., 1978. Декарт Р. О страстях души//Собрание сочинений в 3 томах. Казань, 1914. Т.1. Деметрий. О стиле// Античные риторики. М., 1978. Дземидок Б. О комическом. М., 1974. Дилецкий Н. Идеа грамматики мусикийской.: Публикация, перевод, исследование и комментарии Вл. Протопопова// Памятники русского музыкального искусства. М..1979. Вып. 7. Дмитриева Н. Эвристическая роль юмора// «Театр», 1977, №1. Дмитриева Н. Юмор парадоксов// «Иностранная литература», 1973, №6. Добрыкин Э. Музыкальная сатира в вокальном творчестве Шостаковича//Проблемы музыкальной науки. М., 1975. Вып.3. Достоевский Ф.М. Бесы// Собрание сочинений в 15-ти томах. Л.,1990. Т.7. Достоевский Ф.М. (Из рабочих тетрадей) // Литературное наследство. М..1971. Т. 83.: Неизданный Достоевский. Достоевский Ф.М. Об искусстве. М., 1973. Достоевский Ф.М. Письма. М.-Л., 1930. Т. 2. Друскин М. Игорь Стравинский. Личность, Творчество, Взгляды. Л.-М., 1974. Друскин М. Иоганн Себастиан Бах. М., 1982. Ермакова Г. Категория «банальное» и ее место в художественной критике// Эстетические очерки. Избранное. М., 1980. Жан-Поль. Приготовительная школа эстетики. М., 1981. Жуйкова-Миненко Л. Трагическое и комическое в творчестве М.П.Мусоргского // Вопросы теории и эстетики музыки. Л..1975. Вып. 14. Забелин И. Домашний быт русского народа. М., 1915. Т.1. Ч.2. Заковырина Т. К вопросу о комическом в инструментальной музыке//Эстетические очерки. М., 1977. Вып. 4. 219 62. Захарова О. Риторика и западноевропейская музыка XVII – первой половины XVIII веков. М., 1983. 63. Зольгер К.-В.-Ф. Эрвин. М., 1978. 64. Зубова Н. Клоуны и шуты в пьесах Шекспира//Шекспировский сборник. М., 1967. 65. История всемирной литературы. М., 1973. Т.3. Вып.3. 66. Каган М. Лекции по марксистско-ленинской эстетике. Л., 1971. 67. Казанцева Л. О содержательных особенностях музыкальных произведений с тематическими заимствованиями.: Автореф. канд. дисс. Л., 1984. 68. Кант И. Критика способности суждения//Собрание сочинений в 6-ти томах. М., 1966. Т. 5. 69. Кант И. Что такое Просвещение// Там же. Т. 6. 70. Каплан Э. Жизнь в музыкальном театре. Л., 1969. 71. Келдыш Ю. История русской музыки. Т. 1. Древняя Русь (XI-XVII века). М., 1983. 72. Ковнацкая Л. Английская музыка XX века. М., 1986. 73. Конен В. Рождение джаза. М., 1984. 74. Конен В. Театр и симфония. М., 1975. 75. Краузе Э. Рихард Штраус. М., 1961. 76. Кремлев Ю. Йозеф Гайдн. М., 1972. 77. Кржижановский С. Комедии молодого Шекспира// Шекспировский сборник. М., 1967. 78. Кроче Б. Эстетика как наука о выражении и общая лингвистика. М., 1920. 79. Крюковский Н. Основные эстетические категории. Минск, 1974. 80. Куперен Ф. Искусство игры на клавесине. М.. 1973. 81. Курышева Т. Театральность и музыка. М., 1984. 82. Кушнарев Х. О полифонии. М., 1971. 83. Лебединский Л. О некоторых музыкальных цитатах в произведениях Д.Шостаковича// «Новый мир», 1990, №3. 84. Левая Т. Девятая симфония Шостаковича// Музыка и современность. М., 1967. Вып. 5. 85. Левая Т., Леонтьева О. Пауль Хиндемит. М., 1974. 86. Ливанова Т. Музыка в ряду искусств. М., 1977. 87. Лисса З. Эстетика киномузыки. М., 1970. 88. Лифшиц М. В мире эстетики. М., 1985. 89. Лихачев Д., Панченко А., Понырко Н. Смех в Древней Руси. Л., 1984. 90. Лосев А. Гомер. М., 1960. 91. Лосев А. Ирония античная и романтическая// Эстетика и искусство. М., 1966. 92. Лосев А. Музыка как предмет логики. М.. 1927. 93. Лосев А., Шестаков В. История эстетических категорий. М., 1965. 94. Лук А. О чувстве юмора и остроумии. М., 1968. 220 Лук А. Эмоции и личность. М., 1982. Лук А. Юмор, остроумие, творчество. М., 1977. Максимов С. Нечистая, неведомая и крестная сила. СП б., 1903. Малер Г. Письма. Воспоминания. М., 1968. Малышева Т. Гротеск в русском и советском музыкальном театре первой трети ХХ века.: Автореф. канд. дисс. Киев, 1988. 100. Манн Ю. О гротеске в литературе. М., 1966. 101. Маркс К., Энгельс Ф. Об искусстве. М., 1957. 102. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 41. 103. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения.: 2-е издание. Т. 29. 104. Мароти Я. Шостакович и/или Шостакович? Проблемы постоянства в творчестве Шостаковича// Кельнские музыковедческие исследования. Выпуск 150.: Сообщение о международном симпозиуме, посвященном Дмитрию Шостаковичу. Регенсбург.: Издательство Густав Боссе, 1986. 105. Медушевский В. Интонационно-фабульная природа музыкальной формы.: Автореф. дисс. докт. иск. М., 1983. 106. Медушевский В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. М., 1976. 107. Мильштейн Я. Франсуа Куперен. Его время, творчество, трактат «искусство игры на клавесине// Куперен Ф. Искусство игры на клавесине. М., 1973. 108. Мифы народов мира. М., 1988. Т. 2. 109. Мольер Ж.-Б. Комедии. М., 1957. Т. 1. 110. М.П.Мусоргский в воспоминаниях современников. М., 1989. 111. Музыкальная эстетика Германии ХIХ века.: В двух томах. М., 1981. 112. Музыкальная эстетика Западной Европы XVII-XVIII веков. М., 1971. 113. Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения. М., 1966. 114. Музыкальная эстетика Франции XIX в. М., 1974. 115. Мусоргский М. Письма. М., 1981. 116. Назайкинский Е. Звуковой мир музыки. М.. 1988. 117. Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. М., 1982. 118. Натев А. Искусство и общество. М., 1960. 119. Нейман Б. Смишне в музицi// «Музика», ч. 2. Киïв, 1923. 120. Нестьев И. Жизнь Сергея Прокофьева М., 1973. 121. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. М., 1990. 122. Новиков В. Книга о пародии. М., 1989. 123. Орджоникидзе Г. К вопросу о диалектике идеи рока в музыке Бетховена// Бетховен.: Сб. статей. Вып. 2. М.. 1972. 124. Оруэлл Дж. Литература им тоталитаризм// Laterna magica. Литературнохудожественный, историко-культурный альманах. М., 1990. 125. Памятники русского музыкального искусства. М., 1973. Вып. 4. 95. 96. 97. 98. 99. 221 126. Паскаль Б. Мысли// Франсуа де Ларошфуко. Максимы, Блез Паскаль. Мысли, Жан де Лабрюйер. Характеры. М., 1974. 127. Паркинсон Н. О юморе// «Иностранная литература», 1975. №7. 128. Пинский Л. Комедии и комическое начало у Шекспира// Шекспировский сборник. М., 1967. 129. Платон. Законы// Собр. соч.: В 3-х томах. Т. 3. Второй полутом. 130. Платон. Пир// Собр. соч.: В 3-х томах. М., 1974. Т. 3. Первый полутом. 131. Поляков Я. Язык пародии и проблема структуры стиля// Литературные направления и стили. М., 1976. 132. Прокофьев С. Автобиография. М., 1973. 133. Прокофьев С. Музыка к «Александру Невскому»// С.С.Прокофьев. Материалы. Документы. Воспоминания. М., 1961. 134. Пропп В. Исторические основы некоторых русских религиозных празднеств// Ежегодник музея религии и атеизма. М.-Л., 1961. Вып. 5. 135. Пропп В. Проблемы комизма и смеха. М., 1976. 136. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. Л., 1978. Т. 5. 137. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. Т. 8. 138. Равель в зеркале своих писем. Л., 1988. 139. Реми Т. Клоуны. М., 1965. 140. Репин И. Далекое близкое. М., 1982. 141. Рибо Т. Психология чувств. СП б., 1898. 142. Римский-Корсаков Н.А. Основы оркестровки. М.-Л., 1946. Т. 1. 143. Рождественский Г. Стравинский и Чайковский// И.Ф.Стравинский. Статьи. Воспоминания. М., 1985. 144. Розанов В. Около церковных стен. Т. 1. СПб.,1906. 145. Роллан Р. Музыкально-историческое наследие.: В восьми выпусках. М.,1986-1989. 146. Роттердамский, Эразм. Похвала глупости. М., 1960. 147. Русская народная поэзия. Эпическая поэзия. Л., 1984. 148. Сабинина М. Шостакович-симфонист. М., 1976. 149. Саккетти Л. Эстетика в общедоступном изложении. Пг.,1917. 150. Салтыков Н. (М.Е. Щедрин) о литературе. М.,1952. 151. Секст Эмпирик. Сочинения в двух томах. М., 1976. 152. Селли Д. Смех. Его физиология и психология. СПб,. 1905 153. Симонов П., Ершов П. Темперамент. Характер. Личность. М.,1984. 154. Солженицын А. Архипелаг Гулаг. 1918-1956. Опыт художественного исследования// «Новый мир». 1989. №8. 155. Сохор А. Вопросы социологии и эстетики музыки. Вып.2. Л.,1981. 156. Спенсер Г. Слезы, смех и грациозность. СПб., 1898. 157. Спенсер Г. Физиология смеха. М., 1892. 158. Сретенский Н. Историческое введение в поэтику комического. Ростов-наДону, 1924. 159. Стравинский И. Публицист и собеседник. М., 1988. 222 160. Стендаль. Жизнеописание Гайдна, Моцарта и Метастазио. Жизнь Россини. М., 1988. 161. Сумарокова В. Комическое в системе эстетических категорий и специфика его проявлений в инструментальной музыке.: Автореферат канд. дисс. Киев, 1988. 162. Тараканов М. О выражении конфликтов в инструментальной музыке// Вопросы музыкознания. Т.2. М., 1956. 163. Тищенко Б. Этюд к портрету//Д.Шостакович. Статьи и материалы. М., 1976. 164. Толстой Л.Н. Собрание сочинений в 22-х томах. Т.21, М., 1985. 165. Фаминцын А. Скоморохи на Руси. СПб., 1889. 166. Фетис Ф.-Ж. О философии и поэтике музыки// Музыкальная эстетика Франции XIX века. М., 1974. 167. Филенко Г. Французская музыка первой половины ХХ века.: Очерки. Л., 1983. 168. Франк С. Из размышлений о русской революции// «Новый мир», 1990, №4. 169. Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному. М.. 1925. 170. Фрейденберг О. Поэтика сюжета и жанра. Л., 1936. 171. Фрейденберг О. Терсит// Яфетический сборник VI. Л., 1930. 172. Ходасевич В. Державин. М., 1988. 173. Цицерон. О старости. О дружбе. Об обязанностях. М., 1974. 174. Цукер А. Особенности музыкального гротеска// «Советская музыка», 1969, №10. 175. Цуккерман В. «Камаринская» Глинки и ее традиции в русской музыке. М., 1957. 176. Цуккерман В. Соната си минор Ф.Листа. М., 1984. 177. Чапек К. Несколько заметок о народном юморе// Собрание сочинений в 5ти томах. Т. 2. М., 1959. 178. Черкашин В. Трагикомическое// Наука о театре. Л., 1975. 179. Чернышевский Н. Избранные эстетические произведения. М., 1974. 180. Шеллинг Ф. Философия искусства. М., 1966. 181. Шестаков В. Музыкальная эстетика средневековья и Возрождения.// Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения. М., 1966. 182. Шестаков В. Эстетические категории. М.. 1983. 183. Шлегель Фр. [Ирония] //Литературная теория немецкого романтизма. М.. 1936. 184. Шнитке А. Особенности оркестрового голосоведения ранних произведений Стравинского// Музыка и современность. Вып. 5. М.. 1967. 185. Шостакович Д. О времени и о себе. М.. 1980. 186. Шпагин П. Комическое// Литературная энциклопедия. Т. 3. М., 1962. 187. Шуман Р. Избранные статьи о музыке. М.. 1956. 223 188. Щербак И. Теория смеха. Психофизический очерк// «Вестник психологии, криминалистической антропологии и гипнотизма. Т.5. Вып. 1 и 3. СПб., 1908. 189. Эйслер Г. Арнольд Шенберг// Избранные статьи музыковедов ГДР. М.. 1960. 190. Яковлев Е. Проблемы систематизации категорий в марксистсколенинской эстетике. М., 1983. 191. Ярхо В. У истоков европейской комедии. М., 1978. 192. Ястребцов В. Н.А.Римский-Корсаков. Воспоминания. Т.1. Л.,1958. 193. Abert H. Musikanschanung des Mittelalters und ihre Grundlagen. Halle, 1905. 194. Bain A. The emotion and the will. London, 1880. 195. Cobbet V.W. Humor in Chamber Music// “Surrey of Chamber Music.1”. London, 1929. 196. Cooke D. The Language of Music. London.: Oxford univ. Press. 1959. 197. Elliot R. C. The power of Satire: Magic, ritual, art. Princeton (N. J.), 1966. 198. Fadimen C. Humor as a weapon// Journal of creative behavior, 1972. Vol. 6. N 2. 199. Feibleman J. In Praise of Comedy. N.Y. 1939. 200. Fisher F. Musical Humor: A Future as well as a Past? // The journal of aesthetics and criticism. Spring, 1974. 201. Flothuis M. Einige Betrachtungen uber den Humor in der Musik// Ŏsterreichishce Musik Zeitschrift, J.G. 38/12. December, 1983. 202. Gilbert H.F. Humor in Music// The Musical Quarterly 12 (1926). 203. Grun W. Wie heiter ist die Kunst?// Ŏsterreichishce Musik Zeitschrift, J.G. 38/12. Desember, 1983. 204. Kayzer W. Das Groteske seine Gestaltung in Malerei und Dichtung. Hamburg, 1957. 205. Kernan A. The Plot of Satire. New Haven – London.: Jale univ. Press, 1965. 206. Kidd. J.C. Wit and Humor in tonal syntax// Current Musicology, 1976, N 21. 207. Koestler A. The Art of Creation. N.Y.: McMillan, 1964. 208. Krones H. Das “Hohe Comische” bei Josef Haydn//, 1983, N 1. 209. Monro D.H. Argument of Laughter. Melbourne univ. Press, 1951. 210. Ossberger H. Musikalische Humor an Beispielen der Klaviermusik// Ŏsterreichishce Musik Zeitschrift, J.G. 38/12. December, 1983. 211. Radin P. Primitive Man as Philosopher. N.Y., 1927. 212. Schmidt L. Joseph Haydn. Berlin, 1896. 213. Schneegans H. Geschichte der grotesken Satire. Strassburg, 1894. 214. Solger K. Vorlesungen ubner Asthetik. Leipzig, 1829. 215. Veidl T. Der musikalische Humor bei Beethoven. Leipzig, 1929. 216. Worcester D. The Art of Satire. Cambridge (Mass.), 1940. 224 Указатель имен Аббатини А. - 93 Аберт А. – 67, 111, 118, 120, 218 Аввакум, протопоп - 136 Авдеев А. – 34, 218 Аксаков С. – 27, 218 Алексей Михайлович, царь - 83 Альшванг А. – 59, 218 Алябьев А. - 132 Антоний Падуанский - 143 Аристоксен - 78 Аристотель – 11, 13, 18, 23, 79, 90, 218 Аристофан – 6, 25, 34, 76, 77 Асафьев Б. - 74, 129, 140, 159. 218 Банкьери, Андриано - 88 Барсова И. – 25, 218 Барток Б. - 153 Бартошевич А. – 36, 218 Бах И.С. – 81, 100-104, 106, 137, 190, 219 Бахтин М. – 21, 22, 28, 127, 218 Белый А. - 142 Беранже П. - 132 Берг А. – 148, 154 Бергсон А. – 18, 32, 37, 218 Берд У. - 98 Бердяев Н. – 141, 218 Берлиоз Г. – 49, 122, 125, 127, 128, 140, 145, 147, 154, 218 Бетховен, Людвиг ван – 8, 11, 16, 48, 50, 59, 60, 69, 70, 106, 121-123, 126, 140, 178, 179, 200, 218, 221 Блок А. – 44, 218 Боккаччо Дж. – 86, 93 Бонончини Дж.-Б. - 110 Бонфельд М. – 17, 218 Борев Ю. – 19-21, 218 Бородин А.П. – 72, 131, 134, 138, 187, 219 Босх И.- 38, 162 Боэций - 76 Брамс Й. – 129, 147 Брюсов В. – 162, 172 225 Брянцева В. – 105, 218 Буало Д. - 43 Буамортье, Жозеф Боден де – 106, 193 Бузинелло Ф. - 97 Бузони Ф. - 146 Булгаков М.А. - 25 Булл Дж. – 98 Булучевский Ю. – 82, 218 Бутурлин Т.Ф. – 83 Бэйн А. – 30, 224 Вагнер Р. – 49, 63, 128, 129, 135, 140, 147-149 Вайдль Т. – 16, 116, 121,122, 224 Вайль К. – 173, 219 Вебер К.-М. - 124 Векки, Орацио – 11, 86, 87, 89, 90 Вергилий - 11 Верстовский А.Н. - 131 Вивальди А. - 106 Вико Д. – 43, 218 Вольтер – 25, 117 Вустер Д. – 21, 224 Гайдн Й. – 8, 57, 112, 115-117, 121-123, 161, 168, 176, 195-197, 214, 220, 223 Галилей, Винченцо - 90 Галуппи Бальтазаро - 111 Гегель Г.-В.-Ф. - 10, 14, 18, 23, 29, 218 Гей Дж. - 110, 218 Гейне Г. – 127, 201, 202 Гендель Г.-Ф. – 101, 110, 118 Гервинус Г. - 9 Гердер И.-Г. – 114, 115 Герод - 6 Герцен А. – 28, 219 Герцман Е. – 78, 219 Гессе Г. - 219 Гете И.- В. – 25, 48, 49, 79, 114, 153, 219 Гефдинг Г. – 18, 219 Глинка М.И – 130-132, 139, 160, 223 Глюк К.-В. - 111 Гнедич Н.И. - 45 Гоголь Н.В. – 25, 30, 64, 68, 135 Гойя Ф. - 7 226 Голдштейн М.Ю. – 134, 219 Голенищев-Кутузов А.А.- 13, 14 Гомер – 5, 6, 11, 34, 45, 220 Гофман Э.-Т.-А. – 11, 25, 152, 153 Григорьев А. - 133 Григорьева Г. – 50, 57, 219 Гринберг М. - 122 Грубер Р. – 80, 85, 98, 219 Грюн В.- 7, 17, 61, 224 Гумилев Н. - 114 Гуно Ш. – 148 Данте Алигьери - 25 Данько Л. – 20, 219 Даргомыжский А.С. – 72, 131, 132, 134 Дебюсси К. – 138, 148-150, 155, 207 Декарт, Рене – 97, 219 Деметрий – 23, 219 Джилберт Г.Ф. – 16, 224 Дземидок Б. – 18, 19, 21, 39, 48, 50, 219 Дзено А. - 110 Дилецкий Н. – 97, 219 Диоген - 16 Дмитриева Н.А. – 15, 40, 219 Домье О. - 7 Достоевский Ф.М. – 25, 64, 66, 133, 135, 138, 141, 169, 170, 218, 219 Дюрер А. – 38 Еврипид – 34, 77 Елена Павловна, Великая княгиня - 135 Ерофеев В.В. - 5 Ершов П. – 18, 153, 222 Жанекен, Клеман – 87, 89 Жан-Поль – 10, 18, 219 Жоскен Депре – 85, 187 Забелин И.Е. – 33, 219 Заковырина Т. – 17, 219 Зольгер К. – 40, 44, 220, 224 Зощенко М. – 30, 36 Зубова Г. – 36, 40, 220 227 Исакадзе Л. – 15 Кавалли, Франческо – 92, 94, 188 Кавальери, Эмилио дель - 90 Каган М. – 7, 8, 13, 72, 220 Кайзер Р. - 112 Калло Ж. – 7, 25 Кант И. – 18, 48, 114, 115, 220 Кантемир А. - 29 Каччини, Джулио - 90 Керр, Альфред - 147 Кестлер А. – 58, 224 Кефисофонт - 77 Кидд Д. – 17, 58, 224 Кино, Филипп - 105 Кобе В. – 16, 224 Козинцев Г. - 169 Конен В. – 81, 91, 111, 123, 155, 158, 220 Корнакьолли, Джачинто - 94 Кремлев Ю. – 116, 220 Кржижановский С. – 31, 37, 220 Кроче Б. – 20, 220 Кроче Дж. - 87 Крылов И.А. - 130 Крюковский Н. – 16, 220 Кук Д. - 224 Кунау И. – 106, 192 Куперен Ф. – 107, 108. 150, 194, 195, 220, 221 Курышева Т.- 125, 157, 158, 220 Кушнарев Х. – 81, 220 Кшенек Э. - 152 Кюи Ц. – 138, 206 Лабрюйер, Жан де – 107, 222 Ланди, Стефано - 94 Лассо, Орландо ди – 85, 88 Лебединский Л. – 168, 220 Лев IV - 28 Левая Т. – 57, 149, 220 Леонардо да Винчи – 5, 48, 62, 89 Ливанова Т. – 97, 220 Лисса З. – 57, 220 228 Лист Ф. – 49, 67, 103, 125-127, 129, 140, 145, 147, 148, 162, 200, 201, 223 Лихачев Д.С. – 26, 30, 220 Лорцинг Г.-А. - 112 Лосев А.Ф. – 21, 51, 52, 220 Лук А. – 18, 220 Лукиан – 6, 25 Луцилий - 6 Людовик XII - 85 Людовик XIV - 43 Люлли Ж.-Б. – 104, 105, 108, 110, 192 Мадзокки, Верджилио - 92 Максимов С. – 34, 221 Малер, Густав – 8, 129, 142, 143, 148, 154, 167, 168, 207, 214, 215, 218, 221 Мандельштам О. – 114, 164, 172 Манн Ю. – 45, 221 Марадзоли, Марко - 93 Марино Дж. – 99 Маркс К. – 25, 39, 221 Мароти Я. – 167, 221 Марпург Ф.В. - 107 Маяковский В.В. - 165 Медушевский В. – 17, 221 Мейерхольд Вс.Э. – 69, 158, 165, 167 Мелани, Якопо – 92, 93, 95 Менандр - 6 Мендельсон Ф. - 147 Мессиан О. - 173 Метастазио П. – 110, 223 Мийо Д. – 152, 156 Михалков С. - 29 Мицкевич А. - 48 Мольер Ж.-Б. – 29, 40, 104, 221 Монильи, Джованни Андреа - 93 Монро Д.-Г. – 19, 31, 224 Монтеверди К. – 66, 95-97, 189, 190 Моцарт, Вольфганг Амадей – 8, 11, 12, 61, 66, 67, 94, 107, 112, 118-121, 123, 161, 180, 197, 198, 200, 218, 223 Моцарт, Леопольд - 118 Мусоргский М.П. – 13, 14, 106, 131, 132, 135-138, 162, 203-205, 219, 221 Назайкинский Е. – 17, 67, 221 Натев А. – 19, 221 229 Нейман Б. – 16, 221 Нестьев И. – 162, 221 Николаев Д. - 29 Ницше Ф. – 146, 221 Обрехт Я. – 85, 187 Огарев Н. – 132, 170 Олимп - 78 Оннегер А. – 67, 157, 184 Орджоникидзе Г. – 128, 221 Оруэлл Дж. – 165, 221 Орф К. - 157 Оссбергер Г. – 16, 224 Оффенбах Ж. – 94, 128 Панченко А. – 26, 30, 220 Паризани, Франческо - 94 Паркинсон Н. – 173, 222 Паскаль, Блез – 95, 222 Патти А. - 135 Пашкевич В. - 130 Пепуш К. - 110 Перселл Г. - 110 Петр I – 33, 130 Писарев Д.- 133 Питер Брейгель Старший - 103 Пифагор, пифагорейская школа - 78 Пиччини Н. - 112 Плавт - 6 Платон – 5, 24, 25, 34, 79, 222 Поликтет - 25 Понырко Н. – 26, 30, 220 Прокофьев С.С. – 62, 131, 159, 161-164, 182, 211, 221, 222 Пропп В. – 19, 27, 34, 222 Пуленк Ф. - 157 Пуссен Н. - 25 Пушкин А.С. – 5, 11, 12, 40, 43, 75, 118, 131, 132, 160, 222 Рабле Ф. – 85, 218 Равель М. – 145, 148, 155, 222 Рафаэль Санти – 12, 45 Рахманинов С. - 151 Регер М. - 147 230 Реми Т.- 61, 222 Репин И.Е. – 133, 222 Рескин Д. - 72 Римский-Корсаков Н.А. – 131, 138, 139, 206, 222, 224 Риттер И.В. – 10, 142 Розанов В. – 41, 222 Роллан Р. – 11, 81, 87, 91, 92, 94, 101, 105, 112, 113, 222 Роспильози, Джулио - 93 Россини Дж. – 87, 112, 223 Руссо Ж.-Б. - 117 Рэдин П. – 22, 224 Саккетти Л.- 8, 222 Саккад из Аргоса - 78 Салтыков-Щедрин М.Е. – 29, 222 Сальери А. – 11, 12, 118 Сати Э. – 149, 156, 208 Саша Черный – 42, 43, 69, 70 Свифт Дж. - 25 Селли Д. – 18, 19, 222 Сен-Санс К. - 147 Сервантес, Мигель де – 25, 35 Серов А.Н. - 135 Сибелиус Я. - 151 Симонов П. – 18, 222 Скарлатти Д. – 106, 193 Скрябин А.Н. – 67, 140, 148, 162, 206, 212 Слуцкий Б. - 42 Солженицын А.И. – 41, 222 Соловьев Вл. - 41 Сохор А. – 17, 89, 222 Спенсер Г. – 18, 222 Сталь, Жермена де - 44 Стравинский И.Ф. – 15, 61, 62, 64, 131, 139, 150, 152, 155, 159-161, 166, 167, 181, 183, 209-211, 218, 219, 222, 223 Страхов Н. - 133 Стриджо А. - 86 Сумарокова В. – 58, 223 Танеев С.И. - 147 Тараканов М.Е. – 64, 223 Теренций – 6, 77 Тимократ Аргосский - 77 231 Тимофей Милетский – 74, 75 Толстой Л.Н. – 41, 69, 223 Траэтта, Томазо - 111 Троило А. - 99 Тургенев И.С. – 44 Уолпол, Роберт – 111 Фаминцын А.Г. – 82, 223 Фарина К. - 99 Фейблмен Дж. – 20, 21, 224 Фетис Ф.-Ж. – 10, 223 Филенко Г. – 150, 223 Фирданк И. - 99 Флакк, раб Клавдия - 77 Флотуис М. – 16, 224 Фомин В. – 82, 218 Фомин Е. – 130, 203 Форкель Й. - 102 Франк, Сезар – 147 Франк С.Л. – 166, 223 Фрейд З. – 18, 19, 223 Фрейденберг О.- 22, 34, 223 Фрескобальди Дж. – 98, 99 Хиндемит П. – 61, 149, 156, 165, 173, 180, 208, 220 Хогарт У. – 7, 161 Ходасевич В. – 5, 223 Царлино Дж. - 90 Цельтер К.-Ф. - 79 Цицерон – 23, 223 Цукер А. – 17, 223 Цуккерман В. – 126, 131, 223 Чайковский П.И. – 15, 68, 70, 139, 160, 218, 222 Чаплин Ч. - 45 Чаплыгин Ю. - 29 Чернышевский Н.Г. – 31, 133, 223 Чести, Марк Антонио – 94 Шекспир У. – 5, 25, 31, 40, 96, 218, 220, 222 232 Шеллинг Ф. – 18, 223 Шенберг А. – 148, 154, 224 Шенк К. – 99 Шестаков В. – 21, 220, 223 Шестаков Д. - 76 Шиллер Ф. - 48 Шлегель А. – 9, 14 Шлегель Ф. – 43, 223 Шмидт Л. – 117, 224 Шнееганс Х. – 45, 224 Шнитке А. – 15, 61, 64, 67, 172, 184, 185, 223 Шопен Ф. – 48, 129, 149, 218 Шопенгауэр А. – 5, 10, 14 Шостакович Д.Д. – 8, 13, 15, 59-63, 65, 67, 69-71, 73, 132, 138, 139, 159, 164167, 169, 170, 179-183, 185, 212-217, 219-223 Штраус Й. – 129, 130 Штраус Р. – 49, 112, 129, 145-147, 149, 151, 156, 168, 207, 214, 220 Шуберт Ф. – 11, 49, 129, 150, 161, 130 Шульц Ю. – 76, 77 Шуман Р. – 11, 14, 16, 125-130, 201, 202, 223 Щедрин Р. – 54, 60, 172, 175 Щербак И. – 18, 224 Эзоп - 6 Эйзенштейн С. - 163 Эйслер Г. – 154, 224 Эккард И. - 86 Эллиот Р. – 22, 224 Энгельс Ф.- 27, 221 Энсина, Хуан дель – 88, 188 Эразм Роттердамский – 72, 222 Эсхил – 34, 77 Эфрос А. – 70 Ювенал – 39 Яковлев Е. – 21, 224 Ястребцов В. – 103, 224 Ярхо В. – 35, 224 233 Summary In the offered monograph the debatable questions of an aesthetics and musicology, connected with a category Comic are examined. The author puts forward the concept of structure of this category. The researcher will carry out differentiation between concepts " the humorous world " and category of Comic, in details examines a problem of borders of a category, its interrelation with other aesthetic categories. His classification of aesthetic varieties of Comic is deprived of rigidity. It is based on opposition of two tendencies: denying and asserting, which are poles of the humorous world. In a field of an attraction of these poles all emotional riches of the named category are opened. In the book the panorama of historical development of Comic figurativeness is opened, the art means of its embodiment are in details considered. Author marks feature of formation of Comic in musical art, which are connected to its specificity, pays attention to feature, characteristic for various art epoch. 234