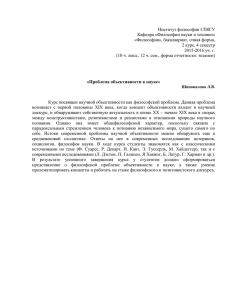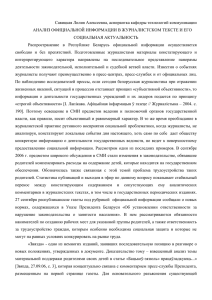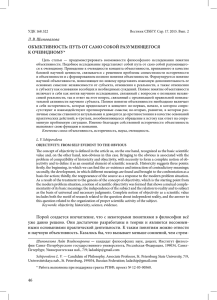reviewobjectivity_final
реклама
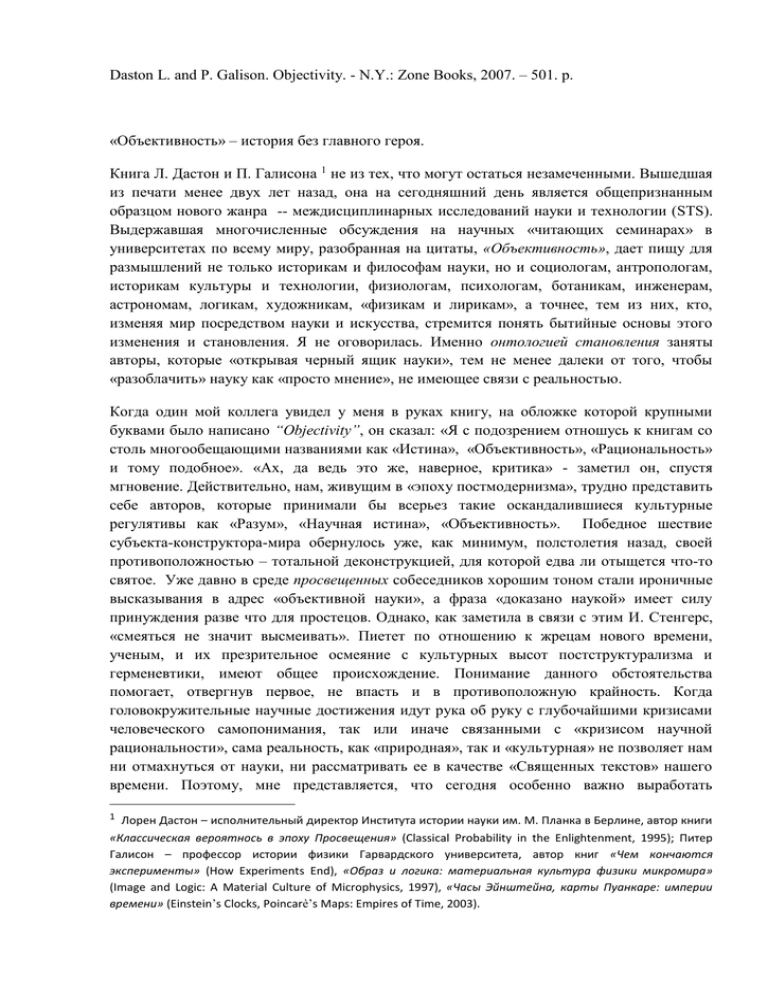
Daston L. and P. Galison. Objectivity. - N.Y.: Zone Books, 2007. – 501. p. «Объективность» – история без главного героя. Книга Л. Дастон и П. Галисона 1 не из тех, что могут остаться незамеченными. Вышедшая из печати менее двух лет назад, она на сегодняшний день является общепризнанным образцом нового жанра -- междисциплинарных исследований науки и технологии (STS). Выдержавшая многочисленные обсуждения на научных «читающих семинарах» в университетах по всему миру, разобранная на цитаты, «Объективность», дает пищу для размышлений не только историкам и философам науки, но и социологам, антропологам, историкам культуры и технологии, физиологам, психологам, ботаникам, инженерам, астрономам, логикам, художникам, «физикам и лирикам», а точнее, тем из них, кто, изменяя мир посредством науки и искусства, стремится понять бытийные основы этого изменения и становления. Я не оговорилась. Именно онтологией становления заняты авторы, которые «открывая черный ящик науки», тем не менее далеки от того, чтобы «разоблачить» науку как «просто мнение», не имеющее связи с реальностью. Когда один мой коллега увидел у меня в руках книгу, на обложке которой крупными буквами было написано “Objectivity”, он сказал: «Я с подозрением отношусь к книгам со столь многообещающими названиями как «Истина», «Объективность», «Рациональность» и тому подобное». «Ах, да ведь это же, наверное, критика» - заметил он, спустя мгновение. Действительно, нам, живущим в «эпоху постмодернизма», трудно представить себе авторов, которые принимали бы всерьез такие оскандалившиеся культурные регулятивы как «Разум», «Научная истина», «Объективность». Победное шествие субъекта-конструктора-мира обернулось уже, как минимум, полстолетия назад, своей противоположностью – тотальной деконструкцией, для которой едва ли отыщется что-то святое. Уже давно в среде просвещенных собеседников хорошим тоном стали ироничные высказывания в адрес «объективной науки», а фраза «доказано наукой» имеет силу принуждения разве что для простецов. Однако, как заметила в связи с этим И. Стенгерс, «смеяться не значит высмеивать». Пиетет по отношению к жрецам нового времени, ученым, и их презрительное осмеяние с культурных высот постструктурализма и герменевтики, имеют общее происхождение. Понимание данного обстоятельства помогает, отвергнув первое, не впасть и в противоположную крайность. Когда головокружительные научные достижения идут рука об руку с глубочайшими кризисами человеческого самопонимания, так или иначе связанными с «кризисом научной рациональности», сама реальность, как «природная», так и «культурная» не позволяет нам ни отмахнуться от науки, ни рассматривать ее в качестве «Священных текстов» нашего времени. Поэтому, мне представляется, что сегодня особенно важно выработать 1 Лорен Дастон – исполнительный директор Института истории науки им. М. Планка в Берлине, автор книги «Классическая вероятнось в эпоху Просвещения» (Classical Probability in the Enlightenment, 1995); Питер Галисон – профессор истории физики Гарвардского университета, автор книг «Чем кончаются эксперименты» (How Experiments End), «Образ и логика: материальная культура физики микромира» (Image and Logic: A Material Culture of Microphysics, 1997), «Часы Эйнштейна, карты Пуанкаре: империи времени» (Einstein’s Clocks, Poincarѐ’s Maps: Empires of Time, 2003). 2 взвешенное отношение к науке – «смеяться, но не высмеивать», признать ее исторический характер, но избежать ее отрицания. Творческий альянс Дастон и Галисона, по-моему, превосходно справился с этой задачей. Авторы рассказывают нам историю объективности. Звучит несколько настораживающе, так что у читателя сразу же возникает желание уточнить: историю идеи объективности или историю объективности самой по себе как некоей фиксированной онтологической и эпистемологической связки между человеком и миром, которую устанавливает и гарантирует наука? Ничто не мешает идее, даже такой внушительной, иметь свою историю, отчасти связанную с развитием языка и терминологии, отчасти с иными привходящими обстоятельствами, но историю объективности самой по себе трудно даже помыслить, не говоря уже о том, чтобы сделать ее очевидной для других. И все же авторам это удается. Нет, они не ставят себе задачу показать, что объективность исторически возникает вместе с экспериментально-математическим естествознанием как его необходимое приложение, единственно правильный метод и идеал, который, будучи однажды открыт в качестве универсального, останется таковым навсегда. С такой историей объективности без истории не составило бы труда примириться защитникам «объективной науки». Вызов, который бросают нам авторы, гораздо серьезней. Они рассказывают нам историю становления объективности как пространственно-временного момента естествознания, который синхронически и диахронически со-существует с иными его (естествознания) формами, причем иногда со-существует мирно, а иногда ученому приходиться совершать прямо-таки экзистенциальный выбор «между истиной и объективностью», или «между объективностью и экспертной оценкой» (P. 28). То обстоятельство, что объективность на определенном этапе заслонила собой все прочие методы получения знания, говорит лишь о масштабности этого проекта, но не о его универсальности. Итак, тезис первый. Эпистемология больше объективности. В эпистемологии наряду с объективностью можно выделить иные историко-культурные типы, а именно – доминирующую до объективности и не полностью вытесненную последней верность природе (truth-to-nature) и позже оспаривающую у объективности претензии на господство экспертную оценку (trained judgment). Но как же, спросит читатель, авторам удается показать, что спор идет не только о словах, не только об идеях и терминах, но и о самих по себе истине, объективности, экспертной оценке? Это происходит следующим образом. Дело в том, что авторы разделяют известное утверждение Витгенштейна: «значение слова есть его употребление», а также весьма близкую к нему идею М. Фуко о практическом конструировании личности. И та, и другая концепции, я думаю, проверяют на прочность кантовскую оппозицию между теоретическим и практическим разумом. Дастон и Галисон вслед за Витгенштейном и Фуко (и наряду с другими многочисленными участниками нынешнего «практического поворота» гуманитарных наук) намеренно смешивают теоретического и практического субъекта. 3 Отсюда -- тезис второй. Знание-представление неотделимо от знания-воли. В знаниипредставлении в свернутом виде содержатся «техники работы над собой», или, иначе говоря, этос ученого, практикующего определенный набор правил и норм, которые приводят к достижению тех или иных эпистемических добродетелей, например, объективности, как одной из них. Таким, образом, объективность, в свою очередь, не исчерпывается эпистемологией, она нуждается в этике: «что бы быть объективным, нужно практиковать объективность» (P. 52). Мы видим, что в оценке роли этического в науке авторы идут от нормативного к дескриптивному, так сказать, от Р. Мертона к Д. Блуру -для первого универсальные этические нормы не влияют на объективность, но лишь позволяют ей состояться, тогда как для второго научный результат является следствием определенных поведенческих стратегий. И, наконец, тезис третий, продолжающий линию Витгенштейна («невозможно соблюдать правила в одиночку»), а также Л. Флека с его понятием «мыслительного коллектива»: эпистемические ценности распространяются в процессе коммуникации, или, иначе говоря, этическое и эпистемологическое поведение содержит «социальную компоненту». Теперь у нас есть три тезиса и четыре понятия -- «эпистемологическое», «этическое», «социальное», «объективное», которые вступают в перекрестные отношения друг с другом. Я попытаюсь упорядочить их с помощью кругов Эйлера: Заштрихованная фигура внутри круга «объективность» изображает общий объем понятий. Он, по сути дела, и служит авторам в качестве аргумента. Аргумент неожиданный -- научные атласы. В них находит выражение определенная культура зрительного восприятия, имеющая эпистемологические (знание-представление), этические (знание-воля) и социальные («коллективный эмпиризм») измерения, которая характеризуется самими учеными, создателями и пользователями атласов, с помощью термина «объективное». Смысл истории в картинках, а вся книга, по сути дела, и есть история в картинках, состоит в том, чтобы показать, как объективность и ее альтернативы практикуются в качестве техник наблюдения и создания изображений: «нас интересует практика наблюдения больше, чем теории визуального восприятия» (P. 352). Выбор изобразительных технологий как ключевого аргумента в истории объективности, 4 на мой взгляд, решение в высшей степени плодотворное, хотя и необычное. Нет нужды говорить, какое огромное значение для естествознания играет зрительное восприятие и наглядный образ (представление) объектов изучения. А задача изображения объектов отвечает самой насущной потребности естествознания – сделать восприятие и представление общедоступными и общезначимыми. В то же время эмпирический и конструктивистский характер экспериментально-математического естествознания, его исходная сопряженность с технологией с самого начала поставили изображение и изображаемое в центр наиболее запутанных и острых вопросов методологии и онтологии науки Нового времени. Это вопросы об отношении между восприятием (по большей части, инструментально опосредованным восприятием инструментально изготовленного объекта), представлением и природой самой по себе, о степени их соответствия друг другу и причинно-следственных связях между ними. В зависимости от ответов на эти вопросы формировался научный метод. В зависимости от применения научного метода формировались ответы на эти вопросы. Да, именно так, потому что, как показывают авторы, в цепочке «ученый», «научное исследование», «изученный предмет» (я сознательно оставляю пока в стороне «природу саму по себе», об этом мы еще поговорим) действует принцип «круговой референции»: «создание научного изображения – это часть процесса создания личности ученого» (P. 363), который, в свою очередь, задает стандарты научных изображений, черпая эти стандарты из существующих компендиумов научных изображений, научных атласов. Почему же при столь большой научной значимости изображения эпистемология не уделяла ему до сих пор должного внимания? Связь науки и искусства через общие мировоззренческие матрицы стала предметом многих исследований в работах по философской истории науки во второй половине 20 в. (в отечественной традиции достаточно указать превосходный очерк «Маятник и перспектива» в кн. Гайденко П.П. «История новоевропейской философии в ее связи с наукой», 2000) однако, насколько я знаю, масштабный анализ научного изображения с точки зрения скрытых в нем онтологии, эпистемологии и лабораторной практики был предпринят впервые (известная книга Б. ван Фраассена «Scientific Image», 1980 посвящена теоретическим аспектам наблюдения, а не практическим аспектам изображения наблюдаемого). Это объясняется, вероятно, тем, что традиционная эпистемология и интерналистская история науки не считали лабораторную практику своей областью, рассматривая ее в качестве придатка научной теории или побочного продукта истории идей; при таком подходе картинки в научных атласах, равно как и методы их создания оставались за бортом эпистемологических штудий, предполагавших, что теория производит и теорию, и практику. Обратная зависимость теории от практики и материальной культуры долгое время не учитывалась эпистемологией (правда, марксизм еще в 19 в. постулировал такую зависимость, но сосредоточился в основном на товарно-денежных отношениях в ущерб прочему, в частности, художественному материалу). В конце 20 в. ситуация изменилась, о чем свидетельствуют «исследования науки и технологии», предпочитающие работать с «многомерными объектами», в которых культурные, технологические, социальные, теоретические, идеологические, художественные и экономические компоненты взаимно 5 обусловлены. Вернемся поэтому к круговой референции. Но здесь нас подстерегает опасность. Как известно, главная претензия, которую Аристотель предъявил диалектикам во главе с Платоном, состояла в том, что в их теоретическую схему движения по кругу (взаимного определения элементов) невозможно включить природное движение и изменение, поскольку ему «не во что произойти», все уже имеется в наличии. Действительно, изменение предполагает процесс перехода в противоположное – от того, чего еще нет к тому, что уже есть и, следовательно, предполагает точку отсчета -- неизменного субъекта изменения, носителя начального и конечного состояний, способного вследствие разности этих состояний к развитию. Что же касается круговой референции, то она избегает точки отсчета и рисует величественную, но статичную картину одновременной связи всего со всем. В нашем случае -- атласы, хранилища научных объектов отсылают к эмпирической онтологии, которая выступает результатом определенной культуры зрительного восприятия, а за нее отвечают научные атласы и способы их создания. Атласы, таким образом, -- не только следствия, но также «визуальные основания, на которых покоятся дисциплины, чей главный метод -- наблюдение» (P. 48), не только предикаты какого-то иного становящегося субъекта, например, научной теории, но также субъекты, по отношению к которым иные действующие лица выступают в роли предикатов. Мы видим, что в этой схеме всеобщего опосредования авторы сознательно уклоняются от редукционизма и ведут исследование по кругу: анализируя собрания научных изображений и, следовательно, способов наблюдения, они стараются понять a) культурную матрицу – «объективность», которая сформировала данный тип зрительного восприятия, равно как и b) влияние, которое атласы и изобразительные технологии оказали на самоопределение ученого, методологию науки (оценку методов получения достоверного знания) и онтологию (решения относительно того, какие виды вещей содержатся в мире). И поскольку точка отсчета в такой схеме отсутствует, или, что одно и то же, за нее можно принять любой элемент, то возникает вопрос о закономерности диахронического среза этой схемы. Поставим вопрос иначе: кто все же является главным героем той истории, которую рассказывают авторы? В том же, что они рассказывают нам историю, нет никакого сомнения. Судите сами. Не только современное понятие, но сама практика «объективности» возникает не ранее середины 19 в. Новизна этой практики состояла в том, что почти одновременно на всех «научных фронтах» -- от ботаники до кристаллографии и астрономии ученые задумались о допустимых пределах идеализации изображаемых объектов и почти повсеместно отвергли предшествующий способ изображения, который осуществлялся, как правило, «в четыре глаза»: чувственный взор художника-иллюстратора направлялся и исправлялся умственным взором ученого-натуралиста. Последний за кажущимся разнообразием и неповторимостью объектов стремился разглядеть идеальные типы. Атласы той, «дообъективной», эпохи, которую авторы называют «верность природе» были полны абсолютно симметричных снежинок, типичных листьев, геометризированных насекомых и т.п. «Для натуралистов, которые придерживались верности природе, изображение, в точности передающее увиденное, не заслуживало доверия. Изображению надлежало быть 6 осмысленным, что достигалось посредством приложения разума к чувствам и воображению, а также приложения воли натуралиста к глазам и рукам художника» (P. 98). В середине-второй половине 19 в. данный способ изображения был подвергнут критике как незаконное вмешательство в природу, и ученые обратились к методу «зрения вслепую», которое воспроизводит природу «как она есть на самом деле» – неровные края, неидеальные пропорции, причудливые формы, отсутствие строгого повторения. Благо материально-техническая база позволяла достичь желаемого: применение фотографии и микрофотографии было следующим за камерой обскура и камерой люсида шагом механизации изображений. Идеал «механической объективности» требовал от ученого полного самоустранения: запечатленная на фотографиях природа говорила сама от себя. Искусственный характер фотографии при этом служил, скорее, в поддержку объективности: нередко артефакты, случайно попавшие на изображения, попадали и на страницы атласов как свидетельства подлинной репрезентации объекта! Ирония заключается в том, что практика механической объективности привела к возникновению новой экспериментальной онтологии субъективности, которая впоследствии выступила аргументом против механических, да и любых других, изображений. Вооруженные объективной методологией физиологи и экспериментальные психологи в конце 19 в. приходят к удручающим выводам относительно способности человеческого восприятия (в частности, зрительного) и представления – нервная система и мозговая деятельность обнаруживают не меньшее разнообразие, чем прочие естественные феномены. Это породило новый виток объективности, на сей раз без изображений. Авторы называют ее «структурной объективностью» – философы и логики, математики и физики на рубеже 19-20 вв стремятся разработать «нейтральный язык», передающий структурные отношения между элементами опыта, общие (в отличие от опытных данных) всем способным к разумному диалогу существам. В 20 в. объективность начинает сдавать позиции, и фигура эксперта-интерпретатора, обладающего индивидуальными навыками, вновь становится научно значимой, а в некоторых областях науки, например, физике элементарных частиц и ее имиджмейкерской практике насущно необходимой. Однако ни о каком возврате к идеалу «истина-в-природе» речь не идет, как, разумеется, и о линейном прогрессе: «сменяющие друг друга эпистемические добродетели не уничтожают ... но, скорее, аккумулируют друг друга» (P. 363),.. «наподобие эффекта храповика, однажды возникшая практика объективности в дальнейшем делает невозможным простое возвращение к предшествующим видам практики» (P. 371). Итак, история оказывается нелинейной, но все же историей. Хотя у нее нет главного героя. Объективность сама по себе при ближайшем рассмотрении отсылает ко множеству иных акторов. Однако, в картину взаимной обусловленности Дастон и Галисону удается вписать время. Движение по кругу определяющих друг друга действующих лиц – онтологии, методологии, этики, технологических инноваций, визуальных практик и пр, -- предстает в качестве спирали, раскручивающейся все больше и больше с каждым новым витком. Кто (или что) ответственен за переход от «истине-в- 7 природе» к «объективности» во второй половине 19 в.? Социальные потрясения, разрушившие иерархический тандем ученого и художника, прирост технологий, поставивших автоматические механизмы на службу визуального восприятия, адаптация философами и учеными-натуралистами кантовского словаря, научные открытия, или логика развития метафизических представлений? Я думаю, что авторы рассказывают нам историю «кооперативных эффектов»: не внезапная смена гештальта, не плавное развитие, а, скорее, «порядок из хаоса» может послужить полезной аналогией. Дастон и Галисон прибегают к образу лавины: поначалу даже такие крупномасштабные события как падающие камни, срывающиеся ветви и сползающие пласты снега не нарушают равновесия, но когда условия нестабильности «созревают», даже мельчайшие отдельные отклонения, «триггеры», могут вызвать обвал и формирование новой конфигурации элементов. При этом непредсказуемость кооперативных эффектов принципиальна: природа сама не знает, когда условия нестабильности «созреют». Но где же в этой истории природа? -- спросите вы. До сих пор разговор шел исключительно о культуре. Обсуждая «объективность», хитрые авторы все время переводили стрелки на «субъективность» и метаморфозы, происходящие с ней. Все эти условия нестабильности, лавины и триггеры принадлежат «социальному», и не имеют никакого отношения к «природе самой по себе», которая единственная осталась вне списка действующих лиц повестовования. Позволю себе не согласиться. Да, авторы не говорят о «природе самой по себе», они избегают «наивного объективизма», но они равно избегают «наивного субъективизма», поскольку «субъект сам по себе» тоже исключен из этой истории. Ни «субъект», ни «общество» не обладают устойчивостью «точки отсчета», они – не только причина, но и следствие новых природо-культурных конфигураций. Недаром авторы специально оговаривают, что термин «социальное» как зарекомендовавший себя не лучшим образом предпочтительнее заменить термином «коллективное», поскольку последний оставляет открытым вопрос о фатальной «природной» или «культурной» принадлежности действующих лиц, но подчеркивает их становление относительно друг друга. И хотя Дастон и Галисон не создают онтологию направленно, я думаю, что она может быть прочитана между строк – это онтология коллективного становления, и ее эпистемологической импликацией будет не представление как вос-произведение уже существующего, а вмешательство, как произведение нового. Существует ли практический коррелят этой «неклассической» онтологии? Или для своей концепции авторы делают исключение, полагая, что их идеи избежали обусловленности практикой, и они призваны «из ниоткуда» дать оценку сменяющим друг друга культурам научного изображения? Нет, не делают. Дастон и Галисон пытаются до конца следовать логике собственной схемы и находят такой коррелят (контекст). Это новые цифровые изобразительные технологии и моделирующие практики, виртуальные атласы виртуальных миров, а также «наноманипуляции», посредством которых создаются хаптические изображения, видоизменяющие изображаемое. На этой стадии наука и искусство не противоборствуют, а работают совместно над созданием не только картины мира, но и мира в целом. 8 Когда я писала эту рецензию, под основным текстом я вбивала нечто нечто вроде плана – по пунктам наиболее важные темы, на которых останавливались авторы, и которые мне хотелось бы учесть далее по тексту. Так вот сейчас, когда я понимаю, что уже несколько превысила принятые в традиции рецензирования объемы, я не без сожаления удаляю все эти оставшиеся невостребованными планы, смыслы и сюжеты, а их набирается с добрую страницу. Социальные роли ученого и художницы, просветительская оценка ремесел, художественные училища и академии, Великая французская революция, дневниковые записи известных натуралистов, техника окрашивания нейронов, этнографический материал, понятийное письмо Г. Фреге, особенности машинного производства во второй половине 19 в., позиция А. Пуанкаре в полемике реалистов и эмпириков, этимологические экскурсы, искусство ретуширования, создание композитного портрета, устройство камеры люсида, треки в пузырьковой камере, а также многое, многое другое, не попали на страницы рецензии. Но, наверное, это к лучшему, так как позволяет сохранить интригу для будущего читателя книги. Сколько удивительных открытий на пути истории объективности его ожидает! Остается надеяться, что «Объективность» пришла, или в скором времени придет в Россию более, чем в одном экземпляре (которым обладает автор этой рецензии) 2. И, конечно, хотелось бы, что бы она встретила здесь заинтересованных и внимательных переводчиков. PS Я благодарна студентам философского факультета ГУ-ВШЭ, вместе со мной прочитавшим «Объективность» на семинаре по «исследованиям науки и технологии», 2008-2009 учебный год. 2 Отклик на «Объективность» на русском языке появился недавно в журнале «Эпистемология & философия науки” в обзоре творчества Л. Дастон – см. Боганцев И.А. Лорен Дастон: наука в ее «живой» истории. – Эпистемология & философия науки. Т. 19. № 1. С. 95-110.