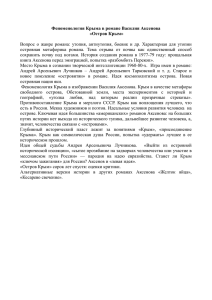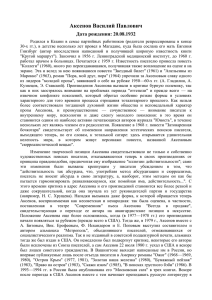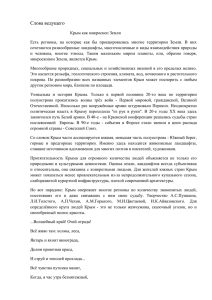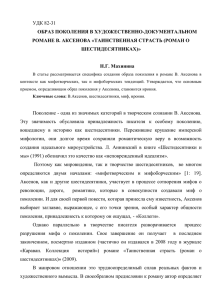"Остров Крым" В.Аксенова
реклама

«Остров Крым» В. Аксенова: поэтика комикса С.Ю. Воробьева «Остров Крым» — первое из эмигрантских, тамиздатских произведений Аксенова, опубликованное в России в годы перестройки. Жанр его трудно определим: синтез утопии и антиутопии, «парабола-притча об обреченности идеализма, заложенного в самом человеке, о том, как беззащитен духовно бескорыстный человек, в том числе и классический русский интеллигент, перед «высокими порывами», как неизбежно наталкиваются они на неподдающийся монолит сущего и как — все равно — вечен тот спор» [Свительский 1994: 59]. Сюжет романа строится на принципе допущения, когда история обретает невозможное в реальности сослагательное наклонение: что было бы, если бы... В результате Аксенов создает перед потрясенным и заинтригованным читателем альтернативную модель возможного исторического пути России, не знавшей революции. Изначально события романа разворачиваются, исходя из условий конвенции автора и читателя, максимально «включившего» свое воображение. Шокирующее название, узнаваемые географические реалии, время действия, сопряженное с реальными событиями (Лучников работает над статьей, посвященной 100летию Сталина) и лишь с какой-то (совсем не с первой) страницы читатель понимает, что втянут в увлекательную игру, где буйство авторской фантазии оплотнено реалистической, почти осязаемой детализацией, продуманностью каждой крымской картинки. «Всякий знает в центре Симферополя, среди его сумасшедших архитектурных экспрессий, дерзкий в своей простоте, похожий на очиненный карандаш небоскреб газеты “Русский курьер”» [Аксенов 1997: 7], — с первых же страниц романа автор последовательно, кадр за кадром, методично начинает выстраивать псевдореальный мир, в существование которого читатель начинает верить почти сразу, как только заключает с автором конвенцию доверия. В романе много унаследовано от классической утопии: Аксенов даже не подражает, не стилизует, а идет давно проторенным путем, во-первых, ограничивая утопическое пространство, дерзко превращает полуостров в остров, ликвидируя Таманский перешеек; во-вторых, вводя для удобства героя-проводника. Эту роль выполняет, в основном, Андрей Лучников, но время от времени к ней активно подключаются и другие персонажи, особенно когда автору необходим свежий взгляд на уже созданную и прописанную в деталях картину. Так появляются эпизоды с приездом в Крым Тани Луниной, Марлена Кузенкова. Путешествуя по Крыму-острову, Аксенов постоянно апеллирует к сознанию соотечественника, более или менее знакомого с географией Крыма-полуострова. Художественное пространство, накладываясь на реальное, формирует эффект приема «текст в тексте», разворачивая перед читателем некий проект под условным названием «Как нам обустроить Крым?, или план построения развитого капитализма в отдельно взятом регионе России». Увлекая читателя буйством фантазии, Аксенов формирует в его сознании мысль о том, почему, собственно, все это изобилие, эта красота и благополучие невозможны в условиях социализма? Этим пафосом неприятия совковости оказывается пронизан весь роман. В этом и слабость произведения: «…как ни важна для автора задача убеждающего фантастического созидания, из мысли романа вытекает и другое. Остров Крым — видение, фантазия, подобная призрачному киномиру, существующему материально, пока идут съемки и нужны выстроенные декорации» [Аксенов 1997: 7]. Поэтому, хотя «Ожог» и «Остров Крым» были восприняты критикой как своего рода дилогия, «как спор в двух частях на тему грехов и искупления русской интеллигенцией, которая создала монстра, а после была им поглощена» [Немзер 1991: 243]. «Остров Крым» в своей поэтике оказывается, несомненно, более прост, доступен и более схематичен, в большей степени ориентирован на массового читателя, чем сложнейший в композиционном плане «Ожог». И если в жанровом отношении он легко встраивается в утопический и антиутопический контекст, то дискурсивно строится по принципам эстетики комикса, как ряд пестрых, ярких, но достаточно плоских (одномерных) картинок, в которых внутренняя мотивация поступков персонажей, глубинный психологизм оказываются замещены исчерпывающими самооценками героев, в которых неприкрыто слышится прямое авторское слово, утратившее свою диалогическую природу. Отсюда несколько навязчивой, авторитарной предстает и сама позиция автора, заранее решившего за читателя, что такое хорошо и что такое плохо. Довольно резко высказывается по этому поводу Д. Миливоевич, считая, что хотя главные герои – русские и действуют на русской территории, ведут они себя как типичные американцы, что произведению не хватает глубины, и оно относится к категории занимательных и развлекательных романов, которые «читают в воскресенье после обеда, а затем забывают» [Цит. по Ефимова 1995: 338]. Эта оценка заставляет вспомнить специфику читательских ожиданий в России начала 1990-х. Именно таких, понятных, не нуждающихся в глубоком аналитическом прочтении, но идеологически верно отражающих новую постсоветскую ментальность героев, возможно, и жаждал тогдашний российский читатель, слегка «перекормленный» великой литературой и втайне почитывающий детективчики, фантастику и «Анжелик», не пресытившийся еще масскультом и с уважением и пиететом относящийся к любому печатному слову. Андрей Лучников — образ, несомненно напрямую связанный с автором, его рефлексией. В нем критики находят автобиографические черты, относящиеся к ранней карьере Аксенова, прослеживают в романе следы годового пребывания автора в Америке в 1975 году. Тем не менее, автор расходится со своим героем в главном — в допущении самой возможности привить идеи свободного, открытого общества к политическим структурам СССР. Следствием подобного отношения становится последовательное травестирование автором героической безупречности Лучникова: карманная беретта Джеймса Бонда, внешность кинорекламного ковбоя Мальборо, страсть к мотогонкам и многочисленные любовные победы. Все это воспринимается как дань, которую В. Аксенов отдает собственной «детской болезни», уже пережитой, преодоленной, но все еще милой сердцу. Это как взгляд на себя со стороны с позиции русского человека, уже разочарованного красивой картинкой западной жизни, но при этом с радостью дарящего эту картинку своим соотечественникам, еще пребывающим в стадии очарованности «америками и европами». Налицо некий социальный заказ, бизнес-проект, позволивший умудренному опытом западной жизни писателю создать своего рода рецепт обреченного на тотальный успех продукта, и комикс как стратегия был выбран неслучайно: возвращение на родину должно было быть ярким, но не эпатирующим. Андрей Лучников, Луч — принципиален и последователен в своих поступках, он абсолютно честен, совпадая с самим собой во внешнем и внутреннем бытии своей личности. Поэтому нет видимых причин для его рефлексии, которая, тем не менее, необходима автору как обязательный атрибут русского интеллигента. Этот необходимый для самоанализа, внутреннего несогласия героя с самим собой зазор, как почва для рефлексии, буквально вымучивается автором и героем, отчетливо напоминая западной критике «традиционно русский садо-мазохистский комплекс» (Дж.Апдайк). На самом деле, все обстоит несколько иначе, так как проза Аксенова адресована не просто эрудированному читателю, но прежде всего, соотечественнику, способному мыслить категориями отечественной истории и культуры. В их контексте Лучников — это герой-декабрист, не представляющий своего счастья без благополучия всех своих соотечественников. Для него быть счастливым в своем отдельном раю на острове О' кей и закрывать при этом глаза на страдания своего народа — абсолютно бесчестная позиция. И прямолинейность, и упорство, с которыми Луч, буквально закусив удила рвется к своей великой цели, Идее Общей Судьбы, могут быть прочитаны, с одной стороны, как характерный демократический комплекс свободного человека в свободном обществе, как необходимость на все иметь свое собственное мнение, а с другой, это воспринимается и как давняя, сформулированная еще Пушкиным, вечная мечта русского интеллигента «по прихоти своей скитаться здесь и там». Но и в том, и в другом случае герой обладает достаточно «прозрачной» семантикой, чтобы демонстрировать свою очевидность. Три поколения Лучниковых проходят перед читателем романа, три вариации возможного иного развития России. Их представители прописаны с той наглядностью, которая вновь рождает ассоциацию с комиксом: только нужное и типически значимое, но при этом ничего лишнего, никакой «достоевщины» - боже упаси! – читатель не должен иметь двойственного впечатления о герое. Старик Арсений, рыцарь-белогвардеец, унесший с собой в Крым лучшие черты российской аристократии (автор просто упразднил, не допустил иных). Он безупречен во всем и при этом исполнен обаяния некоего рафинированного римейка, типажа, условно репрезентирующего когда-то реальную личность. Аксенов снимает с повестки дня конфликт поколений: в крымской утопии это неуместно! В результате патриот Арсений принимает и разделяет в душе все выкрутасы своего внука-космополита Антошки. Лучников-младший, сын Андрея — гражданин мира, год проведший в скитаниях-путешествиях. Вернувшись на родину, он живо воспринимает новую философию крымских яки, при этом отзывчивость его натуры предстает как вполне русская, национальная черта характера. И все же, в каждом из трех Лучниковых сквозит некий инфантилизм, все они живут в рамках созданного мифа: Арсений сохранил в памяти Россию дворянства; Андрей вырос в мире откровенно прозападном; Антон знает о России в основном из общения с джазовым гением Димом Шебеко и путешественником-нелегалом Бен-Иваном. Все это напоминает стародавнюю, множество раз отрефлексированную и от этого обретшую тот же рафинированный облик, что и ее жертвы, беду русской интеллигенции, которую Достоевский называл потерей почвы. Женские образы романа, как всегда у Аксенова, подчеркнуто эротичны, но их эротизм либо обязательно осенен «духовной жаждою» героини, либо абсолютизируется и сводится к внешней атрибутике красотки-сексапилки. Таня Лунина «начертана неясно» и прежде всего, для самого автора. Обязательные для аксеновских героинь физическое совершенство (спортивность, элегантность), элитарность (чемпионка мира, диктор ЦТ), сексуальная раскрепощенность в полной мере присущи Татьяне, но она же и типичный «совок». Такое сочетание у Аксенова встречается впервые, и автор сам отчасти становится наблюдателем, предоставляя этому образу возможность «выезжать» на собственных запасах энергии. Куда качнется маятник Таниной судьбы — впишется ли она в Западный мир, или сохранит верность социалистической родине? Что возобладает в ней — стремление к свободе или привычка? Свободолюбие героини сводится в большей степени к внешним проявлениям, оборачиваясь фрондерством, нарочитой распущенностью «сучки-щучки», а душевные муки Тани Луниной вызывают гораздо меньше эмоций, чем страдания ее карикатурного супруга-супа. В конце концов она, любимая и единственная в начале романа, к его финалу начинает даже мешать Лучникову, поэтому довольно быстро замещается Кристиной, в которой набор принципиально тех же качеств выглядит иначе, т.к. лишен чисто русской надрывной непредсказуемости: «…в целом это всетаки не просыпающееся, а тупиковое сознание, лишь приближающееся к сознанию переходному» [Свительский 1994: 58]. Эта скоростная смена возлюбленных только укрепляет сходство Лучникова с не менее комиксным Бондом. Утопическая идея Общей Судьбы приводит к катастрофе в конце романа: советские власти оказались не в состоянии понять ее суть и опошлили ее примитивной оккупацией, подобно чехословацкому вторжению в 1968. Лучников воспринимает вторжение советских войск в Крым как съемки художественно-документального фильма: в рамках повествовательной стратегии романа этот прием воспринимается как знак помешательства главного героя, помутнения его рассудка. Аксенов абсолютно достоверен психологически: в кризисные моменты сознание человека не может не «тормозить», отстраняться от непривычного образа окружающей действительности. Остается время лишь для фиксации моментов происходящего, поэтому описание последних часов Крыма напоминает в романе феерически быстро сменяющиеся картинки комикса. Раскол, созданный Лучниковым ради соединения Крыма с СССР, возможно, следует воспринимать как метафору, прочитывающуюся, впрочем, вполне прямолинейно: тоталитаризм неизбежно поглощает все индивидуально-неповторимое, яркое. С другой стороны, в таком финале видится мрачный исторический прогноз: на русской почве не прививается демократия, если даже крымчанин Лучников, лучший представитель островной демократии, потомственный дворянин, голубая кровь, бредит идеей объединения, колхоза. Эстетика комикса, чьи приемы довольно последовательно проявляют себя в романе «Остров Крым», генетически, несомненно, восходит к более ранним произведениям В. Аксенова («Затоваренная бочкотара», «Ожог»). Она наследует их неповторимый в своей наглядности гротеск, который, впрочем, утрачивает в ряде последующих произведений («Московская сага», «Москва ква-ква» и др.) свойственную ему символическую доминанту, позволявшую исследователям видеть в стиле писателя продолжение традиции Гоголя и Андрея Белого [Ефимова 1995: 347]. Это приводит на определенном этапе творчества к уплощению и упрощению поднятой ранее социально-исторической проблематики, постепенно обретающей в постперестроечной России все более «масскультовский» облик, перемещаясь из сферы откровения и покаяния в область инфотеймента. Литература Аксенов В.П. Остров Крым: Роман / В. П. Аксенов. — М.: Изограф, 1997. — 415 c. Ефимова Н. Василий Аксенов в американской литературной критике/ Н. Ефимова // Вопр. лит. 1995. № 4. С. 336 — 347. Немзер А. Странная вещь, непонятная вещь / А. Немзер // Новый мир, 1991. № 11. С. 243 – 249. Свительский В.А. Динамика изображения в романе В. Аксенова «Остров Крым» / В.А. Свительский // Литературная судьба. 1994. № 4. — С. 57 - 64.