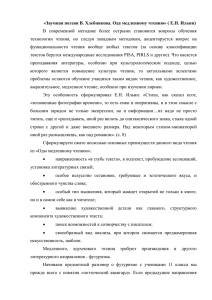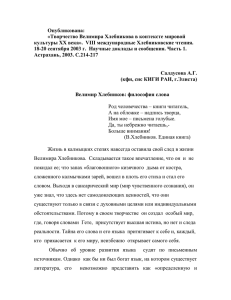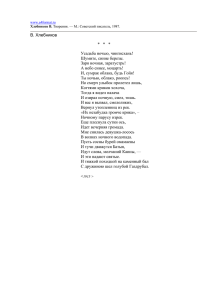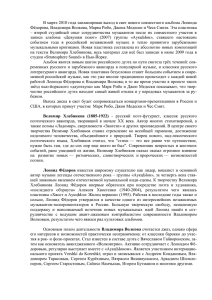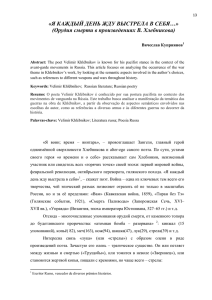Велимир Хлебников: Русь, ты вся
реклама
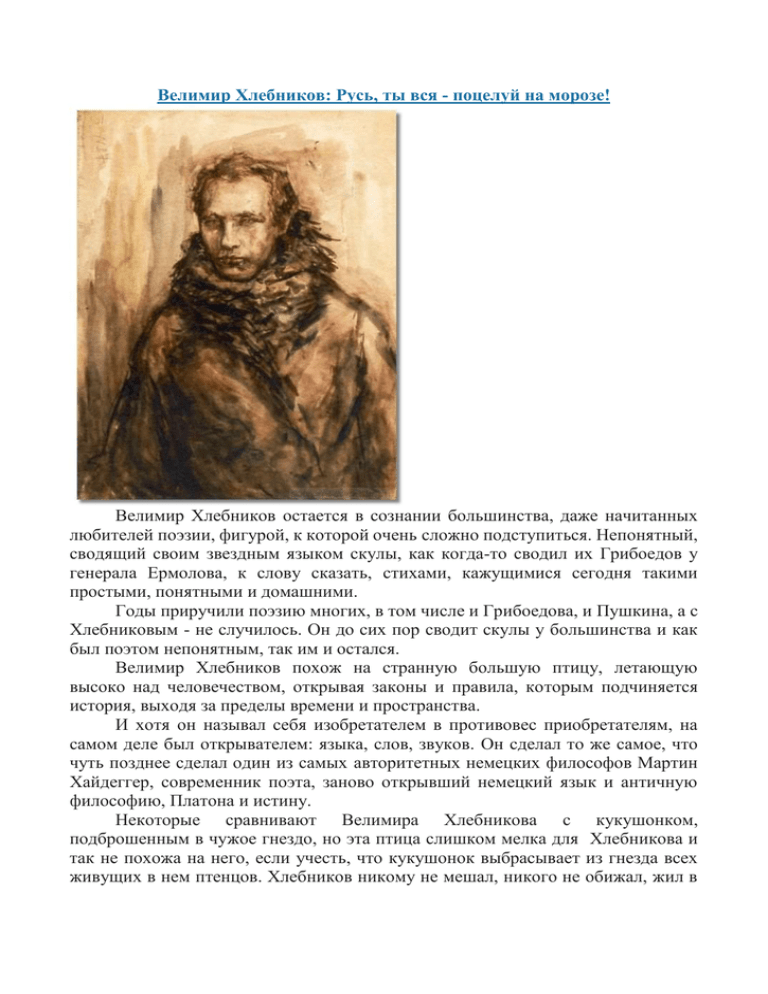
Велимир Хлебников: Русь, ты вся - поцелуй на морозе! Велимир Хлебников остается в сознании большинства, даже начитанных любителей поэзии, фигурой, к которой очень сложно подступиться. Непонятный, сводящий своим звездным языком скулы, как когда-то сводил их Грибоедов у генерала Ермолова, к слову сказать, стихами, кажущимися сегодня такими простыми, понятными и домашними. Годы приручили поэзию многих, в том числе и Грибоедова, и Пушкина, а с Хлебниковым - не случилось. Он до сих пор сводит скулы у большинства и как был поэтом непонятным, так им и остался. Велимир Хлебников похож на странную большую птицу, летающую высоко над человечеством, открывая законы и правила, которым подчиняется история, выходя за пределы времени и пространства. И хотя он называл себя изобретателем в противовес приобретателям, на самом деле был открывателем: языка, слов, звуков. Он сделал то же самое, что чуть позднее сделал один из самых авторитетных немецких философов Мартин Хайдеггер, современник поэта, заново открывший немецкий язык и античную философию, Платона и истину. Некоторые сравнивают Велимира Хлебникова с кукушонком, подброшенным в чужое гнездо, но эта птица слишком мелка для Хлебникова и так не похожа на него, если учесть, что кукушонок выбрасывает из гнезда всех живущих в нем птенцов. Хлебников никому не мешал, никого не обижал, жил в своем мире слов, которым хотел вернуть первозданную чистоту и прозрачность – самовитость, делая их осязаемыми звуко-вещами. Ну, тащися, Сивка Шара земного. Айда понемногу! Я запрег тебя Сохой звездною, Я стегаю тебя Плеткой грёзною. Что пою о всём, Тем кормлю овсом, Я сорву кругом траву отчую И тебя кормлю, ею потчую. Его поэзия – сплошной сдвиг, сбой, смена, перебой даже на самом маленьком пространстве короткого стихотворения, поэтому поэзия Хлебникова требует напряжения читателя на протяжении всего стихотворения и на нем не отдохнешь. Читать его – все равно, что бежать от себя на много километров вверх, вперед и назад одновременно, захватывая сразу несколько пластов пространства, времени и звуков, преодолевая их ограниченность здесь и сейчас. Слову, говорил Хлебников, надо покрыть в наименьшее время наибольшее число образов и мысли. Через полгода после смерти поэта Осип Мандельштам в связи с этим скажет: «Хлебников не знает, что такое современник. Он гражданин всей истории, всей системы языка и поэзии. Какой-то идиотический Эйнштейн, не умевший различить, что ближе — железнодорожный мост или «Слово о полку Игореве»». Поэтому на четырех строчках могут встретиться Пушкин и Пугачев, капитанская дочка и Есенин, нэпманы и летающие люди: Эй, молодчики-купчики, Ветерок в голове! В пугачевском тулупчике Я иду по Москве. Поэзия Велимира Хлебникова - это бег с препятствиями: только начинаешь привыкать к ритму, а он сбивается и ускользает, сменяясь другим, к которому снова - только приспособишься, а он опять ускользает, усложняясь множеством неудобных согласных. Сквозь них пробиваешься как сквозь колючие кустарники, а остановишься – упустишь смысл, который и есть конечная цель всего словотворчества Хлебникова. Такой бег не каждый выдерживает и даже такой крупный языковед как Винокур и русский философ Шпет с раздражением говорили о теоретизированиях Хлебникова, мешающие воспринимать его поэзию «почеловечески». Русь, ты вся - поцелуй на морозе! Синеют ночные дорози. Синею молнией слиты уста, Синеют вместе тот и та. Ночами молния взлетает Порой из ласки пары уст И шубы вдруг проворно обегает Синея, молния без чувств. А ночь блестит умно и черно. (1921) Поэтический язык Велимира Хлебникова меньше всего настроен на функцию коммуникативную, свойственную языку практическому. Стихи, по его мнению, вовсе не должны быть понятными, в чем с ним трудно не согласиться. Понятной может быть вывеска у магазина, реклама, знак опасности, но не поэзия. Поэзия сродни народным заговорам – «шагадам, магадам, выгадам, пиц, пац, пацу», в которых ничего понятного нет, но есть необъяснимая власть и чары. Также, например, поэтичен и обворожителен церковно-славянский язык, непонятный большинству русских, но в котором живет настоящая живая молитва. В поэзии Велимира Хлебникова язык - другой, особый, где каждое слово – звезда, ни на одну другую не похожая. У него слово высвобождено из будничного рассудка и закреплено на небесном своде, карта которого понятна только звездочету. Поэт писал словами-звездами, разбрасывая их на своем поэтическом небосводе в только ему понятном порядке, за которым всегда были смысл и содержание. Но их еще надо уловить и распознать. Но именно они - главные в его поэзии. Форма для Хлебникова слишком материальна, чтобы удержать бесплотное содержание, живущее вне пространства и времени. Форма склонна к застыванию, шаблону и штампу, мешающие воспринимать поэзию как чудо, как волшебство, как сверхреальность. Поэтому он настраивал язык и слово не на форму, а на смысл, самоценность и независимость от сложившейся практики их употребления в быту и от ожиданий публики. Усадьба ночью, чингисхань! Шумите, синие березы. Заря ночная, заратустрь! А небо синее, моцарть! И, сумрак облака, будь Гойя! Поэт соскабливает со слов привычное, заскорузлое, застывшее, «умное», раскладывая слова на отдельные звуки, в которых оживает, душа мировой истины, «за-умное». Велимир Хлебников искал такие азбучные истины, чтобы из них потом можно было построить нечто похожее на таблицу Менделеева. Он считал, что язык – мудр так же, как мудра природа и в нем уже все есть, наука может открывать эту мудрость и фиксировать, чем поэт и занимался. Усвоение Хлебникова – это мучительный процесс его разгадывания по едва уловимым намекам. Его кочевая жизнь, недоедание, психические отклонения, непохожесть на остальных, улюлюкания со стороны образованных и необразованных, не давали ему в полной мере высказаться. Он не создал своей традиции, у него не было своей школы. Но именно ему и его языковым и научным экспериментам обязаны поэты двадцатых годов (Маяковский, Асеев, Даниил Хармс, Введенский и др.) и восьмидесятых (Вознесенский, Высоцкий), а по большому счету и вся русская поэтическая школа XX века и XXI - тоже. И когда земной шар, выгорев, Станет строже и спросит: кто же я? Мы создадим слово о полку Игореви Или же что-нибудь на него похожее Многие считали его неуживчивым эгоистом, а он был просто ребенком, всегда ребенком, стеснительным, тихим и нежным. Обладающего незаурядными способностями, его часто эксплуатировали товарищи по гимназии, начиная с его знаний, кончая продажей книг из домашней библиотеки. И позднее, уже в Петербурге и Москве, это повторялось снова и снова. Известны рассказы о его наволочках, набитых до отказа различными бумагами и бумажками, исписанными мелким бисером, в которые редакторы могли запустить руку и достать шедевр. Свобода приходит нагая, Бросая на сердце цветы, И мы, с нею в ногу шагая, Беседуем с небом на «ты». Мы, воины, строго ударим Рукой по суровым щитам: Да будет народ государем Всегда, навсегда, здесь и там! Эти наволочки Велимир Хлебников то терял, то их у него крали, то где-то он их забывал, но, когда мог, обязательно брал с собой, боясь оставить даже у знакомых. Стихи последнего периода – 1921-1922 годов – поражают чистотой, ясностью, простотой смысла и эпичностью. Он нашел то, что искал. Каждое слово – на месте. Верю сказкам наперед: Прежде сказки — станут былью, Но когда дойдет черед, Мое мясо станет пылью. И когда знамена оптом Пронесет толпа, ликуя, Я проснуся, в землю втоптан, Пыльным черепом тоскуя. (Иранская песня, отрывок, 1921) Или вот это: Я продырявил в рогоже столетий Вылез. Увидел. Звезды кругом. Правительства все побежали бегом С хурдою-мурдою в руках. (1921) Родился Виктор Владимирович Хлебников в 1885 году в Калмыцкой степи, чему обязан своей пожизненной преданностью и любовью к Востоку и Азии. Родился в семье интеллигентов. Отец Владимир Алексеевич Хлебников был ученым-естествоиспытателем, орнитологом, занимался изучением птиц и часто брал мальчика с собой в степь. Там мальчик и научился слышать и слушать птиц, которые потом поселились на страницах его поэзии в большом количестве. Не потому, чтоб я Ее любил,/ А потому, что я томлюсь с другими Иннокентий Анненский, Велимир Хлебников и Александр Блок – три имени, которые определили направление развития русской поэзии в XX и XXI веке. Но если Хлебников и Блок принадлежали уже новой поэзии, то Иннокентий Анненский, которому первого сентября 2015 года исполняется сто шестьдесят лет со дня рождения, соединил в себе прошлую традицию с современной, находясь на границе между классикой и модернизмом, Золотым веком и Серебряным. Поэтому Михаил Бахтин называл его поэтом вне традиции. Анненский - очень сложный поэт со сложным языком, поэт для немногих, фактически остающийся непрочитанным до сих пор. Осложняет понимание его поэзии и то, что у Иннокентия Федоровича очень много явных и неявных отсылок, цитат и аллюзий из других контекстов. Все тексты Анненского скроены из чужого слова, но по его собственным лекалам. Его стихи – это диалог между прошлым и настоящем, уходящим в будущее, и диалог между Я и Не-Я. Его поэзия принципиально диалогична. Не я, и не он, и не ты, И то же, что я, и не то же: Так были мы где-то похожи, Что наши смешались черты. … И в мутном круженьи годин Всё чаще вопрос меня мучит: Когда наконец нас разлучат, Каким же я буду один? («Двойник», отрывок) Иннокентий Анненский - поэт мало кому известный при жизни, он боялся любой публичности в этом качестве, точнее, избегал ее. Вся его поэтическая слава – посмертная: в кругу молодых поэтов он быстро стал фигурой легендарной и мифологической, которую почти боготворили. А в жизни Иннокентий Федорович был очень закрытым человеком, всегда застегнутым на все пуговицы, стремящимся не выделяться, быть как все, что давалось ему не без труда. Он никогда не был вхож в литературные круги, избегал всякого сближения с кем бы то ни было, и даже когда этого хотел, у него это плохо получалось. Дебютировал поэт в сорок восемь лет единственным прижизненным, изданным на собственные деньги, сборником «Тихие песни» под псевдонимом Ник. Т-о (Никто). Половину сборника (сорок три перевода к пятидесяти трем собственным стихотворениям) составило приложение с переводами немецких и французских поэтов (Верлена, Рембо, Бодлера, Гейне и др.), продолжающих интонационно и тематически его поэтику и его философию. «Мухи как мысли» (Памяти Апухтина) Я устал от бессонниц и снов, На глаза мои пряди нависли: Я хотел бы отравой стихов Одурманить несносные мысли. Я хотел бы распутать узлы... Неужели там только ошибки? Поздней осенью мухи так злы, Их холодные крылья так липки. Мухи-мысли ползут, как во сне, Вот бумагу покрыли, чернея... О, как, мертвые, гадки оне... Разорви их, сожги их скорее. (Из сборника «Тихие песни») Анненский в жизни был ученым-филологом, специалистом узкого профиля, занимавшийся переводами трагедий Эврипида, писавший статьи и рецензии на филологические темы, преподававший классические языки и литературу античности в различных учебных заведениях. Почти двадцать лет Иннокентий Федорович был директором различных гимназий: в Киеве, в Санкт-Петербурге, в Царском Селе, закончив свою карьеру в должности государственного инспектора по Петербургскому учебному округу в чине статского советника. Все это сформировало внешний стиль и рисунок его поведения, который неизменно отмечали все, кто с ним встречался: «… он держался очень не просто: словно накрахмаленный. Сан директора гимназии наложил на него свою печать. …Иннокентий Федорович… даже с любимой племянницей, с «Танюшей», держался чопорно и чинно, в духе царскосельской элиты. Со мною он был вежлив, участливо расспрашивал о моих переводах из Уитмена и, очевидно, чтобы сделать приятное Татьяне Александровне, похвалил какую-то мою журнальную статью. Но никакого сближения не произошло, да я и не смел мечтать о сближении: робел перед ним до безъязычия». Так вспоминал о нем К.И. Чуковский. А вот воспоминание о поэте М. Волошина: «Наружность Иннокентия Федоровича гармонировала с этим кабинетом, заставленным старомодными, уютными, но неудобными креслами, вынуждавшими сидеть прямо. Прямизна его головы и его плечей поражала. Нельзя было угадать, что скрывалось за этой напряженной прямизной - юношеская бодрость или преодоленная дряхлость. У него не было смиренной спины библиотечного работника; в этой напряженной и неподвижной приподнятости скорее угадывались торжественность и начальственность. Голова, вставленная между двумя подпиравшими щеки старомодными воротничками, перетянутыми широким черным пластроном, не двигалась и не поворачивалась. Нос стоял тоже как-то особенно прямо. Чтобы обернуться, Иннокентий Федорович поворачивался всем туловищем. Молодые глаза, висячие усы над пухлыми слегка выдвинутыми губами, прямые по-английски волосы надо лбом и весь барственный тон речи, под шутливостью и парадоксальностью которой чувствовалась авторитетность, не противоречили этому впечатлению. Внешняя маска была маской директора гимназии, действительного статского советника, члена ученого комитета, но смягченная природным барством и обходительностью». А.Н. Бенуа. И.Ф .Анненский И, тем не менее, за этой холодной и чопорной маской директора и статского советника, кавалера ордена Святого Станислава II степени, награжденного несколькими золотыми медалями за филологические труды, жил очень ранимый, больной и тихий человек, часто впадавший в депрессию с мучительными бессонницами. Эта ночь бесконечна была, Я не смел, я боялся уснуть: Два мучительно-черных крыла Тяжело мне ложились на грудь. На призывы ж тех крыльев в ответ Трепетал, замирая, птенец, И не знал я, придет ли рассвет Или это уж полный конец... О, смелее... Кошмар позади, Его страшное царство прошло; Вещих птиц на груди и в груди Отшумело до завтра крыло... («Утро», отрывок) Он был любимцем своих учеников, обожавших его уроки. Анна Ахматова, учившаяся в его гимназии, говорит о нем всегда только в превосходной степени, а Николай Гумилев назвал Анненского последним царскосельским лебедем. Оба поэта были его учениками не только в прямом, но и в переносном смысле. А другой его последователь, Велимир Хлебников, после известия о смерти поэта впал в отчаяние. Только за два месяца до этого он слушал потрясающий доклад Анненского «О поэтических формах современной чувствительности», в котором тот говорил о необходимости вырабатывать в себе «стыдливость мысли» и «мудрое недоумение», стыдиться лирического пафоса и лирической откровенности, избегать отвлеченных слов. Надо уметь не договаривать и «писать так, словно вы не все сказали». Недосказанность, недоконченность, недоумелость - новый ресурс поэзии, ее неудержимое желание слиться с тем, что несоизмеримо больше поэта. Мир изменился, утрачена цельность человека и цельность поэзии. Душа современного человека гораздо сложнее, хаотичнее, она требует новых средств и хочет все додумывать сама. «Не торопитесь объяснять, давать ответы – думайте, думайте – Бога ради думайте. Забудьте о поэтах–царях, пророках. Будьте моллюском в раковине, который видит сон и которому не стыдно, что он ничего не знает о лежащем на нем океане». То луга ли, скажи, облака ли, вода ль Околдована желтой луною: Серебристая гладь, серебристая даль Надо мной, предо мною, за мною... Ни о чем не жалеть... Ничего не желать... Только б маска колдуньи светилась Да клубком ее сказка катилась В серебристую даль, на сребристую гладь. («На воде») Поэзия И.Ф. Анненского ориентируется не на реальность, а на ее художественное восприятие в разных формах и образах из разных культурных пластов - от античности до классики XIX века. Главное место в его поэзии занимала песня, которая в античности изначально была промежуточной между музыкой жизни и музыкой смерти. Музыкальность присутствует практически во всех его стихах. Например, первая часть «Кипарисового ларца» это фактически сборник трипеснцев, названных автором трилистниками. Здесь явная отсылка к сборникам песен, которые в православном богослужении известны как «Триоди»: Триодь Постная и Триодь Цветная. Но любое цитирование, отсылки и даже переводы, несут на себе печать авторской субъективности в соответствии с его непреложным принципом: чтение вообще, а тем более чтение поэта, это всегда творчество. В единое целое творчество Иннокентия Федоровича сводит его отношение к Слову: кроме слова для него, филолога и поэта, ничего не существует. Мир – это Слово о нем, без Слова нет реальности. И второе, что объединяет его творчество, это трагически-траурная интонация, в которую окрашивается судьба любого поэта и творца, потому что ему уготована судьба вечных искателей идеала, манящего, но недостижимого... Среди миров в мерцании светил Одной звезды я повторяю имя… Не потому, чтоб я Ее любил, А потому, что я томлюсь с другими. И если мне сомненье тяжело, Я у Нее одной ищу ответа, Не потому, что от Нее светло, А потому, что с Ней не надо света. («Среди миров»)