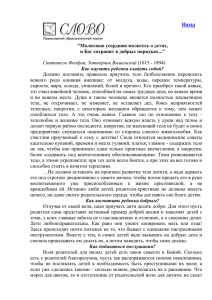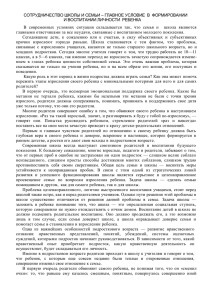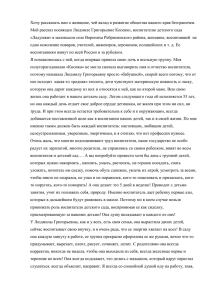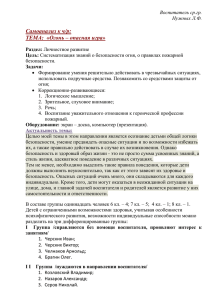О значении авторитета в воспитании. Мысли по поводу
реклама
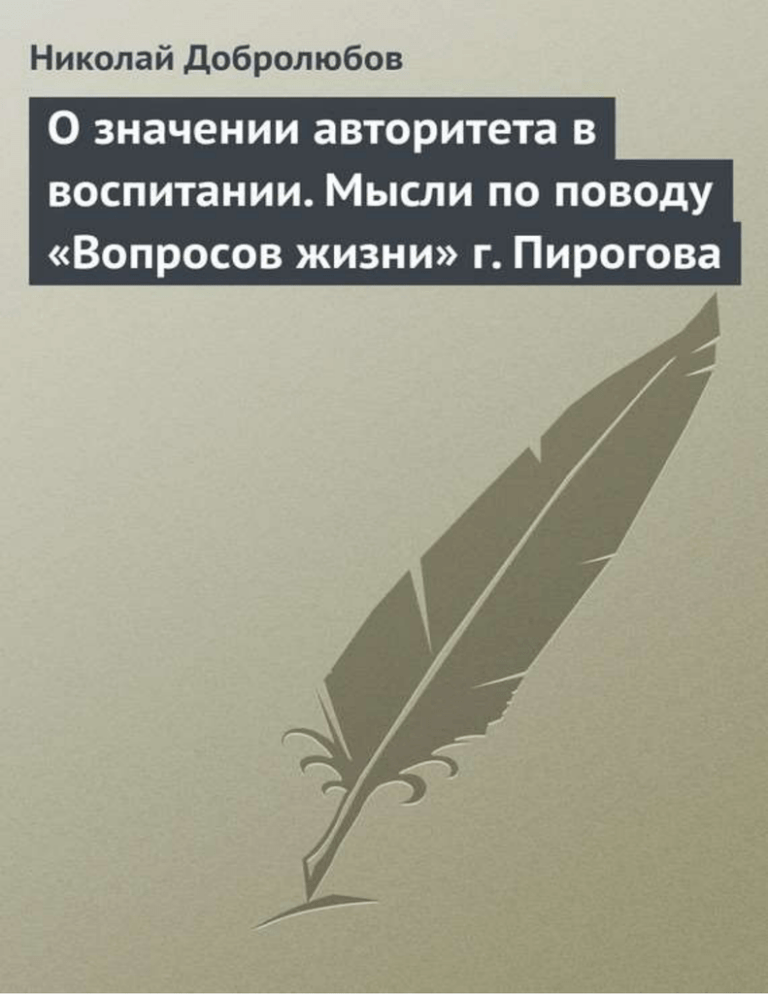
Table of Contents
Николай Александрович Добролюбов О значении авторитета в воспитании. Мысли
по поводу «Вопросов жизни» г. Пирогова
Примечания
Сноски
1
2
3
4
5
Комментарии
1
2
3
4
5
6
7
Annotation
Во второй половине 1850-х гг., когда оживился интерес к проблемам
формирования личности, сознававшимся в прямой связи с перестройкой
общественной жизни, статья выдающегося хирурга Н. И. Пирогова под
знаменательным заглавием «Вопросы жизни» привлекла всеобщее внимание
остротой постановки проблем воспитания. Добролюбова привлек тезис Н. И.
Пирогова о том, что воспитание должно способствовать развитию «внутреннего
человека», т. е. личности. Поставив это требование во главу угла, Добролюбов
показал, что существующий метод воспитания, основанный на безусловном
подчинении авторитету старших, ведет к подавлению детской личности и
воспитывает рабов. Проникнутая пафосом уважения к человеческой личности,
статья не только положила начало обширной педагогической публицистике
Добролюбова, по явилась первым развернутым изложением в печати его
демократических взглядов.
Николай Александрович Добролюбов
o
o Примечания
notes
o Сноски
1
2
3
4
5
o Комментарии
1
2
3
4
5
6
7
Николай Александрович Добролюбов
О значении авторитета в воспитании. Мысли
по поводу «Вопросов жизни» г. Пирогова
Умственное движение, возбужденное в нашем обществе событиями последних
годов, обратилось недавно и к вопросам о воспитании. Теперь у нас основано уже
два педагогических журнала{1} и, кроме того, статьи о воспитании появляются от
времени до времени и в других изданиях. Но первый обратил внимание на это
важное дело «Морской сборник», поместивший в начале прошлого года статью о
воспитании г. Бема, за которою последовали и другие статьи, которыми
высказывались о воспитании мнения более или менее новые и справедливые{2}.
Многие из этих статей находили сочувствие в читателях, но ни одна из них не имела
такого полного и блестящего успеха, как «Вопросы жизни» г. Пирогова. Они
поразили всех – и светлостью взгляда, и благородным направлением мыслей автора,
и пламенной, живой диалектикой, и художественным представлением затронутого
вопроса. Все, читавшие статью г. Пирогова, были от нее в восторге, все о ней
говорили, рассуждали, делали свои соображения и выводы. В этом случае общество
предупредило даже литературную критику, которая только подтвердила общие
похвалы, не пускаясь в подробный анализ статьи и не делая никаких своих
заключений. Это явление весьма много говорит в пользу русской публики, и оно тем
более замечательно, что статья г. Пирогова вовсе не отличается какими-нибудь
сладкими разглагольствиями или пышными возгласами для усыпления нерадивых
отцов и воспитателей, вовсе не старается подделаться под существующий порядок
вещей, а, напротив, бросает прямо в лицо всему обществу горькую правду; не
обинуясь говорит о том, что у нас есть дурного, – смело и горячо, во имя
высочайших, вечных истин, преследует мелкие интересы века, узкие понятия,
своекорыстные стремления, господствующие в современном обществе. Сочувствие
публики к такой статье имеет глубокий, святой смысл. Значит, при всем своем
несовершенстве, при всех увлечениях на практике, общество наше хочет и умеет по
крайней мере понимать, что хорошо и справедливо, к чему должно стремиться. Оно
уже имеет столько внутренней силы, что не пугается сознания своих недостатков, а
сознание прошедшего и настоящего зла есть лучшее ручательство за возможность
добра в будущем. С глубокой радостью и искренним сочувствием приветствуя этот
благородный порыв русских людей, мы решаемся высказать по поводу статьи г.
Пирогова несколько соображений, на которые наводит она всякого мыслящего
читателя. Делаем это тем с большею смелостью, что до сих пор нигде еще не
встречали более честного развития тех мыслей, которые заключаются в общих
афористических положениях г. Пирогова.
Сущность мыслей, изложенных в «Вопросах жизни», состоит в следующем.
Главные и высшие основы нашего воспитания находятся в совершенном разладе с
господствующим направлением общества. Из этого выходит, что, оканчивая курс
воспитания и вступая в общество, мы находим себя в необходимости или отречься от
всего, чему нас учили, чтобы подделаться к обществу, или следовать своим Правилам
и убеждениям, становясь таким образом противниками общественного
направления. Но жертвовать святыми, высшими убеждениями для житейских
расчетов – слишком безнравственно и отвратительно; а идти против общества – где
же взять сил на это? К такой борьбе с ложным направлением общества воспитание
совсем не готовит нас. Оно даже совсем не заботится о том, чтобы вкоренить в нас
высшие, человеческие убеждения; оно хлопочет только о том, чтобы сделать нас
учеными, юристами, врачами, солдатами и т. п. Между тем, вступая в жизнь, человек
хочет иметь какое-нибудь убеждение, хочет определить, что он такое, какая его цель
и назначение. Всматриваясь в себя, он находит уже готовое решение этих вопросов,
данное воспитанием, а присматриваясь к обществу, видит в нем стремления,
совершенно противоположные этим решениям. Он хочет бороться со злом и
ложью, – но здесь-то и оказывается вся несостоятельность его прежнего воспитания:
он не приготовлен к борьбе, он должен сначала перевоспитать себя, чтобы выйти на
арену бойца… А между тем годы летят, жизнь не ждет, нужно действовать… и
человек действует как попало, часто падая под бременем тяжелых вопросов,
увлекаясь стремительным течением толпы то в ту, то в другую сторону, – потому,
что сам собою он не умеет действовать – в нем не воспитан внутренний человек, в
нем нет убеждений. А убеждения даются нелегко: «Только тот может иметь их, кто
приучен с ранних лет. проницательно смотреть в себя, кто приучен с первых лет
жизни любить искренно правду, стоять за нее горою и быть непринужденно
откровенным – как с наставниками, так и с сверстниками»{3}.
На этом останавливается г. Пирогов. Он указывает зло в воспитании и
доказывает свои положения с беспощадной, неотразимой логической силой. Он дает
понимать и угадывать причину зла: преобладание внешности в самом воспитании,
пренебрежение внутреннего человека. Но каким образом именно убивается в детях
внутренний человек, отчего внешнее развивается в них более, от каких частных
влияний они выходят на жизненное поприще неприготовленными, бессильными –
этого г. Пирогов не разбирает подробно, а опять предоставляет только угадывать.
Мы решаемся высказать здесь несколько мыслей об этом, родившихся в нас по
прочтении «Вопросов жизни».
Трактуя с своих педагогических высот вопросы о воспитании, мы до сих пор
очень сильно напоминали басню, в которой поставили волков в начальники над
овцами. Здесь все обстоятельства были прекрасно соображены, все голоса собраны,
только одного недоставало: не спросили самих овец. Так точно большая часть наших
педагогических рассуждений, отлично разбирая вопросы высшей философии,
представляя верные и полезные правила с точки зрения религиозной,
государственной, нравственной, общепсихологической и т. п., упускает из виду одно
весьма важное обстоятельство – действительную жизнь и природу детей и вообще
воспитываемых… Оттого дитя нередко жертвуется педагогическим расчетам.
Вознесшись на своего нравственного конька, воспитатель считает воспитанника
своей собственностью, вещью, с которой он может делать, что ему угодно. «Дитя не
должно иметь своей собственной воли, – говорят премудрые педагоги, – оно должно
слепо подчиняться требованиям родителей, учителей, вообще старших. Приказание
воспитателя должно быть для него высшим законом и исполняться без малейших
рассуждений. Безусловное повиновение – главное и единственно необходимое
условие воспитания. Воспитание своей последней целью и имеет именно то, чтобы
на место неразумной воли ребенка поставить разумную волю воспитателя».
Не правда ли, что все это кажется очень логическим и справедливым? Но,
припоминая характеристику этого разумного воспитания, сделанную в «Вопросах
жизни», и сами еще не слишком отдаленные от впечатлений собственного
воспитания и учения, мы не можем без недоверчивой улыбки слушать логические
рассуждения. Все они, очевидно, обнаруживают только одно: страшную
педантическую гордость почтенных педагогов, соединенную с презрением к
достоинству человеческой природы вообще. Говоря, что в лице воспитателя
осуществляется для ребенка нравственный закон и разумное убеждение, они,
очевидно, ставят воспитателя на недосягаемую высоту, непогрешительным
образцом нравственности и разумности. Нетрудно, конечно, согласиться, что если б
возможен был такой идеальный воспитатель, то безусловное, слепое следование его
авторитету не принесло бы особенного вреда ребенку (если не считать важным
вредом замедление самостоятельного развития личностей). Но, во-первых,
идеальный наставник не стал бы и требовать безусловного повиновения: он
постарался бы как можно скорее развить в своем воспитаннике разумные
стремления и убеждения. А во-вторых, искать непогрешимых, идеальных
наставников и воспитателей в наше время было бы еще слишком смелая и
совершенно напрасная отвага. Для этого требуется слишком много условий. Прежде
всего нравственные правила воспитателя должны быть безусловно верны и строго
проведены по всем, самым частным и мелочным, случайностям жизни. Темных
вопросов, сомнительных случаев для него никогда и никаких не должно быть: иначе
– что же он станет делать, если в подобном случае придется приказывать ребенку,
который всякое предписание исполняет безусловно, следовательно, вызвать на
рассуждение и соображение никак не может? Кроме того, в воспитателе
предполагается еще при этом совершенное бесстрастие: он не может увлечься ни
гневом, ни любовью, не может чувствовать лени и утомления, для него не может
существовать хорошее и дурное расположение духа, он должен быть не
обыкновенным человеком, а особенного рода снарядом, в котором должен без
всяких уклонений осуществляться нравственный закон. Но, сколько нам известно,
подобные снаряды еще не изобретены, а если иные и объявляют, будто они открыли
секрет такого изобретения, то в этом опять выражается только их презрение к
человеческой природе и желание во что бы то ни стало не походить на людей. Если
же в воспитателе допустить возможность увлечения, то как можно поручиться за
безусловную непогрешимость его действий в отношении к ребенку? И не лучше ли с
самых первых лет приучать ребенка к разумному рассуждению, чтобы он как можно
скорее приобрел уменье и силы не следовать нашим приказаниям, когда мы
приказываем дурно?
В умственном отношении от идеального наставника тоже требуется ясность,
твердость и непогрешимость убеждений, чрезвычайно высокое, всестороннее
развитие, обширные и разнообразные познания, приведенные в полную гармонию с
общими принципами. Самая натура его должна стоять гораздо выше натуры ребенка
во всех отношениях. Иначе – что выйдет, если учитель будет, например, восхищаться
Державиным и заставит ученика учить оду «Бог»; а тому нравится уже Пушкин, а ода
«Бог» – представляет совершенно непонятный набор слов? Что, если целый год
морят над музыкальными гаммами ребенка, у которого пальцы давно уже свободно
бегают по клавишам и который только и порывается играть и играть… Что, если
дитя восхищается картиной, статуей, пьесой, любуется цветами, насекомыми, с
любопытством всматривается в какой-нибудь физический или химический прибор,
обращается к своему воспитателю с вопросом, а тот не в состоянии ничего
объяснить?.. Тут уже плохое безусловное повиновение! А много ли найдется
наставников и воспитателей, которые бы умели объяснить все детские вопросы?
Многим, конечно, не раз случалось видеть, как иногда семи– или восьмилетнее
бойкое дитя забьет в пух и поставит в тупик иного почтенного старичка. А между
тем этот почтенный старичок имеет своего воспитанника, который обязан
безусловно его слушаться!.. Этот уж, конечно, никого в тупик не поставит.
Таким образом, идеальный воспитатель, не желающий, чтобы ребенок
рассуждал и убеждался, а требующий только, чтобы он слушался, должен быть готов
на все, должен знать все, должен еще предварительно разрешить все вопросы, какие
могут родиться у воспитанника, обсудить все мнения, соображения и заключения,
какие могут когда-нибудь составиться в душе ребенка. Только с этой
предупредительностью он может еще как-нибудь вести воспитание, не насилуя
детской природы. А затем он должен иметь силы вести воспитанника верным и
самым лучшим путем на всяком поприще. Откроет ли он в ребенке наклонность к
музыке, к живописи, страсть к ботанике, легкость математического соображения,
поэтическое чувство, способность к изучению языков и пр. и пр., он должен быть
вполне способен развить все в своем питомце. Если же он не может за это взяться,
значит, он сам еще не столько приготовлен, не столько развит, чтобы руководить
других. А если так, то он и не имеет права требовать, чтобы его слушались
безусловно.
Но даже если мы допустим, что воспитатель всегда может стать выше личности
воспитанника (что и бывает, хотя, конечно, далеко, далеко не всегда), – то, во всяком
случае, он не может стать выше целого поколения. Ребенок готовится жить в новой
сфере, обстановка его жизни будет уже не та, что была за двадцать – тридцать лет,
когда получил образование его воспитатель. И обыкновенно воспитатель не только
не предвидит, а даже просто не понимает потребностей нового времени и считает их
нелепостью. Он старается удержать своего питомца в тех понятиях, в тех правилах,
которых сам держится: старание совершенно естественное и понятное, но тем не
менее вредное в высшей степени, как скоро оно доходит до стеснения собственной
воли и ума ребенка. Из этого происходит то, что естественный смысл воспитанника
раскрывается медленнее, восприимчивость к явлениям и потребностям той жизни,
того общества, среди которых придется ему действовать, совсем иногда заглушается
старыми предрассудками и мнениями, на веру принятыми в детстве от
воспитателей.
Такое
воспитание,
без
сомнения,
есть
враг
всякого
усовершенствования и успеха – и ведет к мертвой неподвижности и застою…
влияние его отражается уже не на одних отдельных личностях, а на целом обществе.
Если предрассудки и заблуждения старого поколения насильно, с малых лет,
вкореняются во впечатлительной душе ребенка, то просвещение и
совершенствование целого народа надолго замедляется этим несчастным
обстоятельством. Горький опыт жизни убеждает, правда, целое поколение в
неверности того, о чем толковали ему в детстве, и человек теряет часть своего
детского энтузиазма к давним внушениям, не оправданным жизнью; но все еще по
привычке он держится этих внушений и передает их детям, только с меньшей
восторженностью, чем ему самому передавали их. Новое поколение утрачивает еще
частичку благоговения к внушенным мнениям; но зато родовая привычка
усиливается, и чем дальше, тем бессознательнее и, по тому самому, тем крепче
держится народ за предания отцов. Нужно, чтобы жизнь сделала невозможным
приложение этих давно ставших мертвыми преданий, нужно, чтобы явился мощный
гений мысли, чтобы заставить общество почувствовать нужду и возможность
изменения в принятых неразумных началах, И после этого открытия – как медленно,
как слабо принимается новая мысль, как долго не проникает она в глубину души
людей и не распространяется в массах! Прошли столетия после того, как указано
движение земли, а до сих пор простолюдин наш, слыша беспрестанно, что солнышко
взошло и закатилось, смотрит на него как на огромный фонарь, подвигающийся по
небесному своду от востока до запада. Девять веков уже Россия оглашается
божественным учением христианства, но в народе до сих пор живы поверья о
домовых, водяных и леших. Даже те, которые впоследствии теоретически
освобождаются от детских верований, на практике долго еще им подчиняются.
Много есть образованных людей, имеющих хорошее понятие о явлениях
электричества и все-таки прячущихся от ужаса в темную комнату во время грома;
точно так же как есть множество других, достигших до уменья рассуждать об
истинном достоинстве человека и все-таки в своем знакомом ценящих более всего
изящество французского выговора и модный жилет. Отчего происходит это, как не
от влияния неразумных впечатлений детства, перешедших к ребенку, по несчастию,
от тех, кого он любит или уважает?.. «Влияние старших поколений на младшие
неизбежно, – скажете вы, – и его нельзя уничтожить, тем более что, при дурных
сторонах, оно имеет и много хороших; все сокровища знаний, собранные в
прошедших веках, передаются ребенку именно под этим влиянием, и без него
нельзя поставить человека на ту точку, с которой он должен начать в жизни
собственное продолжение всего, что до него было сделано человечеством».
Возражение совершенно справедливое, и мы поступили бы безумно, если бы стали
требовать уничтожения того, что естественно, само по себе является, существует и
уничтожиться не может. Но мы не видим также причины и ратовать за то, что
неизбежно само по себе. Младшее поколение необходимо должно быть под
влиянием старшего, и от этого проистекает неизмеримая польза для развития и
совершенствования человека и человечества. Никто не станет спорить против такой
очевидной истины. Мы говорим только о том, – зачем же ставить прошедшее
идеалом для будущего, зачем требовать от новых поколений безусловного, слепого
подчинения мнениям предшествующих? Для чего уничтожать самостоятельное
развитие дитяти, насилуя его природу, убивая в нем веру в себя и заставляя делать
только то, чего я хочу, и только так, как я хочу, и только потому, что я хочу?.. А
объявляя такое безусловное повиновение, вы именно уничтожаете разумное,
правильное, свободное развитие дитяти. Как это вредно действует на все
нравственное существо ребенка, ясно можно видеть из бесчисленных опытов, равно
как и из теоретических соображений. Представим некоторые из них.
Прежде всего определим яснее, что нужно разуметь под безусловным
повиновением. Безусловный – значит не зависящий ни от каких условий и
обстоятельств, неизменно остающийся при всех возможных случайностях, но
происходящий вследствие каких-нибудь внешних или внутренних причин, по
существующий самобытно и сам в себе заключающий свое оправдание. Таково
именно бывает повиновение, которого требуют у нас от детей и которого
необходимость еще недавно доказывал весьма сильно в «Морском сборнике» (1856,
№ 14) г. пастор Зедергольм{4}. Из этого следует, что ребенок должен слушаться без
рассуждений, слепо веровать своему воспитателю, признавать его приказания
единственно непогрешительными, а все остальное несправедливым и, наконец,
делать все не потому, что это хорошо и справедливо, а потому, что это приказано и,
следовательно, должно быть хорошо и справедливо.
Посмотрим же, какое психологическое действие может произвести подобное
отречение от своей воли в дитяти.
Предположим сначала идеальных воспитателей и наставников. Их внушения
всегда справедливы, всегда последовательны, всегда соразмерны со степенью
духовного развития ребенка; они сами любимы и уважаемы детьми. Предположим,
что подобные воспитатели требуют от детой повиновения безусловного, а не
разумного. Что из этого выходит?
Отдается приказание; ребенок исполняет его беспрекословно; за это его хвалят
и награждают. Но в самом поступке нет ничего достойного награды – ребенок
потому и исполнил приказ тотчас, что приказанное дело казалось ему совершенно
естественным, что это согласно было с его собственным желанием, за что же его
хвалят? Очевидно, за послушание.
Дается другое приказание; воспитаннику оно не нравится, он находит его
несправедливым, неуместным и представляет свои возражения. Ему говорят, чтобы
слушался, а не рассуждал, и гневаются. Он поневоле повинуется. Но мысль, что его
возражения были справедливы, остается у него во всей силе; за что же, значит,
бранили его? – Ясно, за что – за непослушание.
Подобные случаи повторяются часто, и в душе ребенка мало-помалу погасает
чувство правды, уважение к разумному убеждению, и место его занимает слепое noследование авторитету.
Вы скажете, что впоследствии, сделавшись поумнее, воспитанник сам поймет,
как разумны были приказания воспитателя. Это, конечно, и бывает очень часто, и
это прекрасно, но только для воспитателя, который таким образом приобретает себе
более уважения, – но никак не для воспитанника, на которого все подобные
открытия имеют совершенно противное влияние. Увидевши через год, через месяц,
неделю, день, час, наконец, но, во всяком случае, поздно (потому что дело уже
сделано, и сделано не по убеждению, а по приказу), – увидевши, что его
противоречие было глупо и неосновательно, ребенок теряет доверие к
собственному рассудку, лишается отваги и энергии в своих собственных
рассуждениях, боится составить какое-нибудь собственное мнение и не смеет
следовать собственному убеждению даже тогда, когда оно представляется ему
ясным, как солнце… А может быть, думает он, что-нибудь тут не так… Вот, может
быть, пройдет несколько времени, и окажется, что я неправ… Отсюда
нерешительность, медленность, вялость, выжидание в действиях – черты,
сохраняющиеся на всю жизнь и нередко поражающие нас в людях, одаренных
замечательной силой соображенья в теории, но не имеющих отваги осуществить
свои мысли на практике.
А что еще, если ребенок был прав в абсолютном смысле, если его противоречие
было истинно с точки зрения высших принципов, а не сообразно было только с
житейскими обстоятельствами? Житейские обстоятельства оправдывают
воспитателя; ребенок понимает это; так как он еще не утвердился в принципе
сознательным убеждением, то мало-помалу высшая правда, как несогласная с
жизнью, поступает в разряд отвлеченных, негодных мнений, пустых бредней…
Вот примеры. Мальчик сказал в семействе про своего товарища, что он вор. Отец
стал бранить сына и приказал ему не говорить этого никогда. Мальчику сначала
досадно, он находит несправедливым это запрещение; но через неделю, на одном
вечере, другой его товарищ упрекнул маленького вора в воровстве. Поднялась
кутерьма; два семейства поссорились, откровенного болтуна наказали… Отец
говорит мальчику: «Вот видишь, что может выйти из этого?..»
Мальчик входит в близкие отношения с старым слугой; гордый гувернер бранит
его и запрещает говорить со стариком. Но мальчик не слушается и в одно время так
зашаливается в лакейской, что старик слуга без церемонии берет его за руку и
выпроваживает от себя с приличными поучениями. Мальчику неприятно; гувернер,
увидя это, приходит в ужас и, поддразнивая самолюбие мальчика, говорит: а все
оттого, что не слушался!.. Погоди, он тебя еще бить будет, если станешь по-прежнему
быть с ним запанибрата!.. И мальчик раскаивается в своей дружбе со стариком, как
будто в преступлении.
Гувернантка приказывает девочке вести себя благопристойно – стан
выпрямить, идти плавно, голову держать прямо, говорить только когда спрашивают,
и т. п. С такими правилами приезжает она в гости. Там много детей, и всё такие
резвые, веселые; они бегают, шумят, болтают, хохочут. Ей тоже хотелось бы
пристать к ним, но гувернантка говорит, что это неблаговоспитанно, и она скучает, с
завистью смотря на веселящихся подруг, особенно на одну, которая шалит больше
всех и которой, кажется, всех веселее… Но вдруг эта резвая девочка упала и сломала
себе ногу… Торжествующая гувернантка говорит своей скромной воспитаннице: вот
что значит вести себя неприлично!..
И тому подобное. Рассудите беспристрастно, насколько безусловное
повиновение служит здесь к развитию нравственного чувства? Не убивает ли,
напротив, такое воспитание и тех добрых, светлых начал, которые природны
ребенку? Не естественно ли, что при этом он примет исключение за правило,
извращенный порядок за естественный? И кто в этом будет виноват? Неужели сам
он?
А между тем какое пышное развитие мог бы получить ум, какая энергия
убеждений родилась бы в человеке и слилась со всем существом его, если бы его с
первых лет приучали думать о том, что делает, если бы каждое дело совершалось
ребенком с сознанием его необходимости и справедливости, если бы он привык сам
отдавать себе отчет в своих действиях и исполнять то, что другими велено, не из
уважения к приказавшей личности, а из убеждения в правде самого дела!.. Правда,
тогда многим воспитателям пришлось бы отступиться от своего дела, потому что их
воспитанники доказали бы им, что они не умеют приказывать!
Убивая в ребенке смелость и самостоятельность ума, безусловное повиновение
вредно действует и на чувство. Сознание своей личности и некоторых прав
человеческих начинается в детях весьма рано (если только оно начинается, а не
прямо родится с ними). Это сознание необходимо требует удовлетворения,
состоящего в возможности следовать своим стремлениям, а не служить
бессознательным орудием для каких-то чужих, неведомых целей. Как скоро
стремления ребенка удовлетворяются, т. е. дается ему простор думать и действовать
самостоятельно (хотя до некоторой степени), ребенок бывает весел, радушен, полон
чувств самых симпатичных, выказывает кротость, отсутствие всякой
раздражительности, самое милое и разумное послушание в том, справедливость чего
он признает. Напротив, когда деятельность ребенка стесняется, стремления его
подавляются, не находя ни желаемого удовлетворения, ни даже разумного
объяснения, когда, вместо сознательной, личной жизни, дитя, как труп, как автомат,
должно быть только послушным орудием чужой воли, – тогда естественно, что
мрачное и тяжелое расположение овладевает душою ребенка, он становится угрюм,
вял, безжизнен, выказывает неприязнь к другим и делается жертвою самых низких
чувств и расположений. В отношении к самому воспитателю, до тех пор пока не
усвоит себе безусловного достоинства машины, воспитанник бывает очень
раздражителен и недоверчив. Да и впоследствии, успевши даже до некоторой
степени обезличить себя, он все-таки остается в неприятных отношениях к
воспитателю, требующему только безусловного исполнения приказаний,
справедливо, хотя и смутным инстинктом постигая в нем притеснителя и врага
своей личности, от которой, при всех усилиях, человек никогда не может
совершенно отрешиться.
Нужно ли говорить о том губительном влиянии, какое производит привычка к
безусловному повиновению наразвитие воли? Кажется, совершенно излишне, и мы
бы охотно прошли молчанием этот пункт, если бы не имели перед глазами странных
положений г. Зедергольма («Морской сборник», № 14, стр. 38–39), утверждающего,
что «усилие, которое делает дитя, чтобы преодолеть собственную волю и подчинить
ее чужой, развивает его нравственную силу (!). Этим одним возбуждается в душе его
первое проявление нравственности, первая нравственная борьба, и только с нее
начинается, собственно, человеческая жизнь. А от беспрестанного упражнения в этой
борьбе силы его воли укрепятся так, что он после, когда его воспитание окончено, в
состоянии повиноваться самому себе и исполнять то, что рассудок и совесть требуют
от него». Все это рассуждение очень напоминает нам одного благоразумного
родителя, который, желая развить в сыне телесную ловкость, клал его спиною
поперек на узкую доску, поднятую аршина на полтора от земли, и заставлял таким
образом балансировать. Ребенок болтал руками и ногами, стараясь найти себе точку
опоры, не находил ее, изнемогал и с страшным криком скатывался с доски. Развился
он при таких умных мерах очень уродливо, да еще вдобавок никогда не мог
впоследствии даже пройти моста без внутреннего содрогания. Вообще эта система –
клин клином выбивать – давно у нас известна, и давно мы видим ее страшные
результаты. Дитя боится темноты – его запирают в темную комнату; дитя питает
отвращение к какому-нибудь кушанью – его целую неделю кормят нарочно этим
кушаньем; дитя любит сидеть за книжкой – его посылают гулять; оно хочет бегать –
ему велят сидеть на месте, – и это делается весьма часто не из сознания
необходимости или пользы того, что приказывают, а из чистых и бескорыстных
педагогических видов – чтобы приучить ребенка к послушанию… Впрочем, наши
практические воспитатели несколько последовательнее г. Зедергольма; они просто
говорят: «Нужно привыкать к покорности; если теперь его характер не переломить,
то уже после поздно будет». Таким образом, они откровенно признаются, что имеют
в виду подарить обществу будущих Молчалиных. Но г. Зедергольм уверяет, что
послушанием укрепляется сила воли! Да помилуйте, ведь это все равно, как если бы
я, уничтожая всякий порыв рассудка в моем воспитаннике, каждый раз говоря ему:
«Не рассуждайте» (как и делается обыкновенно у воспитателей, требующих
безусловного повиновения), вздумал бы вывести такого рода заключение: «Этим
развиваются его умственные способности, потому что тут он должен соображать
внутренно и взвешивать справедливость моего мнения и несправедливость своих
возражений». Не правда ли, что это столь же логическое предположение, как и г.
Зедергольма? И как легко таким образом воспитывать детей!
Напрасно г. Зедергольм указывает на борьбу. Здесь, собственно, нет борьбы, а,
есть только уступка без бою, которая, при частом повторении, производит не
крепость воли, а нравственное расслабление. Да если и бывает в самом деле борьба,
то самая неразумная: с одной стороны, внутренняя сила, природное влечение,
которое ребенку представляется правильным, а с другой – внешнее, непонятное
давление чужого произвола или того, что ребенок считает произволом… При
безусловном повиновении победа обыкновенно остается на стороне внешней силы, и
это обстоятельство неизбежно должно убить внутреннюю энергию и отбить охоту
от противодействия внешним влияниям. Притом не нужно упускать из виду еще
одного обстоятельства: многие из приказаний, отдаваемых ребенку, бывают такого
рода, что он не имеет еще о них определенного мнения и ему лично все равно –
исполнить их или не исполнить. Не понимая, зачем и почему, он делает то, что
велено, только потому, что это велено. Тут уже борьбы никакой нет, а господствует
полная бессознательность, обращающаяся потом в привычку. Воспитанный таким
образом человек во всю свою жизнь остается под различными влияниями, которые
определяются не разумной необходимостью, не обдуманным выбором, а просто
случаем. В чьи руки человек прежде всего попадется, тому будет следовать.
Каково влияние безусловных Приказаний на совесть (на что указывает также г.
Зедергольм), – можно понять из всего, что было до сих пор сказано. Привыкая делать
все без рассуждений, без убеждения в истине и добре, а только по приказу, человек
становится безразличным к добру и злу и без зазренья совести совершает поступки,
противные нравственному чувству, оправдываясь тем, что «так приказано».
Это всё следствия, необходимо вытекающие из самой методы абсолютного
повиновения. Но вспомните еще, сколько с ней сопряжено других неудобств,
являющихся при исполнении. Приказания воспитателя могут быть несправедливы,
непоследовательны и, таким образом, будут искажать природную логику ребенка.
Если наставников, и воспитателей несколько, они могут противоречить друг другу в
своих приказаниях, и дитя, обязанное всех их равно слушаться, попадет в темный
лабиринт, из которого выйдет не иначе, как только совершенно потерявши
сознание нравственного долга (если не успеет дойти само до своих правил, и,
следовательно, до презрения наставников). Все недостатки воспитателя,
нравственные и умственные, легко могут перейти и к воспитаннику, приученному
соображать свои действия не с нравственным законом, не с убеждением разума, а
только с волею воспитателя.
Таким образом, отсутствие самостоятельности в суждениях и взглядах, вечное
недовольство в глубине души, вялость и нерешительность в действиях, недостаток
силы воли, чтобы противиться посторонним влияниям, вообще обезличение, а
вследствие этого легкомыслие и подлость, недостаток твердого и ясного сознания
своего долга и невозможность внести в жизнь что-либо новое, более совершенное,
отличное от прежде установленных порядков, – вот дары, которыми безусловное
повиновение при воспитании наделяет человека, отпуская его на жизненную
борьбу!.. И с такими-то качествами человек должен ратовать за свои убеждения
против целого общества, и он, привыкший жить чужим умом, действовать по чужой
воле, он должен вдруг поставить себя меркою для целого общества, должен сказать:
вы ошибаетесь, я прав; вы делаете дурно, а вот как нужно делать хорошо!.. Да где же
он возьмет столько силы? Во имя чего будет он бороться? Неужели во имя
авторитета своих наставников, которые до сих пор управляли его жизнью и
понятиями? Да кто же, наконец, дал ему право на это? Собственно говоря, его
отношения и теперь нисколько не изменились: до сих пор были подчиненные
отношения в воспитании и обучении, теперь настали точно такие же отношения в
службе и общежитии. Какая же голова может переварить такое умозаключение: вот
черта – пятнадцать, двадцать лет, – до которой ведут тебя, заставляя
беспрекословно и безусловно слушаться других; это делается для того, собственно,
чтобы, перешедши через эту черту, ты умел бороться с другими. Гораздо
естественнее заключить, что и в последующей жизни человек должен вести себя
именно так, как до сих пор заставляли его.
Все эти соображения имеют в виду, разумеется, совершенный успех системы
безусловного повиновения. Но есть натуры, с которыми подобная система никак не
может удаться. Это натуры гордые, сильные, энергические. Получая нормальное,
свободное развитие, они высоко поднимаются над толпою и изумляют мир
богатством и громадностью своих духовных сил. Эти люди совершают великие дела,
становятся благодетелями человечества. Но, задержанные в своем самобытном
развитии, сжатые пошлою рутиною, узкими понятиями какого-нибудь весьма
ограниченного наставника, не имея простора для размаха своих крыльев, а
принужденные брести тесной тропинкой, которая воспитателю кажется совершенно
удобной и приличной, эти люди или впадают в апатичное бездействие, становясь
лишними на белом свете, или делаются ярыми, слепыми противниками именно тех
начал, по которым их воспитывали. Тогда они становятся несчастными сами и
страшны для общества, которое принуждено гнать их от себя. Самый яркий пример
подобного оборота дела представляет Вольтер, воспитанный в благочестивых,
основанных на строгом, мертвом повиновении правилах иезуитских школ. Один раз
дошедши до убеждения в неправости своего учителя, подобный ученик уже не
останавливается… Да и что могло бы остановить его? И хорошее и дурное, и ложное
и справедливое у него перемешано в приказаниях безусловных и представляется
ему под одной призмой стеснения его личности. Нравственное чувство в нем не
развито, ум не приучен к спокойному, медленному обсуживанию своих действий;
все, что он знает и чему верит, вбито ему в голову насильно, без всякого участия его
собственной воли и чувства. Поэтому весь внутренний мир, как развитый им не от
себя, а навязанный извне, представляется ему чем-то чуждым, внешним, и весь
разом, без большого труда, опрокидывается, особенно если при этом вмешается еще
какое-нибудь влияние, совершенно противоположное влиянию воспитателей. В
ожесточении против угнетавших его он развивает в себе дух противоречия и
становится противником уже не злоупотреблений только, а самых начал, принятых
в обществе. Разумеется, его ждет скорая гибель или жизнь, полная скорбного
недовольства самим собою и людьми, пропадающая в бесплодных исканиях, с
неуменьем остановиться на чем-нибудь. И сколько благородных, даровитых натур
сгибло таким образом жертвою учительской указки, иногда с жалобным шумом, а
чаще просто в безмолвном озлоблении против мира, без шума, без следа.
Но чего вы хотите? – спросят нас. Неужели же можно предоставить ребенку
полную волю, ни в чем не останавливая его, во всем уступая его капризам?..
Совсем нет. Мы говорим только, что не нужно дрессировать ребенка, как собаку,
заставляя его выделывать те или другие штуки, по тому или другому знаку
воспитателя. Мы хотим, чтобы в воспитании господствовала разумность и чтобы
разумность эта ведома была не только учителю, но представлялась ясною и самому
ребенку. Мы утверждаем, что все меры воспитателя должны быть предлагаемы в
таком виде, чтобы могли быть вполне и ясно оправданы в собственном сознании
ребенка. Мы требуем, чтобы воспитатели выказывали более уважения к
человеческой природе и старались о развитии, а не о подавлении внутреннего
человека в своих воспитанниках и чтобы воспитание стремилось сделать человека
нравственным – не по привычке, а по сознанию и убеждению.
«Но это смешная и нелепая претензия, – скажут глубокомысленные педагоги,
презрительно улыбаясь в ответ на наши доводы. – Разве можно от маленького
дитяти требовать правильного обсуждения высоких нравственных вопросов, разве
можно убеждать его, когда он не развит настолько, чтобы понимать убеждения?
Безумно было бы, посылая мальчика гулять, читать ему целый курс физиологии,
чтобы доказать, почему и как полезна прогулка, точно так, как было бы нелепо,
задавая таблицу умножения, перебирать все математические действия, в которых
она необходима, и отсюда уже вывести пользу ее изучения… Главная задача
воспитания состоит в том, чтобы добиться во что бы то ни было беспрекословного
исполнения воспитанником приказаний высших, и если нельзя достигнуть этого
посредством убеждения, то надобно добиться посредством страха».
Во всех этих рассуждениях один недостаток – принятие нынешнего statu quo[1] за
нормальное положение вещей. Я с вами согласен, что дети не развиты еще до ясного
понимания своих обязанностей; но в том-то и состоит ваша обязанность, чтобы
развить в них это понимание. Для этого они и воспитываются. А вы, вместо того
чтобы внушать им сознательные убеждения, подавляете и те, которые в них сами
собою возникают, и стараетесь только сделать их бессознательными, послушными
орудиями вашей воли. Уверившись, что дети не понимают вас, вы преспокойно
сложили руки, воображая, что вам и делать нечего больше, как сидеть у моря и
ждать погоды: авось, дескать, как-нибудь раскроются способности, когда подрастет
ребенок, – тогда и потолковать с ним можно будет, а теперь пусть делает себе что
приказано. В таком случае, на что же вы и поставлены, о глубокомудрые педагоги?
Зачем же тогда и воспитание?.. Ведь ваш прямой долг – добиться, чтобы вас
понимали!.. Вы для ребенка, а не он для вас; вы должны приноровляться к его
природе, к его духовному состоянию, как врач приноровляется к больному, как
портной к тому, на кого он шьет платье. «Ребенок еще не развит», – да как же он и
разовьется, когда вы нисколько об этом не стараетесь, а еще, напротив,
задерживаете его самобытное развитие? По вашей логике, значит, нельзя выучиться
незнакомому языку сколько-нибудь разумным образом, потому что, начиная
учиться, вы его не понимаете, – а надобно вести дело, заставляя ученика просто
повторять и заучивать незнакомые звуки, без знания их смысла; после, дескать,
когда много слов в памяти будет, так и смысл их как-нибудь, мало-помалу узнается!..
Во всех этих возражениях едва ли что-нибудь выказывается так ярко, как желание
спрятать свою лень и разные корыстные виды под покровом священнейших основ
всякого добра. Но, унижая разумное убеждение, заставляя воспитанника
действовать бессознательно, можно несравненно скорее подкопать их, нежели
всяческим предоставлением самой широкой свободы развитию ребенка… Все эти
близорукие суждения о неразвитости детской природы чрезвычайно напоминают
тех господ, которые восстают против Гоголя и его последователей за то, что эти
писатели просто пересыпают из пустого в порожнее, что они никого не научают и
что людей, на которых они нападают, можно пронять только дубиной, а никак не
убеждением…{5} Как будто бы дубина может кого-нибудь и чему-нибудь научить! Как
будто бы, побивши человека, вы чрез то делаете его нравственно лучшим или
можете внушить ему какое-нибудь убеждение, кроме разве убеждения, что вы так
или иначе сильнее его!.. Для дрессировки, правда, argumentum baculinum[2] очень
достаточен; таким образом лошадей выезжают, медведей плясать выучивают и из
людей делают ловких специальных фокусников. Но при всей ловкости в своем
мастерстве – ни лошади, ни медведи, ни многие из людей, воспитанные таким
образом, ничуть не делаются от того умнее!..
«А как же, – говорят еще ученые педагоги, – предохранить дитя от вредных
влияний, окружающих его? Неужели позволить ему доходить до сознания их
вредности собственным: опытом? Таким образом ни один ребенок не остался бы
цел. Испытавши, например, что такое яд или что значит свалиться в окошко из
четвертого этажа, дитя, наверное, не останется очень благодарным тому педагогу,
который, по особенному уважению человеческой природы, принялся бы в
критическую минуту за убеждения, а не решился бы просто отнять яд или оттащить
ребенка от окошка…» Оставляя в стороне всю шутовскую, нелепую сторону этого
возражения, по которому, например, подчиненный не может спасти утопающего
начальника (потому что он от него не может требовать безусловного повиновения, а
без этого спасение невозможно), заметим одно. Дети потому-то часто и падают из
окон и берут мышьяк вместо сахару, что система безусловного повиновения
заставляет их только слушаться и слушаться, не давая им настоящего понятия о
вещах, не пробуждая в них никаких разумных убеждений.
Да и хоть бы справедливы были жалобы на неразумность детей! А то и они
оказываются чистейшею клеветою, придуманною для своих видов досужим
воображением неискусных педагогов. Прежде всего можно заметить, что не
воспитание дает нам разумность, так же как, например, не логика выучивает
мыслить, не грамматика – говорить, не пиитика – быть поэтом, и т. п. Воспитание,
точно так, как все теоретические науки, имеющие предметом внутренний мир
человека, имеет своею задачею только возбуждение и прояснение в сознании того,
что уже давно живет в душе, только живет жизнью непосредственною,
бессознательно и безотчетно. Придайте разумность обезьяне с нашей системой
безусловного повиновения, и тогда целый мир с благоговением преклонится пред
этой системой и будет по ней воспитывать детей своих. Но вы этого не можете
сделать и потому должны смиренно признать права разумности в самой природе
ребенка и не пренебрегать ею, а благоразумно пользоваться теми выгодами, какие
она вам представляет.
А разумности в детях гораздо больше, нежели предполагают. Они очень умны и
проницательны, хотя обыкновенно и не умеют определительно и отчетливо
сообразить и высказать свои понятия. Логика ребенка весьма ясно выражается в
самое первое время его жизни, и лучшим доказательством тому служит язык. Можно
положительно сказать, что трех– или четырехлетнее дитя не слыхало и половины
тех слов, которые употребляет; оно само составляет и производит их по образцу
слышанных, и производит почти всегда правильно. То же самое нужно заметить о
формах: ребенок, не имеющий понятия о грамматике, скажет вам совершенно
правильно все падежи, времена, наклонения и пр. незнакомого ему слова, ничуть не
хуже, как вы сами сделаете это, изучая, уже в совершенном возрасте, какой-нибудь
иностранный язык. Из этого следует, что по крайней мере способность к наведению
и аналогии, уменье классифировать весьма рано развивается в ребенке.
То же самое нужно сказать и о понимании связи между причинами и
следствиями. Ожегши один раз палец на свечке, ребенок в другой раз уже не схватит
свечи рукою; видя, что зимою бывает снег, а летом нет, ребенок при таянии снега
весною догадывается, что лето приближается, и пр., и пр. Всякое дитя ласкается к
тому, что его ласкает, и удаляется от того, в ком встречает грубое обращение, и т. п.
Мало этого: дети очень рано умеют составлять понятия. Узнавши, что такое дом,
книга, стол и пр., ребенок безошибочно узнает все другие дома, книги, столы, хотя
бы вновь увиденные им и не походили на те, которые он видал прежде. Это значит,
что у него в голове уже составилось понятие, а для составления понятия, как
известно, нужно уметь сделать и суждение и умозаключение…
С чего же пришло в голову многоученым педагогам, что дитя не способно
понимать разумное убеждение, а может быть управляемо только страхом, обманом и
т. п.? Я никак не могу сообразить, отчего же бы это ложное убеждение скорее
принялось в душе ребенка, нежели правильное. Утешить дитя разумно, если оно
плачет, – нельзя; а сказать «не плачь, а то тебя бука съест», или «перестань, а не то –
высеку», – можно. Желал бы я знать, какое отношение между детским плачем и
букой или розгой и какая логика предполагается в ребенке при подобных
увещаниях?
«Но, говорят, ребенок еще не может рассуждать правильно о частных случаях,
потому что он не имеет данных: он еще так мало видел и знает». Это в высшей
степени справедливо, и обязанность воспитателя в том именно и состоит, чтобы
сообщить дитяти сколько возможно скорее возможно наибольшее количество
всякого рода данных, фактов, заботясь при этом особенно о полноте и правильности
восприятия их ребенком. Поводы к подобному сообщению фактов может
представлять самое противоречие ребенка, на которое не отвечать может наставник
только по лености или по трусости своей, а никак не По разумному убеждению. Вы
заставляете вашего воспитанника сделать что-нибудь; он говорит, что сделать этого
нельзя; – а вы ему покажете, как это сделать. Он сам что-нибудь хочет совершить, а
вы говорите, что это невозможно, и спрашиваете его, как он хотел бы исполнить
свое намерение. Он рассказывает свои мечтательные планы; вы последовательно и
подробно доказываете неисполнимость его предприятия. И в этом одном сколько
представляется вам прекрасных поводов передать ребенку множество верных,
живых сведений о законах природы, о явлениях духовной жизни человека и об
устройстве общества! И поверьте, что ребенок сумеет понять ваши объяснения и
принять их к сведению.
Вообще можно сказать, что в непонятливости детей большею частию виноваты
сами взрослые. У нас обыкновенно жизненные случайности потрясают несколько
твердость чистой логики; de jure и de facto[3] – неразрешимо переплетаются; и мы, по
привычке к уклонениям, часто допускаем такие применения основных принципов
или такие общие выводы из частных фактов, которых чистое мышление никак
принять не может. Чистая, девственная логика детской головы этого не допускает, и
потому все нелогичности, допускаемые нами незаметно для нас самих, из
деликатного почтения к statu quo[4], упорно не понимаются детьми. Если вы
наполнили ум дитяти верными данными, то вам трудно уже будет вбить ему в
голову ложное заключение, выведенное из этих данных; если вы заставили его
сначала принять ложное основание, то вы долго не добьетесь, чтобы он правильно
смотрел на следствия, выводимые вами и логически не соответствующие принятому
началу. Твердое настаиванье на этих нелогичностях без подробного и откровенного
разъяснения обстоятельств, их вызвавших, непременно ведет к искажению
природного здравого смысла в ребенке, и, к сожалению, такое искажение
происходит у нас слишком часто.
Столь же много вредит понятливости детей и неестественный порядок,
принятый у нас вообще в обучении, Познания могут быть приобретаемы только
аналитическим путем; сама наука развивалась таким образом; а между тем даже в
самом первоначальном обучении начинают у нас с синтеза! Порядок совершенно
извращенный, от которого происходит в занятиях неясность, запутанность,
безжизненность. Каждая наука начинается, например, введением, в котором
говорится о сущности, важности, пользе, разделении науки и т. п. Спрашиваю вас,
как же вы хотите, чтобы мальчик понял все это прежде, чем он изучит самую
науку? – История разделяется на древнюю, среднюю и новую; каждая часть делится
на следующие периоды и пр. На чем держится это деление, к чему оно примкнет в
голове мальчика, который об истории понятия не имеет? География есть наука,
показывающая, и т. д.; она состоит из трех частей: математической, физической и
политической. Первая говорит о том-то, вторая о том-то, и пр. …Можно ли ожидать,
чтобы, начиная с этого географию, ребенок мог разумно усвоить себе что-нибудь?
А между тем посмотрите, сколько любознательности, сколько жадного
стремления к исследованию истины выказывают дети. Инстинкт истины говорит в
них чрезвычайно сильно, может быть даже сильнее, нежели во взрослых людях. Они
не интересуются призраками, которые создали себе люди и которым придают
чрезвычайную важность. Они не занимаются геральдикой, не пускаются в
филологические тонкости, не стремятся к чинам и почестям (разумеется, если им не
натолковали об этом чуть не со дня рождения). Зато как охотно они обращаются к
природе, с какою радостью изучают все действительное, а не призрачное, как их
занимает всякое живое явление. Они не любят отвлеченностей, и в этом их спасение
от насильственно вторгающихся в их душу умствований, которых доказать и
объяснить часто не может даже тот, кто хлопочет о вкоренении их в душе
воспитанников. Да, счастливы еще дети, что природа не вдруг теряет над ними свои
права, не тотчас оставляет их на жертву извращенных, пристрастных,
односторонних людских теорий!..
«Но, скажут, в детях сильно влечение ко злу; необходимо деятельно
противиться злым от природы наклонностям ребенка». Не разбирая подробно этого
мнения, позволим себе ответить на него словами г. Пирогова, которому, конечно,
вполне можно поверить, когда дело идет о свойствах человеческой природы. Вот его
слова: «Добро и зло довольно уравновешены в нас. Поэтому нет никакой причины
думать, чтобы наши врожденные склонности, даже и мало развитые воспитанием,
влекли нас более к худому, нежели к хорошему. А законы хорошо устроенного
общества, вселяя в нас доверенность к правосудию и зоркости правителей, могли бы
устранить и последнее влечение ко злу»{6}.
Но если даже и справедливо, что в природе нашей есть природное влечение ко
злу, то разве вы можете взяться за его уничтожение? Вы ли, беспрестанно
противоречащие сами себе, опровергающие своими поступками свои же правила,
осуждающие теоретическими принципами свои же поступки, на каждом шагу
падающие, жертвующие велениями высшей природы своекорыстным требованиям
грубого эгоизма, – вы ли бросаете камень в невинного ребенка и с фарисейской
надменностью восстаете против того немногого, что в нем замечаете? Нет,
перевоспитайте прежде самих себя и тогда уже принимайтесь за поправление
природы человека во вверенных нам детях.
Если в детях нельзя видеть идеала нравственного совершенства, то по крайней
мере нельзя не согласиться, что они несравненно нравственнее взрослых. Они не
лгут (пока их не доведут до этого страхом), они стыдятся всего дурного, они хранят
в себе святые чувства любви к людям, свободной от всяких житейских
предрассудков. Они сближаются с сверстником, не спрашивая, богат ли он, ровен ли
им по происхождению; у них замечена даже особенная наклонность – сближаться с
обиженными судьбою, с слугами и т. п. И чувства их всегда выражаются на деле, а не
остаются только на языке, как у взрослых; ребенок никогда не съест данного ему
яблока без своего брата или сестры, которых он любит; он всегда принесет из гостей
гостинцы своей любимой нянюшке; он заплачет, видя слезы матери, из жалости к
ней. Вообще мнение, будто бы в детях преобладающее чувство – животный эгоизм –
решительно лишено основания. Если в них не заметно сильного развития любви к
отечеству и человечеству, это, конечно, потому, что круг их понятий еще не
расширился до того, чтобы вмещать в себе целое человечество. Они этого не знают, а
чего не знаешь, того и не любишь.
Нет, не напрасно дети поставлены в пример нам даже тем, пред кем с
благоговением преклоняются народы, чье учение столько веков оглашает
вселенную. Да, мы должны учиться, смотря на детей, должны сами переродиться,
сделаться как дети, чтобы достигнуть ведения истинного добра и правды. Если уже
мы хотим обратить внимание на воспитание, то надо начать с того, чтобы перестать
презирать природу детей и считать их не способными к восприятию убеждений
разума. Напротив, надо пользоваться теми внутренними сокровищами, которые
представляет нам натура дитяти. Многие из этих природных богатств нам еще
совершенно неизвестны, многое, по слову Евангелия, утаено от премудрых и
разумных и открыто младенцам!..
Эта апология прав детской природы против педагогического произвола,
останавливающего естественное развитие, имела целию указать на один из
важнейших недостатков нашего воспитания. Мы не пускались в подробности, а
выставляли на вид только общие положения, в надежде, что умные воспитатели
если согласятся с нашим мнением, то и сами увидят, что и как нужно им делать и
чего не делать. Искусства обращаться с детьми нельзя передать дидактически;
можно только указать основания, на которых оно может утверждаться, и цель, к
которой должно стремиться. И мы думаем – главное, что должен иметь в виду
воспитатель – это уважение к человеческой природе в дитяти, предоставление ему
свободного, нормального развития, старание внушить ему прежде всего и более
всего правильные понятия о вещах, живые и твердые убеждения, заставить его
действовать сознательно, по уважению к добру и правде, а не из страха и не из
корыстных видов похвалы и награды…
Исполнить это трудно; но не невозможно. Начало подобного обращения к
естественному смыслу детей было уже положено, с лишком за полвека назад,
благородным и бескорыстным филантропом воспитателем – Песталоцци. По поводу
его-то школы сделано г-жою Сталь многозначительное замечание, что
«непонимание детей происходит всегда более от темноты изложения, нежели от
трудности самых наук»{7} («De l'Allemagne»)[5]. Тысячи опытов подтвердили это
замечание, с тех пор как оно было высказано, и мы с горестью должны сознаться, что
оно и до сих пор не потеряло своей справедливости. И не только умственное, но – что
еще более грустно – даже нравственное воспитание детей страдает у нас тою же
голословностью, внешностью, мертвенностью. Освободиться от этого жалкого
состояния, обратить внимание не на мертвую букву, а на живой дух, не на
исполнение внешней формы, а на развитие внутреннего человека – вот задача,
которой выполнение предстоит современному русскому воспитанию.
Примечания
Впервые – Совр., 1857, № 5, отд. II, с. 43–64, за подписью «Н. Л.» (т. е. «Н. Лайбов»),
под названием «Несколько слов о воспитании по поводу «Вопросов жизни» г.
Пирогова» и с рядом других искажений цензурного характера (смягчение
формулировок, неоднократное исключение слов «безусловное повиновение»),
устраненных в изд. 1862 г. Судя по записям в дневнике Добролюбова, статья
предназначалась «Журналу для воспитания», но показалась редактору А. А.
Чумикову слишком радикальной (VIII, 530, 533), вследствие чего была передана в
«Современник».
Во второй половине 1850-х гг., когда оживился интерес к проблемам
формирования личности, сознававшимся в прямой связи с перестройкой
общественной жизни, статья выдающегося хирурга Н. И. Пирогова под
знаменательным заглавием «Вопросы жизни» (Морской сборник, 1856, № 9)
привлекла всеобщее внимание остротой постановки проблем воспитания. О ней с
большим одобрением отозвался Чернышевский (Чернышевский, III, 684–689).
Добролюбова привлек тезис Н. И. Пирогова о том, что воспитание должно
способствовать развитию «внутреннего человека», т. е. личности. Поставив это
требование во главу угла, Добролюбов показал, что существующий метод
воспитания, основанный на безусловном подчинении авторитету старших, ведет к
подавлению детской личности и воспитывает рабов. Проникнутая пафосом
уважения к человеческой личности, статья не только положила начало обширной
педагогической публицистике Добролюбова, по явилась первым развернутым
изложением в печати его демократических взглядов.
notes
Сноски
1
Состояния (лат.). – Ред.
2
Палочное доказательство (лат.). – Ред.
3
Юридически и фактически (лат.). – Ред.
4
Современному положению (лат.). – Ред.
5
«О Германии» (фр.). – Ред.
Комментарии
1
В 1857 г. начали выходить «Журнал для воспитания» (ред. А. А. Чумиков) и
«Русский педагогический вестник» (ред. Н. А. Вышнеградский).
2
Вслед за статьей К. Е. Бема «О воспитании» (Морской сборник, 1856, № 1) там же
были опубликованы статьи по проблемам воспитания И. И. Давыдова (1856, т. XXI),
В. И. Даля (там же), Н. И. Греча (1856, т. XXII), А. Е. Разина (1856, т. XXVI), П. А. Валуева
(1857, т. XXVII) и др.
3
Цитата из статьи Н. И. Пирогова – Морской сборник, 1856, № 9, с. 587.
4
Статья К. А. Зедергольма называлась «Домашнее и общественное воспитание».
5
Добролюбов воспроизводит здесь один из аргументов сторонников «чистого
искусства» против гоголевского направления в литературе.
6
Морской сборник, 1856, № 9, с. 563–564.
7
Вольный перевод цитаты из книги де Сталь «О Германии» (De Stall. Oeuvres
completes, t. X, Paris, 1820, S. 173–174).