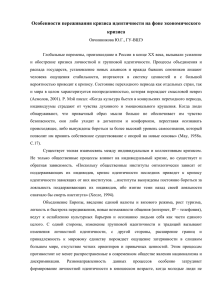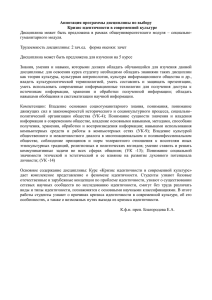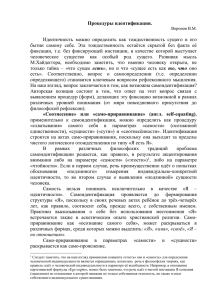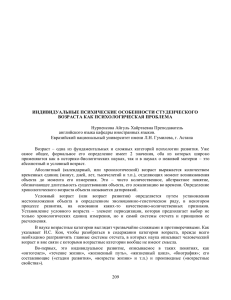УДК 13 ББК87 А 76 Оформление Марины Медведь А 76
реклама

УДК 13 ББК87 А 76 Оформление Марины Медведь А 76 Апокалипсис смысла. Сборник работ западных философов XX-XXI вв. — М: Алгоритм, 2007. - 272 с. ISBN 978-5-9265-0427-6 Разложение заложено в самой природе, что невозможно отрицать. Но без временного ограничения оно — незапамятное и неизбежное зло, к которому мы привыкли как к чему-то обязательному и естественному. А разложение цивилизации — творение наших рук и нашего воображения — особенно тягостно потому, что представляется случайным, сознаваемой или несознаваемой обреченностью. Человеку выпадает время, в котором ему удается если не процветать, то, по крайней мере, жить, и совершенно очевидно, что он свыкается с этим. Но вот ему угрожает падение, последствия которого пока трудно представить. УДК 13 ББК87 ISBN 978-5-9265-0427-6 ООО «Алгоритм-Книга*, 2007 Часть1 ВОССТАЛ БРАТ НА БРАТА Георг Зиммель1 Человек как враг. О естественной враждебности между человеком и человеком говорят скептические моралисты, для которых homo homini lupus est2 и «в несчастье наших лучших друзей есть нечто, не вполне для нас неприятное». Однако же и противоположным образом настроенная моральная философия, выводящая нравственную самоотверженность из трансцендентных основ нашего существа, отнюдь не избегает подобного пессимизма. Ведь она признает, что в наших волнениях, опытно постижимых и исчислимых, невозможно обнаружить жертвенное отношение .# к Ты. Следовательно, эмпирически, согласно рассудку, человек является просто эгоистом, и обратить этот естественный факт в его противоположность уже никогда не сможет сама природа; на это способен лишь deus ex machine3 некоего метафизического бытия внутри нас. Видимо, данная враждебность оказывается, по меньшей мере, некоторой формой или основой человеческих отношений наря-ДУ с другой — симпатией между людьми. Примечательно: 1 Зшлмель Георг (1858—1918) — немецкий философ и социолог, пред- ставитель «философии жизни». 2 «Человек человеку — волк» (лат.). 3 Бог из машины; развязка вследствие непредвиденного обстоятельства (лат.). Георг Зиммель сильный интерес, который, например, человек испытывает именно к страданиям других людей, можно объяснить только смешением обеих мотивировок. На сущностно присущую нам антипатию указывает и такое нередкое явление, как «дух противоречия», свойственный отнюдь не только принципиальным упрямцам, всегда говорящим «нет» (к отчаянию своего окружения, будь то дружеский или семейный круг, комитет или театральная публика). Нельзя сказать, что наиболее характерна область политическая, где «дух противоречия» торжествует в тех деятелях оппозиции, классическим типом которых для Маколея1 был Роберт Фергюсон; His hostility was not to Popery or to Protestantism, to monarchical government or to republican government, to the house of Stuarts or to the house of Nassau, but to whatever was at the time established2. Все эти случаи, считающиеся типами «чистой оппозиции», не обязательно должны ею быть; ибо такого рода оппоненты объявляют себя защитниками угрожаемых прав, борцами за объективно правильное, охранителями меньшинства как такового. Абстрактное стремление к оппозиции, по-моему, гораздо отчетливее демонстрируют куда менее примечательные ситуации: тихое, едва осознанное, часто сразу же улетучивающееся побуждение противоречить некоторому утверждению или требованию именно тогда, когда оно встречается в категоричной форме. Даже во вполне гармоничных отношениях у многих достаточно податливых натур этот оппозиционный инстинкт вы- 1 Маколеи Томас Бабингтон (1800—1859) — лорд, знаменитый анг- лийский писатель, историк и политический деятель. — Примеч. ред. 2 Его враждебность относилась не к папству или протестантизму, мо- нархическому правлению или республиканскому правлению, дому Стюартов или Нассаускому дому, но вообще ко всему в то время установившемуся (ангя.). Речь идет о памфлетисте Р.Фергюсоне (1637—1714). -- Примеч. перев. Человек как враг ступает с неизбежностью рефлекторного движения и подмешивается, пусть и без видимых последствий, к поведению в целом. Допустим, это действительно захотели бы назвать защитным инстинктом — ведь и многие животные автоматически выбрасывают свои приспособления для защиты и нападения в ответ на одно только прикосновение. Но тем самым был бы только доказан изначальный, фундаментальный характер оппозиции, так как это означало бы, что личность, даже и не подвергаясь нападению, лишь реагируя на самовыражения других, не способна утверждать себя иначе, как через оппозицию, что первый инстинкт, при помощи которого она себя утверждает, есть отрицание другого. Прежде всего, от признания априорного инстинкта борьбы невозможно отказаться, если присмотреться к невероятно мелким, просто смехотворным поводам самой серьезной борьбы. Один английский историк рассказывает, как передрались между собой две ирландские партии, вражда которых возникла из спора относительно мас-1 и какой-то коровы. В Индии несколько десятилетий на-:*ад происходили серьезные восстания вследствие распри двух партий, ничего не знавших одна о другой, кроме того, что они — партии правой и левой руки. И только, так сказать, на другом конце эта ничтожность поводов для спора обнаруживает себя в том, чт.о часто он завершается явлениями просто ребяческими. Магометане и индусы живут в Индии в постоянной, латентной вражде и отмечают ее тем, что магометане застегивают свое верхнее платье слева направо, а индусы — справа налево, что на общих трапезах первые усаживаются в круг, а вторые — в ряд, что бедные магометане используют в качестве тарелки одну сторону листа, а бедные индусы — другую. В человеческой вражде причина и действие часто до такой степени находятся вне связи и разумной пропорции, что невозможно правильно понять, является ли мнимый предГеорг Зиммель мет спора его действительным поводом или всего только выходом для уже существующей вражды. Что касается, например, отдельных процессов борьбы между римскими и греческими партиями в цирке, борьбы Алой и Белой розы, — то невозможность обнаружить какое-либо рациональное основание для борьбы заставляет нас по меньшей мере сомневаться в ее смысле. В целом создается впечатление, что люди никогда не любили друг друга из-за вещей столь малых и ничтожных, как те, из-за которых один другого ненавидит. Наконец, на мысль о том, что существует изначальная потребность во враждебности, часто наводит и невероятно легкая внушаемость враждебного настроения. В общем, среднему человеку гораздо труднее удается внушить другому такому же доверие и склонность к некоему третьему, прежде ему безразличному, чем недоверие и отвращение. Весьма характерно, что это различие оказывается относительно резким именно там, где речь идет о низших степенях того и другого, о первых зачатках настроенности и предрассудка в пользу или против кого-либо; что касается более высоких степеней, ведущих к практике, то тогда решает уже не эта мимолетная, однако выдающая основной инстинкт наклонность, но соображение более осознанного характера. Здесь обнаруживается тот же факт, но как бы иначе повернутый: легкие, словно бы тенью набегающие предубеждения на наш образ другого могут быть внушены даже совершенно безразличными личностями; для возникновения же благоприятного предрассудка нужен уже некто авторитетный или находящийся с нами в душевной близости. Быть может, без этой легкости или легкомыслия, с каким средний человек реагирует именно на внушения неблагоприятного рода, и aliquid haeret1 не стало бы трагической истиной. 1 Что-то не ладится (лат.}. в Человек как враг Наблюдение всяческих антипатий и разделения на партии, интриг и случаев открытой борьбы, конечно, могло бы поставить враждебность в ряд тех первичных человеческих энергий, которые не высвобождаются внешней реальностью их предметов, но сами для себя эти предметы создают. Так, говорят, что человек не потому имеет религию, что верит в Бога, но потому верит в Бога, что имеет религию как настроенность своей души. В отношении любви, пожалуй, общепризнано, что она, особенно в молодые годы, не есть лишь реакция нашей души, которую вызывает ее предмет (например, как воспринимается цвет нашим аппаратом зрения). Душа имеет потребность любить, и только сама объемлет некоторый предмет, удовлетворяющий этой потребности. Да ведь душа впервые и наделяет его, при определенных обстоятельствах, такими свойствами, которые якобы вызвали любовь. Нет никаких оснований утверждать, что то же самое (с некоторыми оговорками) не может происходить и с развитием противоположного аффекта, что душа не обладает автохтонной потребностью ненавидеть и бороться, часто только и проецирующей на избираемые ею предметы, их возбуждающие ненависть свойства. Это не столь очевидный случай, как любовь. Дело, видимо, в том, что влечение любви, благодаря тому, что в юности оно невероятно физиологически обострено, несомненным образом подтверждает свою спонтанность, свою определенность со стороны terminus a quo1. Влечение ненависти, пожалуй, только в виде исключения имеет такие острые стадии, которые могли бы позволить равным образом осознать ее субъективноспонтанный характер. Итак, если у человека действительно есть формальное влечение враждебности как парная противоположность потребности в симпатии, то, по-моему, исторически оно 1 Исходный пункт (лат.). Георг Зим мель берет начало в одном из тех психических процессов дистилляции, когда внутренние движения, в конце концов, оставляют в душе после себя общую им форму как некое самостоятельное влечение. Интересы различного рода столь часто побуждают к борьбе за определенные блага, к оппозиции определенным личностям, что, вполне вероятно, в качестве остатка в наследственный инвентарь нашего рода могло перейти состояние возбуждения, само по себе побуждающее к антагонистическим выражениям. Известно, что — в силу неоднократно обсуждавшихся причин — взаимоотношения примитивных групп почти всегда враждебны. Пожалуй, самый радикальный пример — индейцы, у которых каждое племя считалось находящимся в состоянии войны с любым другим, если с ним не был заключен внятный мирный договор. Но нельзя забывать, что на ранних стадиях культуры война есть едва ли не единственная форма, в которой вообще идет речь о соприкосновении с чужой группой. Покуда межтерриториальное торговое общение было неразвито, индивидуальные путешествия неизвестны, а духовная общность еще не выходила за границу группы, помимо войны не было никаких социологических взаимосвязей между различными группами. Здесь взаимоотношения элементов группы и примитивных групп между собой проявляются в совершенно противоположных формах. Внутри замкнутого круга вражда, как правило, означает прерывание взаимосвязей, отстраненность и избегание контактов; эти негативные явления сопровождает даже страстное взаимодействие открытой борьбы. Напротив, каждая из групп в целом равнодушна к другой, покуда длится мир, и лишь во время войны они обретают друг для друга активную значимость. Поэтому одно и то же влечение к экспансии и действенности, которое внутри требует безусловного мира как основы сцепления интересов и взаимодействия, вовне может выступать как воинственная тенденция. 10 Человек как враг *** Война, возникающая на основе единства и равенства, очень часто бывает более страстной и радикальной, чем в случае, если партии не составляли одно целое. Древний иудейский закон разрешает двоеженство, но он же налагает запрет на брак с двумя сестрами (хотя после смерти одной из них можно жениться на другой), ибо такой брак особо способствовал бы возбуждению ревности. То есть прямо предполагается как факт опыта, что на почве родственной общности возникает более сильный антагонизм, чем между чужими. Взаимная ненависть мельчайших соседних государств, у которых вся картина мира, локальные связи и интересы необходимым образом весьма сходны и нередко должны даже совпадать, часто намного более страстна и непримирима, чем между большими нациями, пространственно и по существу совершенно чужими друг другу. Этот рок настиг и Грецию, и после-римскую Италию, и с еще большей силой он обрушивался на Англию, пока там после норманнского завоевания не сплавились обе расы. Они, эти расы, жили вперемежку на одной и той же территории, были привязаны друг к другу постоянно действовавшими жизненными интересами, их удерживала вместе единая идея государства. И все-таки внутренне они были совершенно чужды, во всем существе каждой из них сказывалось отсутствие взаимопонимания, а во властных интересах они были абсолютно враждебны одна другой. Справедливо сказано, что ожесточение и ненависть тут были большими, нежели они вообще могли проявиться в отношениях между внешне и внутренне разделенными племенами. Дела церковные наиболее показательны, ибо здесь малейшее отличие, поскольку оно догматически фиксирова- 11 Георг Зим мель но, сразу заключает в себе логическую непримиримость: если отклонение вообще имеет место, то в категориальном отношении безразлично, велико оно или мало. Так обстояло дело в конфессиональных спорах между лютеранами и реформатами в XVII в. Едва только состоялось великое обособление от католицизма, как тут же целое расщеплялось по ничтожнейшим поводам на партии, по заявлениям которых скорее возможна была бы общность с папистами, чем со сторонниками иного исповедания. А когда в 1875 г. в Берне возникла трудность с определением места католического богослужения, папа не разрешил, чтобы оно состоялось в церкви старокатоликов1, лучше тогда уж в реформатской церкви. Два рода общности следует принять во внимание как фундамент особенно острого антагонизма: общность качеств и общность благодаря включенности в единую социальную связь. Первая сводится исключительно к тому, что мы являемся существами различными. Вражда должна тем глубже и сильнее возбудить сознание, чем больше схожесть партий, от которой она отталкивается. При мирной или исполненной любви настроенности это — отличный защитный инструмент объединения, сравнимый с предупредительной функцией боли в организме; ибо именно явственная осознанность, с какой заявляет о себе диссонанс в обычно гармоничных отношениях, сразу же призывает к устранению почвы для спора, чтобы он не разъел отношения до самого основания. Но где нет этого намерения при любых обстоятельствах все-таки договориться, там сознание антагонизма, обостренное равенством во всем остальном, делает антагонизм еще острее. Люди, у которых много общего, часто куда горше, несправедливее обижают друг друга, чем со1 Стйрокатолицизм — течение, отколовшееся от католицизма после Ватиканского собора 1869—1870 гг. — Примеч. ред. 12 Человек как враг вершенно чуждые. Иногда это случается потому, что большая область их взаимной общности стала чем-то само собой разумеющимся, и поэтому не она, а то, что на данный момент их разнит, определяет позиции по отношению друг к другу. Преимущественно это происходит именно в силу их немногих различий, а всякий мельчайший антагонизм приобретает иное относительное значение, чем это бывает между людьми более отчужденными, с самого начала взаимно ориентированными на возможные различия. Отсюда — семейные конфликты из-за совершеннейших пустяков, трагичность «мелочей», из-за которых порой расходятся вполне подходящие друг другу люди. Это отнюдь не всегда означает, что гармонизирующие силы еще прежде пришли в упадок; как раз большая схожесть свойств, склонностей, убеждений может привести к тому, что расхождение в чем-то совсем незначительном (из-за остроты противоположностей) будет ощущаться как нечто совершенно невыносимое. К этому добавляется еще следующее: чужому, с кем не объединяют ни общие качества, ни интересы, люди противостоят объективно, пряча личность в скорлупу сдержанности, поэтому отдельное различие не так легко становится доминантой человека. С абсолютно чужими соприкасаются лишь в тех точках, где возможны отдельные переговоры или совпадение интересов. Ими ограничивается и течение конфликта. Чем больше у нас как целостных людей общего с другим человеком, тем легче наша целостность станет сопрягаться с каждым отдельным отношением к нему. Отсюда та непомерная резкость, те срывы, какие люди, обычно вполне собою владеющие, иногда позволяют себе как раз с самыми близкими. Счастье и глубина отношений с человеком, с которым мы, так сказать, ощущаем свое тождество, когда ни одно слово, совместная деятельность или страдание не остаются под13 Георг Зим мель линно обособленными, а облекают собой всю душу, душа отдает себя без остатка — так это и воспринимается: вот что делает разлад в подобном случает столь роковым и страстным, задавая схему для гибельного отождествления: «Ты — вообще». Если люди оказываются однажды связанными между собой таким образом, они слишком привыкают всю тотальность своего бытия и чувствования отдавать тому, к кому в этот момент обращаются. Иначе они и в спор привнесут излишние акценты, своего рода периферию, из-за чего спор перерастает самый повод к нему и пределы своего объективного значения и ведет к раздвоению личности. На высшей ступени духовного образования этого можно избежать; ибо для нее характерно соединение полной самоотдачи (душа отдает себя одной личности) с полным взаимным обособлением элементов души. В то время как недифференцированная страсть сплавляет тотальность человека с возбуждением одной части или момента, образование не позволяет им вырваться за пределы его собственного, точно очерченного права. Тем самым отношения гармоничных натур обретают то преимущество, что именно в конфликте они осознают, сколь незначителен он по сравнению с соединяющими их силами. Но помимо этого, именно у глубоких натур утонченная чувствительность к различиям делает склонность и отвращение тем более страстными, что они выделяются на фоне противоположным образом окрашенного прошлого, а именно, в случае однократных, неотзываемых решений об их отношениях, совершенно отличных от маятникового движения их повседневной взаимопринадлежности, не подвергаемой сомнению. Стихийное отвращение, даже чувство ненависти между мужчинами и женщинами не имеет определенных оснований, а есть обоюдное отвержение всего бытия лично14 Человек как враг стей — иногда это первая стадия отношений, второй стадией которых является страстная любовь. Можно было бы прийти к парадоксальному предположению, что у натур, которые предопределены к самой тесной чувственной связи, этот поворот вызывается инстинктивной целесообразностью, чтобы сообщить определенному чувству посредством противоположной ему прелюдии — словно бы отступлением для разбега — страстное обострение и сознание того, что теперь обретено. Ту же форму обнаруживает и противоположное явление: глубочайшая ненависть вырастает из разбитой любви. Здесь, пожалуй, решающее значение имеет не только восприимчивость к различиям, но, прежде всего, опровержение собственного прошлого, выражающееся в такой смене чувств. Узнать, что глубокая любовь (притом не только половая) является заблуждением и отсутствием инстинкта, — это такое самообнажение, такой надлом в надежности и единстве нашего самосознания, что мы неизбежно заставляем предмет этого невыносимого чувства искупить его перед нами. Тайное ощущение собственной вины мы весьма предусмотрительно прикрываем ненавистью, которая облегчает приписывание всей вины другому. Витторио Хёсле1 Кризис индивидуальной и коллективной идентичности (Из журнала «Вопросы философии», 1994, №10) Понятие «кризис идентичности» заслуживает анализа по двум причинам. Во-первых, для традиционной метафизики было аксиомой, что все идентично самому себе. Однако если это так, тогда почему необходимое свойство бытия — идентичность — может переживать кризис? Несмотря на все логические трудности, очевидно, что это понятие не пустое, — индивидуальные и коллективные кризисы действительно случаются, и в наше время, возможно, даже чаще, чем прежде. Такова вторая причина, делающая анализ понятия «кризис идентичности» весьма полезным, — во всяком случае, более полезным, нежели чисто логическое упражнение: ведь всякий, кто хочет понять современный мир, едва ли достигнет своей цели, не постигнув логики кризиса идентичности. Поскольку я философ, а не психолог и не социолог, мои рассуждения будут достаточно отвлеченными. Конкретные примеры, которые я привожу в своем тексте, не имеют отношения к исследованию каких-то реальных ситуаций, они взяты из литературы, — поскольку я уверен, что искусство имеет прямое отношение к истине и что поэтому оно может поспорить с наукой и философией, ко1 Хёсли Витторио — современный немецкий философ, занимающийся осмыслением влияния человеческого общества на окружающий мир, а также психологическими и социальными аспектами жизни человека. 16 Кризис идентичности гда мы пытаемся понять не эмпирические факты, а сущность действительности. Мой очерк состоит из трех частей. В первой части я рассматриваю понятие идентичности, а именно составляющие его элементы. Во второй части я обращаюсь к анализу сущности, причин и последствий кризиса идентичности. Третья посвящена восстановлению новой идентичности в процессе кризиса. I Для того чтобы понять, как логически возможен кризис идентичности, начнем с различения двух понятий идентичности. Формальная идентичность является качеством каждого объекта (включая такие абстрактные объекты, как числа) и предпосылкой последовательности любой теории об этих объектах. Реальная же идентичность присуща только эмпирическим объектам и имеет разные формы в зависимости от онтологического статуса конкретного объекта. Камень идентичен себе иначе, нежели организм, — личность или институт. Данное понятие идентичности не тавтологично — этой идентичности угрожает сила, которая, в конечном счете, разрушит идентичность реального объекта самому себе. Эта сила есть время. Под реальной идентичностью мы понимаем сохранение формы объекта во времени. Реальная идентичность представляет собой результат напряженной борьбы между формами, которые нашли воплощение в материи, и временным измерением. В этом смысле мы можем сказать, что ядро утрачивает свою идентичность в процессе радиоактивного распада, — сохранение же идентичности предполагает преодоление противодействующих сил и является не данностью, а заданностью. 17 Витторио Хёсле Это последнее можно сказать, по крайней мере, об организмах. Ибо для органической формы бытия характерно то, что она является более сложной и прекрасной, чем неорганические формы, и продолжает жить только благодаря метаболизму, т. е. обмену материи и энергии. Однако конечное разрушение органической формы неминуемо; тенденция развития в органической сфере состоит в интеграции смерти — которая в одноклеточном организме всегда вызывается внешними причинами — в программу развития организмов. Превращение времени во внутренний фактор жизни организма мы называем старением; здесь мы имеем наметки более общей метафизической гипотезы, согласно которой онтологические уровни реальности различаются в зависимости от их отношения ко времени. Окончательная победа смерти делает необходимым воспроизводство, которое может рассматриваться как синтез разрушения и сохранения. Эти рассуждения об органическом вполне уместны в очерке о кризисе индивидуальной идентичности, поскольку все известные нам разумные существа являются организмами. Однако же они особые организмы. Прежде всего, они наделены способностью ощущения, как и многие другие организмы, хотя мы и не знаем, в какой момент и где в органическом мире возникает это таинственное качество. Я называю его таинственным, поскольку с ним связаны определенные онтологические проблемы, не свойственные другим новым качествам. В сущности, ментальные состояния, даже если рассматривать их как функции мозга, явно не тождественны с последними. Если бы мы могли понаблюдать за работой мозга другого человека, мы, несомненно, многое узнали бы, возможно даже, открыли бы причины ментальных состояний, но все же никогда не обнаружили бы самих ментальных состояний. Наблюдение за собственным «я» нельзя свести 18 Кризис идентичности к наблюдению за другим субъектом. Поэтому мы не можем сказать, что ментальные состояния локализованы в пространстве. Время, однако же, является их существенной характеристикой. Здесь не место обсуждать проблему соотношения сознания и тела, тем более, что я не могу предложить ее удовлетворительного решения. Я хочу обратить внимание только на некоторые условия, которым должно удовлетворять любое ее решение. Хотя я не знаю ни одного последовательного и убедительного доказательства в пользу того, что ментальные акты неотрывны от тела, несомненно, что все известные нам ментальные акты действительно присущи существам, имеющим тело, точнее, органическое тело. Тело является самым важным фактором, который позволяет другим людям идентифицировать конкретного человека, — так, я узнаю своих друзей благодаря неизменности их тел. Важно отметить, однако, что тело не является абсолютным условием — достаточным либо необходимым — личностной идентичности. Вспомним, что в состоянии комы идентичность личности утрачивается, даже если тело остается неизменным (собственно говоря, форма тела, ибо материя в любом случае за достаточно большие промежутки времени претерпевает изменения). И даже при том, что представления древних о метемпсихозе и метаморфозе не согласуются с изьзстными нам законами природы, — они все же показывают нам, что нет ничего логически невозможного в допущении радикального преображения тела, принадлежащего одному и тому же человеку. В сущности очень часто бывает, что люди, потеряв даже большие части тела, не переживают кризиса идентичности; и даже в «Превращении» Кафки возникшие у Грегора Замзы проблемы идентичности вызваны скорее реакцией других людей, чем радикальным изменением его тела. Тем не менее бессмысленно отрицать, что тело является немаловажной составной частью 19 Витторио XScne идентичности человека: оно «принадлежит» человеку в гораздо большей степени, чем даже любимейшая собственность. Это верно не только потому, что тело представляется физическим базисом ментальных актов, но и потому, что представление о собственном теле является важной частью создаваемого человеком образа самого себя; кроме того, тело может выразить — даже лучше, чем сознательные ментальные акты, — сокровенные измерения человеческой идентичности. Хотя я не думаю, что ментальные акты могут быть причинами физических актов (и, следовательно, не имею объяснения для явления), мне кажется, вполне можно рассматривать определенные телесные жесты как выражения соответствующих желаний, стремлений и т.д., даже если мы и уверены в том, что эти желания и стремления отсутствуют в потоке сознания в тот самый момент, когда выражаются в телесных жестах. Жест может сказать о существенных качествах человека больше, чем сопутствующие мысли; поэтому понимание языка тела может быть лучшим ключом к характеру человека, чем анализ сознания. Помимо чисто физических реакций и действий, вызванных сознательным решением (которое тоже является физическим состоянием), мы должны допустить, в качестве «среднего пути», телеологическое поведение, направленное на удовлетворение — без всякого посредства сознания — определенных потребностей, свойственных исключительно организму. Хорошо известно, что таково по преимуществу поведение животных; органические корни человека могут разъяснить нам, почему такое поведение свойственно и человеку. (Между прочим, я убежден, что область телеологического поведения охватывает не только подавляемые желания, скажем сексуальные, но и самые интеллектуальные из всех стремлений: так, медленный рост гения был бы невозможен без телеологического поведения.) 20 Кризис идентичности Однако, несмотря на многообразные связи между телом и сознанием, ясно, что человеческие существа способны понимать логические доводы. Чем бы это ни объяснялось, если принимать всерьез свидетельство разума, нельзя отрицать очевидной способности человека следовать логике, отличной от логики физиологических процессов, и как раз эта способность и отличает человека от животного. Те эпифеноменалисты1, которые не могут объяснить эту способность, разрушают возможность истинности любой, а значит, и собственной, теории. Пожалуй, можно сказать, что человеческие существа соединяют в себе формальную и реальную идентичность: реальная идентичность их сознания предполагает, как один из факторов, последовательность, последняя же предполагает формальную идентичность объектов сознания. Для того чтобы выжить в мире и удовлетворить законные запросы своего разума, человек должен, помимо последовательности, достичь состояния соответствия. Сознание должно верно отражать внешний мир (в котором особое место занимает тело человека), других субъектов (которые не должны всецело подчиняться внешнему миру) и собственное «я» человека. Ясно, что отношение к самому себе особенно важно для достижения личностной идентичности. 1 Эпифеноминалисты — философы, оперирующие термином «эпифеномен» (греч. epi — при, после, возле и phainomenon — являющееся). Эпифеномен — придаток к феномену, побочное явление, сопутствующее др. явлениям, но не оказывающее на них никакого влияния; термин, применяемый для истолкования сознания как совершенно пассивного, а потому не играющего никакой существенной роли, отражения материального (или идеального) содержания мира. Понятие «эпифеномена» употреблялось такими философами, как Т. Гексли, Ф. Ле-Дантек, Э. Гартман, Ф. Ницше и Др. — Примеч. ред. 21 Витторио Хёсле Временная и непространственная природа сознания порождает особые проблемы. В то время как реальная идентичность физического предмета предполагает непрерывное существование его пространственной структуры, идентичность ментального акта основывается на других условиях. Ментальный акт не происходит в пространстве, — он может продлить свое существование лишь в другом ментальном акте. Поэтому чрезвычайно важным фактором сохранения идентичности сознательных существ является память. Однако и она не является абсолютным, т. е. необходимым или достаточным, условием сохранения идентичности. Человек может утратить память, и, однако, другие люди все же узнают в его новых ментальных актах прежние черты, характерные для человека, которого они знали раньше. И я могу все помнить о другом человеке, оставаясь при этом самим собой, т. е. не отождествляясь с ним. Память не является свойством исключительно рефлексивного сознания. Оставшаяся в прошлом история сознания формирует круг коннотаций, которые особым образом воздействуют на каждый ментальный акт. Даже если я и не помню причинившую мне страдание несправедливость, сам факт моего страдания будет влиять на новый опыт и сделает его отличным от того опыта, который я приобрел бы, если бы не страдал: способность к актуализации прошлого достаточна для объяснения различного опыта. Однако сознание определяется не только прошлым, но и будущим. Каждый ментальный акт некогда станет прошлым, и поэтому он неотьемлем от того временного измерения, единственно в котором он может длиться и сохраняться: продолженность в будущее не менее характерна для сознания, чем продленность в прошлое. Однако недостаточно сказать, что сознание, будучи сущностно временным, т. е. смертным, ориентировано на прошлое и будущее; с тече- 22 Кризис идентичности нием жизни изменяется также соотношение между прошлым и будущим. Прошлое увеличивается за счет будущего, и по мере его увеличения, как правило, человек начинает все более остро осознавать свою смертность. Однако существенной чертой человеческой идентичности является то, что Кант называет первоначальным синтетическим единством апперцепции'. Ментальные состояния являются состояниями субъектов; я способен осознать любое отчетливое представление в качестве своего; в принципе я могу добавить к любой мысли, скажем «кто-то идет», ясное понимание того, что «именно я думаю, что кто-то идет». Это особенно интересно по отношению к моим мыслям о себе самом, например, «Я чувствую, что я устал», поскольку в этом случае я одновременно являюсь и субъектом, и объектом. Эта рефлексивная способность «я» может относиться не только к единичным моментам, например, к моему состоянию устало-'.:! и, но и ко всему человеку (хорошим примером является мысль «Я знаю себя»). Однако самые яркие проявления этой способности связаны с отрицательным отношением человека к самому себе, когда, например, он может сказать: «Я ненавижу себя». Ведь ненависть является отношением противостояния, а между тем ненавидящее и ненавидимое «я» совпадают в одном и том же человеке; вероятно, именно поэтому ненависть столь неумолима и непреклонна. Несмотря на идентичность «я»-субьекта и «я»-объекта, все же необходимо их различать. Позвольте мне называть первую сторону личности «я», а вторую — 1 Апперцепция (от лат. ad — к и perceptio — восприятие), одно из фундаментальных свойств психики человека, выражающееся в обусловленности восприятия предметов и явлений внешнего мира и осознания этого восприятия особенностями общего содержания психической жизни как целого, запасом знаний и конкретным состоянием личности.— Примеч. ред. 23 Витторио Хйсле самостью. Понять, что является принципом индивидуа-ции — «я» или самость, — весьма нелегко. С одной стороны, именно «я» приписывает самость себе, а не другому «я»; в этом смысле «я» является исключающим принципом. С другой стороны, эта формальная функция свойственна всем «я»; их различие определяется различием между самостями, которые, следовательно, могут определять также способы, какими единичные «я» выполняют свою функцию. Чрезвычайно важно понять, что различие между «я» и самостью относительно. «Я» является наблюдающим началом, самость — наблюдаемым; «я» современного человека научилось наблюдать за его самостью и чувствами, как если бы те были чем-то отличным от «я», даже если это не предполагает, что самость освобождается от своих чувств. Однако «я» может также наблюдать за своей склонностью наблюдать, — ив этом случае то, что сначала было «я», становится самостью. И «я» может также отождествиться с самостью, — то, что сначала было самостью, становится «я». Проблема идентичности, в любом случае, является проблемой отождествления, идентификации «я» и самости. Совершенно очевидно, что не все структуры самости равно важны для «я», стремящегося к идентификации: влюбленность захватывает «я» значительно сильнее, чем зубная боль. Для наших целей полезна будет следующая классификация чувств самости; во-первых, чувства, затрагивающие отдельные части тела. Конечно, эти физические чувства на самом деле не являются физическими и не локализованы в каком-то определенном органе, даже если и создают воображаемое пространство. Неправильно было бы сказать: «Моя нога испытывает боль» (возможна иллюзорная боль даже в отнятой ноге); всегда правильно сказать: «У меня болит нога». Во-вторых, существуют чувства, относящиеся к телу в целом, например, общее ощу24 Кризис идентичности щение здоровья. В-третьих, есть чувства, захватывающие душу, например, влюбленность; даже если их последствием являются физические чувства, все же сами по себе они не являются физическими. В-четвертых, особую группу составляют интеллектуальные чувства, такие как наслаждение от познания какой-то важной истины. Почему я люблю или ненавижу что-то? Потому, что оно соответствует или не соответствует тому, каким, по моему мнению, должно быть. «Я» имеет описательные и нормативные образы не только других людей, но и собственной самости. Благожелательное признание собственной самости со стороны «я» предполагает гармонию между этими двумя образами; осмысленное признание предполагает приемлемость и разумность обоих образов, действительное знание «я» самого себя и оценку имеющегося у «я» нормативного образа собственной самости и действий как приемлемых. Эта последняя проблема, между прочим, не может быть решена чистой психологией, которая может только описывать образы самости. Однако если мы хотим провести различие между успешным и бессмысленным поиском самости, то крайне важно найти ответ на нормативный вопрос, что и является задачей философии. Разумный нормативный образ собственной самости должен удовлетворять двум условиям. Во-первых, он не должен противоречить универсальным нормам; любое их нарушение делает идентичность самости паразитической, особенно в том случае, если я продолжаю ожидать от других людей уважения тех норм, которым более не намерен следовать. Только идентифицируясь с ценностями, которые не имеют ничего общего с корыстным интересом, «я» становится уверенным в своих силах и обретает чувство собственного достоинства. Однако даже если я решил для себя, без каких всеобщих ценностей невозмож25 Витторио Хёсле но разумное существование, вопрос о том, что я должен делать в жизни, пока что остается без ответа. Ведь мои конкретные обязанности являются следствием сложного и запутанного силлогизма, посылки которого представляют собой универсальный нормативный и индивидуальный описательный образы моей самости. Например, обычно считается, что все должны стать полезными членами общества и вступить в брак. Но даже если я признаю эти всеобщие обязанности, если я отвергаю мысль стать хиппи или донжуаном, я все-таки еще не знаю, какую профессию выбрать или на ком жениться. Чтобы знать это, я должен точно знать, далее, свои таланты и потребности, возможности, обязанности и настоятельные нужды. Поскольку, однако, как временное существо, я всегда представляю собой нечто большее, чем в конкретный настоящий момент, вполне оправданным оказывается и преувеличение моих возможностей, — оно даже необходимо, для того чтобы достигнуть меньшего, нежели хотелось, однако же большего, нежели было бы возможно без преувеличенного нормативного образа собственной самости. Идеализация человека, характерная для состояния любви, иногда оказывается более справедливой по отношению к человеку, чем трезвое описание его действительного характера, поскольку последнее часто упускает из виду, кем он мог бы стать и кем станет, если будет помнить о том, кем мог бы быть. Знание о собственной самости не может основываться на одной лишь памяти о прошлых ментальных актах. Или, лучше сказать, память о собственной самости, как и всякая память, является не только воссозданием, новым сотворением прошлого исходя из некоего, порождающего принципа. Сведение множества явлений к фундаментальным принципам относится к сущности сознания; и сознание, которое хочет познать себя, должно найти мо26 Кризис идентичности надическую энтелехию1, направляющий его развитие порождающий принцип. Ясно ведь, что сознание не просто пассивно отражает мир, но инстинктивно выбирает из всей доступной и навязываемой ему информации ту, которая оптимально способствует его росту. Несмотря на все изменения и даже революции в росте сознания, порождающий принцип, и только он один, гарантирует непрерывность, которая представляет собой нечто большее, чем непрерывная память о ряде отдельных событий. Хотя я твердо уверен, что нравственность коренится не в одних лишь социальных явлениях, очевидно, что созданные нами описательные и нормативные образы своей самости испытывают сильное влияние со стороны наших образов, сложившихся у других людей, — которые Дж. Мид2 назвал «социальным Я». Конечно, отбор образов опять-таки осуществляется сознанием, и все же несомненно, что, по крайней мере, выбранные им образы (обычно со давшиеся у тех людей, которых данный человек уважает) оказывают огромное влияние на его идентичность. Я должен учитывать свое «социальное Я» не только тогда, когда хочу преуспеть в социальном окружении; абсурдно отрицать тот факт, что те люди, мнение которых не представляет для меня особого интереса, все же могут иметь знание обо мне и тем самым меня ограничивать. Однако другие люди важны для моей идентичности не только в силу создаваемых ими образов моей личности. Я могу быть идентичен себе только в том случае, если яв1 Монада (от греч. monas, родительный падеж monados — единица, единое), понятие, используемое в ряде философских систем для обозначения конститутивных элементов бытия. Энтелехия — осуществленная Цель, действительность в противоположность возможности, осуществление того, что заложено в материи, как возможность. — Примеч. ред. - Мид Джордж Герберт (1863—1931) — американский социолог и фи"ософ. Автор теории, которая объясняет сущность процесса восприятия индивидуумом других личностей. — Примеч. ред. 27 Витторио Хёсле ляюсь индивидом, т. е. отличаюсь от других людей. В то же время я, будучи индивидом, жду признания себя со стороны других людей, что предполагает наличие у нас общих интересов и ценностей. Если понимать под диалектикой то, что две структуры могут взаимодействовать только в том случае, если они ограничивают друг друга, то в интерсубъективных отношениях налицо диалектика центробежных и центростремительных тенденций. Люди испытывают тягу друг к другу только благодаря тому, что они разные; и только понимание друг друга позволяет им решить, следует ли им избегать или даже бороться друг с другом. Здесь мы подошли к теме коллективной идентичности. С одной стороны, методологический индивидуализм справедливо утверждает, что существование общественных институтов предполагает существование отдельных индивидов: первые не могут существовать без поддержки вторых. С другой стороны, методологический индивидуализм не признает, что значительная часть того, что индивиды думают, чувствуют и даже представляют собой, определяется логикой культуры, к которой они принадлежат. Верно даже, что способность индивида дистанцироваться от коллективных единиц, таких, как семья или племя, является поздним результатом как онтогенетического, так и филогенетического развития. Не представляет труда проследить непрерывную параллель между факторами индивидуальной и коллективной идентичности. Телу человека соответствуют символы общественных институтов, которые чрезвычайно важны, для того чтобы одна коллективная единица могла идентифицировать другую. Память института конституируется его мифическими и историческими традициями; значимость последних распространяется не только на прошлое, но и на будущее. Самые сложные социальные единицы — культуры — имеют целостный характер; посредством составляющих их систем 28 Кризис идентичности ценностей, категорий, символов и языков они настроены на последовательный и соответствующий реальности образ мира. Всякая социальная единица имеет описательный образ самой себя, а у наиболее сложных социальных единиц есть также нормативные самообразы. Отнюдь не нелепо предположение, что, по крайней мере, культуры имеют порождающий принцип, т. е. их рост следует определенной индивидуальной логике, которая гарантирует их непрерывность во всех неожиданных трансформациях. Нормативный и описательный образы какой-то культуры, создавшиеся у другой культуры, чрезвычайно важны для идентичности первой: не менее важна и попытка каждого института отличить себя от других социальных единиц. Социальный институт онтологически зависит от индивидов, которые его поддерживают, и поэтому он обречен на постоянный страх перед тем, что они отдадут свои симпатии другому институту. Следовательно, возможны не только конфликты между равнопорядковыми институтами с взаимоисключающими членами, например, между двумя религиями, — не менее часты и конфликты между субординированными институтами, такими, как государство и церковь. Помимо двух названных типов институциональных конфликтов, имеют место, разумеется, и конфликты между индивидами и институтами. В форме кризиса взросления этот конфликт воспроизводится в жизни каждого человека. Индивид должен разорвать связь с семьей, в которой родился и вырос, чтобы создать новый образ самого себя; он должен измениться и из пассивного пользователя, потребителя социальной системы превратиться в одного из ее творцов. Только выбрав, каким ему быть, только найдя свое место в социальной иерархии разных людей и функций, «я» может достичь новой и стабильной идентичности. 29 Витторио Хёсле II Мы рассмотрели почти все элементы идентичности, за исключением одного, а именно кризиса идентичности. Мы увидим, что успешно преодоленный кризис идентичности является самым важным моментом развитой идентичности. Однако что представляет собой кризис идентичности? Его сущность состоит в отвержении самости со стороны «я». Это отвержение может не быть совершенно открытым; «я», испытывающее презрение к своей самости, может попытаться обмануть себя с помощью лихорадочной деятельности, которая, подобно бессмысленному путешествию, имеет только одну цель — отвратить внимание «я» от своей самости. Сделать кризис явным, признаться себе в дальнейшей невозможности идентифицировать себя со своей самостью, — важный шаг к преодолению кризиса идентичности. Конечно, вместо этого человек может сделать своей единственной целью привлечь внимание других людей и избежать серьезной борьбы с собственной самостью; общественное внимание к обсуждению идентичности в наши дни приводит лишь к искажению подлинной проблемы. По словам Эриксона', «чтобы утратить свою идентичность, сначала надо иметь ее». Часто трудно бывает принять всерьез заявления о кризисе идентичности, исходящие от поверхностных людей. Я отнюдь не хочу сказать, что всегда лучше довести скрытый кризис идентичности до взрыва; если плодотворное преодоление кризиса невозможно, то, может быть, меньшим злом является продолжение самообмана, и это особенно верно по 1 Эриксон Эрик (1902—1994} — американский психолог, социолог и психоаналитик. Основатель психоистории и автор психосоциальной теории жизненного цикла человека. — Примеч. ред. зо Кризис идентичности отношению к кризису другого человека. Такой автор, как Ибсен, одержимый проблемами поиска идентичности и искренности человека по отношению к самому себе, посвятил свою величайшую драму ситуации, когда грубое вмешательство в нестабильную идентичность слабого человека со стороны его друга приводит к катастрофе, причем не только для самого этого человека, но и для его семьи. Я имею в виду, конечно, «Дикую утку». Кризис идентичности проходит болезненно. Я бы сказал, пожалуй, что он является самым болезненным жизненным переживанием. Конечно, физическая боль тоже может истерзать человека, но от нее всегда имеется радикальное избавление, — самоубийство. В случае же кризиса идентичности самоубийство не помогает. Я не имею в виду гамлетовский страх перед возможностью того, что и после смерти моя самость продолжит меня мучить; я чочу сказать, что при физической боли последняя является единственной проблемой, которая исчезает вместе с прекращением боли, тогда как в случае кризиса идентичности сопутствующие психические страдания (от которых меня могла бы спасти смерть) являются симптомом другой проблемы — невозможности примириться с собственной самостью. Ее презренность не может быть уничтожена смертью, но может быть преодолена только путем продолжительного усилия. Причины кризиса идентичности проглядывают уже в моем анализе факторов идентичности: когда один или более факторов не в порядке, вероятен кризис идентичности. Глубина кризиса идентичности зависит от того, сколько факторов нарушено; и очевидно, что разные факторы приводят к очень разным типам кризиса, которые, следовательно, необходимо тщательно различать. Нарушение последовательности и должного соответствия с реально31 Витторио Хесле стью является причиной очень опасных умственных расстройств. Эти последние, однако, не имеют отношения к предмету моей статьи. Кризис идентичности, который меня интересует, переживается и вполне нормальными людьми. Конечно, еще одна проблема кризиса идентичности связана с тем, что разные причины могут усиливать друг друга, — сомнения относительно ценностей, которым я следовал доныне, могут вызвать мое отчуждение от близких и родных людей, что углубит кризис идентичности. Одна из причин кризиса идентичности заключается в неспособности человека идентифицировать себя со своим телом. Эта неспособность проявляется особенно в случае неожиданных телесных изменений, например, во время полового созревания. Причиной, вызывающей проблемы идентичности, являются не новые физиологические функции как таковые, а неспособность вписать действия, необходимые для удовлетворения новых потребностей, в выработанную человеком систему ценностей. Может оказаться, что я не способен контролировать свои новые потребности и воспринимаю потерю контроля как угрозу для силы и состоятельности «я», — или же я могу поставить их под контроль, однако не в состоянии признать их законность и оправданность. Потеря памяти является еще одной причиной проблем, связанных с идентичностью. Поскольку моя самость в значительной мере сформирована своим прошлым, забвение прошлого затрудняет понимание собственной самости и идентификацию с ней: реакции самости становятся сюрпризом для «я». Именно реконструктивная природа памяти, основывающейся на порождающем принципе личности, может восстановить ее прошлое. Амнезия, однако, часто является не причиной, а следствием кризиса 32 Кризис идентичности идентичности: я забываю свою самость, поскольку она запятнана, например, какими-то былыми злодеяниями, лежащими на моей совести. Одна из проницательнейших мыслей Фрейда (предвосхищенная Ницше) состоит в том, что забвение есть не просто пассивное событие, но положительная активность, диктуемая желаниями и стремлениями человека. С одной стороны, забвение действительно благотворно и необходимо: сознание, которое не способно ничего забыть, жило бы только в прошлом; только уничтожив наименее «удобную» часть прошлого, сознание может ориентироваться на будущее. С другой же стороны, забвение того, что продолжает определять мои мысли и поведение, означает, что самость остается непонятной для «я», — и это не может быть основанием разумной идентичности. Другим источником кризиса идентичности является отказ признать временную природу самости, в частности, смертность. Когда «я» осознает смертность человека — обычно это случается в подростковом возрасте, — оно иногда отвергает жизнь, которая не может быть вечной: самоубийство из страха смерти является, несомненно, шагом не очень логичным и, тем не менее, имеющим место в действительности. Еще одним способом бегства от смерти может быть уход в чистое царство форм, — будь то искусство, наука или философия. Конечно, посвященность таким формам духовной жизни является одним из надежнейших источников стабильной идентичности, однако и он становится проблематичным, если основной мотив человека при этом — недовольство жизнью и временностью. Это послужило темой двух великих произведений искусства — последней драмы Ибсена «Когда мы мертвые пробуждаемся» и фильма Бергмана «Земляничная поляна». 2-6054 33 Витторио Хёсле Причинами кризиса идентичности являются также неверные описательный и нормативный образы собственной самости, и помощь человеку в освобождении от них достойна похвалы. Однако нелепо полагать, что жизнь без каких бы то ни было нормативных образов самого себя были бы более достойной. Переживание преступником кризиса идентичности благотворно не только для общества, — даже для самого преступника кризис является единственной возможностью обрести лучшую идентичность, поскольку раскаяние может играть освободительную роль. Лишение человечества моральных ориентиров никого не сделает счастливым; напротив, именно отсутствие ориентиров вызывает у человека чувство, что жизнь бессмысленна. Неверные образы собственной самости могут создаваться и на описательном, и на нормативном уровне. Я могу считать себя гораздо более порочным, чем на самом деле, — меня могут терзать необоснованные комплексы вины, даже если мои нормативные представления вполне разумны. Или же я могу создать для себя абсурдные нормы, — например, могу вполне справедливо признавать, что я не гений, по при этом считать своим долгом стать им. Причиной кризиса идентичности является не только понимание несоответствия моего поведения всеобщим нормам. Более серьезной причиной кризиса является та мысль, что всеобщие нормы, которым я следовал с чистой совестью и даже жертвуя собой, не могут претендовать на обоснованность и законность, — что признание их было личной или коллективной ошибкой. Хорошими примерами этого типа кризиса идентичности являются состояния политика или солдата, служивших системе, которую сегодня они должны признать в корне аморальной, а также состояние менеджера, который участвовал в созда34 Кризис идентичности нии экономического чуда промышленно развитых стран и сейчас должен спросить себя о том, не ускорил ли он экологическую катастрофу, к которой мы идем. Однако их избавление от иллюзий все же предполагает существование прочных моральных норм. Об ошибках можно говорить только в том случае, если существует истина, и вину можно испытывать только тогда, когда существует объективная нравственность. Самый глубокий и отчаянный кризис идентичности является результатом убеждения в том, что не существует никаких моральных норм. В этом случае кризис безысходен, потому что из него почти невозможно выкарабкаться: ведь человек не будет рассматривать свое состояние сознания как кризис, поскольку понятие «кризис» имеет нормативные коннотации, которые он отвергает; он не признается в ошибке, поскольку освободился от мысли об объективном различии между ошибкой и истиной. Отрицание общепризнанных ценностей делает общение с таким человеком чрезвычайно трудным. Однако даже если я признал некоторые всеобщие ценности, остается нерешенной проблема формы моего участия в их реализации. Эту проблему невозможно решить, не зная о своих способностях и талантах; и не чадо особой смелости, чтобы предположить, что часто как раз наиболее талантливому человеку труднее всего найти собственный путь. Поскольку талант означает потенциал инноваций, ни сам человек, ни его окружение заранее не располагают теми категориями, какие необходимы для осознания этого потенциала. Гораздо хуже та ситуация, когда человек вынужден признать сделанный им выбор неправильным, поскольку выбранное им место работы или учебы не позволяет ему максимально раскрыть свои таланты. И еще более глубокий кризис идентичности будет 35 Витторио Хёсле результатом неспособности человека обнаружить в своей прошлой жизни какой-либо порождающий принцип. И если человеку недостает органического единства, целостности, которая направляла бы его развитие, то ему нельзя помочь. Ибо никто не может вдохнуть в человека монадическую энтелехию. Последствием отсутствия порождающего принципа является прерывность жизни человеческой самости: в различных переживаниях человека ничто не говорит об их принадлежности одному и тому же человеку, потому, например, что он повторяет одни и те же ошибки и не учится на них. Но даже человек со сложным порождающим принципом должен избегать двух крайностей, что только и может гарантировать успешность его развития. Целостность сознания может быть достигнута лишь в результате контакта и противоборства с миром, причем существует оптимальная мера противостояния. Сознание не способно вобрать в себя все то, что кажется возможным: оно не реализует подразумеваемую им тотальность. Мир не может не нарушить целостность сознания, ибо переполняет его; чрезвычайное богатство мира разрушает последовательность, необходимую для целостности сознания. Научиться интуитивно постигать оптимальную меру, раскрывать и в то же время контролировать свои таланты чрезвычайно важно для идентификации «я» с самостью. Однако даже достижение золотой середины может привести к кризису идентичности: «я» может прийти к выводу, что развитие самости закончено и дальнейшая жизнь более не имеет смысла. Дисгармония между «я» и «социальным Я» является одной из самых распространенных причин кризиса идентичности. Немногие люди могут сохранить свою идентичность в неприкосновенности, если сталкиваются с беспричинным презрением со стороны своего окруже36 Кризис идентичности ния, особенно же тех людей, которых они уважают. Однако завышенные оценки, даваемые им друзьями, также не идут на пользу, поскольку и в этом случае человек понимает, что его образ, сложившийся в глазах других людей, не соответствует реальности. Однако забавно и даже удивительно, как быстро люди привыкают обычно к своему образу в глазах других людей: они верят лести так же искренне, как и раскаиваются в своем поведении, осужденном другими без сколько-нибудь убедительных моральных аргументов. Для великого человека характерно, что он (или она) продолжает свой путь даже в случае изоляции от сообщества, и не из упрямства, но в силу твердого знания и чувства глубокого морального и интеллектуального превосходства. Но не только конфликт между моим представлением о себе и «социальным Я», созданным другими людьми, может породить проблемы идентичности: не менее опасны и противоречивые представления обо мне других людей. Пиранделло1 посвятил этой теме несколько произведений — сейчас я припоминаю только «Некто, никто и сто тысяч», где герой впадает в безумие, чтобы спастись от неизбывно несовместимых представлений о нем других людей. Даже если созданные другими образы адекватны, мое разное положение по отношению к ним породит разные, иногда даже протиьоречивые конфликты: именно в этом корень трагического. Как друг, я могу иметь другие обязанности, чем как гражданин, и неспособность занять промежуточное положение между ними может причинять страдания «я», особенно «я» морального человека, который серьезно относится к своим обязанностям. ^ 1 Пиранделло Луиджи (1867—1936) — итальянский писатель; лауреат Нобелевской премии; в своих произведениях стремился показать внутренний мир «маленького» человека и его духовный бунт против беспросветности жизни. — Примеч. ред. 37 Витторио Хёсле Другие люди являются угрозой для моей идентичности не только из-за их мнений обо мне: они могут угрожать ей даже просто своим существованием. Мифологическое повествование о двойнике выражает страх перед этой угрозой уже на заре истории: меня могут перепутать с другим человеком и приписать мне поступки, за которые я не несу никакой ответственности. Комический вариант данной темы представлен в комедиях двойников, от «Близнецов» Плавта до «Комедии ошибок» Шекспира; в разных позднейших вариациях мифа об Амфитрионе добавляется трагическая нота (особенно в драме Клейста). Более распространенным примером этого конфликта является столкновение с «более сильным» человеком, который представляется уже реализовавшим созданный мной нормативный образ самого себя столь совершенным образом, что мое существование кажется излишним. Томас Манн в «Лотте в Веймаре» великолепно описал нездоровое и вредное воздействие превосходящей и подавляющей личности Гёте на окружающих. Во время завтрака с Лоттой Гёте достало жестокости процитировать, как очевидную нелепость, китайскую пословицу о том, что великий человек является бедствием для общества и государства. Однако Лотта понимает, что китайцы правы. Великий человек является бедствием, между прочим, не только потому, что отбрасывает тень на поиск идентичности простыми смертными; своими моральными новшествами великий человек часто наносит урон традиционным ценностям и способствует тем самым кризису идентичности вышеупомянутого типа. Пусть и не столь драматичный, конфликт с более сильной личностью присутствует в жизни каждого человека в форме его отношений с родителями или старшими братьями и сестрами, которые всегда имеют временное превосходство над ним. Человек может 38 Кризис идентичности обрести стабильную идентичность только в том случае, если сумеет освободиться от подобных моделей взаимоотношений. Этот процесс не может инициироваться теми, от кого он должен освободиться. Такие императивы, как «больше не подчиняйся мне», вызывают у человека противоречивую реакцию: ведь если я подчиняюсь приказу, то я не подчиняюсь, если же не подчиняюсь — то как раз подчиняюсь. Однако кризисы идентичности вызываются не только слишком жесткими моделями взаимоотношений, — они могут быть результатом разочарования человека в свойственных ему моделях общения. Поскольку наша вера в ценности в огромной мере зависит от веры тем людям, которые их воплощают, осознание несоответствия моделей поведения человека его собственным стандартам вполне может привести к отвержению ценностей, которым он учил. Вообще разочаровывающее поведение или даже более того — предательство со стороны человека, который вызывал восхищение или любовь, расшатывает идентичность другого человека. Ибо человек, в какойто мере идентифицируя себя с другим, не может не допускать возможности того, что тот другой отчасти прав в своих действиях. И даже если первый приходит к выводу, что поведение второго не поддастся никакому оправданию, он все же упрекает себя в несправедливости. Он начинает сомневаться в своей способности оценивать других; доверие человека к другим людям серьезно подрывается — и вместе с ним один из факторов стабильной идентичности. Сильнейшее разочарование, разумеется, связано с любовью. Ибо в любви «я» научается идентифицировать себя с собственной самостью через призму ее восприятия другим «я» и преодолевает эгоцентризм, беря на себя ответственность за другую личность. Поскольку любовь явля39 Витторио Хйсле ется одним из самых удовлетворительных ответов на поиск идентичности, крушение любви оказывается одной из самых важных причин кризисов идентичности. Мы подошли к проблеме кризиса коллективной идентичности. Его сущностью является уменьшение идентификации индивидов с коллективной реальностью, которую они прежде поддерживали. Причины этого кризиса отчасти аналогичны причинам кризисов индивидуальной идентичности. Здесь можно назвать отрицание символов, распад коллективной памяти, представленной традициями, а также утрату веры в общее будущее, дисгармонию между описательным и нормативным образами себя, прерывность в истории, несоответствие между представлением культуры о самой себе и ее образами в других культурах, наконец, чувство неполноценности относительно более совершенной культуры. Можно добавить и некоторые другие факторы: поскольку общественные институты онтологически зависят от поддерживающих их индивидов, кризис идентичности последних приведет к кризису идентичности зависящих от них институтов. Конечно, кризисы индивидуальной идентичности часто вызываются кризисом коллективной идентичности, однако это происходит не всегда. Более того, как мы уже видели, институты вынуждены постоянно бороться за лояльность поддерживающих их индивидов, ибо взятие теми назад своей лояльности означало бы смерть института. Желая воспрепятствовать изменению установок индивидов, институты стремятся создать впечатление, что индивидам угрожают другие институты. Вместе с исчезновением этой угрозы исчезает базисная цель институтов; поэтому институты часто не могут пережить победы над своими основными противниками. (Хорошим примером служит ослабление коллективной идентичности США после их триумфа в холодной войне.) 40 Кризис идентичности Каковы последствия кризисов идентичности? Хотя даже кризисы идентичности протекают по известному сценарию, их первым результатом является утрата предсказуемости поведения затронутых ими индивидов или институтов. Ценности, которые раньше направляли их действия, устаревают; реакцией на новую ситуацию может стать пассивность либо лихорадочная активность. Парадоксально и, тем не менее, верно, что кризис идентичности часто вызывает регрессию к более архаичным и примитивным ценностям: поскольку «я» отвергает непосредственно зримые структуры самости и при этом не перестает нуждаться в самости, опасаясь остаться всего лишь абстрактной функцией идентификации, его выбор начинает определяться более старыми структурами. Чувство дезориентации, характерное для любого кризиса идентичности, может, далее, увеличить шансы на успех тоталитарных идеологий: ведь они предлагают простые решения, которые могут оказаться предпочтительнее нормативного вакуума; они приманивают обещанием общности, которая была разрушена кризисом коллективной идентичности и которая по-прежнему остается предметом страстного стремления. Разрушив взаимное доверие, распределение лояльности и институты, кризисы коллективной идентичности изменяют распределение власти в мире, а также некоторые другие факторы. Можно считать трюизмом, что быстрое и радикальное перераспределение власти, вкупе со всеобщим скептицизмом относительно традиционных ценностей, является идеальным условием для так называемых великих исторических кризисов. Политики, однако, пока еще не поняли, что одной из главных задач великого государственного мужа должна быть организация рационального контроля над кризисами идентичности и, если возможно, — участие в устроении новой, более разумной идентичности. 41 Витторио Хбсле ки. Я хочу назвать здесь только две генетические предпосылки такого поиска, которые не вполне согласуются друг с другом. С одной стороны, для того чтобы обрести новую моральную ориентацию, я должен уметь дистанцироваться от традиционных ценностей. С другой стороны, только признание их достоинств, искренняя благодарность за исполнение ими в прошлом роли ориентиров могут привнести конструктивный дух, без которого невозможна выработка новых ценностей. Кроме того, я должен быть способен признать, что некоторые люди в моральном отношении выше меня, т. е. должен понимать, что такое естественный и безусловный авторитет. Человек, лишенный этой способности и творческой жилки, вряд ли преодолеет кризис идентичности. Не менее важно понять порождающий принцип собственного развития. Если я признаю скрытую закономерность своего прошлого, то я могу примириться с ним, даже если и отвергаю его исходя из принятых мною новых норм. Ибо даже если я и совершил ошибки, которые не должен был совершать (поскольку они являются ошибками), я могу усмотреть в них условие возможности прогресса: прогресс был бы невозможен, если бы я достиг совершенного понимания уже в начале жизненного пути. Анализ причин совершенных личностью ошибок необходим, однако не достаточен для достижения этого понимания: причинный подход следует дополнить здесь телеологической интерпретацией развития. Трудно до конца понять существо собственной самости без установления ее места в космосе других субъектов. Большинство страданий, которые люди причиняют друг другу (а это род страданий самых изощренных и мучительных), проистекает из борьбы людей за признание, т. е. за гармонию между «я» и «социальным Я». Зрелость характеризуется реалистичной оценкой того, что че44 Кризис идентичности ловек достиг и еще может достигнуть в интерсубъективном космосе. Умение в интересах целого примириться с более низким положением в этом космосе является одним из самых существенных условий гармонии с другими людьми и с самим собой. И мудрость состоит в согласии с тем, что если обиды, травмы и кризисы идентичности, неотъемлемые от борьбы за признание, в конечном итоге приводят обе стороны к умиротворению зрелости, то они должны быть преданы забвению. Эмиль-Мишель Чоран1 Портрет цивилизованного человека Интерес, который человек цивилизованный проявляет к так называемым отсталым народам, весьма подозрителен. Неспособный более выносить самого себя, он стремится распространить на них избыток несчастий, которые давят его; он как бы приглашает их разделить с ним его беды, убеждает принять ту судьбу, противостоять которой в одиночку ему не хватает мужества. По мере того как он осознавал, что другим народам здорово повезло, когда они остались в стороне от «развития», он начинал испытывать по отношению к ним досаду и злобу, присущие человеку, рискнувшему всем и проигравшему. По какому праву остаются они в стороне, вне деградации, от которой он так давно страдает и которой ему никак не удается избежать? Цивилизация, дело его рук, его навязчивая идея, предстает перед ним как наказание, которое он сам для себя изобрел и через которое хотел бы заставить пройти тех, кто до сих пор оставался в стороне. «Придите и разделите со мной мои несчастья, будьте со мной заодно в моем аду» — таков смысл его заботы о них, такова подоплека его любопытства и нетерпения. Измученный своими пороками и в еще большей степени — «просвещением», он не успокоится, пока не навяжет их тем, кто, к сча- 1 Чоран Эмиль-Мишель (1911—1995) — французский философ, ро- дился в Румынии. Любимая тема его философских работ — человек в современном мире. Философия Чорана имеет ярко выраженный пессимистический характер. 46 Портрет цивилизованного человека стью, всего этого лишен. Он так же вел себя даже в ту эпоху, когда еще не был ни «просвещенным», ни уставшим от самого себя и находился во власти алчности, жажды приключений и бесчинств. Испанцы в апогее своего могущества, без сомнения, чувствовали себя угнетенными требованиями веры и строгостью церкви. И они отомстили за это завоеванием Америки. Пытались ли вы когда-либо обратить ближнего в свою веру? Это никогда не делается ради спасения обращаемого, но только ради того, чтобы заставить его так же мучиться, чтобы, подвергаясь испытаниям, он томился таким же нетерпением. Вы не спите, вы молитесь, вы терзаетесь? Пусть и другой делает то же самое, пусть вздыхает, вопит, бьется в тех же судорогах, что и вы. Нетерпимость — достояние страждущих умов, вера которых сводится к своего рода пытке, более или менее добровольной, которую они хотели бы сделать общим достоянием и обязательным уделом для всех. Счастье другого человека никогда не было ни побудительной причиной, ни подоплекой поступков; на него ссылаются лишь для того, чтобы очистить свою совесть или отыскать благородный предлог: но о каком бы поступке ни шла речь, чаще всего бывает просто стыдно признать, какой импульс побуждает исполнителя к действиям и ускоряет их осуществление. Никто никого не спасает, ибо спасти можно лишь себя, и это удается тем успешнее, чем более умело убеждениями маскируют то несчастье, которое хотят принести другим и щедро одарить их. Какой бы привлекательной ни представлялась внешняя видимость, прозелитизм, тем не менее, проистекает из сомнительного благородства, зла по своим последствиям худшего, чем неприкрытая агрессия. Никто, однако, не расположен в одиночку выносить ни строгий порядок, установленный по собственному почину, ни вообще любое ярмо, надетое добровольно. В благо47 Эмиль-Мишель Чоран душии миссионера или апостола проглядывает мстительность. В веру обращают вовсе не для того, чтобы освободить, но для того, чтобы сковать цепями. Едва человек оказывается в плену какого-либо учения, он начинает завидовать вашим расплывчатым убеждениям, вашей сопротивляемости догмам и лозунгам, вашей счастливой неспособности их воспринимать. Втайне краснея от того, что принадлежит к секте или партии, стыдясь своей причастности к истине и своего служения ей, он злится не на своих заклятых врагов, которые ведь тоже считают себя обладателями истины, а на вас, на непричастного, виновного лишь в том, что не внял ничьим доводам. А если, для того чтобы избежать рабства, подобного тому, в которое попал он, вы позволите себе какие-нибудь увертки, он приложит все усилия, чтобы этому помешать, дабы принудить вас к рабству, хотя бы похожему на то, в которое попал сам. Этот феномен является настолько всеобщим, что касается не только убеждений, но и, например, славы. Литература, как и наука, содержит тому немало печальных примеров. Какой писатель, пользующийся определенной известностью, не начинает в конце концов страдать от этого, не испытывает неудобства от того, что известен и узнаваем, что у него есть, пусть небольшой, свой круг читателей? Он завидует своим друзьям, которые наслаждаются комфортом безвестности, и будет пытаться вытянуть их из нее, нарушит достоинство их покойной жизни, чтобы заставить их тоже испытать муки и терзания успеха. Чтобы добиться этого, он сочтет уместной любую уловку. И тогда их жизнь станет кошмаром. Он будет их преследовать, заставлять творить и делать это творчество достоянием публики, он победит их стремление к скрытой славе — предел желаний деликатных и безвольных людей. Пишите, публикуйте, твердит он им яростно и бесстыдно. Несчастные повинуются, не 48 Портрет цивилизованного человека подозревая о том, что их ожидает. Он один знает это. Он подстерегает их; энергично и чрезмерно, с деланным восторгом хвалит робкие опусы, чтобы столкнуть своих друзей в горнило современной литературной жизни; находит или думает, что находит, им сторонников и последователей; устраивает так, что за ними следуют толпы читателей, этих вездесущих и неявленных убийц. Совершив это злодеяние, он успокаивается и отходит в сторону, удовлетворенный видом того, как его протеже становятся добычей тех же мук и того же стыда, мук и стыда, о которых так хорошо свидетельствует высказывание какого-то русского писателя: «Можно сойти с ума при одной лишь мысли, что тебя читают». Подобно тому, как автор, пораженный и отравленный своей известностью, стремится распространить эту болезнь на тех, кого она еще не настигла, так и цивилизованный человек, жертва извращенного сознания, старается передать муки, которые испытывает он, народам, не познавшим еще терзаний. Внутренняя раздвоенность мучит и подтачивает его, как же может он примириться с тем, что другие ее не принимают, не любопытствуют о ней и даже отвергают ее? Не гнушаясь никакими средствами, чтобы заставить их покориться, стать похожими на него и пойти его крестным путем, он будет приманивать их благами цивилизации, которые, в конце концов, ослепят их, помешают разобраться, что же в ней хорошо и что плохо. И они станут копировать лишь ее пагубные черты, то, что превращает ее в заранее обусловленное, планомерное бедствие. Если до сего времени они были безобидными и добродушными, то отныне они захотят стать сильными и опасными, к величайшему удовольствию благодетеля, сознающего, что такими они и станут, по его примеру. Он будет интересоваться ими и «помогать» им. Как приятно видеть, что, запутавшись, они сталкиваются 49 Эмиль-Мишель Чоран с теми же проблемами, что и он, скатываясь в ту же пучину! Сделать их закомплексованными, одержимыми навязчивой идеей, свихнувшимися — предел его желаний. Юношеский пыл, с которым они тянутся ко всякого рода инструментам и предметам роскоши, к этим техническим приманкам, вселяет в него уверенность и наполняет радостью: пополнились ряды обреченных, больше стало товарищей по несчастью, способных, в свою очередь, помочь ему, взвалив на себя часть придавившей его ноши или хотя бы влача столь же тяжкую свою. Он называет это «продвижением» — словцо, скрывающее и его коварство, и его уязвимость. Что-то подлинно человеческое можно еще найти лишь у тех народов, которых обогнала история, и они не спешат ее догонять. Находясь в арьергарде, никак не затронутые соблазнами прогресса, они взращивают в себе вышедшие из употребления добродетели и считают своим долгом не меняться с течением времени. Они, конечно, «ретрограды» и охотно бы застыли в своей стагнации, если бы имели средства это сделать. Но им этого не позволят. Заговор, составленный против них другими, «продвинувшимися», слишком умело осуществляется, чтобы им удалось его расстроить. Раз уж процесс падения начался, в ярости, что бессильны его остановить, они с бесцеремонностью неофитов стремятся ускорить его ход, поскорее слиться с этим ужасом, приумножая его, согласно закону, по которому новое зло всегда одолевает старое добро. И они захотят быть в первых рядах, хотя бы для того, чтобы показать другим, что тоже умеют падать и даже могут в этом деле превзойти других. Стоит ли этому удивляться или жалеть об этом? Разве мы не видим, как всюду видимость берет верх над сущностью, суета над покоем? И разве можно отрицать, что мы стали свидетелями агонии нерушимого? Любой шаг вперед, любая форма ди5О Портрет цивилизованного человека намизма содержит что-то сатанинское: «прогресс» — это современный синоним грехопадения, мирская версия проклятия. Те, кто считает себя и является носителем этого «прогресса» (то есть решительно все мы), что мы есть, как не ряды отверженных, обреченных на пребывание в мерзости, среди этих машин, в этих городах, от которых нас могло бы избавить лишь какое-то всемирное бедствие? Тогда-то и представился бы случай всем этим изобретениям продемонстрировать свою полезность и оправдать себя в наших глазах. Если «прогресс» — такое уж огромное зло, как же получается, что мы ничего не предпринимаем, чтобы, пока не поздно, не остановить его? Но хотим ли мы этого? Должно быть, наш удел таков, что мы этого на самом деле не хотим. Следуя своей извращенной натуре, мы хотим и добиваемся «лучшего»:это стремление пагубно для нас, оно во всех своих проявлениях отдаляет нас от счастья. Нельзя безнаказанно ни «совершенствоваться», ни развиваться. Движение, как нам известно, это ересь; и именно поэтому оно нас притягивает, мы кидаемся в него и, неисправимо испорченные, предпочитаем его правоверию покоя. Мы были созданы для растительной жизни, для того, чтобы медленно расцветать, а не губить себя скоростью и гигиеной, вызвавшей к жизни избыток этих почти бесплотных и асептических существ, этого муравейника, в котором все шевелится, но ничто не живет. Поскольку опре деленная доза грязи необходима организму (физиология и грязь термины взаимозаменяемые), перспектива абсолютной чистоты в масштабе всей планеты внушает законное опасение. Грязные и безмятежные, мы должны были бы держаться общества животных, прозябать подле них в течение еще нескольких тысячелетий, вдыхать запах хлева, а не лабораторий, умирать от болезней, а не от лекарств, вращаться вокруг пустоты и тихо в нее погружаться. От51 Эмиль-Мишель Чоран страненность, которая должна была бы быть нашим долгом и чаянием, мы подменили событийностью; а ведь всякое событие затрагивает и терзает нас, поскольку нарушает наше равновесие и вредит нашей длительности. Чем менее вероятным делается наше будущее, тем больше мы предаемся тому, что ведет нас к погибели. Цивилизация — наш наркотик, мы настолько отравлены им, что привязанность к ней представляет из себя феномен привыкания, являя смесь экстаза с отвращением. Такова, какова она есть, она прикончит нас, нет никаких сомнений на этот счет. Отказаться и освободиться от нее мы не сможем, и сегодня это менее вероятно, чем когдалибо прежде. Кто примчится на помощь, чтобы освободить нас от нее? Антисфен, Эпикур, Хрисипп, считавшие уже слишком сложными античные нравы, — что сказали бы они о наших, и кто из них, будучи вкорененным в современную жизнь, оказался бы обладателем достаточной выдержки, чтобы сохранить в ней свою безмятежность? Во всех отношениях более здоровые и более уравновешенные, чем мы, древние могли бы обойтись без мудрости, однако они ее все же выработали. Нас полностью разоблачает как раз то, что у нас нет ни потребности, ни способности обрести собственную мудрость. Разве не знаменательно то, что первый из наших современников, обожествлявший природу и яростно разоблачавший порочность цивилизованного человека, был полной противоположностью мудреца? Диагноз нашей болезни поставил безумец, более необычный, более ненормальный, чем все мы, вместе взятые, явный маньяк, предтеча и прообраз наших химер. Не менее знаменательным представляется нам недавнее появление психоанализа — садистского метода, направленного на то, чтобы скорее усилить нашу боль, чем успокоить ее, и странным образом искушенного в искусстве заменять 52 Портрет цивилизованного человека наши простые, бесхитростные недомогания недомоганиями изощренными. Любая потребность, обращенная к поверхности жизни и скрывающая ее глубину, придает цену тому, что ее не имеет и не может иметь. Цивилизация со всеми своими атрибутами покоится на нашей склонности к ирреальному и бесполезному. Согласись мы сократить наши потребности, свести их лишь к самым необходимым — и она бы рухнула в одночасье. Поэтому, чтобы продлить свое существование, она стремится пробуждать у нас все новые потребности и бесконечно множить их, ибо всеобщая практика атараксии имела бы для нее более тяжкие последствия, чем самая разрушительная война. Добавляя к естественным, неизбежным неудобствам еще и дополнительные, она вынуждает нас страдать вдвойне, множит наши муки и усиливает наши физические недостатки. Да перестанут нам твердить, что она исцелила нас от страха! На самом деле совершенно очевидна прямая зависимость между увеличением наших потребностей и нарастанием наших страхов. Желания, источник потребностей, порождают у нас постоянное беспокойство, невыносимое, но совсем в ином смысле, чем дрожь, сотрясающая нас в естественном состоянии, в момент возникшей опасности. Мы уже не вздрагиваем время от времени, мы дрожим постоянно. Что же мы выиграли, заменив страх тревогой? И кто стал бы колебаться, выбирая между кратковременной и постоянной, непреходящей, паникой? Безопасность, которой мы кичимся, скрывает непрекращающееся беспокойство, которое отравляет каждое настоящее и будущее мгновение, делая первые недействительными, а вторые невозможными. Желания смешиваются со страхами, и счастлив тот, кто не испытывает ни того ни другого! Но едва в нас рождается первое, как неукоснительно появляется и второе, соблюдая эту обидную и болезненную по53 Эмиль-Мишель Чоран следовательность. Постараемся же выносить жизнь, рассматривать каждое впечатление, которое получаем, как впечатление, навязанное извне, которое нас не затрагивает, и переживать происходящее так, будто оно не имеет к нам никакого отношения... «Ничто из того, что со мной случается, ко мне не относится, это не мое», — говорит наше Я, когда убеждает себя, что само оно не отсюда, что ошиблось миром и что альтернативой безучастности может быть только ложь. Устремленное к внешней видимости, каждое желание, заставляющее нас сделать хотя бы шаг за пределы нашей сущности, приковывает нас к новому предмету и ограничивает наш горизонт. Тем не менее по мере того как желание обостряется, оно позволяет нам распознать ту болезненную жажду, проявлением которой оно является. Когда оно утрачивает естественность из-за нашего цивилизованного образа жизни, то, становясь нечистым по своей сути, оно расстраивает и загрязняет все, вплоть до нашей субстанции. Порочно все, что примешивается к нашим глубинным императивам, все, что смущает и тревожит нас без необходимости. Даже смех и улыбки порочны. Зато добродетельно все, что побуждает жить вопреки цивилизации, все, что подстрекает сбивать и замедлять ее ход. Что же касается счастья, если у этого слова вообще есть смысл, то оно состоит в сведении потребностей к минимуму и в стремлении к бездеятельности, в потусторонности, возведенной в принцип. Наше единственное прибежище: отказаться не только от результатов деятельности, но и от самой деятельности, стремиться к непродуктивности, оставить нерастраченной значительную часть нашей энергии и наших возможностей. Виновные в том, что хотели реализовать себя за пределами своих способностей и достоинств, потерпевшие неудачу из-за излишних усилий, непригодные для создания чего-либо подлинного и 54 Портрет цивилизованного человека завершенного, из-за напряжения ставшие ничтожными, мы кажемся великими в своем изнеможении, в полном истощении ресурсов, мы растрачиваем себя, не принимая в расчет ни свои силы, ни возможности. Отсюда усталость, возросшая от самих усилий, которые мы прилагали, чтобы приучить себя к цивилизации, ко всему тому, что вызвано ее постепенным разложением. То, что разложение заложено и в самой природе, невозможно отрицать, но оно, без временного ограничения, является злом незапамятным и неизбежным, к которому мы привыкли, как к чему-то обязательному и естественному, тогда как разложение цивилизации — творение наших рук и нашего воображения — особенно тягостно от того, что представляется нам случайным, отмеченным выбором или фантазией, заранее сознаваемой или несознаваемой обреченностью. Справедливо или нет, но мы полагаем, что это зло могло и не возникнуть и что если бы все зависело только от нас, оно бы и не возникло. И это, в конце концов, делает его в наших глазах еще более отвратительным, чем оно есть. Мы безутешны оттого, что вынуждены его сносить и сталкиваться со всевозможными тяготами, которые из него вытекают, в то время как могли бы удовлетворяться неприятностями куда более тяжкими, но в конечном счете более сносными, из тех, что уготованы нам природой. Если бы мы были в состоянии вырваться из власти желаний, мы освободились бы и от ударов судьбы, будучи выше других существ, вещей и самих себя, не желая больше единения с этим миром, пожертвовав своей человеческой особостью, мы обрели бы свободу, неизбежно ведущую к анонимности и самоотречению. «Я никто, я победил свое имя!» — восклицает тот, кто, не желая больше унижаться и оставлять следы, пытается вести себя в соответствии с советом Эпикура: «Скрывай свою жизнь». Мы без конца возвращаемся к мудрецам древности, как 55 Эмиль-Мишель Чоран только речь заходит об умении жить, секрет которого утрачен за две тысячи лет сверхъестественного и конвульсивного милосердия. Мы возвращаемся к ним, к их уравновешенности и приветливости, едва спадает с нас исступление, которое привило нам христианство. Любопытство, которое они в нас порождают, соответствует отступлению нервной горячки и переходу к выздоровлению. И еще мы возвращаемся к ним потому, что расстояние, отделяющее их от мира, оказывается протяженнее самого мира, и они предлагают нам такую форму отрешенности, какую мы напрасно искали бы у святых. Превращая нас в фанатиков, христианство помимо своей воли готовило нас к тому, чтобы мы разродились цивилизацией, жертвой которой оно само и стало: не благодаря ли ему у нас появилось слишком много потребностей и слишком много запросов? Эти запросы и потребности, сугубо внутренние поначалу, стали видоизменяться и обращаться к внешней среде, а рвение, порождавшее столько внезапно невостребованных молитв, не имея возможности ни исчезнуть куда-нибудь, ни остаться без употреби ления, оказалось вынужденным перейти на службу новым богам, творя при этом символы, согласовывающиеся с их ничтожеством. В результате мы получили подделку бесконечности, получили абсолют без метафизического измерения и за отсутствием экстаза получили скорость. Эта громыхающая железная громада, олицетворение нашей непоседливости, и призраки, которые ею управляют, это шествие машин, эта процессия одержимых! Куда их влечет, что они ищут? Какой ветер безумия гонит их? Всякий раз, когда я решаю отпустить им их грехи и у меня возникают сомнения насчет законности отвращения и ужаса, которые они мне внушают, мне достаточно бывает вспомнить сельские дороги в воскресный день, и зрелище этой моторизованной нечисти укрепляет меня в моих чувствах. 56 Портрет цивилизованного человека Пешочком уже не походишь, пешеход среди этих паралитиков за рулем выглядит недоумком или изгоем: скоро, наверное, он будет казаться монстром. Нет больше контакта с землей, все, что с ней связано, стало для нас чуждым и непостижимым. Утратив всякие корни, а помимо этого и способность переносить пыль и грязь, мы порвали не только с внутренней сущностью вещей, но даже и с их внешней оболочкой. Цивилизация на этой стадии развития могла бы показаться каким-то пактом с дьяволом, если бы у человека была душа, которую еще можно было бы заложить. Неужели все эти машины на самом деле были изобретены, чтобы «выиграть время»? Более беспомощный и более обделенный природой, чем троглодит, цивилизованный человек ни на одно мгновение уже не принадлежит себе; даже его досуг лихорадочен и тягостен: каторжник в отпуске, впадающий в мрачное состояние от безделья и кошмара пляжей. Когда вспоминаешь про страны, где праздность была обязательной нормой, где все преуспевали в этом, трудно принять мир, в котором никто не умеет ни понастоящему наслаждаться, ни даже дышать. Можно ли считать человеком существо, предавшее себя во власть часов? И имеет ли человек право называться свободным, если нам известно, что, освободившись от всех форм рабства, он сохранил главную? Находясь во власти времени, которое насыщается и жиреет за счет его субстанции, человек изнуряет и изводит себя, стремясь обеспечить процветание то ли паразита, то ли тирана. Абсолютно запрограммированный, несмотря на все свое безумие, он вообразил, что забот и хлопот будет меньше, если, под видом разных «программ», ему удастся облагодетельствовать «слаборазвитые» народы, которые он упрекает в том, что они «не идут в ногу с эпохой», то есть не участвуют в его головокружительной гонке. Чтобы по57 Эмиль-Мишель Чоран будить их к такому участию, он поделится с ними ядом тревоги и не оставит в покое, пока не заметит у них те же симптомы суетливого беспокойства. Для того чтобы осуществить свою мечту о человечестве, задыхающемся от быстрого бега, растерянном и считающем минуты, он объездит все континенты в поисках новых жертв, на которые изольет свои чрезмерные лихорадочность и невежество. Глядя на него, начинаешь лучше понимать подлинную природу ада: не место ли это, где навечно приговаривают жить во времени? Напрасно мы пытаемся подчинить себе мир и присвоить его. До тех пор, пока мы не победим время, мы пребудем рабами. Но эта победа возможна лишь в случае отказа от прежних завоеваний, а к такой добродетели нас делают непригодными наши достижения, и чем больше их становится, тем сильнее становится гнет. Цивилизация учит нас, как овладевать вещами, в то время как она должна была бы учить нас искусству освобождаться от них, ибо нет ни свободы, ни «подлинной жизни» без знания, как освобождаться от того, чем владеешь. Я овладеваю каким-то предметом, считая себя его хозяином; в действительности я — раб этой вещи, я также раб и того инструмента, который создал и которым пользуюсь. Нет ни одного достижения, которое не означало бы еще одной цепи, нет ни одного фактора могущества, который не стал бы причиной слабости. Мы не обладаем ни одним даром, который не способствовал бы нашему закабалению. Ум, который возвышается над другими умами, менее свободен, чем они; скованный рамками своих возможностей и амбиций, пленник своих талантов, он взращивает их в ущерб себе и делает всеобщим достоянием ценой собственного спасения. Никто и ничто не может освободиться, претендуя стать кем-то или чем-то. Все, чем мы владеем и что производим, все, что накладывается на наше естество или 58 Портрет цивилизованного человека как-то воздействует на него, извращает и душит нас. Каким заблуждением, какой глубокой раной оказалось наше бытие, в то время как мы могли оставаться вне его, пребывая в виртуальном измерении и оставаясь неуязвимыми! Никто не может прийти в себя от несчастья быть рожденным, это зияющая рана всех живущих. И все же надежда, что она когда-нибудь затянется, позволяет нам принимать жизнь и сносить все испытания. Но годы проходят, а рана не заживает. Чем больше выявляется особенностей у цивилизации, чем больше она усложняется, тем сильнее мы проклинаем узы, которые связывают нас с ней. По словам Соловьева, она подойдет к своему концу (что будет, по мнению русского философа, концом всего) в самый разгар «наиболее утонченного века». Известно, что цивилизация никогда не находилась до такой степени под угрозой и не вызывала столько ненависти, как в эпохи, когда она казалась особенно прочной, свидетельством тому — яростные нападки, которым она подвергалась в эпоху Просвещения, нападки на ее нравы и ценности, на те завоевания, которыми она гордилась. «В век учтивости становится чуть ли не религией восхищение тем, чем восхищались в век грубости», — отмечает Вольтер, неспособный, признаем это, понять причины возникновения подмеченной закономерности. Во всяком случае, именно в эпоху салонов становится насущным «возвращение к природе», так же как потребность в атараксии возникает лишь в такие времена, когда, устав от разглагольствований и поисков систем, мыслители предпочитали тихие услады в садах шумным спорам агоры. Призыв к мудрости раздается всякий раз, когда цивилизация устает от самой себя. Любопытная вещь: нам становится не по себе, когда мы представляем себе процесс, приведший к пресыщенности античный мир, который по сравнению с нашим кажется во 59 Эмиль-Мишель Чоран всех своих проявлениях идеальным и об утрате которого мы сожалеем. Впрочем, в сравнении с сегодняшним временем, которое не поддается определению, любая другая эпоха покажется благословенной. Отвлекаясь от нашего подлинного предназначения, мы войдем, если уже не вошли, в век конца света, тот самый рафинированный по самой своей сути («усложненный» было бы более точным словом), в котором неизбежно при любом раскладе окажемся в положении, совершенно противоположном тому, в каком нам следовало бы оказаться. Зло в условиях нашего существования преобладает над добром; но даже если бы они сравнялись, наши проблемы не были бы решены. Мы находимся в этом мире, чтобы сражаться и с жизнью и со смертью, а не для того, чтобы от них ускользнуть, к чему нас призывает цивилизация, созданная для сокрытия и маскировки неразрешимых проблем. Из-за того, что в ней вообще отсутствует принцип длительности, ее преимущества, равно как и ее тупики, не помогают нам ни жить, ни умирать. Даже если бы ей удалось с помощью своей бесполезной науки одолеть все бедствия или, чтобы прельстить нас, пожаловать нам новые планеты в порядке компенсации, она всего лишь увеличила бы наши недоверие и ожесточение. Чем больше она суетится и раздувается от гордости, тем сильнее мы завидуем временам, когда еще обладали преимуществом ничего не ведать об удобствах и чудесах, которыми она не перестает нас одаривать. «С ячменным хлебом и несколькими глотками воды можно быть счастливым не хуже Юпитера», — говаривал мудрец, который призывал скрывать свою жизнь. Может быть, это уже мания — постоянно цитировать его? Но к кому же еще обратиться, у кого просить совета? У наших современников? У этих несдержанных, алчущих людей, повинных в том, что, боготворя признание, желание и уси6О Портрет цивилизованного человека лие, они сделали из нас жалких кукольных персонажей, неутомимых и изможденных? Единственным извинением их неистовства может служить то, что оно проистекает не из инстинкта, не из искреннего порыва, а из боязни ограниченного пространства. Так много философов с ужасом размышляют о будущем, по сути, являясь лишь толкователями человечества, которое, чувствуя, что мгновения от него ускользают, пытается не думать об этом — и думает постоянно. Системы этих философов в целом создают образ и как бы логику развития этой постоянной озабоченности. Интересно, что История вызвала у них интерес лишь тогда, когда у человека появились все основания сомневаться в том, что он еще ею владеет и продолжает оставаться ее субъектом. В действительности же все происходит так, как если бы, осознав, что история ускользает от человека, он включился бы вне ее рамок в судорожную и короткую деятельность, в результате которой незначительными показались даже бедствия, внушавшие ему с той поры сильное беспокойство. Бытийная содержательность человека уменьшается с каждым его шагом вперед. Мы существуем лишь благодаря откату назад, благодаря расстоянию, которое отделяет нас от вещей и нас самих. Суетиться, хлопотать — значит отдавать себя во власть лжи и условности, то есть проводить незаконное разграничение между возможным и погребальным. На том уровне двигательной активности, которого мы достигли, мы больше не хозяева своим поступкам и своей судьбе. Ею, без сомнения, правит некое злое провидение, намерения которого, по мере того как мы оказываемся все ближе к последним временам, становятся все более непостижимыми, но они бы раскрылись любому, кто соблаговолил бы остановиться, отказавшись от взятой на себя роли, чтобы хоть на одно мгновение обозреть эту запыхавшуюся обреченную орду, к которой каждый из нас принадлежит. 61 Эмиль-Мишель Чоран Приняв все это во внимание, можно сказать, что последние времена не будут ни самыми утонченными, ни даже самыми сложными, а будут торопливыми временами, в которых бытие растворится в движении, а цивилизацию, устремившуюся к наихудшему, разметет смерч, который она же сама и породила. С тех пор как стало ясно, что уже ничто не помешает ей исчезнуть, давайте перестанем противопоставлять ей добродетели и, напротив, научимся разбираться в ее негативных проявлениях, в которых есть нечто такое, что, электризуя нас, вместе с тем побуждает умерить свои претензии и пересмотреть свою неприязнь. При таком подходе все эти призраки, пребывающие в бреду, и автоматически действующие индивиды кажутся менее ненавистными, если поразмыслить о бессознательных побудительных мотивах, о глубоких причинах их буйства: не чувствуют ли они, что срок, отпущенный им, сокращается день ото дня и что развязка уже близка? Разве не для того, чтобы отбросить от себя эту мысль, предаются они своим скоростным гонкам? Если бы они верили в то, что возможно какое-то другое будущее, им просто незачем было бы ни бегать, ни прятаться от самих себя, они замедлили бы ритм жизни и без опаски предались бесконечному неторопливому ожиданию. Но покуда не может быть и речи о том или ином будущем, у них его просто нет; а потому в общем смятении чувств рождается смутная, неформулируемая идея, которую они страшатся воспринимать, стремясь забыться, приводя себя в постоянное движение, отказываясь хоть на одно мгновение остаться наедине с собой. Но то неизбежное, чем она чревата, настигает их, даже если им кажется, что своим поведением и образом жизни они от него отдалились. Машины — лишь следствие, но не причина этой спешки и этого нетерпения. Нет, не машины толкают цивилизованного человека к погибели; он и изобрел-то их скорее потому, 62 Портрет цивилизованного человека что был уже на пути к ней. Они оказались вспомогательными средствами, потребными для того, чтобы достичь ее быстрее и вернее. Не удовлетворившись тем, что бежал, человек захотел еще и ехать. В этом и только в этом смысле можно сказать, что машины действительно помогают ему «выиграть время». Он внедряет их в жизнь, навязывая отстающим и опоздавшим, дабы они могли следовать за ним, догнать и, возможно, перегнать его в этой гонке на пути к гибели, к тому, чтобы надо всем миром механистически царствовал амок. Именно для того, чтобы обеспечить его пришествие, человек цивилизованный стремится нивелировать, добиться единообразия человеческой жизни, стереть из нее аномалии и изгнать все неожиданное. Ведь он хотел бы, чтобы в жизни властвовала одна сплошная, монотонная, рутинная аномалия, ставшая основой поведения и императивом. А тех, кто ускользнет от нее, он обвинит в обскурантизме и всяческих чрезмер-ностях. Он не успокоится до тех пор, пока не наставит их на путь истинный, путь собственных ошибок. И поскольку первыми отказываются следовать за ним неграмотные, он вынудит их это сделать, обучит грамоте, чтобы, попав в ловушку знания, никто не избежал всеобщего несчастья. Настолько велико его ослепление, что он и представить себе не может, что можно выбрать путь каких-то иных заблуждений, кроме того, который выбрал он. Не имея даже передышки, необходимой для самоиронии, которую неизбежно вызвал бы взгляд, брошенный на свою судьбу, он тем самым лишается всякой возможности влиять на самого себя. И от этого делается особенно опасным для других. Агрессивный и в то же время жалкий, он не лишен определенной патетики: можно понять, почему, видя его в том безысходном положении, в которое он попал, испытываешь некоторую неловкость, пытаясь критиковать и разоблачать его, не говоря уж о том, 63 Эмиль-Мишель Чоран что ругать неизлечимого больного, каким бы отвратительным он ни был, представляется дурным вкусом. Но если бояться проявить дурной вкус, можно ли пытаться судить о чем бы то ни было вообще? Скептик и варвар Если можно без труда представить все человечество во власти всяческих потрясений или, по крайней мере, заблуждений, было бы ничем не оправданным обольщением верить, что оно может все целиком подняться когда-либо до сомнения, доступного обычно лишь избранным отщепенцам. И все же, хотя бы в малой своей части, оно сомневается — в те редкие моменты, когда происходит смена богов, а умы, мечущиеся между взаимоисключающими постулатами, не понимают, какое дело они должны защищать и какой истине им стоит служить. Когда христианство ворвалось в Рим, челядь приняла его без раздумий; патриции же поначалу отвергли христианство, и им понадобилось много времени, прежде чем они перешли от неприятия к любопытству, а от любопытства к истовой вере. Представьте себе читателя трех книг «Пирроновых основоположений» читающим Евангелие! Каким чудом примирить даже не две доктрины, а два несовместимых мира? И как может удовлетворяться простыми притчами тот, кто свободно разбирается в замысловатых интеллектуальных изысках? Трактаты, которые написал Секст Эмпирик в начале III в. нашей эры, — итоги всех античных сомнений, — это дотошная компиляция самых мрачных идей, составленных вместе столь же впечатляюще, сколь и скучно, слишком тонкие по мысли и слишком педантично изложенные, чтобы соперничать с новыми суеверия64 Портрет цивилизованного человека ми, эти трактаты отобразили уходящий мир, приговоренный и лишенный будущего. Как бы то ни было, скептицизм, систематическим изложением которого явились данные трактаты, еще какое-то время смог продержаться на своих гибельных позициях, вплоть до того дня, когда христиане и язычники объединили усилия, чтобы свести его на нет и уничтожить. Цивилизация начинается с мифа и кончается сомнением; теоретическое сомнение, оборачиваясь против самого себя, превращается в практическое сомнение. Цивилизация не в состоянии начать с того, чтобы поставить под вопрос ценности, которые еще не создала. Но, едва они появились, она устает и отстраняется от них, рассматривая и взвешивая их с губительной для них объективностью. Различным верованиям, которые она породила и которые стали приходить теперь в упадок, она противопоставляет целую систему сомнений, она организует свое метафизическое крушение, и это чудесным образом удается, особенно если какой-нибудь Секст Эмпирик в этом ей помогает. В клонящейся к закату античности скептицизм еще сохранял определенное достоинство, которое ему не удалось обрести ни в эпоху Возрождения, несмотря на Мон-теня, ни даже в XVIII в., несмотря на Юма. Только один Паскаль, если бы захотел, смог бы его спасти и реабилитировать, но он отвернулся от него, оставив за рамками современной философии. Сегодня, когда мы вновь приблизились к моменту смены богов, будет ли у нас достаточно времени, чтобы развивать его? Выпадет ли на его долю благодатный подъем или же, напротив, решительно подвергнутый запрету, он задохнется под напором догм? Однако главное не в том, чтобы знать, угрожают ли ему извне, а в том, можем ли мы действительно развивать его, если у нас достанет сил, встретившись с ним, не дрогнуть. Ибо скептицизм, прежде чем стать проблемой ци3 - 6054 65 Эмиль-Мишель Чоран вилизации, является проблемой каждого из нас, и в этом качестве он затрагивает нас независимо от своих исторических проявлений. Для того чтобы жить, даже для того, чтобы просто дышать, нам приходится заставлять себя бессмысленно верить, что мир и наши понятия о нем глубоко истинны. Как только по той или иной причине наших усилий становится недостаточно, мы впадаем в состояние полнейшей неопределенности, при котором любое проявление уверенности кажется ошибкой, любая попытка разума что-то провозгласить представляется бредом. Какое бы то ни было утверждение кажется нам либо авантюрным, либо ретроградным, так же обстоит дело и с каким бы то ни было отрицанием. Без сомнения, столь же странно, сколь и плачевно, что дошло до такого, несмотря на то, что в течение многих лет мы старались, и не без успеха, преодолеть сомнение и излечиться от него. Но это болезнь, от которой нельзя полностью избавиться, если однажды ею переболеешь. И сейчас речь пойдет о рецидиве. Прежде всего, мы напрасно ставили в один ряд утверждение и отрицание. Отрицать — значит, признаем это, утверждать противоположное. Однако в отрицании есть и нечто большее — неосознанная тревога, стремление обособить себя и еще что-то противоестественное. Природа, если бы она понимала сама себя и могла возвыситься до формулировок, выработала бы бесконечный ряд суждений о существовании. Только человеческий разум обладает способностью отказываться от того, что есть, и наслаждаться тем, чего нет, только он способен производить и организовывать пустоту. Я не осознаю самого себя, я семь только когда чтото отрицаю; когда же утверждаю, я становлюсь взаимозаменяемым и веду себя как объект. «Нет» предопределило расчленение первоначального Единства. С любой формой отрицания как по существу, так и в де66 Портрет цивилизованного человека талях связано закоснелое и нездоровое удовольствие. Мы изобретательно разрушаем репутации, в первую очередь репутацию Бога; но в наше оправдание следует сказать, что еще больше усилий мы прилагаем, чтобы разрушить и свою репутацию, ставя под вопрос прежние истины и дискредитируя их, в результате чего в нашем сознании отрицание плавно переходит в сомнение. В то время как отрицают обычно ради чего-то, что находится вне самого отрицания, сомнение не извлекает никакой пользы из того, что выходит за его пределы, оно обращено к собственным конфликтам, к той войне, которую разум объявляет самому себе, когда, утомленный собственной деятельностью, покушается на свои основы и опрокидывает их, чтобы, наконец освободившись, избежать нелепости, заставляющей его утверждать или отрицать что бы то ни было. Пока он раздваивается в борьбе с самим собой, мы строим из себя судей и полагаем, что можем подвергнуть его анализу или даже противодействовать ему во имя того самого «я», над которым разум якобы не имеет власти или для которого он вообще оказался бы случайностью, если не принимать во внимание того факта, что никакая логика не позволит, чтобы мы поставили себя над ним, дабы признать или оспорить его законность, ибо нет ни инстанции, что была бы выше его, ни решения, которое не исходило бы от него самого. Тем не менее на деле все происходит так, как если бы с помощью какой-то уловки или чуда нам удалось освободиться и от его категорий, и от его уз. Возможно ли такое? В действительности все сводится к простейшей вещи: тот, кто поддается его доводам, забывает, что сам пользуется разумом, и это забвение является условием плодотворной мысли, а то и вовсе мысли как таковой. Учитывая, что мы следуем за спонтанным движением разума и, размышляя, ставим себя на место самой жизни, мы не должны думать, 67 Эмиль-Мишель Чоран что думаем; а как только мы начинаем об этом размышлять, наши мысли вступают в междоусобную брань и таким образом нейтрализуют одна другую внутри пустого сознания. Состояние стерильности, в котором мы и не движемся вперед и не отступаем, это преимущественное топтание на месте и есть то состояние, к которому ведет нас сомнение и которое во многих отношейиях проявляется в «холодности» мистиков. Мы уж было поверили, что достигли определенности и обосновались в невыразимом; мы бросились в неопределенность и погрязли в пошлости. Все опошляется и распыляется обращенным на самого себя разумом, застывшим в яростном оцепенении. Сомнение обрушивается на нас как бедствие; мы не выбираем его, мы в него попадаем, как в ловушку. И тщетно пытаемся вырваться из него или избежать его, оно не теряет нас из виду, ибо неверно будет сказать, что оно обрушивается на нас: оно всегда было в нас, и мы были на него обречены. Никто не согласится добровольно ограничить свой выбор и не станет стремиться к тому, чтобы выбора вовсе не было, принимая во внимание, что ничто из того, что глубоко трогает нас, не является желанным. Мы, конечно, можем придумывать для себя разные мучения; в основном это поза и видимость; настоящие же муки — это такие, которые возникают в нас помимо нашей воли. Имеют значение лишь те из них, которые неизбежны и зависят от наших недугов и наших испытаний, словом, от нашей несостоятельности. Подлинное сомнение никогда не является добровольным; даже в своем окончательном виде сомнение — всего лишь яркое одеяние, в которое облачается наша нетерпимость к собственному бытию. Поэтому, когда сомнение охватывает нас и мы испытываем его муки, нет ничего такого, что мы могли бы считать несуществующим. 68 Портрет цивилизованного человека Если попытаться понять, как именно разум пришел к тому, что стал подрывать собственные основы и уничтожать самого себя, нужно представить себе саморазрушительный концептуальный по своей сути принцип. Не удовлетворившись заявлением о том, что уверенность невозможна, разум не только отверг позитивную идею, но и пошел дальше, отбросив всякую очевидность, ибо любая очевидность проистекает из бытия, от которого он себя обособляет; такое обособление порождает, определяет и укрепляет сомнение. Нет никакого, даже отрицательного, суждения, которое не имело бы корней в настоящем или не предполагало бы добровольного ослепления, за неимением которого разум не в состоянии различить ничего заметного, за что мог бы зацепиться. Чем сильнее он сопротивляется помрачению сознания, тем упорнее считает такое суждение немотивированным и таким же никчемным, как любое другое. Согласие с чем-либо хотя бы в мелочах, принятие какого-либо мнения, из какой бы точки зрения оно ни проистекало, кажутся ему необъяснимыми, неслыханными, сверхъестественными, он будет пестовать неопределенность и расширять ее горизонты с рвением, в котором сочетаются порочные и, что любопытно, жизнеутверждающие мотивы. Скептик этому рад, ибо без этого страстного поиска невозможного, где все же просвечивает кое-какое сообщничество с жизнью, он был бы всего лишь призраком. Он, впрочем, был бы счастлив стать им, потому что ему нужно сомневаться вплоть до того момента, когда больше не будет повода для сомнений, когда все выветрится и улетучится и когда, соединив в единое целое умопомрачение с остатками очевидности, с видимой убежденностью, он заметит с убийственной остротой слабость и неодушевленного и живого, в особенности наших способностей, которые будут через него разоблачать свои претензии и свою неполноценность. 69 Эмиль-Мишель Чоран Всякий, кто стремится сохранить равновесие мысли, поостережется касаться некоторых основных суеверий. Для разума, для человеческого духа это является жизненной необходимостью, которой пренебрегает только скептик, то есть человек, который не уважает ни секретов, ни запретов, необходимых для того, чтобы поддерживать убежденность. А речь идет именно об убежденности! Скептик счел своей обязанностью исследовать ее, дабы докопаться до истока и скомпрометировать, показав, что данные, на которых она основывается, при первом же рассмотрении своей приблизительностью оказываются сродни гипотезам и иллюзиям. Скептик не воспримет всерьез никакое таинство, видя в нем одни лишь препоны, которые люди из трусости или лени ставят на пути собственных поисков и волнений. Здесь, как и во всем, что преследует со свойственной ему нетерпимостью этот фанатик наоборот, происходит разрушение ненарушимого. Поскольку отрицание — это агрессивное, нечистое сомнение, догматизм наизнанку, оно редко отрицает самое себя и никогда не освобождается от своего неистовства и не сходит на нет. Зато часто бывает так, и это даже неизбежно, что сомнение ставит под вопрос само себя и предпочитает скорее упраздниться, нежели наблюдать, как его собственные неясности превратятся в постулаты веры. Поскольку все в мире стоит одно другого, по какому праву неясности в отрицании должны ускользать из этой общей равнозначности, которая со всей неизбежностью выявит их ничтожность? Если бы скептик сделал для них исключение, он осудил бы самого себя, оспорил бы собственные тезисы. Но коль скоро он предполагает хранить им верность и делать из них выводы, в конце концов, он придет к отказу от поиска истины, к дисциплине воздержания, к отмене суждения. Истины, сущность которых он изучал и безжалостно анализировал одну за другой, теряли для 7О Портрет цивилизованного человека него смысл, поэтому он не возьмет на себя труд классифицировать их или представлять в иерархическом порядке. Как можно какой-то из них отдать предпочтение, когда главное для него заключается как раз в том, чтобы ничего не предпочитать и не допускать того, чтобы мнение превращалось в убеждение? А что касается мнений — он может и их-то позволить себе иметь лишь из каприза или потребности самоуничижения. «Почему именно так, а не эдак?» — повторяет он древний рефрен всех сомневающихся, всегда вредоносный, ничего не щадящий, даже смерти, слишком резкий, слишком односторонний, отмеченный «примаризмом»1, изъяном, заимствованным у жизни. Отказ от суждения представляет собой философское подобие нерешительности, такого поведения, которое характеризует волю, неспособную сделать выбор в пользу иной вещи и выбирающую отсутствие, некое зияние, исключающее всякую систему ценностей и любой оценочный критерий. Еще один шаг-— и к этому зиянию добавляется еще одно: отсутствие ощущений. Если ставится под вопрос деятельность ума, то почему не поставить под вопрос жизнь чувств и циркуляцию крови? Нет больше ни объекта, ни препятствий, ни выбора, который нужно было бы избежать либо сделать, равным образом нет и восприятия и действия, а «я», освобождаясь от своих функций, сводится к точке сознания, брошенного в бесконечность, за пределы времени. Поскольку любая форма экспансии предполагает жажду незаменимого, можно ли представить себе победителя, который засомневался бы в своих действиях? Сомне1 Примаризм — понятие экзистенциальной философии. Соотносится с некими первоосновами в прошлом, с моментом начала развития личности, с некоей исходной точкой. Имеется в виду некий первоисток, к которому личность обращается сознательно или бессознательно в течение всего жизненного пути. — Примеч. ред. 71 Эмиль-Мишель Чоран ние не переходит Рубикон, оно вообще никогда ничего не переходит; его логическое завершение — абсолютное бездействие — крайность, которую можно представить себе мысленно, но невозможно практически осуществить. Из всех скептиков только один Пиррон действительно к ней приблизился; другие только пытались, с большим или меньшим успехом. Ведь против скептицизма выступают все наши рефлексы, желания и инстинкты. Бессмысленно заявлять, что само бытие — это предрассудок, ибо этот предрассудок старше нас, старше человеческого рода и жизни, и он противостоит нашим нападкам, обходится без умствований и доказательств, поскольку все, что существует, обнаруживает себя и длится, вытекает из недоказуемого и не поддающегося проверке. Ките1 говорил: «В конце концов, есть же что-то реальное в этом мире» — всякий, кто с этим не согласен, навсегда выводит себя за пределы всякого действия. Правда, уверенности, которая звучит в этих словах, недостает силы, а значит, и действенной энергии. Чтобы на самом деле действовать, важно еще верить в реальность добра и зла, в их раздельное и самодостаточное существование. Если же мы в разных обстоятельствах путаем одно с другим, границы, которые их разделяют, размываются, тогда не будет плохих или хороших поступков, не будет поступков вообще, и таким образом вещи и наши суждения о них нейтрализуют друг друга в одном унылом тождестве. Когда нам известно, что некая ценность относительна, она перестает быть ценностью и превращается в фикцию. Из фикций невозможно вывести мораль, еще труднее с их помощью выработать правила поведения в непосредственной деятельности, по1 Ките Джон (1796—1821) — английский поэт, предшественник эс- тетизма прерафаэлитов. Воспевал царство красоты на земле, эллинский идеал гармонии и элегические настроения в природе. — Примеч. ред. 72 Портрет цивилизованного человека этому, чтобы уберечь себя от отчаяния, мы обязаны восстановить в правах добро и зло, спасти их и спасти себя даже ценою собственного дара предвидения. Именно живущее в нас сомнение мешает нам выказать себя, именно оно навязывает нам тяжкую ношу проницательности, изматывает, изводит и оставляет во власти горестей, злоупотребив нашими способностями к анализу и неприятию. В определенном смысле любое сомнение не соответствует нашим силам. Только ли нашим? Бог, который страдает, — это уже было, и это естественно; но бог, который сомневается, столь же жалок, как и мы. Поэтому, несмотря на их обоснованность и образцовую закономерность, мы никогда не можем рассматривать наши сомнения без некоторой опаски, даже испытывая определенное сладострастие в момент их зарождения. Неисправимый скептик, замкнувшийся в своей системе, кажется нам свихнувшимся из-за излишней строгости к себе. Заданностью своего движения он напоминает лунатика. В философском плане нет никого честнее его; но в его честности есть что-то чудовищное. В его глазах ничто не достойно пощады, все ему кажется неточным и неискренним, как наши теоремы, так и наши вопли. Его трагедия в том, что он никогда не может снизойти до лжи, как это делаем все мы, когда утверждаем или отрицаем что-либо, когда готовы отстаивать какое-то мнение. И поскольку он неисправимо честен, он обнаруживает ложь везде, где мнение набрасывается на безучастность и побеждает ее. Жизнь равнозначна невозможности воздерживаться; победить эту вовлеченность — вот непосильная задача, которую скептик перед собой ставит и которую он пытается решить в одиночку, так как всеобщее воздержание, коллективный отказ от вынесения суждений неосуществимы. Если бы это было возможно, какой удачный случай представился бы 73 Эмиль-Мишель Чоран человечеству для достойного конца! Но если это едва доступно отдельным индивидам, то никоим образом не может быть доступно толпе, едва способной подняться до простого отрицания. Поскольку сомнение обнаруживает свою несовместимость с жизнью, скептик — этот последовательный и упрямый живой труп — заканчивает свою карьеру таким поражением, которому невозможно найти аналога в других проявлениях интеллектуальной жизни. Взбешенный оттого, что стремился быть оригинальным и утвердиться в этом состоянии, он станет мечтать о безликости, анонимности, и с этим, наиболее обескураживающим из всех парадоксов, он столкнется как раз тогда, когда утратит всякую близость с кем бы и чем бы то ни было. Сообразовываться с обыденным — все, чего он желает в этот момент своего падения, сводя мудрость к конформизму, а спасение к осознанной иллюзии, или, иначе говоря, к иллюзии, постулированной принятием внешних видимо-стей такими, какие они есть. Но он забывает, что к види-мостям обращаются лишь тогда, когда зрение утрачено настолько, чтобы путать их с реальностью, когда находишься во власти наивных иллюзий, о которых неизвестно, что они — иллюзии, иллюзий общедоступных, которые ускользают только от него одного. Вместо того чтобы смириться с этим, он — враг лжи в философии — примется мошенничать в практической жизни, убежденный, что, благодаря маскировке и хитрости, сумеет не выделяться из числа других смертных, которым будет напрасно подражать, поскольку всякое действие вынуждает его сражаться против тысячи причин, по которым он не может его осуществить. Каждое, даже самое незначительное действие будет тщательно обдумываться и станет результатом внутреннего напряжения и определенной стра74 Портрет цивилизованного человека тегии, как если бы каждое мгновение бытия ему нужно было брать штурмом в силу того, что он не способен отдать себя во власть естественного хода вещей. Разъяв бытие, он тужится и бьется в тщетной надежде вновь восстановить его целостность. Его совесть погублена, как у Макбета; он тоже убил сон, в котором мирно почивали убеждения. Пробудившись, они преследуют и тревожат его; они действительно его тревожат, но, поскольку он никогда не опускается до угрызений совести, он созерцает шествие своих жертв с болезненной неприязнью, смягченной иронией. Какое ему дело теперь до этих призраков? Отторженный от своих деяний и злодеяний, он пришел к внутреннему освобождению, но это освобождение без спасения, прелюдия к опыту полной опустошенности, к которой он приблизился вплотную, когда, засомневавшись в своих сомнениях, стал сомневаться в самом себе и своей значимости и даже ненавидеть себя, когда перестал верить в свою миссию разрушителя. Порвав последнюю нить, связывавшую его с самим собой, без которой невозможно даже саморазрушение, он будет искать прибежище в своей исконной свободе, в этом начале начал, существовавшем еще до разногласий между материей и зародышем, свойственных всем живым существам, от насекомого до самого беспокойного из млекопитающих. Поскольку ни жизнь ни смерть не возбуждают больше раз>м скептика, он менее реален, чем те бесплотные тени, чьему порицанию он подвергся. И нет больше такого сюжета, который мог бы увлечь его или который он стремился бы возвысить до уровня проблемы или бедствия. Отсутствие любопытства достигает у него такого размаха, что граничит с лишением всего, с небытием более пустотным, чем то, которым гордятся или на которое сетуют мистики после странствований через «пустыню» к свято75 Эмиль-Мишель Чоран сти. В разгар полного отупения его беспокоит только одна мысль, один вопрос, глупый, смешной, навязчивый: «Что делал Бог, когда ничего не делал? На что употреблял он до начала Творения свой нескончаемый досуг?» Если он говорит с ним, как равный с равным, значит, оба они находятся на одном и том же уровне стагнации и бесполезности. Когда чувства скептика увядают из-за отсутствия объекта, который мог бы их вызвать, а разум утрачивает активность из-за страха перед необходимостью выносить суждения, ему не к кому больше обращаться, кроме нетворца, на которого он похож, с которым смешивает себя и для которого Все, неотделимое от Ничего, представляет собой пространство, где, бесплодный и обессиленный, он только и может состояться и отдохнуть. Рядом со строгим, если хотите, ортодоксальным скептиком, чей жалкий и в то же время величественный конец мы только что видели, существует также другой, капризный еретик, который впадает в сомнение лишь время от времени и потому в состоянии обдумывать его до конца и делать окончательные выводы. Ему также знакомы отказ от суждений и исчезновение чувств, но только в момент кризиса; кризис же переносится им в область неопределенного, где он видит себя с нетерпением ищущим значение, которое, кажется, никогда не было ей свойственно. Вырываясь за пределы апорий, в которых прозябал его ум, от оцепенения он переходит к ликованию, поднимается до такого неистового энтузиазма, который мог бы одушевить и камень, если бы в этом была нужда. Нигде нет ничего прочного, все преображается и исчезает; он один остается перед лицом торжествующей пустоты. Не связанный ограничениями ни внешнего мира, ни рассудка, он также сопоставляет себя с Богом, который на этот раз будет сверхактивным, склонным к крайностям, хмельным, пре76 Портрет цивилизованного человека бывающим в творческом трансе. Наш скептик постарается прибрать к рукам привилегии Бога под воздействием внезапного всеведения, чудесного мгновения, когда возможное, покидая Будущее, явится, чтобы раствориться в настоящем, увеличить его, растянув до предела. Дойдя до этого, наш скептик, sui generis1, ничего так не боится, как пережить еще один кризис. Правда, ему хотя бы дозволительно извне рассмотреть сомнение, которое он временно преодолел, в отличие от того скептика, который погряз в нем навсегда. От последнего его выгодно отличает также открытость для различного рода опытов, особенно опытов религиозно настроенных умов, которые с выгодой для себя используют сомнение, делают из него временный ад в качестве необходимого этапа на пути к абсолюту, где и надлежит бросить якорь. Это — предатели скептицизма, примеру которых он хотел бы следовать: в той мере, в какой ему это удавалось, он замечал, что уничтожение чувств не обязательно заводит в тупик. Когда Сарипутта, ученик Будды, воскликнул: «Нирвана — это счастье!» — и когда ему возразили, что не может быть счастья там, где нет чувств, Сарипутта ответил: «Счастье как раз в том, чтобы ничего не чувствовать». Этот парадокс не является больше парадоксом для того, кто, несмотря на свои злоключения и горький опыт, имеет еще в запасе достаточно сил, чтобы подключиться к бытию на грани пустоты и хоть на краткое мгновение победить эту тягу к ирреальности, из которой исходит неоспоримая ясность сомнения, противопоставить которой можно лишь сверхрациональные очевидности, порожденные другой тягой, тягой к реальности. Тем не менее, при проявлении малейшей слабости повторяется все тот же мотив: «Почему так, а не эдак?» — и настой1 Своеобразный (лат.). — Примеч. перев. 77 Эмиль-Мишель Чоран чивость, с которой он повторяется и мусолится, бросает сознание в проклятую вневременность, в застывшее становление, тогда как любое «да» и даже «нет» делают его частью субстанции Времени, из которой они исходят и о которой возвещают. Любое утверждение и тем более любое верование проистекает из варварской основы, которую большинство, даже подавляющее большинство людей, к счастью, сохранили и которую только скептик — имеется в виду подлинный, последовательный скептик — утратил или уничтожил, сохранив от нее лишь жалкие остатки, слишком слабые, чтобы влиять на его поведение и ход его мыслей. Вот почему, несмотря на то что отдельные скептики появляются в каждую эпоху, скептицизм как исторический феномен встречается лишь в такие времена, когда цивилизация теряет свою «душу», в том смысле, который дал этому слову Платон: «То, что поступает добровольно». В отсутствие принципа движения встает вопрос: «Имеет ли эта цивилизация настоящее и особенно будущее?» Подобно тому как скептик, утомленный своей подрывной работой, терпел такое же поражение, какое перед тем сам нанес убеждениям, так и цивилизация, разрушив свои ценности, рушится вместе с ними и приходит в полный упадок, и варварство тогда является единственным спасением, как об этом свидетельствует обращение, направленное Сальвиеном римлянам в начале V в.: «Нет у вас ни одного чистого города, кроме тех, где живут варвары». В данном случае речь шла, должно быть, не столько о распутстве, сколько о смятении умов. Нечистые нравы, распущенность вполне сочетаются с цивилизацией или, во всяком случае, цивилизация мирится с ними. Но смятенное состояние духа, распространяясь, угрожает существованию цивилизации, и она обращается к тем, кто оказался не под78 Портрет цивилизованного человека вержен ему и уцелел. И вот тогда-то варварство начинает казаться соблазнительным, привлекать и тонкие умы, и умы, сбитые с толку, — все они завидуют варварам и восхищаются ими, порой откровенно, но чаще тайком, и желают, не признаваясь в этом самим себе, стать их рабами. То, что они боятся варварства, бесспорно; но этот страх, далеко не спасительный, напротив, готовит их к будущему подчинению, ослабляет, парализует волю и заводит все глубже в тупик. В этом случае полное отречение, которое является для них единственным выходом, влечет за собой отказ не столько от суждений, сколько от волевых усилий и являет собой не столько несостоятельность разума, сколько болезненное поражение организма. На этом этапе скептицизм неотделим от физиологической неполноценности. Крепкий организм не принимает его, а немощный поддается и подчиняется. Пожелает ли он отделаться от него потом? Поскольку слабому организму собственными силами это сделать не удается, он попросит помощи у варвара, ибо его назначение — не решать, но упразднять проблемы, а вместе с ними обостренное сознание, которое неотделимо от них и которое изнуряет слабый ум, даже если он отказался от всякого умозрения. Дело в том, что в этом сознании продолжает жить болезненная и неистребимая потребность, которая предшествует любым теоретическим исканиям, потребность слабака, спешащего испытывать сразу тоску, страдание и фрустрацию, потребность быть жестоким, но не по отношению к другому, а по отношению к самому себе. Разум же, вместо того чтобы утихомирить его, становится орудием пытки: он подсказывает ему аргументы против самого себя, оправдывает его желание саморазрушаться, льстя ему, делает все, чтобы превратить его жизнь в ад. И слабый че79 Эмиль-Мишель Чоран ловек торопит своего врага, чтобы тот пришел и освободил его от этой последней муки. Феномен варварства, который неизбежно появляется на некоторых поворотах истории, может быть и зло, но зло необходимое; к тому же методы, которые используются, чтобы бороться с ним, ускоряют его приход, поскольку, чтобы быть действенными, они должны быть жестокими. Это то, на что цивилизация идти не хочет, но, даже если бы и хотела, ей не удалось бы этого достигнуть из-за отсутствия силы. Самое лучшее, что ей остается, коль скоро она находится в упадке, это пресмыкаться перед варваром; у нее это, впрочем, и не вызывает отвращения, ибо она слишком хорошо знает, что варвар представляет, воплощает будущее. Ностальгия по варварству — последнее слово цивилизации; она же — и последнее слово скептицизма. По завершении эпохи о чем еще может мечтать разум, освобожденный от всех иллюзий, кроме как о том счастье, которым обладают невежи, делающие ставку только на возможное и погрязшие в нем? Неспособный теперь ни защищать сомнения, которых он больше не высказывает, ни поддерживать нарождающиеся догмы, которые презирает, он приветствует как высшую форму замены интеллектуальной жизни проявления неопровержимой силы инстинкта: Грек склоняется перед Римлянином, тот, в свою очередь, склонится перед Германцем, подчиняясь безжалостному закону, который сегодня история иллюстрирует более старательно, чем в начале нашей эры. Неравен бой между теми народами, которые рассуждают, и теми, которые безмолвствуют, тем более что первые, истратив жизненную силу на словесные выкрутасы, не могут устоять перед суровостью и безмолвием вторых. Если это верно по отношению к народу, то что сказать об отдельном индивиде, в особенности о скептике? Поэтому не стоит 8О Портрет цивилизованного человека удивляться при виде того, как он, сама утонченность, доведенная до крайности одиночеством, глубины которого ему довелось познать, начинает выдавать себя за друга, а то и сообщника диких орд. Можно ли считать демона скептиком? Самые ужасные деяния, в которых обвиняют демона, кажутся менее вредными по своим результатам, чем скептицизм, когда он перестает быть игрой и становится навязчивой идеей. Разрушать — значит действовать, то есть это творчество со знаком минус, особый способ проявлять свою причастность к тому, что существует. В качестве агента небытия Зло вполне вписывается в практику бытия, следовательно, оно необходимо и выполняет не просто важную, но жизненно важную функцию. А чему служит сомнение? Какой необходимости оно отвечает? Кто нуждается в нем, кроме самого сомневающегося? Будучи беспричинным недугом, унынием в чистом виде, сомнение не отвечает никакой из насущных потребностей живого существа. Нет никакого смысла в том, чтобы все ставить под вопрос, сомневаться даже во сне. Чтобы добиться своих целей, демон — дух догматический — использует иногда уловки и приемы скептицизма, желая заставить поверить, что ни к чему не причастеь, он симулирует сомнение и при случае использует его как вспомогательное средство. Хотя демон отлично знает, что такое сомнение, тем не менее оно ему не нравится, он сам опасается его до такой степени, что совсем не убежден, что хочет внушать или навязывать его своим жертвам. Трагедия сомневающегося глубже трагедии отрицающего по той причине, что жить без цели хуже, чем жить ради дурной цели. В самом деле, скептику неведома ни81 Эмиль-Мишель Чоран какая цель: для него все цели одинаково хрупки и ничтожны, как же тут выбрать? Зато отрицание представляет собой целую программу. Оно может занять и даже наполнить существование самого требовательного человека, не говоря уж о том, что отрицать — красиво, особенно в пику Господу Богу: отрицание небессодержательно, оно полно беспокоящего и агрессивного смысла. И если спасение можно обрести через действие, то отрицание уже само есть спасение, преследование некой цели, исполнение определенной роли. Можно понять, почему скептик, сожалея, что встал на тернистый путь, завидует демону; дело в том, что отрицанию, несмотря на ограничения, которые оно подразумевает, ничто не помешает быть источником деятельности или убежденности: когда отрицают, знают, чего хотят; когда сомневаются, в конце концов теряют это знание. Печаль — главное препятствие нашему покою — невыраженное скольжение, пассивный разрыв с бытием, отрицание, неясное самому себе, а потому неспособное превратиться в утверждение или сомнение. Печаль прекрасно соответствует нашим болезненным слабостям, а еще больше пристала демону, который, измученный отрицанием, внезапно бы понял, что не может найти себе применения. Не веря более в зло и ни в коей мере не склонный вступать в сделку с добром, он, самый пылкий из всех падших, оказался бы лишенным и дела жизни, и веры, неспособным вредить, измученным хаосом, отщепенцем, лишенным утешений сарказма. Если печаль ассоциируется с упраздненным адом, это потому, что в ней есть что- то от злости, готовой отступить, смягченной и резонирующей, отказывающейся действовать против кого бы то ни было, кроме самой себя. Она лишает будущее страсти, вынуждает его сдерживать свою ярость, обратить ее на себя и успокоиться через саморазрушение. 82 Портрет цивилизованного человека Утверждение и отрицание не имеют качественных различий, переход от одного к другому естествен и легок. Но едва человек встает на путь сомнения, он уже не может легко и естественно возвратиться к уверенности, связанной с тем или с другим. Он оказывается лишен возможности действовать, бороться за что бы то ни было; более того, он будет отказываться от любого действия и при необходимости прекратит их, даже не начав действовать. Скептик, к великому сожалению демона, — это человек, ни к чему не пригодный по определению. Он не клюет ни на какие приманки и ни на чем не сосредоточивается; разрыв между ним и миром углубляется с каждым событием и с каждой проблемой, которую ему предстоит решить. Его объявили дилетантом, потому что ему нравится все умалять; в действительности он ничего не умаляет, он просто все расставляет на свои места. Удовольствия и горести мы испытываем благодаря тому, что преувеличиваем значение нашего опыта. Скептик будет лезть из кожи вон, чтобы навести порядок не только в своих суждениях, что нетрудно сделать, но и в своих чувствах, что сделать гораздо сложнее. Этим самым он обнаруживает пределы возможного и свою неполноценность, если не сказать фривольность, ибо только сладострастие страдания обращает существование в судьбу. Куда поместить скептика, если его нельзя причислить ни к серьезным, ни к легковесным умам? Бесспорно, он находится между теми и другими, в том промежуточном положении, которое не дает ему на чем-либо остановиться, так как в его глазах ничто — ни объект, ни бытие — не имеет признаков реальности. Все, чего ему не хватает и о чем он не ведает, — это благоговение — единственное чувство, которое может спасти и видимость и абсолют. Поскольку этому чувству чужд анализ, оно ничего не может умалить. Для благоговения все имеет значение, оно прилипает и прочно пристает к ве83 Эмиль-Мишель Чоран щам. Было ли когда-то это чувство знакомо скептику? Он никогда уже его не испытает, даже если будет молить об этом день и ночь. Он сможет, став по-своему верующим, отречься от прежних насмешек и богохульств, но что до благоговения — он не научится ему никакой ценой: там, где есть место сомнению, нет места благоговению. Ведь для благоговения необходимо некое пространство, как же скептик может ему его предоставить, если он все порушил в себе и вокруг? Пожалеем же этого сумрачного всезнайку, оплачем этого проклятого дилетанта. Если бы достоверность воцарилась на земле и стерла всякий след любопытства и тревоги, ничего не изменилось бы в судьбе скептицизма. Даже если бы один за другим разрушили его аргументы, он все равно остался бы на своих позициях. Чтобы выбить его из них, потрясти до основания, пришлось бы обрушиться на его тягу к колебаниям, на его жажду все усложнять: то, на что он нацелен, — не истина, а неуверенность и бесконечное во-прошание. Колебание, которое является его страстью, его приключением, его крестом, будет преобладать во всех его мыслях и делах. И хотя он колеблется между методом и необходимостью, он, тем не менее, будет реагировать на все как фанатик; он не сможет выйти за пределы своих навязчивых идей, ни тем более за пределы самого себя. Бесконечное сомнение парадоксальным образом сделает его пленником замкнутого мира. Как бы не понимая этого, он будет упорно верить, что его поведение не наталкивается ни на какие препятствия и не меняется в связи с проявлением малейшей слабости. Отчаянная потребность в неопределенности станет своеобразным недугом, лекарства от которого он не будет искать, поскольку также никакая очевидность, даже совершенно неоспоримая и окончательная, не вынудит его перестать сомневаться. Даже если почва уходит у него из-под ног, его это ничуть 84 Портрет цивилизованного человека не тревожит, и он продолжает сомневаться, отчаявшийся и спокойный. Даже если бы стала известна конечная истина, разгаданы все загадки, разрешены все трудности и все тайное стало явным — ничего бы не поколебало его, ничто не заставило бы сойти со своего пути. Все, что усиливает его жажду нерешительности, все, что помогает и одновременно мешает ему жить, для него свято. И если его переполняет Безучастность, если он делает из нее реальность, обширную, как вселенная, это означает, что она является практическим эквивалентом сомнения, а разве в его глазах оно не обладает авторитетом Безусловного? Подчиниться чему-либо, раствориться в чем-либо — этим всерьез озабочены все. Но это именно то, от чего отказывается скептик. И при этом он знает, что тот, кто служит, спасен, потому что он сделал выбор, а всякий выбор является вызовом неопределенности, проклятию, бесконечности. Люди нуждаются в точках опоры, они хотят иметь твердую убежденность в чем-либо любой ценой, даже в ущерб истине. И поскольку эта убежденность придает им силы, они не могут без нее обойтись, и, даже если они знают, что она ложная, никакие угрызения совести не остановят их в усилиях, направленных на то, чтобы обладать ею. Зато погоня за сомнением лишает сил и здоровья; никакая жизненная необходимость, никакой интерес не руководят им. И если мы встаем на путь сомнений, то, по всей вероятности, толкает нас на него разрушительная сила. А может, это демон, который ничего не забывает, мстит нам за наш отказ сотрудничать с ним? Он приходит в ярость, видя, что мы прекрасно справляемся без его помощи, и пытается сбить нас с толку, чтобы мы занялись поиском Неразрешимого с тщанием, которое невосприимчивыми ни к иллюзии, ни к реальности. Вот 85 делает нас Эмиль-Мишель Чоран почему поиск, на который он нас обрекает, ведет к неминуемому падению в пропасть. До Люцифера, который первым покусился на врожденную бессознательность, все покоилось на воле Бога. Это не значит, что не было конфликтов, но они не вызывали ни разрыва, ни бунта, развертывались пока еще внутри изначального единства, которое позже разорвала новая и устрашающая сила. Это покушение, неотделимое от падения ангелов, останется главным событием, случившимся до другого падения, падения человека. Когда же он взбунтовался и пал, в истории сознания это стало вторым этапом, а точнее, вторым ударом, нанесенным порядку, учрежденному Богом, и его деянию, порядку и миру, которые, в свою очередь, позднее принялся подрывать скептик — продукт усталости и разложения, конец пути духа, — поздняя, а может, и конечная версия человека. В отличие от двух предшествующих мятежников, скептик пренебрегает бунтом и не собирается опускаться до него; истощив свое возмущение, равно как и амбиции, он выбрался из цикла восстаний, порожденных двойным падением. И отдалился от человека, которого счел устаревшим феноменом, совсем так же, как человек отдалился от дьявола, своего учителя, которого упрекал в том, что тот сохранил остатки наивности и иллюзий. В опыте одиночества и последствиях отрыва от изначального единства есть своя градация. Поступок Люцифера, как и поступок Адама, — один имел место до начала Истории, другой открывал ее — представляет основные моменты борьбы, направленной на то, чтобы изолировать Бога и скомпрометировать его вселенную. Эта вселенная была еще миром неосознанного счастья в неделимом целом. И мы устремляемся к нему всякий раз, когда ощущаем усталость от бремени двойственности, которое обречены нести. Портрет цивилизованного человека Великое значение убеждений не должно скрывать от нас их теоретическую уязвимость. Они блекнут, стареют, тогда как сомнения сохраняют неувядаемую свежесть... Способность верить связана с эпохой; аргументы, которые мы ей противопоставляем и которые вооружают нас против возможности к ней присоединиться, бросают вызов времени, так что верование продолжает существовать в веках лишь благодаря возражениям, которые когда-то подтачивали его. Нам трудно даже представить, как появлялись греческие боги, весь этот процесс зарождения страха и поклонения. Зато мы прекрасно понимаем, как стал утрачиваться к ним интерес, а затем возник вопрос об их целесообразности и о самом факте их существования. Критика присуща всем временам; религиозное вдохновение — привилегия лишь некоторых эпох, необычайных и редких. Если требуется немало недомыслия и пьяного угара, чтобы породить бога, то, чтобы убить его, нужно только немного внимания. Это небольшое усилие, на какое стала так щедра Европа, начиная с эпохи Возрождения. Что же удивительного в том, что мы завидуем тем грандиозным моментам истории, когда происходило зарождение абсолюта? После длительного близкого общения с сомнением вам становится свойственна особая форма гордыни: вы не считаете, что являетесь более одаренным, чем другие, а лишь полагаете, что вы менее наивны, чем они. Пусть даже вам известно, что тот или иной человек наделен способностями или знаниями, рядом с которыми ваши способности и знания мало чего стоят, вы все равно будете считать его неспособным постичь главное, увязшим в мелочах. Даже если он пережил многочисленные и невероятные испытания, вам все равно будет казаться, что ему не удалось приобрести то единственно важное знание о людях и вещах, которым обладаете вы. Он дитя, и 86 87 Эмиль-Мишель Чоран все остальные — тоже дети, неспособные видеть то, что увидели вы, самый проницательный из смертных, без каких-либо иллюзий относящийся к другим и себе. И все же одну иллюзию вы невольно сохраните: упорную, неискоренимую иллюзию того, что у вас нет никаких иллюзий. Никто не сможет лишить вас ее, ибо никто в ваших глазах не обладает способностью быть столь же свободным от всего, как вы. И перед лицом одураченного мира вы будете ощущать себя одиноким, сознавая, что в результате вы ничего ни для кого не сможете сделать, как никто ничего не сможет сделать для вас. Чем сильнее мы чувствуем свою незначительность, тем больше презираем других, — они вовсе перестают существовать для нас, когда мы понимаем свою ничтожность. Мы приписываем реальность другому только в той мере, в какой открываем ее в себе. Когда мы уже не можем заблуждаться относительно самих себя, мы делаемся неспособными даже к малой доле слепоты и великодушия, которая только и могла бы спасти существование нам подобных. Достигнув такого уровня проницательности, не испытывая более угрызений совести по отношению к другим, мы отождествляем их с марионетками, неспособными подняться над собой, чтобы лицезреть свою ничтожность. Стоит ли в таком случае обращать внимание на то, что говорят и делают другие? Через людей достается здесь и богам: они существуют лишь в той мере, в которой мы обретаем принцип существования в самих себе. Как только этот принцип поколеблется, контакт с ними будет уже невозможен; им нечего нам дать, нам нечего им предложить. По многу раз и подолгу обращаясь к ним, мы теперь отталкиваем их, забываем и навечно остаемся перед ними с пустыми руками. Они тоже марионетки, как и нам подобные, как мы сами. 88 Портрет цивилизованного человека Презрение, которое предполагает сговор с убежденностью, или по крайней мере наличие позиции, скептик должен был бы себе запретить. К сожалению, он не делает этого и даже смотрит свысока на того, кто не хочет презирать. Претендуя на победу над всем, он не смог одолеть свою гордыню и ее неприятные последствия. Стоило ли множить сомнения и отказы, чтобы прийти в конце концов в это зависимое и болезненное состояние? Проницательность, которой он так гордится, — его истинный враг: она не пробуждает его к небытию, а лишь дает ему возможность осознать небытие, чтобы крепче его к нему приковать. И он не сможет больше от этого избавиться, он будет служить ему, будет пленником на пороге освобождения, навсегда несвободным от ирреальности. Желание и ужас славы Если бы любой из нас захотел признаться, какое у него самое заветное желание, то, которое вдохновляет все его помыслы и свершения, он сказал бы: «Я хочу, чтобы меня похвалили». Но никто не признается в этом открыто, ибо менее постыдно совершить мерзкий поступок, чем объявить открыто о столь жалкой и унизительной слабости, порожденной чувством одиночества и неуверенности, от которых страдают в равной мере и неудачники и счастливцы. Никто не уверен ни в том, что собой представляет, ни в том, что делает. Хоть мы и гордимся сверх меры нашими заслугами, нас гложет беспокойство, и, чтобы преодолеть его, мы готовы принять на веру любой обман и стремимся получить одобрение откуда угодно и от кого угодно. Внимательный человек не может не заметить мольбу во взгляде у того, кто закончил какое-то дело или произведение или просто поглощен каким-то 89 Эмиль-Мишель Чоран занятием. Эта слабость универсальна; и если Бог, кажется, свободен от нее, то потому лишь, что, закончив творение, не мог из-за отсутствия свидетелей ждать похвал. Правда, он сам их себе расточал, причем в конце каждого дня творения! Точно так же, как каждый, чтобы сделать себе имя, стремится обогнать других, человек в самом начале своего бытия, должно быть, уже смутно ощущал желание затмить животных, самоутвердиться, блистать во что бы то ни стало. Нарушив равновесие, что стало истоком амбиций, а то и жизненной энергии, человек стал состязаться со всеми живыми существами, а в итоге и с самим собой из-за безумного стремления к превышению своих возможностей, которое, усилившись, позднее стало определять его сущность. Он, единственный в своем естественном состоянии, захотел быть значительным; именно он, единственный из всех живых существ, возненавидел анонимность и постарался из нее выйти. Показать, сколь многого он стоит, было и остается его мечтой. Трудно поверить, что он пожертвовал раем ради простого желания познать добро и зло; зато легко представить себе, что он рискнул всем, чтобы стать хоть кем-то. Внесем поправку в Книгу Бытия: если человек погубил свое изначальное счастье, то не столько из-за тяги к знанию, сколько из стремления к славе. Как только он ощутил ее соблазн, он перешел на сторону дьявола. Действительно, в славе есть что-то сатанинское как по существу, так и во внешних ее проявлениях. Из-за нее самый одаренный из ангелов кончил тем, что стал авантюристом, и не один святой превратился в паяца. Те, кто познал ее или просто приблизился к ней, не могут от нее отказаться и, ради того чтобы остаться в ее тенетах, не отступят ни перед какой низостью и подлостью. Если человек не может спасти душу, он надеется, по крайней мере, спасти свое имя. Узурпатор, стремя90 Портрет цивилизованного человека щийся обеспечить себе совершенно особое положение в мире, не смог бы этого добиться, если бы не испытывал навязчивого желания заставить говорить о себе, если бы не был подвержен мании медных труб. Если бы такая мания овладела каким-нибудь животным, на какой бы стадии развития оно ни находилось, животное это стремительно эволюционировало бы в сторону очеловечивания. Что, если желание славы покинет вас? С ним уйдут те муки, которые подстрекают, заставляют что-то создавать, реализовывать себя, выходить за свои рамки; как только они исчезнут, вы будете довольствоваться тем, что вы есть, вернетесь в собственные границы, и стремление к превосходству и величию будет побеждено и уничтожено. Ускользнув от власти змия, вы не сохраните и следа былого соблазна, того стигмата, который отличал вас от других созданий. Но будете ли вы тогда человеком? Скорее, мыслящим растением. Теологи, отождествляя Бога с чистым духом, показали тем самым, что не имели никакого представления о процессе творения, о делании в целом. Дух как таковой не способен производить; он предполагает, но, дабы осуществить его планы, нужно, чтобы возникла нечистая энергия, которая бы привела все в движение. Слаб именно дух, не плоть, и он становится сильным, только когда бывает охвачен странной жаждой, влечением, заслуживающим осуждения. Чем более сомнительна страсть, тем лучше она защищает того, кто ей подвластен, от опасности создавать фальшивые или нежизненные творения. А если над ним довлеют корыстолюбие, зависть, тщеславие? Вместо того чтобы порицать, нужно похвалить его за это; чем бы он был без этих страстей? Почти ничем, то есть чистым духом, точнее говоря, ангелом; а ангел в принципе бесплоден и бездеятелен, как свет, в котором он существует и который ничего не порождает, будучи лишенным той тем91 Эмиль-Мишель Чоран ной и тайной основы, которая присутствует в любом проявлении жизни. Бог выглядит более оснащенным, ибо он преисполнен тьмы: без ее динамического несовершенства он остался бы бездеятельным и отсутствующим, неспособным сыграть свою роль. Тьме он обязан всем, включая свое бытие. Ничто из того, что плодотворно и подлинно, не является целиком светлым и, безусловно, почтенным. Сказать о каком-нибудь поэте, по поводу той или иной его слабости, что это — «пятно на его гении» — значит вовсе не понимать скрытой пружины и тайны, если не таланта, то, уж во всяком случае, его «творческой продуктивности». Любое творчество, каким бы высоким ни был его уровень, возникает из непосредственной реальности и отмечено ею: никто не создает в абсолюте или пустоте. Мы заперты в человеческом мире, если мы вырвемся из него, то для чего и для кого мы будем творить? Чем больше нас интересует человек, тем больше перестают интересовать люди, однако мы действуем именно ради них и ради мнения, которое у них о нас складывается, а доказательством этому может служить та невероятная власть, которую имеет лесть над умами, и грубыми и утонченными. Было бы ошибкой считать, что лесть не действует на одинокого человека; на деле он к ней более чувствителен, чем думают, поскольку, редко испытывая на себе воздействие этого сладкого яда, он не знает, как от него защититься. Каким бы пресыщенным он ни был, комплименты он игнорировать не может. Поскольку он не так часто их выслушивает, у него нет к ним привычки; и если представляется возможность их заслужить, он принимает их с отвратительной мальчишеской жадностью. Опытный во многом, здесь он новичок. Нужно, однако, сказать в его оправдание, что всякий комплимент оказывает физическое воздействие, он вызывает сладостную дрожь, которую никто не смог бы приглушить или даже подавить, не 92 Портрет цивилизованного человека обладая внутренней дисциплиной, самоконтролем, достигаемым только практикой жизни в обществе, длительным общением с ловкими и коварными людьми. По правде говоря, ничто — ни осторожность, ни презрение — не дает иммунитета от лести: даже если мы подозреваем или не любим кого-нибудь, мы со вниманием отнесемся к лестным суждениям, которые он захочет высказать о нас, и даже изменим мнение о нем, если эти суждения достаточно тонки и чрезмерны, чтобы казаться спонтанными, непроизвольными. Кажется, что все довольны собой; в действительности — никто. Не лучше ли, из духа милосердия, превозносить и друзей и врагов, всех смертных без исключения, и простить каждому его недостатки? Сомнение в себе до такой степени точит людей, что они, дабы исцелиться от него, измыслили любовь, молчаливый пакт, заключаемый двумя несчастными, дабы переоценивать и без стыда хвалить друг друга. Если не считать безумцев, никто не остается равнодушным к хвале или хуле; пока мы остаемся хоть сколько-нибудь нормальными, мы чувствительны и к тому и к другому; если же станем ко всему этому невосприимчивы, то что мы забыли среди себе подобных? Бесспорно, унизительно реагировать, как они; с другой стороны, нелегко возвыситься над всеми убожествами, которые доставляют человеку и печали, и радости. Быть человеком — не выход из положения, попытка прекратить им быть тоже вопроса не решает. Малейшее поползновение выбраться за пределы этого мира мешает нам в нашем стремлении самореализоваться, превзойти и подавить других. Беда ангела в том, что ему не надо бороться, чтобы добиться славы; он родился в ней, в ней пребывает, она одной с ним субстанции. Чего в таком случае остается желать? У него даже нет возможности придумывать себе желания. Нет положения более 93 Эмиль-Мишель Чоран ирреального и горестного, чем когда слова «творить» и «существовать» сливаются в одно целое. Играть в самоотречение, когда к этому не предназначен, опасно: при этом можно потерять немало недостатков, обогащающих характер, необходимых для творческой деятельности. Отбросить старые дурные привычки означает лишиться собственного богатства, погрузиться на самое дно чистоты. Без вклада нашего прошлого, нашего распутства, испорченности, как недавней, так и первоначальной, дух бездействует. Горе тому, кто не жертвует своим спасением! Поскольку все, что делается значительного, великого, необычного, проистекает из желания славы, что же происходит, когда оно ослабевает или гаснет, и мы начинаем стыдиться того, что хотели что-то значить в глазах других? Чтобы понять, как можно до этого дойти, обратимся к тем моментам, когда происходит преодоление наших инстинктов. Мы еще живы, но для нас это уже неважно: это всего лишь холодная констатация. Истина, ложь — слова, не обладающие смыслом, который они имели прежде, теперь они ничего не значат. Что есть, и чего нет — как это узнать, если мы перешли ту грань, за которой уже не даем себе труда располагать все видимое в иерархическом порядке? Наши потребности, наши желания принадлежат нам, что до грез, то грезим уже не мы, но кто-то посторонний внутри нас. Даже страх нам больше не принадлежит. И дело не в том, что его становится меньше, он скорее растет, но перестает затрагивать нас. Раскованный и высокомерный, черпая силу в самом себе, он и существует сам по себе; мы для него — опора, место пребывания, адрес, мы всего лишь размещаем его в себе, и все. Он живет в сторонке, развивается, расцветает, растет, не принимая нас в расчет. Ни в коей мере не гневаясь, мы позволяем ему иметь свои причуды, тревожим его так же 94 Портрет цивилизованного человека мало, как и он нас, холодно и равнодушно взираем на то зрелище, которое он для нас уготовил. Коль скоро нам дозволено проделать в воображении путь, обратный прошедшей жизни, и вновь пересечь прошлые этапы развития человека, мы можем также, следуя обратному ходу истории, добраться до ее начала и даже пойти дальше. Этот путь вспять становится необходимостью для тех, кто, вырвавшись из тирании общественного мнения, не принадлежит больше ни к какой эпохе. Если человек стремится к уважению, это более или менее можно оправдать; но когда нет никого, перед кем стоило бы быть на высоте, зачем тратить силы, чтобы быть кем-то, зачем вообще тратить силы на то, чтобы существовать? Вначале мы желали, чтобы наше имя сияло в солнечных лучах, теперь впадаем в другую крайность и молим Бога, чтобы оно было вычеркнуто отовсюду и навсегда исчезло. Наша жажда самоутвердиться не знала границ и жажда самоуничижения по силе ей не уступает. Геройски от всего отрекаясь, мы всеми силами стремимся обеспечить себе безвестность, стереть любые следы, свидетельствующие о нашем существовании, вплоть до малейшего воспоминания о нашем дыхании. Мы ненавидим того, кто цепляется за нас, рассчитывает на нас или чего-то от нас ждет. Единственное, что мы еще могли бы сделать для других, — разочаровать их. Во всяком случае, они не смогут понять нашего желания не перегружать свое «я», остановиться на пороге сознания и никогда не переходить его, забиться в самую глубину первородной тишины, в неясное блаженство, в сладкое оцепенение, где тихо покоилось творение до рождения слова. Потребность спрятаться, ускользнуть от света, быть последним во всем, скромное поведение, в котором мы соперничаем с кротами, обвиняя их в том, что они живут напоказ, эта ностальгия по нераскрывшемуся и неназван95 Эмиль-Мишель Чоран ному — сколько возможностей для устранения достижения эволюции с целью обрести, отскочив назад, то мгновение, которое предшествовало потрясению бытия. Когда самоустранение высоко ценят и не иначе как с презрением цитируют слова наименее самоустранившегося из людей новейшей эпохи: «Всю мою жизнь я жертвовал всем — спокойствием, выгодой, счастьем ради моей судьбы», — тогда легко себе представить пыл человека, выведенного из заблуждения, который, дабы не оставлять следов, направляет все усилия к одной цели: упразднить свою идентичность, развеять по ветру собственное «я». Его желание остаться незамеченным настолько велико, что Незначительность он возводит в систему, преклоняется перед ней как перед божеством. Не существовать больше ни для кого, жить так, будто прежде ничего не было, отринув события, не придавать значения ни времени, ни обстоятельствам, навсегда раскрепоститься! Быть свободным означает не искать своей судьбы, никогда не оказываться ни среди избранных, ни среди отверженных; быть свободным означает делать все, чтобы быть ничем. Тот, кто отдал все, что мог, представляет собой зрелище более печальное, чем тот, кто не смог или не захотел проявить себя и уносит с собой в могилу свои явные и предполагаемые таланты, нереализованные способности и непризнанные заслуги: карьера, которую он мог бы сделать, выбрав один из множества доступных путей, льстит игре воображения, а это значит, что он еще живет, в то время как первый, закосневший в жизненном успехе, отвратительный в своем совершенстве, напоминает труп. Во всех сферах жизни нас привлекают только не реализовавшие себя, те, кто из-за слабости или излишней совестливости бесконечно отдалили момент, когда могли проявить себя. Их преимущество перед другими состоит в том, что они поняли, что самоосуществление не прохо96 Портрет цивилизованного человека дит безнаказанно, что нужно платить за каждое движение, добавленное к чистому факту существования. Природа не переносит талантов, полученных за ее счет, даже тех, которые предоставляла нам сама и которыми мы незаконно воспользовались, она наказывает за всякое рвение, ибо рвение — это путь к погибели, и предупреждает, что мы стремимся прославиться всегда себе во вред. Есть ли что-либо более пагубное, чем избыток добродетелей, перегруженность заслугами? Будем беречь наши недостатки, не забывая, что проще погибнуть из-за излишка добродетели, чем порока. Считать себя известным Богу, искать его участия и хвалы, пренебрегать всеми мнениями, кроме его мнения, — какое высокомерие и какая сила! Только религия может полностью удовлетворить наши хорошие и дурные наклонности. Человек, известный во всех «королевствах», и человек. обделенный судьбой, у которого нет ничего, кроме норы, — кто из них просияет в вечности? Нельзя же считать равнозначными мнение, которое составил о нас Господь Бог, и то, которое сложилось о нас у простых смертных. Без желания быть оцененным наверху, без уверенности снискать там хоть какую-то известность не было бы молитвы. Смертный, который хотя бы раз в жизни искренне помолился, причастен к славе Божией. Стоит ли ему отныне уповать на что-то еще? Ведь он добрался до вершины жизненной карьеры, его миссия в этом мире выполнена, и всю оставшуюся жизнь он может больше ни о чем не заботиться. Привилегия быть известным Богу кое-кому может показаться недостаточной. Во всяком случае, так полагал наш прародитель, который, устав от пассивной известности, замыслил навязать ее и тварям, и самому твор-Цу, к которому испытывал зависть, причем не столько из- бом 97 Эмиль-Мишель Чоран за его всеведения, сколько из-за помпы, блеска, мишуры. Безутешный оттого, что ему отводится роль второго плана, он с досады стал ломать комедию, ввязался в череду утомительных мероприятий, в историю, и не столько для того, чтобы поставить себя на место Бога, сколько для того, чтобы пустить ему пыль в глаза. Если мы захотим лучше познать самих себя, никто не сможет заменить в этом хвастуна: он ведет себя так, как вели бы себя и мы сами, если бы нас не сдерживал остаток робости и стыдливости. Он во весь голос провозглашает, что думает о себе; он возвещает о своих заслугах, в то время как мы из недостатка смелости шепчем о своих, а то и вовсе молчим. Послушав его излияния о своих деяниях и поступках, мы вздрагиваем при мысли, что достаточно пустяка, чтобы каждый принялся вести себя так же. Поскольку он предпочитает себя всей вселенной открыто, а не тайно, как все мы, у него нет никаких причин изображать из себя непонятого или отверженного. Раз уж никто не желает узнать, что он собой представляет и чего стоит, он позаботится об этом сам. В суждениях, которые он выносит о самом себе, нет никаких ограничений, намеков или оттенков. Он доволен, горд, он нашел то, что ищут все, но мало кто находит. Зато как жалок тот, кто не осмелился прославлять свои преимущества и таланты! Ему противен всякий, кто не придает им значения, и он сам себе противен из-за того, что не умеет их подчеркнуть или хотя бы выставить напоказ. Если бы не стало барьера предрассудков, шумные хвалы оказались бы не только сносными, но и необходимыми, и какое наступило бы облегчение для умов! Для психиатрии не нашлось бы дела, если бы нам было позволено высказывать вслух наше высокое мнение о себе или если бы в нашем распоряжении в любое время суток оказывался 98 Портрет цивилизованного человека льстец. Каким бы счастливцем ни был хвастун, его счастье не бывает без изъяна: он не всегда находит слушателя, расположенного выслушать его. О том, что он испытывает, когда обречен молчать, лучше не думать. Несмотря на все наше самодовольство, мы постоянно ощущаем горечь, которая была бы нам неведома только в том случае, если бы, исполнившись сострадания, нас стали превозносить даже камни. А поскольку они упорствуют в своем молчании, нам не остается ничего другого, как, захлебываясь желчью, барахтаться в наших переживаниях. Если стремление к славе становится все более лихорадочным, это происходит потому, что оно заменяет веру в бессмертие. Исчезновение подобной привычной и вполне объяснимой химеры должно было оставить в умах полное замешательство и в то же время надежду, смешанную с яростью. Никто не может обойтись без чего-то прочного, непреходящего, а тем более запретить себе искать нечто такое всюду, в любой области, в том числе в литературе. С тех пор как смерть стала представляться всякому человеку понятием абсолютным, все принялись писать. Отсюда преклонение перед успехом, и, как следствие, зависимость от публики, этой пагубной и слепой силы, бича века, этой отвратительной разновидности фатума. Когда на заднем плане маячила вечность, слава еще могла иметь какойто смысл; у нее нет больше смысла в мире, где господствует время и где оно к тому же в опасности. Всеобщую хрупкость, так волновавшую древних, мы принимаем как очевидную данность, которая не поражает и не печалит, а потому с радостным сердцем мы цепляемся за кажущуюся определенность ненадежной и никчемной известности. Добавим, что если во времена, когда людей было мало, человеку выгодно было прославиться, то теперь, когда он совсем обесценился, дело обстоит совсем иначе. Чьего уважения стоит добиваться на 99 Эмиль-Мишель Чоран нашей загроможденной телами планете, где мысль о ближнем лишилась всякого содержания? Любить человечество уже невозможно ни оптом, ни в розницу, а желание всего лишь выделиться из него — это уже симптом духовной смерти. Ужас славы происходит от ужаса перед людьми: став взаимозаменяемыми, они оправдывают своим числом отвращение, которое вызывают. Недалек тот момент, когда нужно будет оказаться в очень хорошем расположении духа, чтобы если не любить, ибо это невозможно, то хотя бы переносить их. Во времена, когда ниспосланные провидением эпидемии чумы опустошали города, каждый выживший справедливо внушал некоторое уважение: это был еще живой человек. Сейчас таких больше нет, а есть лишь кишение агонизирующих, пораженных долголетием существ, особенно отвратительных тем, что они так прекрасно обставляют свою агонию. Им стоит предпочесть любое животное, хотя бы потому, что они преследуют его, губя и профанируя природу, которую в былые времена так облагораживало присутствие зверей. Рай — это отсутствие человека. Чем больше мы это осознаем, тем меньше склонны прощать поступок Адама: он жил в окружении животных, чего другого он мог желать? И как не распознал он счастье не сталкиваться ежеминутно с этим гнусным проклятием, написанным на наших лицах? Безмятежность возможна лишь в случае исчезновения нашего вида, а пока, в ожидании, прекратим пугать себя из-за пустяков и обратим наши взоры туда, к той части нашего естества, которая ничему не подвластна. Мы смотрим на вещи иначе, когда, познав глубину своего одиночества, обнаруживаем, что подлинная реальность находится лишь в нас самих, а все остальное — обман. Что могут дать другие, чего нет у того, кто проникся этой истиной, и чего они могут его лишить, чтобы опечалить или унизить его? Не может быть освобождения без победы над сты1ОО Портрет цивилизованного человека дом и страхом стыда. Победивший видимость, навсегда ушедший от ее соблазнов, должен ощущать свое превосходство не только в отношении почестей, но и в отношении самой чести. Не обращая никакого внимания на презрение себе подобных, он станет разгуливать среди них с достоинством отвергнутого бога. Какое облегчение испытывают люди, когда осознают себя недоступными ни хвале, ни хуле и когда не считают больше необходимым заботиться о том, как они выглядят в глазах окружающих! Это — странное облегчение, отмеченное мгновениями подавленности, освобождение, смешанное с болью. Как бы далеко ни зашли мы в обучении самоотрешенности, мы не можем пока сказать, как обстоит дело с нашим желанием славы: испытываем ли мы его или уже безразличны к нему. Наиболее вероятно, что мы ловко спрятали его, и оно продолжает нас терзать без нашего ведома. Мы побеждаем его только в мгновения глубочайшей подавленности, когда в нас не смогли бы узнать самих себя ни живые, ни мертвые... В остальное время все обстоит не так просто, поскольку, пока сохраняются желания, желаем мы именно славы. Даже разочаровавшись во всем, мы все еще ее желаем, потому что это желание самое стойкое. А тот, кто вкусил славы сполна, кю купался в ней, уже не сможет обойтись без нее и, если ее лишится, станет сварлив, раздражителен или просто оцепенеет. Чем сильнее проявляются наши недостатки, тем отчетливее становится жажда славы, она притягивает нас; наша пустотность влечет ее; когда же мы не встречаем взаимности, мы довольствуемся ее эрзацем — известностью. По мере того как мы к ней стремимся, мы сталкиваемся с неразрешимой задачей: мы хотим победить время с помощью самого времени, хотим длиться в недолговечном, хотим добиться прочности в истории и, верх 1О1 Эмиль-Мишель Чоран легкомыслия, хотим услышать овации тех, кого сами не переносим. Наше несчастье состоит в том, что мы не нашли нового средства, которое возместило бы потерю вечности, кроме этого обмана, этой жалкой навязчивой идеи, от которой мог бы избавиться лишь тот, кто освоился в бытии. Но кто способен по-хозяйски разместиться в нем, если он и называется человеком, именно потому, что не может в том преуспеть? Верить в историю означает страстно желать возможного, постулировать качественное превосходство предстоящего над настоящим, воображать, что будущее столь богато, что делает вечность излишней. Но едва перестают в это верить, любое событие теряет всякий смысл. Тогда начинают интересоваться лишь началом и концом Времени, причем началом в меньшей степени, чем тем, что наступит после всего, когда иссякнет жажда славы, когда свободный от всего, что толкало его вперед, сбросивший груз своих похождений человек войдет в эпоху отсутствия желаний. Если уж нам не дано вернуть изначальную невинность, мы хотя бы можем вообразить себе просто невинность и попытаться достичь ее благодаря знанию, лишенному порока, очищенному от его изъянов, в корне изменившемуся, знанию «раскаяния». Подобная метаморфоза была бы равнозначна вновь обретенной невинности, которая, пробившись сквозь тысячелетия сомнений и озарений, имела бы то преимущество, что уже не поддалась бы соблазнам змия, утратившим теперь свежесть новизны. Когда знание отделится от грехопадения, акт познания не будет льстить ничьему тщеславию и никакое демоническое удовольствие не будет сопровождать агрессивное воплощение духа. Мы будем вести себя так, словно не нарушали никакой тайны, и будем оценивать все свои поступки с некоторой отстраненностью, а то и с презре1О2 Портрет цивилизованного человека нием. Речь пойдет ни много ни мало о том, чтобы вновь начать Познание, то есть создать совсем иную историю, очищенную от прежнего проклятия, в которой нам будет дано вновь обрести ту божью печать, которой мыЛэыли отмечены до разрыва с остальным тварным миром. Мы не можем жить с чувством непоправимой ошибки, с этим грузом проклятия, придавливающим всякую нашу инициативу. Поскольку именно наша развращенность выводит нас за пределы самих себя и делает деятельными и плодовитыми, готовность производить и разоблачает, и обвиняет нас. Если наши дела свидетельствуют против нас, то не потому ли, что они проистекают из потребности скрыть наше вырождение, обмануть других, более того — обмануть самих себя? Делание запятнано первородным грехом, от которого, как кажется, избавлено бытие. И поскольку все, что мы совершаем, проистекает из потери невинности, только отказом от собственных деяний и отвращением к самим себе мы сможем возместить эту потерю. Жан-Люк Нанси1 О событии Философия и сообщество представляются неразделимыми. Видимо, для осуществления философии и совместности нужна не просто коммуникация, но сообщество. Это относится ко всей нашей традиции, но вместе с тем распространяется и на самое обыденное понимание слов «философия», «сообщество» (совместность). То, чем отмечено это второе слово, есть не просто тема для обозначения первой, т.е. философии, но можно показать, что совместность есть философская тема по преимуществу, что она предшествует самой философской «тематике» и выходит за ее пределы. До того как у этой последней появляется «объект», она уже представляет собой фактическую совместность, философствование осуществляется в-со-обществе, в этом «в» и посредством этого «в», в котором нет ничего коллективного (которое постоянно отворачивается от оппозиции или связки «индивидуальное-коллективное»). Конечно, не является случайным тот факт, что событие, называемое «коммунизм» и отмеченное именем Маркса, первоначально имело место как событие, определенным образом относящееся к философии (к ее упразднению через ее реализацию). Допустив, что философия представляет собой во-прошание или утверждение смысла, нужно добавить, что модальностью такого вопрошания является совмест1 Нанси Жан-Люк (р. 1940) — современный французский философ. Ключевой темой его исследования является анализ понятий «сообщество» и «событие». 1О4 О событии ность. Как можно разделять смысл или логос, который уже сам по себе означает раздел, тождественного.... перераспределение, диалог, Смысл сообщаем, разделяем, диалектику, различие коммуницируем, по определению совместен. Предположить, что его существование «имеет» «смысл», — значит допустить, что он есть то, что заставляет его сообщаться, то, что передает его чему-то иному, нежели я сам. Смысл составляет мое отношение к себе как соотнесенному с другим. Бытие без другого (или без друговости) не имело бы смысла, будучи лишь имманентностью собственного полагания, или, что то же самое, бесконечного допущения самого себя. Смысл смысла — начиная с «эмпирического» и кончая всеми другими смыслами — в том, чтобы подвергаться воздействию извне, быть под воздействием внешнего, а также в том, чтобы самому воздействовать на это внешнее. Смысл состоит в разделении этого «вместе» (в «совместности»), и это относится равно к фигурам смысла, которые представляют его как несообщаемый, или как замкнутый в безысходной субъективности, или даже как бессмыслицу. Соответственно «совместность», видимо, уже подразумевает какое-то подобие философии, т.е. отчетливое разделение смысла; в результате которого зарождается именно со-общество. Однако подобное видение вещей сразу же оспаривается другим видением, столь же традиционным и привычным. Сообщество не узнает себя в философии. Оно видит в ней отделенную, изолированную, «элитаристскую» (т.е. «закорачивающую» коммуникацию) технику или установку, которая предлагает ему всего лишь утопии совместности, с которыми сама она не имеет ничего общего. Или же происходит как раз обратное: философия и общество столь хорошо взаимоотражаются, что становятся тождественными, вызывая к жизни некий гибрид (который является также общим им здравым смыслом, одним в дру1О5 Жан-Люк Нанси гом и наоборот), в результате общество задыхается, в то время как философия растворяется (это положение вещей получило название «тоталитаризма»). Введем еще одно, третье соображение менее обычного свойства, которое тем не менее начинает — в своих различных более или менее ясных модусах — составлять часть нашего совместного мышления (т.е. как раз того, относительно чего важно не допустить, чтобы оно превратилось в нечто обыденное банальное, пошлое, заурядное, закупоренное в псевдоочевидность), — я имею в виду «конец философии». Разными, иногда доходящими до противоположности, способами философы темати-зировали его, возможно, даже сделали из него тему всех тем современной философии (то, что существует также идеология отказа от этой «темы» и что она не самоочевидна, нуждается в особом обсуждении — это еще ничего само по себе не значит). «Конец философии» означает, что философия как минимум достигла (знает себя как достигшая) своего завершения, свершенности, что вовсе не равносильно ее исчезновению, осуществленности целого понятийного порядка, который стоял за поиском ее смысла. Всякое возможное означаемое является означенным или: тотальность означена, означаемое равно тому, что вообще можно означить (того, что является другой стороной смысла или допущения логоса: а именно логикой, отчетом о разумности самого разума). Поэтому, хотя можно, конечно, без конца умножать словесные определения понятий, не натыкаясь на препятствие, по сути дела, без всякого риска, окончательный смысл философского смыслополагания уже вскрылся: во всех возможных формах — познания, истории, языка, субъекта и совместности — этот смысл есть нечто иное, как здравомыслящее конституирование смысла посредством его самого, други1О6 О событии ми словами, тождество бытия и смысла или самоприсутствия бытия как абсолютной субъективности. Нет ничего случайного в том, что именно идея совместности дает ближайший пример этой последней (последней в смысле первой, фундаментальной) философии, этой завершенности философии. Идет ли речь о сообществе любящих, семье, церкви или суверенной нации, они представляют себя как то, что конституирует себя в самоприсутствии: смысл связи, т.е. сама эта связь, предшествует связности, или, что то же самое, связность предшествует связи, в силу чего обе они являются чисто современными друг другу, будучи чем-то единственно внутренним, повернутым к самому себе. Именно так мы неизбежно мыслим себе любовь и общественный договор. Или, говоря более широко, мы представляем совместность смысла — его сообщаемость, причащаемость к нему — как современную коэкстенсивную по времени всем и всему, как внутреннюю истину этого присутствия и как закон ее производства (включая те случаи, когда она представляется реализуемой в ходе истории постепенно, так что смысл является лишь «вне» «этого» мира или же когда он имеет смысл исключительно в этом мире ). Именно этой логикой отмечен «конец философии» и конец сообщества, соответствующего философии общее бытие конституирует себя как свой собственный смысл. Именно здесь, в этом пункте, сообщество и совместность находят свое завершение — оборачиваясь постоянным провалом или ужасной катастрофой: истина любви, государства, истории полагается лишь в смерти. Смысл бытия, бытие смысла приносятся в жертву этому процессу. Следовательно, то, что философия подходит к «концу», означает, что она приближается, причем приближается весьма материально — в обществе без со-общества, в смерти посредством смысла, в самоубийстве и бойне, в 1О7 Жан-Люк Нанси изнурении и отчаянии — к пределу, на который она была обречена изначально, зная о нем и одновременно от него ускользая (что еще остается делать с пределом? но каким другим способом можно помыслить себе предел? именно это, как мы увидим, поставлено здесь на кон): этот предел — ухватывание бытия как смысла и смысла как бытия. Это, если можно так выразиться, вопрос о существовании (Dasein), а также о знании того, в какой мере он является вопросом и является ли он им вообще. Ибо философия, подошедшая к своему пределу, говорит нам, что существование (наличное бытие) не является самоконсти-туированием смысла, но дает нам бытие, предшествующее смыслу или выходящее за его пределы, не совпадающее с ними, состоящее в этом несовпадении... Отсюда неизбежный комический эффект, производимый философией: она изо всех сил старается удалиться от тех сил, которые сама же делает действенными, от нее наверняка ускользает реальность наличного бытия — и скоро она уже без промаха совершит этот промах, доходя в этом дс крайности (стоит однажды подсчитать заблуждения и промахи науки, морали, эстетические, политические промахи философов). Мне кажется, нет ни одного настоящего философа, который хотя бы один раз в жизни не был бы охвачен ужасом от подобной насмешки, кто хотя бы раз не признавался себе, что философская работа лежит на нем бесполезным, нелепым грузом, что жизнь, смерть, страдания, радости, мельчайшие из жизненных проявлений всегда — и притом с большим отрывом — опережали ее. Нет такого философа, у которого все это не вызывало бы смех: иногда, правда, эта гримаса остается хозяйкой положения, и тогда философ продолжает работать лишь по привычке, по инерции, из гордости или малодушия не решаясь отойти от того, что служило опорой его профессиональ1О8 О событии ной самондентичности. И наоборот, сообщество с максимумом раздражения и иронии переносит того, кто его таким образом предает. В каком-то смысле остается единственный вопрос: почему философы продолжают существовать,^ючему сообщество по-прежнему закрепляет за ними определенное место? Почему сама эта функция не исчезла вместе с поисками философского камня? На это мне могут ответить, что своей роли не утратили и предсказатели. Конечно, это так. Тем не менее роли эти остаются весьма различными. Всякий знает или, по крайней мере, чувствует различие между тем, кто разгадывает скрытую реальность, и тем, кто задается вопросом о смысле ускользающей реальности. В сообществе продолжает сохраняться осознание если не самого философского дискурса, то того, что такое есть «мышление» и чем оно отличается от «ясновидения». Вопрос в следующем: что означает про-юрливость сообщества, выделяющего философии ее место и ее на нем удерживающего? И пусть не говорят, что я присвоил себе право говорить от имени сообщества, от которого моя профессия, профессия философа, должна держать меня на почтительном расстоянии. Ведь я также составляю часть сообщества и таково материальнотрансцендентальное условие моего ремесла. Другими словами, при отправлении этого ремесла я, среди прочего, сталкиваюсь с размышлением о необходимости и с ничтожеством размышления. На пределе философия, следовательно, сталкивается с тем, что смысл не совпадает с бытием или, выражаясь более сложно, зато более точно, что смысл бытия не заключается в совпадении (тождестве) бытия с самим собой (и это, по меньшей мере, до тех пор, пока бытие считается топосом смысла, причем смысла, представляемого в идеальной тождественности конституирующей саму 1О9 Жан-Люк Нанси себя сигнификации; привилегированным примером является здесь «общество как общий здравый смысл общего бытия». Это, следовательно, тот предел, на котором в числе прочего приостанавливается функционирование сообщества, где нет самокоммуницируемости смысла, где сообщество ничего из себя не представляет, где не работает никакое объединяющее начало. Оно лишено прежде всего со-человечности, соприсутствия и со-природности с чем бы то ни было в мире, который становится необитаемым по мере того, как им овладевает отсутствие смысла. На пределе философии, на пределе сообщества мир уже не есть мир; он представляет собой кучу чего-то, вероятно отбросов. Вот к чему мы пришли; вот то, что составляет нашу эпоху, эпоху, которая способна мыслить себя как находящуюся на пределе эпохи, если под «эпохой» понимать какую-то сторону или форму «мира». Смыслообразования существуют заключенными в скобки. Нельзя уже просто сказать: «Вот смысл, вот со-человечество, а вот его философия или его философии, продуктивно состязающиеся между собой...» Жест фи- лософствования проявляет себя в этой ситуации в своей обнаженности, в своей пустотности, как то, что нуждается в радикальном переосмыслении; причем целью подобного переосмысления является не обнаружение иных смыслообразований, а постоянное пребывание на пределе. Философия — это жест в направлении смысла самого смысла, жест в сторону чего-то неслыханно, несводимо внешнего (известно одно: смысл неспособен абсорбировать в себе реальность, существование, он не представляет собой здравомысловое самоконституирование сущности реального). Таков «смысл» всех основных «тем» современной философии независимо от того, идет ли речь о «бытии», о «языке», о «другой», о «сингулярности», о «письме», о «мимезисе», о «множественностях», о «со11О О событии бытии», о «теле», а также о многом другом. Во всех этих вовсе не всегда совместимых между собой формах речь здесь идет о том, что можно, прибегая к лексике традиционных философских доктрин, назвать реализмом неприсваиваемой истины. Что вовсе не является синонимом «отсутствующей истины». *** Но каким образом истина является с этого момента «наличествующей», как она проявляет себя, если устройство общего (здравого) смысла и устройство со-бытия смысла на пределе отбрасывается? Видимо, само сообщество должно указать нам направление движения. Выражаясь более точно, его нам должен дать «конец» присвоения смысла сообщества (конец присвоения «любви», «семьи», «государства», «общности», «народа» и т.д.). В этом конце, на этом пределе, где мы оказались, одно все-таки остается и представляется достоверным: а именно то, что оказались там именно мы. Эпоха предела оставляет нас на пределе совместно, ибо в противном случает не было бы ни «эпохи», ни «предела», ни «нас». Остаток со-общности (если даже допустить, что раньше дело обстояло по-другому) пребывает в том, что мы со-вместно существуем перед лицом исчерпания общего смысла и в этом исчерпании. Мы как минимум есть вместе с другими, есть со-вместно. Это представляется эмпирической очевидностью, которой мы не можем придать никакого существенного статуса, не можем соотнести ее с некой сущностью со-человечности, но которая, тем не менее, сохраняется и упорствует в своей материальной незначимости. Можем ли мы попытаться расшифровать эту незначимость, находясь на пределе? 111 Жан-Люк Нанси Мы существуем со-обща, со-вместно с другими. Что значит «со» в обоих этих случаях? (Кроме того, что означает «мы», это местоимение, которое так или иначе по необходимости вписывается в любой дискурс?). Это не только и не столько вопрос о неком смысло-образовании, но вопрос о месте, пространстве-времени, а также о модусе, режиме сигнификации вообще, если смысл по определению коммуницируется и вызывает на ответную коммуникацию. По этой же причине дешифровка не может быть просто философской, а может иметь место лишь в конце философии, а также в конце любой логики, грамматики и литературы как таковых (в конце «мы» как первого лица множественного числа), чтобы выявилась трудность простого означивания такого рода... «С», «со» или «со-обща», очевидно, не значит ни «одни с другами», ни «одни вместо других». Оно подразумевает наличие внешнего. (Даже в любви находятся «в» другом, лишь пребывая вовне другого; ребенок «в» матери, хотя и в ином смысле, также является внешним ей, будучи внутри ее.) Но это последнее не означает просто «находиться рядом», «быть рядоположенным». Логика этого «со» — со-бытия, Mit-Sein, которое, по Хайдеггеру, является во времени коррелятом Dasein, — представляет собой уникальную логику, логику внутренне-внешнего. Такова, вероятно, логика сингулярности вообще: логика того, что не располагается полностью ни в области чисто внутреннего, ни в области чисто внешнего. (Эти области, по правде сказать, неотличимы одна от другой: ведь пребывать полностью вовне, вне всего (absolu), значило бы быть полностью в себе, пребывать исключительно в себе самом, — притом без какой-либо возможности выделиться в качестве «самого себя»). Такова логика предела, того, что пребывает между двумя или множеством, принадлежа всем и никому, не принадлежа при этом и самому себе. 112 О событии (Нет никакой уверенности в том, что логика эта распространяется только на человека или живые существа. Камни, горы, небесные тела также в некотором смысле составляют «совокупность» с точки зрения, отличной от нашего на них взгляда. Этот вопрос — вопрос о мире как сообществе — мы оставим здесь без ответа.) На первый взгляд логика со-бытия соответствует тому, что можно назвать банальной феноменологией неорганизованных совокупностей людей. Люди, совершающие путешествие в одном купе, просто оказываются случайным, произвольным образом одни рядом с другими. Между ними нет никаких отношений. Но они равным образом составляют совокупность в качестве пассажиров данного поезда, пребывающих в одном пространстве и в одно время. Они находятся в промежутке между отъеди-ненностью «толпы» и связностью «группы», будучи ежесекундно близки к превращению в одну или в другую. I (сдобная приостановленное^ и составляет «со-бытие» в качестве отношения без отношения, т.е. одновременной открытости как отношению, так и отсутствию такового. Эта открытость строится на одновременной неотвратимости отмены отношения и вступления его в силу, зависящей от малейшего случая (точнее, на более скрытом уровне судьба открытости в том или ином смысле решается постоянно, решается в том или другом смысле, в «свободе» или в «необходимости», в «сознании» или в «бессознательном», в нерешенном решении дальнего или ближнего, в одиночестве или в коллективе, в притяжении или в отталкивании). Эта открытость связи несвязности является не чем иным, как обращенностью сингуляркостей друг к другу. (Я употребляю термин «сингулярности», чтобы подчеркнуть, что речь идет здесь не только об индивидах, как могло бы показаться из упрощенного изложения. От113 Жан-Люк Нанси крытости подвержены целые коллективы, группы, социальные институты и дискурсы, причем подвержены как в своих индивидуальных проявлениях, так и между собой. Под «сингулярностью» понимается то, что каждый раз заново образует точку экспозиции, прочерчивает пересечение пределов, в направлении которых осуществляется каждый раз акт открытия.) Быть обращенным к... — значит пребывать на пределе, там, где внутреннее и внешнее даны одновременно, где ни внутреннее, ни внешнее не даны как таковые. Это еще даже не пребывание «лицом-к-лицу», оно предшествует разглядыванию, присвоению, захвату добычи или заложника. Обращенность существует до любой идентификации, сингулярность не является идентичностью, она представляет саму эту обращенность в ее точечной актуальности. (Но коллективная или индивидуальная идентичность не есть сумма сингулярностей, она сама по себе есть сингулярность.) Это есть бытие «в себе» в соответствии с расслоением (разделением и распределением) Я, конституирующим само это Я, и обобщенной детализацией всех «собственных» мест (интимности, тождества, индивидуальности, имени), которые являются таковыми, лишь будучи обращенными, открытыми своим пределам, благодаря этим пределам и в качестве пределов. Это не означает, что нет вообще ничего «собственного», что эта самоданность в основе своей поражена «расщеплением» или «ши-зоидностью». Это означает скорее, что самоданность дана как обращенность, что она не имеет сущности. Этот способ бытия, существования (есть ли у него какой-то иной способ? бытие никогда не является «Бытием», оно всегда дано в модальности обращенности к...) предполагает, что нет всеобщего бытия, общей субстанции, присущей всем сущности и идентичности (другими словами, открытости ничто не предпослано, это, соб114 О событии ственно, и означает слово «открытость»), но есть бытие-в-месте. Это «в» не несет в себе никакого способа связи, если отношение устанавливается между двумя готовыми терминами, между двумя данными существами. Оно скорее представляет собой бытие в качестве отношения, тождественное самому существованию. Но ни «бытия», ни «отношения» не достаточно для того, чтобы это назвать, — даже если установить между ними тождество, ибо здесь нет места эквивалентности терминов, которая еще могла бы вытекать из внешнего отношения «бытия» к «отношению». Вместо этого нужно отважиться утверждать, что бытие является бытием-в-месте, никогда не будучи всеобщим. Нет ничего более привычного, чем бытие, это просто очевидность существования. И нет ничего менее обычного, чем бытие, являющееся очевидностью сообщества. Причем хотя и то и другое выявляется философией, она не становится от этого философией достоверности. Ибо одно разделяет другое, тем самым лишая его достоверности. Бытие само по себе не является собственной достоверностью, не является равным ни себе, ни своему смыслу. Одно дело существование, другое — сообщество, третье — то, что обеспечивает их обращенность. Одно может работать только благодаря другому. Вступление в силу со-бытия: того, что создает возможность философии, порождает ее — вплоть до этой «игры» слов, в которой обнажается на самом деле не более и не менее как наша общительность (обращенная, в свою очередь, к «необъятности», «безмерности» языка с прозрачностью, которую предполагается «сообщить», но это есть прозрачность некоего постулируемого смысла, а не прозрачность «нас»). Вступление в силу со-бытия... Неустанно мыслить — это и есть «философия» или то, что остаегся от нее в конце, если она, конечно, остается совместной; это и есть 115 Жан-Люк Наиси политика, и есть искусство или то, что остается от них. Это значит идти по улице, это значит пересекать границы, это — праздник, и это — траур, это — кипучая деятельность и нахождение в купе вагона, это знание того, как капитал капитализирует социальность и растворяет приставку «в», это вопрошание о том, что такое «революция», это сопротивление, это существование. Бытие «есть» это «в» (лучше сказать так: бытие есть в «в», внутри того, что не имеет своего внутреннего), которое разделяет и одновременно присоединяет и разделяет, это предел, на котором оно открывается. Предел есть не что иное, как крайняя степень покинутости, при которой любое свойство, всякое частное проявление качества для того, чтобы стать тем, чем оно, будучи самим собой, является, оказывается по своей сути обращенным к внешнему (но к такому внешнему, у которого нет внутреннего...). Возможно ли мыслить эту заброшенность, в которой случается собственное (качественно специфичное), т.е. то, что первоначально, следовательно, с самого начала, с края, с предела своей качественной определенности, является принятым, воспринятым, манипулируемым желаемым, от- брасываемым, называемым, призываемым, сообщаемым? На самом деле эта заброшенность предшествует ее рождению, является ничем иным, как самым этим рождением, бесконечным рождением до смерти, которая его прерывает, осуществляя заброшенность. Эта заброшенность бросает на произвол судьбы именно совместное бытие, а не общение и не сообщество, как если бы эти последние были всего лишь инстанциями приема и записи. Но сама заброшенность «сообщает», она наделяет себя уникальностью благодаря бесконечно «внешнему» и в качестве бесконечно «внешнего». Она дает качественно специфичное (личности, группе, собранию, обществу, народу и т.д.) состояться, открывая его. Хайдеггер называл это пришествие 116 О событии Ereignis, это означает «присвоение», но также и прежде всего «событие»: событие — это не то, что имеет место, но явление места, появление пространства и времени как таковых, прочерчивание предела, его экспозиция. Поддается ли открытию эта открытость? Может ли она быть изложенной или представленной? (и какое понятие сюда подходит? идет ли речь о том, чтобы представлять, означивать, осуществлять или задействовать? можно ли это сделать с помощью дискурса, жеста, поэзии?) Поддается ли изложению смысл со-бытия, благодаря которому только и становится возможным смысл как таковой? Если поступать таким образом, отводя, показывая бытие (или сущность) со-вместности и, следовательно, открывая сообщество (в виде народа, государства, духа, судьбы, произведения) самому себе, представленный таким образом смысл в тот же миг разрушает любую открытость, а вместе с ней и смысл самого смысла. Но если ^того не делают, если само изложение остается не изложенным, т.е. представляют дело так, что в со-вместности, ничего, собственно, не поддается изложению, за исключением повторения «неловеческого существования», которое не достигает даже уровня «со-человечности» состояния, ни человеческого, ни (этого невыразительного бес-человечного), равным образом разрушается и смысл смысла, все расшатывается, становясь рядоположением без связей и сингулярностей. Тождество единого и тождество многого (т.е. нетождественности) идентичны, они не касаются многообразной открытости этого «в», нашей обращенности «к»... Что бы ни делалось (или ни не делалось), по-настоящему совершается лишь эта обращенность. А ее необходимость неотделима от открытости того, что назовут свободой, равенством, справедливостью, братством — из-за невозможности поставить точку в этом перечне. Тем не 117 Жан-Люк Нанси менее, если совершается лишь эта обращенность, т.е. если со-бытие неотразимо сопротивляется общности и распаду, эта обращенность и это сопротивление не являются ни непосредственными, ни имманентными. Они не представляют собой информацию, которую достаточно собрать для того, чтобы ее утвердить. Достоверно, однако, что событие упорно пребывает и сопротивляется — без чего я бы не писал в этот момент то, что я пишу, а вы бы это не читали. Но из этого не следует, что об этом достаточно сказать для того, чтобы оно обратилось. Необходимость со-бытия не является необходимостью физического закона, и тот, кто хочет ее открыть, сам должен, в свою очередь, открыться ей (это и можно назвать «философией», «письмом» и их связывающим разделением). В противном случае перед нами попустительство, которое ставит любой дискурс сообщества (в том числе, следовательно, и мой) под угрозу: такова вера в то, что можно, коммуницируя с самим собой, представлять со-человечность, истина которой не является, тем не менее, некой данной и представимой сущностью. То, что является данным, означенным, относится в настоящее время к порядку неустанно диалектизуемого нетождественного индивидуального/коллективного, тождества тождественного и (единого/множественного, сознания/ бессознательного, воли/материальных сил, этического/экономического и т.д.). Вот это мы, скорее всего, и объединяем под рубрикой «техника»: «техника» — это сочело-вечность не-человечества, сообщество операций, а не экзистенций. «Техника» являет собой законченную форму взаимного конституирования бытия и смысла, равно как и гиперболизованную форму их бесконечной разъединенности. Именно это делало возможным повторяющееся и не- изменное в течение стольких веков чередование высоких и низких оценок «техники». Но как раз это, а не процес118 О событии сы, происходящие внутри спутников или оптических волокон, и затемняло для нас с помощью слова «данность» то, что продолжает оставаться предложенным в качестве со-вместности. То, что даровано, нельзя ни захватить, ни присвоить, точнее, в самом присвоении, которое принимает дар, принимающие остаются открытыми неопределенности (свободе) даруемого, тому в нем, что является неприсваиваемым. Итак, перед нами стоит задача, являющаяся одновременно и нераздельно «философской» и «общественной», мыслительной и политической, если этими словами можно пользоваться в существующем виде, задача обращения необратимого «в». Обращать — значит не прибегать к представлению, без того, чтобы оно, в свою очередь, могло стать топосом и целью обращения, без того, чтобы «философия» в нем, аппелируя к «сообществу», подвергала себя риску, и наоборот. Это сразу же вызывает в памяти образ «философского сообщества», некоего Те-лемского аббатства или кружка романтиков, вообразившего себя республикой или чем-то вроде «литературного коммунизма» (когда-то я воспользовался этим выражением, но отказался от него из-за его двусмысленности: ведь дело вовсе не в образованном обществе...). Но дело и не в том, чтобы «все стали философами», на что, если судить по некоторым текстам, надеялся Маркс, а равно речь не идет о том, чтобы создать «правление» философов, как того хотел Платон. Или же дело в том и другом одновременно, даже если одно противостоит другому: тогда это мышление на пределе, где никто не знает, что, собственно, такое есть «философия». Такая философия имеет своей целью не придать смысл, и даже не поставить вопрос о нем как вопрос о бытии — что есть смысл? какой смысл имеет бытие, если оно является событием? Целью является (она не противоположна, но она определенно дру- 119 Жан-Люк Нанси гая) обратиться к разделению этого «со», к этой совместности «смысла», которая, прежде всего, и отнимает бытие у смысла, а смысл у бытия, которая не приравнивает одно к другому и каждое из них к самому себе иначе как посредством приставки «со» в слове со-вместность, которая и делает смысл неприсваиваемым, Я не обладаю определенным или неопределенным смыслом, но я смыслю, я нахожусь при смысле в модусе исключительности со-бытия. Это ego sum, ego existo эффективно лишь при условии обращенности как наиболее явной очевидности разделения, совместности экзистирую-щего бытия. (Но уже эта первоочевидность постулируется Декартом в качестве всеобщей очевидности, разделяемой всеми вместе и каждым в отдельности еще до ее возведения в статус очевидности и мыслительной достоверности; точнее, неявным источником ее очевидности является совместность). Я в нем соприсутствую: наличное бытие имеет место в своей обращенности к этому конкретному «в». Следовательно, «в» неотделимому от «мы существуем». Даже более чем неотделимому: имея происхождение в слове со-вместность, в котором находит выражение и самовыражение «в», а не субъект, которого можно вычислить с помощью философских понятий, присутствие приходит к себе в качестве предела и разделяет это присутствие. Открывая непоказываемое, к которому мы, тем не менее, обращены совместно, ...Соблазнительно заявить: это всего лишь описание status quo, а может быть, даже любого социального и политического устройства, по крайней мере, демократического. (Или, выражаясь более хитро, это — описание демократического политическом ноумена, феномене). который Ничего коренится подобного. демократией, либо, как в случае тирании, 12О в любом То, что социальноне является О событии диктатуры, вообще ничего не доказывает, либо является общностью бытия и смысла (такова тоталитарная имманентность). Демократия же со своей стороны демонстрирует исключительно то, что такого рода сущность невыявляема вообще. Нет сомнения в том, что это — меньшее зло. Однако при этом упускается сов-местность, бытие-вместе: от неподлежащей присвоению демонстрации (она вычитывается между строк «Социального договора» Руссо, даже против его воли) посредством логики невыявляемости — и против нее — переходят к зрелищу всеобщей присваиваемости. (Зрелище: это слово годится здесь для обозначения присвоенной, возвращенной экспонируемо-сти, смысл, который пытались вложить в это слово уже ситуационисты). Имеет место присвоение капитала, индивида, производства и воспроизводства («техники») в качестве «со-вместных», заступающих на место совместности и на место собственного «занимания места». Демократия терпит неудачу, неудачу в выдвижении на первый план сов-местности, в открытии нас ей. История научила нас тому, какой риск связан с критикой демократии: это не менее как риск уничтожения, чистой экспроприации и ничем не сдерживаемой эксплуатации. Проблема, разумеется, в том, чтобы подыскать другое место для самого понятия «критики». Ибо история также учит нас тому, какой риск связан с тем, что мы называем «демократией»: он связан с насильственным, пошлым, уже даже неопознаваемым присвоением предлога «с» в слове «со-вместное-бытие» или предлога «в» в слове «бытие-в-месте». Надо уйти от этого зияния. Если дело не должно идти о «критике демократии» в принятом смысле слова, речь также не может идти и о том, чтобы пребывать при простой демократической «очевидности». Речь о том, чтобы продвинуть демократию на место ее собственной выраженности и явленности: продвинуть ее к со121 Жан-Люк Нанси вместности народа, именем которого она называется, не найдя пока для выражения этого обстоятельства ни своего способа, ни своего особого голоса. Общим у философии и сообщества является следующее: категорический, предшествующий любой морали императив (в котором нет политической двусмысленности, так как политика в этом смысле предшествует любой морали, что не значит, что она без нее обходится): не уступать в том, что касается со-вместности смысла. Часть II РАСПАЛАСЬ СВЯЗЬ ВРЕМЕН Эмиль-Мишель Чоран Выпасть из времени Я тщетно пытаюсь зацепиться за мгновения, они ускользают от меня, нет ни одного, которое не было бы мне враждебно, не отторгало бы меня, не уведомляло бы меня о своем отказе иметь со мной дело. Все они мне недоступны и одно за другим провозглашают мое одиночество и мое поражение. Мы можем действовать только тогда, когда ощущаем их поддержку и защиту. Когда они отворачиваются от нас, мы лишаемся энергии, необходимой для совершения действия, каким бы оно ни было: значительным или не очень. Обезоруженные, без всякой опоры, мы сталкиваемся тогда с необычным несчастьем: несчастьем не иметь права на время. Я собираю прошлое, не переставая делаю из него настоящее, приспосабливая их друг к другу, не оставляя на стоящему возможности исчерпать себя. Жить — значит быть во власти магии возможного; но если в возможном различают прошедшее, которое должно наступить, все становится потенциально прошлым, и нет больше ни настоящего, ни будущего. И в каждом мгновении я различаю усталое дыхание и хрип прошлого, а не переход к другому мгновению. Я создаю мертвое время, погрязая в удушье надвигающегося будущего. 123 Эмиль-Мишель Чоран Другие ниспадают во время; я же выпал из времени, Ту вечность, которая возвышалась над временем, сменяет другая, которая размещается внизу, в бесплодной зоне, попав в которую испытываешь лишь одно желание — снова вернуться во время, подняться в него любой ценой, овладеть хотя бы малой его частицей, чтобы расположиться в ней и поверить в иллюзию, будто ты у себя дома. Но время заперто, но время — вне досягаемости; и именно из невозможности в него проникнуть и соткана эта негативная вечность, эта дурная вечность. Время ушло из моей крови; они поддерживали друг друга и текли вместе; теперь, когда они застыли, стоит ли удивляться, что становления больше нет? Если они вновь обретут движение, они одни смогут восстановить меня среди живых, разобрав завалы этой «дурной вечности», в которой я прозябаю. Но они не хотят и не могут этого сделать. Их судьба, должно быть, уже свершилась: они больше не будут двигаться, они превратились в лед. Ни одно живое мгновение не в состоянии просочиться в мои жилы. Моя кровь застыла на века. Все, что дышит, все, что сияет красками бытия, — все исчезает в незапамятном. Неужели когда-то я отведал сок вещей? Каким он был на вкус? Теперь он мне недоступен и кажется безвкусным. Пресыщение через отсутствие. Хоть я и не чувствую времени, хоть я и удален от него более, чем кто бы то ни было, зато я хорошо его знаю, я непрестанно наблюдаю за ним: оно находится в центре моего сознания. С трудом верится, что о нем столько, сколько я, думал и размышлял даже тот, кто его создал. Бог, если это именно он сотворил время, не мог знать его глубин, потому что в его привычки не входит делать из этого предмет долгих размышлений. А вот что касается меня, то я глубоко убежден, что выпал из времени с одной лишь целью — сделать из него основную тему моих 124 Выпасть из времени навязчивых мыслей. Однако, по правде говоря, я растворяюсь в тоске, которую оно мне внушает. Если предположить, что я некогда жил в нем, каким же оно было и как мне представить его природу? Эпоха, когда я был с ним на «ты», теперь мне чужда, она ушла из моей памяти, перестала быть частью моей жизни. Я даже думаю, что мне было бы проще утвердиться в подлинной вечности, чем вновь вписаться во время. Жалость вызывает тот, кто был во Времени и никогда больше не сможет в него вернуться! (Утрата, которой нет названия: как я мог наслаждаться временем, если всегда видел мое спасение вне его, поскольку всегда жил с убеждением, что оно уже исчерпало свои последние ресурсы и что, разъедаемое изнутри, в самой сути своей оно лишено протяженности?) Сидя на краю мгновений, дабы созерцать их ход, мы различаем только их последовательность, не вникая в суть; УГО время, потерявшее свою субстанцию, время абстрактное — разновидность пустоты. От абстракции к абстракции, оно по нашей же вине сжимается и превращается во временность, в собственную тень. Нам теперь надлежит придать ему новую жизнь и занять по отношению к нему четкую, недвусмысленную позицию. Но как этого достичь, если оно внушает непримиримые чувства, вызывая пароксизм отвращения и вместе с тем влечения? Эта двойственность времени ощущается всеми, для кого оно — главная забота и кто, повернувшись спиной к тому, что есть в нем положительного, интересуется лишь его сомнительными сторонами, неразберихой, образовавшейся в нем между бытием и небытием, бесцеремонностью и переменчивостью времени, его подозрительными очевидно стями, его двойной игрой, его глубочайшей неискренностью. Пустой номер в масштабе метафизики. Чем больше изучаешь время, тем сильнее оно напоминает не125 Эмиль-Мишель Чоран кое лицо, которое постоянно находится под подозрением и которое хотелось бы разоблачить. И в конце концов начинаешь испытывать к нему неодолимую тягу и уважение. А отсюда всего один шаг до обожествления и раболепства. Я слишком желал время, чтобы не исказить его природы, я изолировал его от мира и сделал из него реальность, не зависимую ни от какой иной реальности, одинокую вселенную, суррогат абсолюта; это была оригинальная операция, которая отделила время от всего, что оно предполагает и влечет за собой, это было превращением простого статиста в главного героя, произвольное и неизбежное. Я не могу отрицать, что ему удалось затуманить мое сознание. Но, как бы то ни было, оно не могло предугадать, что в один прекрасный день я перейду от покорности к ясному пониманию его сути, со всеми вытекающими отсюда и не лишенными для него опасности последствиями. Так уж сложилось, что время не выдерживает настойчивости, с которой ум пытает его. Тогда плотность его прореживается, структура расшатывается, и для анализа остаются лишь жалкие лохмотья. Дело в том, что оно создано не для того, чтобы его познавали, а для того, чтобы в нем жили; разглядывать его, копаться в нем — значит принижать его, превращать в объект. Кто усердствует в этом, приходит к тому, что начинает так же препарировать и собственное «я». Поскольку любая форма анализа является не чем иным, как профанацией, заниматься им неприлично. По мере того как мы погружаемся в свои тайны, чтобы расшевелить их, мы переходим от смущения к беспокойству, от беспокойства к ужасу. Познание самого себя всегда обходится слишком дорого. Как, впрочем, и познание вообще. Когда человек доберется до глубин, ему не захочется жить. В объясненном мире ничто 126 Выпасть из времени не может иметь смысла, кроме безумия. Предмет, который досконально осмотрели, лишается своей ценности. Разве не так же бывает, когда мы проникаем в суть человека? После этого ему лучше исчезнуть. Не столько ради того, чтобы защитить себя, сколько из целомудрия, из желания скрыть свою ирреальность все люди носят маски. Срывать эти маски — значит губить и людей, и себя. Решительно, слишком долгое пребывание под Древом Познания ни к чему хорошему не приводит. Есть нечто святое в каждом живом существе, которое не знает, что живет; в любой форме жизни, не затронутой сознанием. Тот, кто никогда не завидовал растительной жизни, не в состоянии понять трагедию человеческого существования. Если чересчур настойчиво проклинать время, оно не замедлит отомстить: оно заставляет меня принять позу просителя и вынуждает сожалеть об этом. Как я мог помыслить о нем, как об аде? Ад — это настоящее, остающееся недвижным, это напряжение монотонности, опрокинутая вечность, которая никуда не ведет, даже к смерти, в отличие от времени, которое течет, развертывается, одаривает хотя бы утешением ожидания, пусть даже печального. Но чего ждать здесь, в самой нижней точке падения, откуда дальше некуда падать и где нет даже надежды, что внизу разверзлась еще одна пропасть. И чего еще ждать от страданий, которые подстерегают нас, не дают о себе забыть и внушают ощущение, будто лишь они одни и существуют, что в принципе так и есть? Если еще можно все начать сначала, прямо с ярости, этого рывка к жизни, этой возможности явления света, то все обстоит иначе, если начинать с этой вневременной опустошенности, с этого постепенного самоуничтожения, этого погружения в бесконечные, деморализующие и безысходные са127 Эмиль-Мишель Чоран моповторы, из которых выбраться можно было бы как раз лишь с помощью все той же ярости. Когда бесконечное настоящее перестает быть временем Бога, чтобы стать временем Дьявола, все портится, становится бесконечным повторением непереносимого, все устремляется в эту пропасть, в которой тщетно ждешь развязку и в которой гниешь в бессмертии. Тот, кто падает туда, вертится как только может, бессмысленно дергается и ничего не создает. Именно так любая форма бесплодия и бессилия превращается в частицу ада. Нельзя считать себя свободным, когда постоянно оказываешься вместе с самим собой, перед собой, перед одним и тем же. Эта тождественность — одновременно рок и наваждение — приковывает нас к нашим изъянам, тянет назад и выбрасывает за пределы нового, за пределы времени. А когда оказываешься за его пределами, начинаешь вспоминать о будущем и обнаруживаешь, что спешить тебе больше некуда. Хотя мы совершенно точно знаем, что несвободны, есть некоторые истины, которые бывает трудно принять. Как действовать, зная, что все твои движения предопределены, как испытывать желания, будучи машиной? К счастью, в наших поступках есть зона неопределенности, но только в поступках: я могу медлить с выполнением того или иного действия, но я не могу быть не таким, каков я есть. Если на поверхности у меня есть пространство для маневра, то там, в глубине, все решено навсегда. В свободе реален лишь мираж; без него жизнь была бы неосуществима, даже немыслима. Что побуждает нас считать себя свободными, так это осознание необходимости в целом и пут, которые сковывают нас, в частности. Сознание предполагает отстраненность, а любая отстраненность порождает чувство автономии и превосходства, которое, само собой разумеется, имеет лишь субъективную ценность, Ка128 Выпасть из времени ким образом осознание смерти смягчает представление о ней и как отдаляет ее приход? Знать, что ты смертен, означает умереть как минимум дважды, нет, означает умирать всякий раз при мысли, что ты должен умереть. Самое прекрасное в свободе то, что к ней привязываешься тем сильнее, чем больше она кажется невозможной. Но еще прекраснее то, что ее можно просто отрицать и что именно это отрицание легло в основание не одной религии и не одной цивилизации. Мы не устаем восхищаться античностью за то, что в ту эпоху люди считали, что судьба человека предопределена звездами и что в счастье и несчастье нет не только ничего произвольного, но даже игры случая. Не сумев противопоставить столь благородному «заблуждению» ничего, кроме «законов наследственности», наша наука навсегда дисквалифицировала себя. У каждого из нас была бы своя «звезда»; теперь же оказалось, что мы — рабы постылой химии. А это — полная деградация идеи судьбы. Нельзя исключить того, что в один прекрасный день какой-нибудь индивидуальный кризис станет всеобщим и будет иметь в таком случае не психологическое, а скорее историческое значение. Речь идет не о простой гипотезе; существуют знаки, которые следует уметь читать. Неузнаваемо исковеркав настоящую вечности, человек выпал во время, в котором ему удается если не процветать, то по крайней мере жить; и совершенно очевидно, что он свыкся с этим. Этот процесс выпадения и приспособления и называется Историей. Но вот ему угрожает еще одно падение, последствия которого пока трудно себе представить. На сей раз речь идет о том, чтобы выпасть не из вечности, а из времени: а выпасть из него — значит выпасть из истории, зависнуть где-то, погрузиться в угрюмую инертность, в полную стагнацию, где даже слова вязнут и не могут поднять- 5 - 6054 129 Эмиль-Мишель Чоран ся до проклятий или мольбы. Трудно сказать, как скоро его следует ожидать, но падение это вполне возможно, а то и неизбежно. Когда оно произойдет, человек перестанет быть историческим животным. И тогда, потеряв даже воспоминание о подлинной вечности, о своем первом счастье, он обратит свой взгляд к иному, к временной вселенной, этому второму раю, из которого он тоже окажется изгнанным. До тех пор, пока мы остаемся внутри времени, мы окружены себе подобными, с которыми готовы соперничать; однако едва мы выпадаем из него, как все, что они делают, и все. что могут о нас подумать, уже не имеет никакого значения, потому что мы оказываемся настолько отчужденными от них и от самих себя, что творить что-либо или хотя бы помышлять об этом нам кажется делом праздным и излишним. Бесчувственность по отношению к собственной судьбе — неотъемлемая черта того, кто выпал из времени и кто, по мере того как это состояние обостряется, становится неспособным как-либо проявлять себя и даже просто желать оставить что-то после. Следует признать, что время является нашей жизненной стихией; лишившись его, мы оказываемся без поддержки в полной ирреальности или кромешном аду. Или там и там одновременно, в неутолимой тоске по времени, с ощущением невозможности вернуться в него и вновь обустроиться в нем, с чувством неудовлетворенности при виде того, как оно протекает там, наверху, над нашими горестями и бедами. Потерять сразу и вечность, и время! Тягостно непрестанно думать об этой двойной утрате. Но это нормальное состояние, как бы официальное мироощущение человечества, выброшенного, наконец, из истории. Человек восстает против богов и отрицает их, допуская их существование лишь в виде призраков; когда же 13О Выпасть из времени он будет вышвырнут из недр времени, он до такой степени окажется далек от них, что не сохранит о них даже воспоминаний. И в наказание за свое забытье узнает, что такое полное поражение. Тот, кто хочет стать чем-то большим, непременно станет меньшим. Душевную неуравновешенность, вызванную перенапряжением, сменит рано или поздно душевная неуравновешенность расслабления и нежелания и дальше напрягаться. Установив равновесие, следует идти дальше и признать, что в падении есть некая тайна. Павший не имеет ничего общего с неудачником; скорее, он напоминает человека, получившего какой-то сверхъестественный удар, как если бы некая губительная сила ожесточилась против него и лишила его способностей. Зрелище падения посильнее зрелища смерти; умирают все существа, но только человек призван пасть. Он — искусственный нарост на жизни (как, впрочем, сама жизнь — па материи). Чем больше человек отдаляется от нее, либо возвышаясь, либо падая, тем ближе он к своему концу. И независимо от того, преображает он себя или уродует, он сбивается с пути. Нужно еще добавить, что не сбиться с пути он просто не мог, не изменив своей судьбе. Хотеть означает постоянно держать себя в состоянии лихорадочного возбуждения. Всякое усилие утомляет, и нельзя сказать, что человек может долго выдерживать его. Полагать, что ему удастся сменить свой удел на удел сверхчеловека, — значит забыть, как трудно просто быть человеком, забыть, что это дается лишь максимальным напряжением воли и сил. Между тем воля, в которой присутствует какой-то подозрительный и пагубный принцип, оборачивается против тех, кто хочет слишком многого. Хотеть противоестественно или, точнее говоря, хотеть нужно ровно столько, сколько необходимо, чтобы жить, а когда человек хочет чего-то большего, рано или поздно у 131 Эмиль-Мишель Чоран него все разлаживается и он терпит крах. Если отсутствие желаний — болезнь, то и само желание тоже болезнь, еще худшая; именно из-за нее и ее рецидивов — чаще, чем из-за отсутствия желаний, — происходят все несчастья. Но если даже в том положении, в котором человек находится, он хочет слишком многого, то что было бы с ним, стань он сверхчеловеком? Несомненно, он сломался бы и рухнул. И тогда, сделав гигантский крюк, вынужден был бы выпасть из времени, то есть пробраться в вечность снизу, прибыть на назначенную ему конечную остановку, так что в результате не имеет значения, попадет он туда от истощения сил или в результате катастрофы. Рено Генон] Из книги «Кризис современного мира» Индивидуализм Под индивидуализмом мы понимаем отрицание всякого принципа, превышающего уровень человеческой индивидуальности, а также логически вытекающее из этого сведение всех компонентов цивилизации к чисто человеческим элементам. В сущности, индивидуализм тождественен тому, что в эпоху Возрождения получило название «гуманизма». Индивидуализм является также одной из характернейших черт того, что [можно назвать] «профа-ническим мировоззрением» («профанической точкой зрения»). Можно сказать, что «индивидуализм», «гуманизм» и «профанизм» — это разные наименования одного и того же феномена, что «профаническое мировоззрение» есть, в сущности, мировоззрение анти-традиционное, и что именно это мировоззрение лежит в основе всех специфически современных тенденций. Однако подчеркивание сугубой «современности», «модернистичности» этих тенденций отнюдь не означает, что они не имели ранее никаких прецедентов. Отдельные черты «современного мировоззрения» частично проявлялись и в другие периоды истории. Однако тогда они представляли собой лишь немногочисленные эпизоды, лежащие к тому же вне основной линии развития цивилизации, не говоря уже о том, что им ни1 Генон Рене (1886—1951) — французский философ, признанный спе- циалист эзотерических учений и поклонник восточного мировоззрения. Основная тема работ Генона — «традиционная цивилизация», которую он противопоставлял утратившему ценности западному миру. 133 Рено Геном когда не удавалось полностью перевернуть и подчинить себе традиционную структуру цивилизации в целом, как это произошло на современном Западе. Специфически современным и беспрецедентным является возведение целой цивилизации на чисто негативных основаниях, на абсолютном отсутствии высшего Принципа. Именно эта все-общесть отрицания придает современному миру совер- \ шенно ненормальный характер, делает его воистину чудовищным и понятным только в свете тех соображений относительно конца определенного циклического периода, которые мы привели в начале этого труда. Определяемый таким образом индивидуализм можно рассматривать как главную причину настоящего упадка Запада, поскольку он тождествен развитию исключительно низших возможностей человечества, возможностей, не требующих для своей актуализации никакого вмешательства сверхчеловеческого элемента и, более того, способных свободно реализоваться лишь при полном отсутствии такого сверхчеловеческого элемента, так как эти низшие возможности суть полная противоположность всякой духовности и всякому подлинному интеллекту. В первую очередь, индивидуализм предполагает полное отрицание интеллектуальной интуиции, так как она является однозначно сверхиндивидуальным качеством, а также отрицание метафизического знания (в подлинном смысле этого слова), образующего сферу, к которой эта интуиция обращена. Следует заметить, что все то, в отношении чего современные философы используют термины «метафизика» и «метафизический» (разумеется, если подобные термины еще вообще используются), не имеет к истинной метафизике ни малейшего отношения и чаще всего представляет собой совокупность рассудочных структур или чисто имагинативных гипотез, то есть исключительно индивидуальных концепций, кроме того, 134 ]/\з книги "Кризис современного мира" как правило, относящихся к области «физики» или, иными словами, природы. Даже в тех случаях, когда поставленный вопрос может действительно иметь отношение к истинам метафизического порядка, сам способ его постановки и решения сводит проблему к псевдометафизике, закрывая тем самым возможность получения полноценного и адекватного результата. Кроме того, иногда складывается впечатление, что философы намного больше заинтересованы в постановке проблем, пусть даже совершенно искусственных и иллюзорных, нежели в их разрешении; и это один из примеров смутной любви современных людей к исследованию ради исследования, то есть к предельно и заведомо тщетной активности, к бессмысленному ажиотажу на всех душевных и физических планах. Следует также обратить внимание на стремление философов любой ценой дать свое имя какой-нибудь «системе», то есть узко снраниченной и строго определенной совокупности взглядов, являющихся исключительно порождением их собственного разума. Отсюда возникает стремление быть оригинальным во что бы то ни стало, даже если для этого пришлось бы пожертвовать истиной. Имя философа становится популярным по мере того, как он придумывает новую ложь, а не по мере того, как он повторяет старую уже высказанную другими истину. Эта же форма индивидуализма, порождающая множество противоборствующих «систем» (противопоставленных друг другу даже ь том случае, если в рациональном содержании обоих объективно не содержится никаких противоречий), встречается также среди современных ученых и деятелей искусства. Однако именно в философии порожденная индивидуализмом интеллектуальная анархия наиболее очевидна и показательна. В традиционной цивилизации почти невозможна ситуация, в которой человек приписывал бы ту или иную 135 Рено Геном идею исключительно самому себе. А если бы все же кому-нибудь пришло в голову совершить нечто подобное, его авторитет тут же упал бы, и доверие к нему было бы полностью подорвано, при том, что сама подобная идея была бы расценена как бессмысленная фантазия. Если идея истинна, она принадлежит всем, кто способен ее постичь. Если она ложна, то ее изобретение не может представлять никакой ценности, и вера в нее не будет иметь никакого смысла. Истинная идея не может быть «новой», так как истина не является продуктом человеческого разума. Она существует независимо от нас, и все, что мы должны сделать — это постараться понять ее. Вне такого познания существуют лишь ошибки и заблуждения. Но разве современные люди хотя бы в малейшей степени озабочены истиной? Разве у них осталось еще хотя бы какое-то представление о том, что она собой представляет? В данном случае, как и во многих других, слова окончательно потеряли всякий смысл, и некоторые современные прагматисты доходят до того, что применяют понятие «истина» ко всему тому, что может быть практически полезным, то есть к тому, что лежит совершенно за пределом интеллектуальной сферы. Впрочем, отрицание истины, равно как и интеллекта, объектом которого является истина, есть закономерное и логическое следствие современного извращения. Но не будем пока делать дальнейших логических выводов; заметим лишь, что именно вышеупомянутый индивидуализм является главным источником особой, хотя и совершенно иллюзорной, значимости так называемых «великих людей». На самом деле свойство «гениальности» в профаническом смысле этого слова есть категория довольно малозначительная и далеко не достаточная, и это свойство никак не может восполнить собой недостаток подлинного знания. 136 Из книги "Кризис современного мира" Раз уж мы заговорили о философии, продемонстрируем несколько ярких примеров индивидуализма проявления в индивидуализма философии более всего в этой области. характерно Для отрицание интеллектуальной интуиции и логически вытекающее из него утверждение превосходства рассудка надо всем остальным. Рассудок — это чисто человеческое и относительное качество — рассматривается при этом как высшее проявление интеллекта, а порой и вообще отождествляется с самим интеллектом. В этом заключается основной принцип рационализма, подлинным изобретателем которого был Декарт. Но подобное ограничение интеллекта сферой рассудка — это лишь первый шаг. Сам рассудок постепенно стал рассматриваться в его сугубо практической функции, а утилитарные и прикладные стороны стали постепенно брать верх над тем, что еще сохраняло некоторый умозрительный характер. Да и сам Декарт был уже скорее озабочен прикладными возможностями и практическими выводами, нежели чистой наукой. Более того, индивидуализм всегда с неизбежностью приводит к натурализму, так как все превосходящее природу логически лежит вне досягаемости индивидуума как такового. В сущности, натурализм и отрицание метафизики — это одно и то же. Там, где не признается интеллектуальная интуиция, не может быть никакой метафизики. И если некоторые авторы тщетно настаивают на изобретении некоей «псевдометафизики», то другие, более откровенные, утверждают ее принципиальную невозможность и однозначно становятся на позиции релятивизма в любых его формах — от «критицизма» Канта до позитивизма Огюста Конта. Поскольку рассудок является чем-то относительным и применимым лишь в столь же относительной области, логичным и понятным оказывается то, что естественным результатом рационализ137 Рено Геном ма становятся «относительность», релятивизм. Но таким образом рационализм сам по себе логически приходит к самоуничтожению. Дело в том, что «природа» и «становление» — это синонимы. Последовательный «натурализм» может являться только «философией становления», специфически современной формой которой служит эволюционизм. Но именно такой подход приводит, в конце концов, к отрицанию рационализма, к вскрытию его неадекватности, коль скоро он, с одной стороны, способен разбирать лишь явления, находящиеся в постоянном изменении, в постоянной эволюции, а, с другой, не в состоянии покрыть неопределенно большую и сложную область чувственных объектов. Именно эти доводы приводят при критике рационализма некоторые эволюционистские учения, в частности, интуиционизм Бергсона, хотя они и остаются столь же индивидуалистическими и анти-метафи-зическими, как и сам рационализм. Более того, именно за счет критики рационализма интуиционизм пошел еще дальше по пути извращения мышления, обращаясь к такому «недоразумному», инфра-рациональному качеству, как смутная и неопределенная чувственная интуиция, более или менее смешанная с воображением, то есть, в конечном счете, к смеси инстинкта с сентиментом. Показательно, что в интуиционизме об «истине» уже не идет и речи. Вопрос ставится только о «реальности», причем сведенной исключительно к ее низшему чувственному уровню и понимаемой как нечто, находящееся в перманентном движении и сущностно непостоянное. В подобных теориях вся сфера интеллекта низведена до его нижайшего пласта, вплоть до того, что даже рассудок (рацио) либо вообще исключается, либо допускается как средство, необходимое для обработки материи в промышленных целях. После всего этого до логического конца остается сделать 138 Из книги "Кризис современного мира" только один шаг — полное и абсолютное отрицание интеллекта и знания как таковых и однозначная замена критерия «истинности» критерием «полезности». Этот шаг делают представители «прагматизма», о которых мы уже упоминали. И здесь мы сталкиваемся уже не просто с чисто человеческой сферой, как в случае с рационализмом; в силу обращения к «под-сознательному», знаменующему собой последнюю стадию переворачивания с ног на голову всей нормальной иерархии вещей, мы прямо вступаем в сферу «под-человеческого», «недо-человеческого» в самом прямом смысле этого слова. Вот в общих чертах тот путь, который «профаническая» философия, предоставленная самой себе и претендующая на ограничение всей области знания своими узкими горизонтами, с логической необходимостью вынуждена проделать, и мы видим, что именно это и происходит в настоящее время. Если бы наряду с чисто человеческой философией существовало знание более высокого- порядка, такого ограничения всей сферы знаний узко индивидуалистическими рамками не произошло бы, поскольку в таком случае философия вынуждена была бы, по меньшей мере, уважать то, что она не в силах постичь, но реальность чего она не в состоянии опровергнуть. Но когда это высшее знание исчезает, отрицание такого знания постфактум возводится в теорию, становясь отрицательным фундаментом мировоззрения. Именно это и произошло с современной западной философией, которая целиком и полностью основывается на подобном отрицании. Однако мы слишком задержались на рассмотрении философии, которой отнюдь не следует уделять столь большого внимания, каковыми бы ни были убеждения большинства наших современников на этот счет. С нашей точки зрения, философия интересна лишь потому, что она с 139 Рено Генон максимальной ясностью отражает основополагающие тенденции, характерные для того или иного циклического периода, а отнюдь не потому, что она эти тенденции порождает. Если же это подчас и происходит, и философия на самом деле направляет цивилизационные тенденции в ту или иную сторону, ее роль, тем не менее, всегда вторична и лишь отражает то, что уже сформировалось по совершенно иным законам — по законам иного бытийного уровня. Несмотря на тот очевидный факт, что вся современная философия проистекает из Декарта, его влияние на умонастроение своей эпохи, а позднее и на последующие поколения — причем это влияние распространялось не только на одних лишь чистых философов — не смогло бы стать столь решающим и всеобщим, если бы его концепции с предельной точностью не соответствовали тем тенденциям, которые преобладали среди его современников в целом и которые были унаследованы позднее мыслителями других веков Нового времени. В картезианстве1 в максимальной степени отразилось специфически современное мировоззрение, и именно через картезианство оно приобрело более ясное, чем прежде, самосознание. Кроме того, если разительные изменения, подобные тем, которые произошли параллельно утверждению картезианства в области философии, обнаруживаются в других областях, как правило, они являются скорее результатами, а отнюдь не начальными точками. Они далеко не так спонтанны, как это иногда кажется, и им предшествуют огромные, хотя и не выходящие на поверхность усилия. Если такой человек, как Декарт, особенно показателен как ярчайший носитель современного извращения, вплоть до того, что, с 1 Картезианство — философская система Декарта. Название ее про- исходит от латинизированного написания имени Декарта («Картезий»). — Примеч. ред. 14О Из книги "Кризис современного мира" определенной точки зрения, его можно назвать интеллектуальным воплощением этого извращения, его персонификацией, то это все же не означает, что именно он является его истинным творцом или основоположником. Для того чтобы добраться до истинных истоков этого извращения, этой общей анти-традиционной тенденции, мы должны углубиться в гораздо более ранние периоды истории. Точно так же можно сказать, что Возрождение и Реформация, которые принято считать первыми крупными проявлениями сугубо современного мировоззрения, не столько положили начало разрыву с истинной Традицией, сколько довершили этот разрыв. С нашей точки зрения, начало этого разрыва следует искать в XIV веке, и именно это время, а не события нескольких последующих столетий, следует принять за подлинное начало «современной эпохи». Тема разрыва с Традицией нуждается в дальнейшем развитии, так как именно такому разрыву обязан своим существованием сугубо современный мир, и можно сказать, что все характеристики этого мира могут быть сведены к одной — абсолютной противоположности традиционному мировоззрению. Но отрицание традиции и индивидуализм — это одно и то же. В сущности, это вполне согласуется с тем, что мы высказали выше, так как именно интеллектуальная интуиция и метафизическая доктрина связывают всякую традиционную цивилизацию с ее Принципом. Коль скоро этот Принцип отрицается, отрицаются, пусть и неявно, все его следствия, и поэтому логически уничтожается все, что по праву могло бы заслуживать имени «традиция». Мы видели, как этот процесс происходил в области наук. Не будем возвращаться к этой теме и перейдем к другой области, в которой проявления анти-традиционного мировоззрения бросаются в глаза еще в большей степени, так как трансформации, вы141 Рено Генон званные этими проявлениями, затронули огромные массы обитателей Запада. Во времена Средневековья традиционные науки были достоянием немногочисленной элиты, а некоторые из этих наук, представляя собой эзотеризм в самом полном смысле этого слова, являлись монополией строго закрытых школ. Но существовала также и внешняя часть традиции, доступная всем и каждому. Об этой внешней части мы и хотели бы поговорить. В эту эпоху традиция на Западе внешне проявлялась в исключительно религиозной форме, в форме католицизма. Поэтому именно религия в первую очередь была затронута революцией против традиционного мировоззрения. Эта революция приняла вполне определенную форму — форму протестантизма. Нетрудно заметить, что протестантизм с очевидностью был проявлением именно индивидуализма, а точнее, индивидуализма в области религии. Протестантизм, как и весь современный мир, основывается на чистом отрицании, на том же самом отрицании Принципа, что и сущностный индивидуализм. И именно в протестантизме мы видим один из ярчайших примеров того состояния анархии и разложения, которые с необходимостью проистекают из всякого отрицания. Индивидуализм подразумевает отказ от всякого авторитета, превышающего границы индивидуальности, а также отказ от любого знания, превосходящего уровень индивидуального рассудка. Оба этих элемента на самом деле неотделимы друг от друга. Следовательно, современное мировоззрение логически должно отвергать всякий духовный авторитет, относящийся к сверхчеловеческому уровню, а также всякую истинно традиционную организацию, по самой своей природе всегда основывающуюся именно на духовном авторитете, независимо от его конкретной формы, которая естественно варьируется в зависимости 142 Из книги "Кризис современного мира" от той или иной традиционной цивилизации. Именно это и произошло в случае с протестантизмом. Протестантизм открыто отрицает авторитет той организации, которая ответственна за законную интерпретацию религиозной традиции на Западе, а на ее месте стремится утвердить «свободный критицизм», то есть интерпретацию, полученную на основании частного суждения нередко даже самой невежественной и некомпетентной личности, и основывающуюся, кроме всего прочего, на заключениях сугубо человеческого рассудка. В этом случае в области религии случилось нечто подобное тому, что произошло в философии после утверждения в ней рационализма. Дверь отныне была открыта для всяких дискуссий, разнотолков и противоречий. И отсюда вполне закономерный результат: возникновение постоянно растущего количества сект, каждая из которых представляет собой не более чем частное мнение тех или иных отдельно взятых индивидуумов. Так как в подобных условиях невозможно было прийти к соглашению относительно основной доктрины, она была отставлена в сторону, и второстепенный аспект религии, то есть мораль, вышел на передний план. Отсюда вырождение до уровня морализма, который столь ощутим в современном протестантизме. Таким образом, мы и здесь имеем дело с феноменом, во многом параллельным положению дел в современней философии — с распадом доктрины и потерей религией ее интеллектуальных элементов. От рационализма религия неизбежно должна была опуститься и до сентиментализма, шокирующий пример которого мы видим в англосаксонских странах. То, что осталось в результате всех этих извращений, уже нельзя более назвать религией даже в самой искаженной и ухудшенной форме. Это простая «религиозность», то есть смут143 Рено Геном ное и неосмысленное душевное влечение, не основанное ни на каком подлинном знании. Этой предельной точке религиозного вырождения соответствует «религиозный опыт» Уильяма Джеймса1, который доходит до того, что видит в человеческом подсознании средство для вхождения в прямой контакт с божественным миром. На этой стадии финальные продукты религиозного и философского извращения перемешиваются друг с другом, и «религиозный опыт» легко сливается с прагматизмом, во имя которого «ограниченный преимуществами по бог» сравнению признается с наделенным бесконечным богом, большими поскольку «ограниченного бога» можно любить так же чувственно, как возвышенного человека. Одновременно с этим обращение к подсознательному прекрасно сочетается с современным спиритуализмом и псевдорелигиями. Иное направление в развитии протестантизма — протестантский морализм — привело к тому, что, постепенно уничтожив весь доктринальный фундамент, этот морализм превратился з так называемую «светскую мораль», находящую своих приверженцев как во всех разновидностях «либерального протестантизма», так и среди открытых врагов религиозной идеи. В сущности, и те и другие движимы одними и теми же тенденциями, с той лишь разни1 Джеймс Уильям (1842—1910) — американский философ и психолог. Создал учение, которое назвал «радикальным эмпиризмом». Согласно этому учению, имеется только одно первичное вещество или материал, из которого состоит все в мире. Это вещество — «чистый опыт». Познание — частный вид отношений между двумя порциями «чистого опыта». Отношение между субъектом и объектом есть производное от «чистого опыта», который не имеет внутренней двойственности. Данная неделимая порция опыта может быть в одних условиях познающим субъектом, в других — чем-то познаваемым. Свою теорию Джеймс распространял и на религиозные воззрения. По его мнению, вполне можно верить, на основании факта религиозного опыта, «что существуют высшие силы, занятые тем, чтобы спасти мир в смысле наших собственных идеалов». — Примеч. ред. 144 Из книги "Кризис современного мира" цей, что одни заходят дальше других в логическом развитии содержания, лежащего в основании всех этих тенденций. Являясь сущностно формой традиции, религия не может не находиться в оппозиции к антитрадиционному мировоззрению, а это антитрадиционное мировоззрение не может, в свою очередь, не быть антирелигиозным. Антитрадиционализм начинает с искажения религии, но всегда заканчивает ее полным уничтожением. Протестантизм в своей основе нелогичен: стремясь любой ценой «очеловечить» религию, он, тем не менее (по крайней мере, теоретически), признает откровение как сверхчеловеческий элемент. Он не осмеливается довести отрицание до его логического конца, но, превращая откровение в объект многочисленных дискуссий, всецело основывающихся на чисто человеческих толкованиях, практически сводит это откровение и его ценность на «нет». Наблюдая людей, настаивающих на том, чтобы считаться христианами, но при этом полностью отрицающих божественность Христа, трудно поверить в их искренность, так как подобная позиция куда ближе к чистому отрицанию Христа и христианства, нежели к какому бы то ни было христианству, что бы при этом ни утверждали сами подобные «христиане». Однако такие противоречия не должны нас удивлять, так как они являются столь же показательным симптомом беспорядка и анархии нашего времени, как и постоянное деление протестантизма на множество сект. Это одно из характерных проявлений прогрессирующей дробности, которая, как мы показали, составляет саму основу современной жизни и современной науки. Кроме того, естественно, что именно протестантизм за счет оживляющего его духа отрицания породил тот разрушительный «критицизм», ко145 Рено Геном торый в руках так называемых «историков религии» превратился в оружие, направленное против религии как таковой, вплоть до того, что протестантистское движение, претендующее на признание единственного авторитета — авторитета Святой Библии, — на самом деле весьма поспособствовало разрушению и этого авторитета, то есть того последнего минимума традиции, который остался в распоряжении протестантов. Здесь нам могут возразить: даже несмотря на то, что протестантизм порвал с католической организацией, разве он не сохранил, в силу признания им авторитета Библии, традиционных доктрин, содержащихся в христианстве? Однако введение тезиса о «свободном критицизме» опровергает это допущение, так как оно открывает возможность для любых индивидуалистических фантазий. Кроме того, сохранность доктрины предполагает организованное традиционное обучение, которое поддерживало бы необходимую традиционную и ортодоксальную интерпретацию, но в западном мире такая система обучения целиком отождествлена с католицизмом. Без сомнения, в других цивилизациях соответствующие функции могут выполняться совершенно отличными по форме организациями, но здесь мы говорим о западной цивилизации и о специфических условиях, характерных только для нее одной. Было бы бессмысленно сожалеть, что в Индии не существует ничего подобного институту папства. Это совершенно иной случай, во-первых, потому, что традиция в Индии приняла полностью отличную от религии Запада форму, а значит, и средства ее передачи с необходимостью должны отличаться от западных. А во-вторых, за счет существенного отличия индуистского мышления от мышления европейского, традиция Индии обладает гораздо более значительной внутренней силой, намного превосходящей 146 Из книги "Кризис современного мира" возможности западной традиции, которая не может обойтись без строгой и однозначно определенной на внешнем уровне организации с жесткой структурой. Западная традиция, начиная с распространения на Западе христианства, проявляется исключительно в форме религии. Здесь мы не можем более подробно остановиться на объяснении причин подобного положения дел, что, кроме всего прочего, потребовало бы изложения довольно сложных концепций, необходимых для того, чтобы этот тезис был бы адекватно и всесторонне понят. Тем не менее это является фактом, отрицать который невозможно. Коль скоро мы признаем этот факт, мы логически будем вынуждены признать все вытекающие из него следствия, и в частности, необходимость организации, соответствующей именно такой сугубо западной традиционной форме. Совершенно очевидно, и мы показали это выше, что только в католицизме могли сохраниться остатки традиционного духа Запада. Но означает ли это, что католицизм сохранил всю полноту традиции и остался совершенно незатронутым современным духом? Строго говоря, следует признать, что внешняя оболочка традиции сохранилось в целостности, и это само по себе уже очень много. Но, увы, весьма сомнительным представляется то, что глубочайший смысл этой традиции ясно осознается хотя бы самой незначительной в количественном отношении элитой. Если бы это было так, само существование такой духовной элиты обязательно проявилось бы в действии или, точнее, в определенном влиянии, но следов этого, к сожалению, сегодня нигде не обнаруживается. Скорее всего, можно говорить о сохранении традиции в латентном состоянии, то есть в таком, когда остается возможность открыть ее истинный смысл для тех, кто 147 Рено Ген он способен сделать это, даже если в настоящее время никто и не осознает в полной мере всей полноты этого смысла. Кроме того, и вне религиозной области в западном мире повсюду рассеяны знаки и символы древних традиционных доктрин, которые сохранились, несмотря на то, что их понимание полностью утрачено. В подобных случаях для того, чтобы разбудить то, что уснуло, и восстановить потерянное понимание, необходим контакт с живым традиционным духом. И здесь снова следует повторить, что для этой цели, для того, чтобы восстановить знание о своей собственной традиции, Западу обязательно потребуется помощь традиционного Востока. То, о чем здесь идет речь, относится к возможностям, сохраняющимся в латентном, но постоянном и неизменном виде в католицизме. Таким образом, в отношении католицизма влияние современного мировоззрения может лишь помешать и оттянуть — лишь на определенный срок — полное и подлинное понимание католиками некоторых важнейших традиционных истин. Однако можно заметить и более серьезное и глубокое влияние современного мировоззрения на актуальное положение дел в католичестве, если, конечно, вообще можно употребить слова «серьезное» и «глубокое» в отношении того, что является в своей сущности целиком и полностью негативным, пародийным и поверхностным. Здесь мы имеем в виду не столько более или менее строго определенные течения (называемые сегодня «модернизмом»), предпринявшие попытку — к счастью, неудачную — внедрить протестантское мировоззрение в саму католическую Церковь. Мы, скорее, хотим выделить то смутное состояние сознания, которое за счет этой смутности становится еще более опасным, поскольку те, кто затронут этим состоянием, часто даже не подозревают о его подлинной 148 Из книги "Кризис современного мира" природе. В наши дни существует множество людей, считающих себя вполне религиозными, но в действительности не являющихся таковыми. Некоторые даже причисляют себя к «традиционалистам», не имея ни малейшего представления об истинном духе традиции. Все это — еще один симптом интеллектуального хаоса нашей эпохи. То состояние сознания, о котором мы только что упомянули, состоит в бессознательной «минимализации» религии, в отношении к ней как к тому, что должно затрагивать лишь одну определенную сторону человеческого существования, что приемлемо лишь в узко ограниченных конвенциональных рамках. При этом религия ограждается от всех других сторон жизни непреодолимым барьером и не может более оказывать на них хоть сколько-нибудь ощутимого воздействия. Много ли найдется сегодня католиков, чье мышление и поведение в обыденной, повседневной жизни значительно отличались бы от мышления и поведения большинства их неверующих сограждан? Кроме того, у многих верующих нетрудно констатировать полное невежество в отношении доктрин и абсолютное безразличие к ним и всему тому, что к ним относится. Религия для многих современных людей — это всего лишь обряд или обычай, если не сказать простая рутина. Часто такое отношение сопровождается сознательным отказом от всяких попыток как-то разобраться в религии, и подчас это доходит до откровенного утверждения, что религию вообще невозможно понять, или что и понимать в ней нечего. На самом деле, разве реально понимающий религию человек мог бы выделять ей такое незначительное место среди всех остальных повседневных забот? Соответственно, доктрина частично или полностью забывается или сводится практически к нулю, что низводит католическую практику почти до уровня протестантской концеп149 Рено Геном ции. И это вполне логично, так как оба феномена являются продуктами одних и тех же современных тенденций, открыто враждебных всякой интеллектуальности. И особенно печально, что традиционное католическое обучение, которое должно было бы этому активно противостоять, пытаясь изменить это современное состояние сознания, на самом деле с готовностью ему уступает. Все постепенно сводится к вопросам морали, а о доктрине говорится все меньше и меньше, под тем предлогом, что это слишком сложно для понимания. Таким образом, религия превращается в морализм, или, по меньшей мере, никто более не стремится понять, чем же она является на самом деле. Если же подчас предметом обсуждений и дискуссий становится собственно католическая доктрина, это чаще всего лишь наносит ей ущерб, так как диалог с «противниками» ведется, как правило, на их собственной сугубо «профанической» территории, что изначально предполагает ничем не оправданные уступки сторонникам «профа-низма». Поразительна та легкость, с которой защитники религиозной доктрины соглашаются принимать во внимание результаты современного «критицизма», в то время, как, встав на другую, не зависящую от современных предрассудков, точку зрения, нет ничего проще, чем показать полную бессмысленность, несостоятельность и негативность всех этих результатов. Стоит ли удивляться в такой ситуации тому, что мы не видим ни малейших признаков традиционного духа. Да и как в подобных условиях он мог бы сохраниться? Предпринятое нами отступление, касающееся проявлений индивидуализма в религиозной области, является вполне оправданным, так как оно демонстрирует, что зло гораздо глубже и опаснее, чем это может показаться на первый взгляд. Кроме того это отступление, по сути, име15О 1/13 книги "Кризис современного мира" ет отношение к тому же индивидуализму — ведь именно дух индивидуализма повсюду вызывает к жизни разнообразные дискуссии и дебаты. Для наших современников невероятно сложно понять, что существуют вещи, которые по самой своей природе не подлежат обсуждению. Вместо того чтобы попытаться возвысить себя до истины, современный человек претендует на низведение истины до своего собственного уровня. Именно поэтому многие, нисколько не смущаясь, уверены, что, когда им говорят о «традиционных науках» или даже о «чистой метафизике», речь идет всего лишь о «профанической науке» или о «философии». В границах индивидуального мнения дискуссия возможна по любому поводу, так как все остается в рамках рационального, и если не обращаться к высшему принципу, превосходящему уровень рационального, каждая из спорящих сторон всегда может найти более или менее солидные аргументы для защиты своей точки зрения. Часто такая дискуссия может длиться неопределенно долго без того, чтобы прийти к какому-нибудь определенному выводу. Поэтому почти вся современная философия построена на софизмах и безобразно сформулированных высказываниях. Дискуссии отнюдь не проясняют вопрос, как это почему-то принято считать, но, как правило, лишь затемняют и запутывают его еще больше, и чаще всего, в результате дискуссии каждый из участников, стремясь переубедить оппонента, лишь еще более укрепляется в своей собственной точке зрения и как никогда раньше убеждается в своей собственной правоте. Действительным мотивом такой дискуссии служит не желание постичь или выяснить истину, но убедить других в своей собственной правоте, несмотря на возможные нападки, а если это не удается, по меньшей мере, самому почувствовать себя правым вопреки всему Неспособность убедить 151 Рено Геном других вызывает, как правило, лишь чувство сожаления, так как стремление к «прозелитизму» — одна из характерных черт современного западного сознания. Иногда индивидуализм в самом низшем и вульгарнейшем смысле этого слова проявляется еще более наглядным образом: например, в стремлении оценить творчество человека, исходя из того, что известно о его личной жизни, хотя между творчеством и личной жизнью могут существовать самые разнообразные и подчас предельно сложные соотношения. Эта же тенденция, усиленная маниакальным желанием знать мельчайшие детали, проявляется в интересе к самым незначительным подробностям жизни «великих людей», а также в совершенно иллюзорной уверенности, что всякое действие этих людей может быть объяснено на основе «психофизиологического» анализа их индивидуальности. Все это должно быть весьма выразительными знаками для тех, кто действительно стремится постигнуть истинную природу современного мышления. Возвращаясь к привычке привносить дискуссию даже в те области, где она не имеет никаких прав на существование, следует однозначно констатировать, что «апологетическая» установка является чрезвычайно уязвимой позицией, так как это фактор «защиты» в юридическом смысле этого слова. Характерно, что термин «апологетика» этимологически восходит к слову «апология», что означает в юриспруденции адвокатскую жалобу и, в сущности, тождественно слову «извинение». Та исключительная важность, которая придается сегодня апологетике, является неоспоримым доказательством слабости религиозного духа. Эта слабость особенно усугубляется тогда, когда «апологетика» вырождается до уровня совершенно «про-фанической» (как по методу, так и по качеству) дискуссии, в которой религия низводится до уровня конвенциональ152 Из книги "Кризис современного мира" ных и предельно гипотетических философских, научных или псевдонаучных теорий, и в которой подчас апологеты религии в «примирительных» целях доходят до того, что до определенных пределов допускают правомочность концепций, выдуманных с единственной целью — уничтожить религию как таковую. Такие апологеты, со своей стороны, представляют неоспоримые доказательства своего полнейшего невежества в отношении истинного содержания той доктрины, более или менее полномочными представителями которой они себя мнят. Тот, кто действительно может с полным основанием говорить от имени традиционной доктрины, не нуждается ни в дискуссиях с «профанами», ни в разнообразных полемиках. Таким людям следует лишь изложить доктрину как она есть тем, кто еще способен ее понять, и одновременно разоблачить ошибку и заблуждение, осветив соответствующие места светом подлинного знания. Их функция заключается не в дискредитации доктрины через вовлечение ее в различные профанические споры, а в высказывании суждения, на которое они имеют полное право, коль скоро они действительно сознают неизменные принципы и именно в них черпают свое вдохновение. Сфера полемики — это сфера действия, то есть индивидуальная и временная область. «Недвижимый движитель» порождает и направляет действие, не будучи, однако, вовлеченным в него. Знание освящает действие, не разделяя его необходимые издержки. Духовное управляет временным, не смешиваясь с ним. Таким образом, все остается на своем месте, на своем собственном уровне в пределах универсальной иерархии. Но где в современном мире мы сегодня можем еще встретить идею иерархии? Никто и ничто сегодня не находится на своем надлежащем месте. Люди не признают бо153 Рено Генон лее никакого подлинно духовного авторитета на собственно духовном уровне и никакой законной власти на уровне временном и «светском». Профаническое считает себя вправе оценивать Сакральное, вплоть до того, что позволяет оспаривать его качество или даже отрицать его вовсе. Низшее судит о высшем, невежество оценивает мудрость, заблуждение господствует над истиной, человеческое вытесняет божественное, земля ставит себя выше неба, индивидуальное устанавливает меру вещей и претендует на диктовку Вселенной ее законов, целиком и полностью выведенных из относительного и преходящего рассудка. «Горе вам, слепые поводыри!» — гласит Евангелие. И в самом деле, сегодня повсюду мы видим лишь слепых поводырей, ведущих за собой слепое стадо. И совершенно очевидно, что, если эта процессия не будет вовремя остановлена, и те и другие с неизбежностью свалятся в пропасть, где они все вместе безвозвратно погибнут. Социальный хаос В настоящей работе мы не намерены специально останавливаться на рассмотрении социальной действительности, так как она интересует нас лишь косвенно, представляя собой второстепенную область приложения фундаментальных принципов. Именно за счет этой второстепенное™ социальный уровень ни в коем случае не может стать той областью, с которой должно начаться исправление актуального положения дел в современном мире. Если бы все же это исправление началось именно с социальной сферы, с исправления следствий, а не причин, оно не имело бы никакого серьезного основания и, в конце концов, оказалось бы очередной иллюзией. Чисто социальные трансформации никогда не могут привести к установлению истинной стабильности, и если упустить из 154 Из книги "Кризис современного мира" виду необходимость основополагающих и изначального абсолютных согласия принципов в отношении (запредельных сугубо социальной действительности), в этой области придется всякий раз все начинать заново. Поэтому мы глубоко убеждены, что политический уровень цивилизации есть не что иное, как внешнее, коллективное выражение общепринятого в данный период типа мышления. Тем не менее нам не удастся полностью обойти молчанием те аспекты современного хаоса, которые пропитывают эту социальную сферу. Как мы уже показали, при существующем положении вещей на Западе никто более не занимает места, свойственного ему в соответствии с его внутренней природой. Именно это имеется в виду, когда говорится об отсутствии в современном мире кастовой системы. Каста в традиционном понимании этого термина есть не что иное, как выражение глубинной индивидуальной природы человека со всем набором особых предрасположенностей, слитых с этой природой и предопределяющих каждого к выполнению тех или иных обязанностей. Но как только выполнение этих обязанностей перестает подчиняться строго установленным правилам (основанным на кастовой природе человека), неизбежным следствием этого оказывается такое положение, когда каждый вынужден делать лишь ту работу, которую ему удалось получить, даже в том случае, если человек не испытывает к ней ни малейшего интере -са и не имеет никакой внутренней квалификации для ее исполнения. Роль человека в обществе в таких условиях определяется не случайностью, которой вообще не существует', но тем, что имеет видимость случайности — сис1 То, что люди называют случайностью, есть не что иное, как их личное неведение относительно причин случившегося. Если понимать выражение «это произошло случайно» в смысле «это не имело никакой причины», мы придем к явному противоречию. — Примеч. авт. 155 Рено Геном темой самых разнообразных условных и незначительных факторов. При этом единственный имеющий основополагающее и глубинное значение фактор — мы имеем в виду принципиальное различие внутренней природы людей — учитывается менее всех остальных. Именно отрицание этого существеннейшего различия, неминуемо ведущее к отрицанию социальной иерархии в целом, является истинной причиной всего того социального хаоса, который царит сегодня в общественной жизни Запада. Это отрицание изначально не было вполне осознанным и реализовалось скорее на практике, нежели в теории, так как полной отмене каст предшествовало их смешение, или, иными словами, все началось с неверного понимания врожденной индивидуальной природы человека, а закончилось полным забвением самого факта существования такой природы (а также связанного с ней естественного неравенства). Как бы то ни было, это отрицание различия внутренней природы людей было возведено в принцип под именем «равенство». Не составляет никакого труда доказать, что равенство вообще невозможно, и что его нигде не существует, хотя бы уже потому, что не может существовать двух совершенно одинаковых и, тем не менее, совершенно отличных друг от друга существ. Гораздо труднее продемонстрировать различные нелепые последствия этой абсурдной идеи «равенства», во имя которой людям пытаются навязать полное единообразие во всем, в частности, через всеобщее и одинаковое для всех образование, основываясь на совершенно ложной предпосылке, будто все в одинаковой степени способны понять определенные вещи, и будто одни и те же методы для объяснения этих вещей годятся для всех без исключения. Однако здесь следует заметить, что в современном образовании речь, как правило, идет отнюдь не о том, чтобы обучающиеся «поняли» 156 Из книги "Кризис современного мира" те или иные идеи, а о том, чтобы они «заучили» их. При этом память здесь подменяет собой разум, а само образование, видимое как нечто сугубо вербальное и книжное, согласно современной концепции, имеет своей целью такое накопление рудиментарных и беспорядочных, гетерогенных идей, при котором качество полностью приносится в жертву количеству. Как и во всех остальных областях современного мира, здесь мы имеем дело с распылением и множественностью. Можно было бы долго распространяться о порочности «всеобщего образования», однако мы не можем сделать этого в рамках данной работы. Кроме того, помимо частного применения принципа «равенства» к социальной сфере, существует множество других не менее извращенных и порочных его применений в других сферах; при этом последние настолько многообразны, что даже их простое перечисление является почти невыполнимой задачей. Сталкиваясь с идеями «равенства» и «прогресса» или с какими-то другими подобными современными догмами, большинство из которых окончательно оформились в XVIII веке, мы, естественно, не можем допустить, что они появились спонтанно и самопроизвольно. На самом деле это результаты «гипнотического внушения» в самом прямом смысле этого слова, хотя, конечно, эти идеи никогда не смогли бы серьезно повлиять на общество, не будь оно само в какой-то степени готово к их восприятию. Нельзя сказать, что именно подобные идеи породили современное мировоззрение, но они, без сомнения, весьма способствовали утверждению этого мировоззрения, равно как и его развитию, вплоть до достижения им критической стадии, до которой оно никогда не смогло бы дойти без их помощи. Если бы это «внушение» внезапно потеряло свою силу, коллективное человеческое мышление почти сразу 157 Рено Ген он изменило бы свое качество и свою ориентацию. Именно поэтому подобное «внушение» заинтересован в бдительно сохранении поддерживается современного теми, извращенного кто прямо состояния цивилизации и особенно теми, кто стремятся еще больше извратить его. Не потому ли, несмотря на стремление современных людей превращать все в предмет дискуссии, эти догмы тщательно уберегаются от того, чтобы стать объектами полемики, и считаются бесспорными и абсолютными при полном отсутствии каких бы то ни было логических оснований для этого? Кроме того, не так просто выяснить, до какой степени честны пропагандисты подобных идей и в какой мере эти люди попадаются в свою собственную ловушку и, обманывая других, становятся, в конце концов, жертвами собственной лжи. В подобных случаях именно обманутые и реально поверившие в ложь чаще всего служат наилучшим инструментом для обмана других, так как истинным инициаторам лжи довольно трудно симулировать личную убежденность в правоте заведомо фальшивых идей. И тем не менее у истоков подобного внушения должны стоять вполне сознательные личности, прекрасно отдающие себе отчет в прагматических целях подобных «гипнотических сеансов», а также отлично знающие истинную цену этим идеям. В данном случае мы используем термин «идея» весьма условно, так как совершенно очевидно, что здесь мы сталкиваемся с тем, что не имеет ни малейшего отношения к интеллектуальной области, а значит, строго говоря, не может быть названо «чистой идеей». Это — «ложные идеи» или, другими словами, «псев-до-идеи», предназначенные, в первую очередь, для пробуждения у людей «сентиментальных реакций» — именно с их помощью легче всего влиять на толпу. В подобных случаях гораздо важнее сами слова, нежели заключенные 158 Из книги "Кризис современного мира" в них идеи, и большинство идолов современности — это не что иное, как слова. Часто мы даже сталкиваемся с таким удивительным явлением, как «вербализм», сущность которого состоит в том, что само звучание произносимых слов порождает у невежественных слушателей или читателей иллюзию мысли. В этом отношении особенно показательно влияние, оказываемое на толпу ораторами, и, даже не подвергая феномен «вербализма» специальному анализу, легко понять, что речь здесь идет о самом простом и классическом гипнозе. Но оставим разбор этих сторон нашей темы и вернемся к следствиям, проистекающим из отрицания всякой подлинной иерархии. Заметим, что в настоящее время случаи, когда человек выполняет свойственные его внутренней природе функции, являются исключительными, тогда как в нормальной ситуации исключительным должно являться прямо противоположное. Более того, сегодня часто один и тот же человек выполняет последовательно различные функции, как если бы он мог менять свои способности по своему желанию. В эпоху предельной «специализации» это должно было бы выглядеть парадоксальным, но, однако, это факт, особенно часто встречающийся в сфере политики. Несмотря на то, что компетентность так называемых специалистов зачастую является чистой иллюзией или, по меньшей мере, ограничена чрезвычайно узки ми рамками, все же большинство людей искренне верит в эту компетентность. В этом случае следует задать вопрос, почему подобная вера в компетентность специалистов не распространяется на политиков, и почему полное ее отсутствие у них практически никогда не служит препятствием для их карьеры? При здравом размышлении в этом, в сущности, не окажется ничего удивительного, так как здесь мы имеем дело с естественным результатом демо159 Рено Геном кратической концепции, согласно которой власть должна приходить снизу и корениться в большинстве, что с необходимостью предполагает отказ от всякой подлинной компетентности, всегда несущей в себе элемент хотя бы незначительного превосходства, естественно превращающего ее в достояние меньшинства. Здесь следует, с одной стороны, вскрыть ряд софизмов, лежащих в основании демократической идеи, а с другой — показать связь этой идеи с современным мировоззрением в целом. Едва ли надо специально подчеркивать, что наша собственная точка зрения, лежащая в основе наших суждений и оценок, выше какой бы то ни было партийности и не имеет прямого отношения к актуальным политическим дискуссиям. Мы рассматриваем данные вопросы совершенно объективно, точно так же, как мы рассматривали бы любой другой предмет, стремясь лишь с предельной ясностью обнаружить основания, на которых покоятся те или иные явления. На самом деле для того, чтобы все демократические иллюзии, столь характерные для современных людей, были раз и навсегда рассеяны, необходим именно такой объективный и беспристрастный подход. В случае идеи демократии мы снова имеем дело именно с «внушением», таким же очевидным, как и та его форма, о которой мы говорили несколько выше. Когда то или иное убеждение распознается как результат простого внушения и когда механизм воздействия этого внушения становится очевидным, само оно тут же теряет свою силу: в подобных вопросах беспристрастное и чисто «объективное» (как это модно говорить сегодня вслед за специфической терминологией некоторых немецких философов) исследование намного более эффективно, нежели сентиментальные декламации и партийные дебаты, которые, будучи лишь выражением тех или иных сугубо 160 Из книги "Кризис современного мира" индивидуальных и частных мнений, ничего никогда никому не доказывают. Самые решительные доводы против демократии можно сформулировать следующим образом: высшее не может происходить из низшего, поскольку из меньшего невозможно получить большее, а из минуса плюс. Это абсолютная математическая истина, отрицать которую просто бессмысленно. Следует заметить, что точно такой же аргумент применительно к иной области можно выдвинуть против материализма. И в подобном сближении демократии с материализмом нет никакой натяжки, так как они гораздо теснее связаны между собой, чем это кажется на первый взгляд. Кристально ясным и в высшей степени очевидным является утверждение, гласящее, что народ не может доверить кому бы то ни было свою власть, если он сам ею не обладает. Истинная власть приходит всегда сверху, и именно поэтому она может быть легализована только с санкции того, что стоит выше социальной сферы, то есть только с санкции власти духовной. В противном случае мы сталкиваемся лишь с пародией на власть, не имеющей оправдания из-за отсутствия высшего принципа и сеющей повсюду лишь хаос и разрушение. Нарушение истинного иерархического порядка начинается уже тогда, когда чисто временная власть стремится освободиться от власти духовной или даже подчинить ее в целях достижения тех или иных сугубо политических целей. Это является первоначальной формой узурпации, которая пролагает путь всем остальным ее формам. Истинность данного положения легко продемонстрировать на примере французской монархии, которая, начиная с XIV века, сама того не ведая, подготовляла Революцию, уничтожившую, в свою очередь, и ее саму. Если под словом «демократия» понимать полное самоуправление народа, правление народа над самим собой, 6 - 6054 161 Рено Геном в таком случае оно заключает в себе абсолютную невозможность и не может иметь никакого реального смысла ни в наше время, ни когда бы то ни было еще. Не следует поддаваться гипнозу слов: представление о том, что одни и те же люди одновременно и в равной степени могут быть и управляющими и управляемыми, является чистейшим противоречием, поскольку, если использовать аристотелевские термины, одно и то же существо в одной и той же ситуации не может пребывать одновременно в состоянии «акта» и «потенции». Соотношение между управляющим и управляемым с необходимостью предполагает наличие именно двух полюсов: управляемые не могут существовать без управляющих, даже если эти последние незаконны и не имеют на власть никаких других оснований, кроме своих собственных претензий. Но вся искусная хитрость тех, кто в действительности контролируют современный мир, состоит в способности убедить народы, что они сами собой правят. И народы верят тем охотнее, что это для них весьма лестно, тем более, что они просто не обладают достаточными интеллектуальными способностями, чтобы убедиться в совершенной невозможности такого положения дел как на практике, так и в теории. Для поддержания этой иллюзии было изобретено «всеобщее голосование»: предполагается, что закон устанавливается мнением большинства, но при этом почему-то всегда упускается из виду, что это мнение крайне легко направить в определенное русло или вообще изменить. Этому мнению с помощью соответствующей системы внушений можно придать желаемую ориентацию. Мы не помним, кто впервые употребил выражение «фабрикация мнений», но оно удивительно точно характеризует данное положение вещей, хотя к этому следует добавить, что не всегда те, кто внешне контролируют ситуа162 цз книги "Кризис современного мира" цию в обществе, располагают всеми необходимыми для этого средствами. Последнее замечание помогает понять, почему полная некомпетентность даже самых высоких политических деятелей не имеет все же решающего значения для состояния дел в обществе. Но поскольку мы не намереваемся здесь разоблачать систему действия того, что называют «механизмом власти», заметим лишь, что сама эта некомпетентность политиков лишь служит укреплению демократической иллюзии, о которой мы говорили выше. Более того, некомпетентность необходима таким политикам, чтобы подкрепить видимость своей изначальной причастности к большинству, чтобы доказать свое сходство с большинством, которое, будучи поставленным перед необходимостью высказать свое мнение по тому или иному вопросу, обязательно обнаружит свою полнейшую некомпетентность, так как большинство в своей массе с необходимостью состоит из людей некомпетентных, в то время как люди, основывающие свое мнение на действительно глубоком знании предмета, всегда неизбежно окажутся в меньшинстве. Итак, мы показали, что даже допущение возможности большинства самому устанавливать законы, является глубочайшим заблуждением. Даже если это допущение остается только теоретическим и не соответствует никакой реальности, все равно интересно исследовать, каким образом такое мнение смогло укорениться в современном мировоззрении, каким тенденциям оно соответствует и какие потребности (хотя бы по видимости) оно удовлетворяет. Принципиальная несостоятельность данного положения заключается в уже отмеченном нами аспекте: мнение большинства не может быть ничем иным, кроме как выражением некомпетентности, независимо от того, является ли оно результатом недостатка умственных способно163 Рено Геном стей или следствием простого невежества. Здесь можно привести в пример некоторые наблюдения относительно «массовой психологии» и особенно тот широко известный факт, что ментальные реакции, возникающие среди объединенных в толпу индивидуумов, проявляются в форме коллективного психоза, и их интеллектуальное качество соответствует не просто среднему интеллектуальному уровню индивидуумов, собравшихся в толпе, но уровню самых низменных и недалеких среди них. В несколько ином контексте следует заметить также, что некоторые современные философы пытаются ввести демократическую теорию в гносеологию и утверждают, что мнение большинства должно быть решающим и в самой интеллектуальной сфере. При этом «критерий истинности» они усматривают в так называемом «общественном договоре» или «универсальном консенсусе». Даже если предположить, что по какому-то вопросу все люди придут к определенному согласию, это еще отнюдь не означает, что такое согласие доказывает истинность чего бы то ни было. Более того, если подобное единство взглядов действительно наличествует (хотя это почти невероятно, поскольку, каким бы ни был конкретный вопрос, всегда найдутся люди, у которых вообще нет никакого мнения по этому поводу или которые просто никогда о нем не размышляли), истинность его невозможно проверить на практике, так что подтверждением и признаком его адекватности останется лишь само это согласие большинства, но большинства конкретного, то есть принадлежащего к той или иной группе, с необходимостью ограниченной в пространстве и времени. В этой области отсутствие подлинного интеллектуального обоснования у подобных теорий представляется тем нагляднее, чем активнее задействованы здесь сентименты — ведь именно они игра164 Из книги "Кризис современного мира" ют столь важную роль во всем, что касается политической сферы. Влияние сентиментов, чувств, являются наибольшим препятствием для понимания определенных вещей, которые при иных обстоятельствах без труда могли бы быть адекватно поняты теми, кто обладает для этого достаточными интеллектуальными качествами. Эмоциональные импульсы мешают мысли, и использование этого обстоятельства является обычной хитростью всех политических манипуляций. Но давайте посмотрим еще глубже: что составляет сущность закона о большинстве, который проповедуется современными правительствами, и в котором эти правительства видят оправдание своей власти? Это — закон материи и грубой силы, закон тождественный физическому закону, согласно которому масса, увлекаемая своим весом, давит на все то, что находится у нее на пути. Здесь мы и обнаруживаем точку соприкосновения между демократической концепцией и материализмом, и именно в этом следует искать причины тому, что данная концепция так укоренилась в современном мышлении. Благодаря ей, полностью переворачивается нормальный порядок вещей, и устанавливается приоритет множественности, который на самом деле существует только в материальном мире1. В духовном же мире, и более обобщенно, в универсальном порядке во главе иерархии стоит Единство, поскольку именно Единство, Единица есть изначальный принцип, из которого происходит в дальнейшем всякая множественность2. Как только этот принцип Единства теряется 1 Следует хотя бы вспомнить выражение святого Фомы Аквинского «numerus stat ex parte materiae», то есть «количество стоит на стороне материи». — Примеч. авт. 2 В данном случае, как и во многих других, аналогия между одним и другим уровнем реальности является строго обратной. — Примеч. авт. 165 Рено Геном из виду или отрицается, остается лишь чистая множественность, которая строго тождественна материи. Следует заметить, что благодаря своей способности к одновременному разделению и ограничению материя была названа схоластической философией «принципом индивидуации». Это помогает связать воедино предмет нашего настоящего анализа, и все, сказанное выше относительно индивидуализма: демократическая эгалитарная тенденция тождественна тенденции «индивидуализации», которая в иудео-христианской традиции именуется «грехопадением», нарушившим изначальное единство1. Множественность, рассматриваемая отдельно от своего принципа, истока и поэтому не могущая более быть приведенной к единству, в социальной области проявляется в представлении об общности, понимаемой лишь как арифметическая совокупность составляющих ее индивидуумов. И на самом деле подобная общность не может являться ничем иным, так как она не связана в этом случае ни с каким принципом, превосходящим индивидуальный уровень. Законом подобной общности может служить лишь закон большинства, закон большого количества, и на этом, собственно, и основана демократическая идея. Здесь следует заранее предупредить о возможности неадекватного понимания изложенных нами положений: когда мы говорили о современном индивидуализме, мы разбирали почти исключительно его проявления в интеллектуальной сфере, и кое у кого могло, поэтому, сложиться впечатление, что в социальной сфере дела обстоят несколько иначе. На самом деле, если брать термин «ин1 Вот почему Данте поместил Люцифера в точку центра земли, то есть туда, где сходятся воедино все вектора силы тяжести. С этой точки зрения, данный центр является противоположностью духовного, «небесного» центра притяжения, который в большинстве традиционных доктрин символизируется солнцем. — Примеч. авт. 166 !/1з книги "Кризис современного мира" дивидуализм» в его узком понимании, может возникнуть иллюзия, что индивидууму может быть противопоставлена общность и что прогрессирующее вторжение государства во все сферы жизни, параллельно с разрастанием социальных институтов, является признаком тенденции, направленной против индивидуализма. Однако это не соответствует действительности в том случае, если общность представляет собой простую математическую совокупность индивидуумов, и как таковая не может быть противопоставлена им. Равно и государство в современном его понимании есть не что иное, как простое представительство масс, не отражающее более никакого высшего принципа. При этом следует напомнить, что сам индивидуализм в нашем определении как раз и является отрицанием всякого высшего и сверхиндивидуального принципа. Поэтому, если и возникают конфликты между различными социальными тенденциями, коренящимися в сугубо современном мировоззрении, они являются конфликтами не между индивидуализмом и чем-то отличным от него, но между различными формами одного и того же индивидуализма, под какой бы личиной он ни выступал. И нетрудно заметить, что подобные конфликты никогда еще не были столь частыми и серьезными, как сегодня, благодаря отсутствию всякого принципа, способного объединить множественность, а также и потому, что сам индивидуализм уже изначально предполагает разделение. Это разделение и проистекающий из него хаос являются неизбежными следствиями всецело материальной цивилизации, так как сама материя есть истинный исток всякого разделения и множественности. И, наконец, остается рассмотреть последнее следствие демократической концепции, состоящее в отрицании идеи элиты. Не случайно «демократия» противопоставляется 167 Рено Генон «аристократии», поскольку этимологически слово «аристократия» означает «власть лучших», «власть элиты», Элита в своем изначальном смысле может представлять собой только меньшинство, и ее сила, а точнее, ее авторитет, основывающиеся на ее интеллектуальном превосходстве, не имеет ничего общего с силой количества, на которой основывается демократия, в соответствии со своей собственной логикой настаивающая на принесении меньшинства в жертву большинству, а значит, качества в жертву количеству, и элиты в жертву массам. Поэтому направляющее воздействие подлинной элиты и даже сам простой факт ее существования — естественно, она может выполнять свои функции, при условии, что она действительно существует — в принципе не совместимы с демократией, основывающейся на эгалитарных концепциях, а значит, на отрицании всякой иерархии (ведь в самом своем основании демократическая идея исходит из предположения, что любого индивидуума вполне можно заменить другим индивидуумом, так как все они математически тождественны, хотя на этом математическом тождестве все сходство и заканчивается). Подлинная элита может быть только интеллектуальной элитой. Поэтому и современная демократия может возникнуть только там, где подлинной интеллектуальности более не существует, что и имеет место в случае современного мира. Однако никакого равенства на деле нет, и, несмотря на все попытки свести всех к единому уровню, различия между людьми никогда до конца не исчезают. Это заставляет (вопреки самой логики демократии ) изобретать различные ложные или псевдоиерархии, высшие уровни которых зачастую претендуют на то, чтобы считаться единственной подлинной элитой. И эти ложные иерархии строятся всегда на относительных и условных основаниях чисто материального характера. В ка168 Из книги "Кризис современного мира" честве единственного социального различия современные общества признают лишь различие в материальном положении, то есть параметр чисто материальный и количественный, и это является единственной формой неравенства, допускаемой демократическими режимами, материальными и количественными в самой своей основе. И даже те, кто выступает против такого положения дел, неспособны предложить никакого действенного средства для исправления существующей аномалии, из-за отсутствия обращения к принципам высшего порядка подчас даже усугубляя в негативном ключе актуальную ситуацию. И здесь борьба разворачивается между различными аспектами демократии, в большей или меньшей степени акцентирующими эгалитарную тенденцию, точно так же, как в другом случае речь шла о борьбе между различными аспектами индивидуализма. Фактически демократизм и индивидуализм, в конце концов, совпадают. Все эти соображения позволяют ясно понять сущность социальной ситуации в современном мире, и вместе с тем показывают единственно возможный выход из хаоса в социальной сфере, равно как и во всех остальных: этим выходом является восстановление подлинной интеллектуальности, которая должна привести к очередному формированию новой истинной элиты. В настоящее время такой элиты на Западе не существует, так как этот термин нельзя применять к тем разрозненным и изолированным друг от друга элементам, которые несут в себе лишь потенции истинно духовного порядка. Эти элементы чаще всего представляют собой лишь тенденции, стремление к восстановлению нормы, и уже одно это заставляет их противодействовать современному миру. Но, будучи только потенциями, они не могут влиять на положение дел хоть сколько-нибудь эффективно и серьезно. 169 Рено Геном Всем им недостает истинного знания доктрин традиции, которые невозможно воссоздать путем простой импровизации, исходя только из чистой автономной интеллектуальной логики, способной, особенно в актуальных крайне неблагоприятных для этого обстоятельствах, возместить недостаток знания весьма фрагментарно и неполно. В конечном итоге, мы имеем дело лишь с разрозненными усилиями, которые часто оказываются дезориентированными из-за недостатка знаний принципов и отсутствия руководства, в нормальном случае осуществляющегося посредством традиционных доктрин. Можно было бы утверждать, что свойственная современному миру дисперсия, разрозненность, распространяющаяся даже на его заклятых врагов, есть способ самосохранения этого мира. Это положение дел неизбежно сохранится до тех пор, пока противодействие современному миру протекает лишь в сугубо «профанической» сфере, которая, будучи естественной и единственно приемлемой для духа современности территорией, всегда предоставляет этому духу исключительные преимущества. И сам тот факт, что враги современного мира все же предпочитают оставаться в рамках именно этой области, свидетельствует, что влияние самого этого мира затрагивает и их самих. Вот почему многие люди, чьи благие намерения не подлежат никакому сомнению, неспособны понять, что начинать надо только с первопринципов, и они продолжают растрачивать свою энергию в той или иной относительной, частной сфере (социальной или какой-то иной), где по определению в актуальных условиях невозможно добиться ничего подлинного или долговечного. У истинной элиты, если бы таковая существовала, не было бы необходимости прямо вмешиваться в подобные частные сферы или участвовать в каких-либо внешних действиях. Она управляла бы хо170 Из книги "Кризис современного мира" дом вещей так, что большинство людей просто не знало бы об этом, и она была бы тем более эффективной, чем более невидимой. Достаточно вспомнить все, сказанное выше о силе внушения, которая для того, чтобы быть эффективной, отнюдь не требует никакой истинной интеллектуальности. И этот пример поможет нам представить, какой могущественной должна быть сила влияния истинной интеллектуальной элиты, действующей еще более невидимо и тайно в гармонии со своей внутренней природой, укорененной в чистой интеллектуальности и чистой духовности. И вместо того, чтобы ослаблять эту интеллектуальную силу противостоящей современному миру элиты, разделяя ее под влиянием законов множественности и вовлекая ее в сферу иллюзий и лжи, следовало бы, напротив, позволить ей сконцентрироваться на единстве принципа, и тогда она рано или поздно должна была бы отождествиться с силой самой истины. Материальная цивилизация Из всего вышесказанного ясно видно, что упреки людей Востока по отношению к западной цивилизации как к цивилизации исключительно материальной совершенно обоснованы. Эта цивилизация развивалась только в материальном смысле, и с какой бы точки зрения мы ее ни рассматривали, мы всегда имеем дело с прямыми результатами такой материализации и сугубо материального развития. Однако ко всему предыдущему следует добавить еще кое-что: во-первых, мы должны разъяснить различное содержание, которое может быть вложено в слово «материализм», поскольку, если мы определим современный мир как материалистический, обязательно найдутся люди, ко171 Рено Геном торые, считая себя сугубо современными, но при этом отнюдь не материалистами, обязательно воспротивятся такому отождествлению и посчитают его оскорбительным. Поэтому мы должны дать некоторые объяснения по этому поводу, чтобы устранить все возможные недоразумения и двусмысленности. Показательно, что само слово «материализм» появилось не ранее XVIII века. Этот термин изобрел философ Беркли для характеристики теорий, признающих реальное существование материи. Очевидно, что нас здесь интересует отнюдь не это значение термина, так как самого вопроса о существовании материи мы сейчас не затрагиваем. Несколько позднее слово «материализм» приобрело более узкий смысл, который оно сохранило вплоть до настоящего времени: материализм стал обозначать концепцию, согласно которой кроме материи и ее производных вообще ничего не существует. Следует заметить, что такая концепция является совершенно новой и представляет собой продукт сугубо современных воззрений, будучи даже одной из самых существенных составляющих современного мировоззрения в целом1. Мы же в настоящий момент будем говорить о материализме в ином, намного более широком, но при этом достаточно определенном смысле. В этом смысле материализм, совершенно независимо ни от каких отдельных философских теорий и помимо вышеупомянутого собственно философского материализма, тождественен мировоззрению, породившему некоему еще общему множество и других изначальному концепций и теоретических построений. Это мировоззре1 До XVIII века существовали механицистские теории, начиная с гре- ческого атомизма и кончая картезианской физикой. Но механицизм нельзя смешивать с материализмом, несмотря на наличие между ними действительного сходства, которое впоследствии и породило некоторую преемственность одного по отношению к другому. — Примеч. авт. 172 Из книги "Кризис современного мира" ние состоит в более или менее сознательной постановке материальных вещей и связанных с ними проблем на первый план, независимо от того, осуществляется ли это на умозрительном или на чисто практическом уровне. Вряд ли кто-то станет всерьез возражать, что именно такое мировоззрение свойственно подавляющему большинству современных людей. Вся профаническая наука, развившаяся за последние столетия, основана исключительно на изучении чувственного мира, ограничена только его пределами, и используемые ею методы применимы лишь к одной этой сфере. Но только такие методы, в противоположность всем остальным, и признаются научными, что отрицает саму возможность существования науки, не занимающейся материальными вещами. Однако найдутся многие, кто, разделяя эту точку зрения и даже посвящая себя целиком этим наукам, все же отказываются считать себя материалистами или признавать философскую теорию, известную под именем материализма. Есть среди них и такие, кто открыто исповедуют религию, и в чьей искренности нет оснований сомневаться. Но в то же время научные установки подобных людей ни в чем не отличаются от позиций завзятых материалистов. Часто поднимают вопрос о том, следует ли с чисто религиозной точки зрения вообще отрицать современную науку как атеистическую и материалистическую. Однако, как правило, проблема ставится неадекватно. Очевидно, что сама эта наука не декларирует открыто свой атеизм или материализм. Просто в силу своей предвзятости она проходит мимо определенных вещей, не отрицая заведомо их существования, как это делают те или иные философы. В контексте современной науки, таким образом, можно говорить о материализме de facto, о своего рода практическом материализме. Но от этого зло 173 Рено Генон становится еще более серьезным, так как оно проникает и шире и глубже. Философская установка может быть подчас весьма поверхностной, даже если речь идет о профессиональных философах. А кроме того, многие люди с недоверием воспримут формальное отрицание определенных вещей, тогда как полное безразличие по отношению к ним не вызывает, как правило, никаких подозрений. И это как раз и является самым опасным, так как, чтобы отрицать нечто, необходимо хотя бы в самой незначительной степени об этом задуматься, тогда как позиция полного безразличия вообще избавляет людей от этой необходимости. Если исключительно материальная наука выдает себя за единственно возможную; если люди приучились считать неоспоримой истиной, что вне этой науки не может существовать никакого полноценнного знания; и если образование, получаемое этими людьми, буквально пропитывает их предубеждениями и предрассудками, свойственными этой науке, а точнее, сциентизму, — как могут эти люди не стать материалистами, или, иными словами, как могут они ориентировать свои интересы и усилия в направлении, отличном от материи и материального мира? Для современных людей за пределом видимого или ощутимого вообще ничего не существует. Даже если они теоретически допускают, что может существовать нечто еще, они тут же объявляют это нечто не только непознанным, но и непознаваемым, что избавляет их от необходимости об этом задумываться. Конечно, существуют и те, кто пытаются выработать некоторые идеи относительно потустороннего мира, но они полагаются в таких случаях исключительно на свое собственное воображение, представляя потусторонний мир как копию мира земного, наделяя его теми же условиями существования, что и зем174 Из книги "Кризис современного мира" ной мир — пространством, временем и даже некоторой телесностью. В целом, вторжение воображения в области, в нормальном случае закрытые для этого человеческого качества, в сферы, где оно неуместно и непригодно, вообще наглядно свидетельствует о неспособности людей Запада подняться над сферой чувств. Многие даже не видят разницы между постижением и представлением (воображением), и некоторые философы, в частности Кант, зашли настолько далеко, что объявили непостижимым и немыслимым все то, что не поддается представлению и что невозможно вообразить. Все, обычно именуемое спиритуализмом или идеализмом, является не более чем перенесением материализма на нематериальные уровни, простой транспозицией материализма. Это справедливо не только в отношении того, что мы назвали термином нео-спиритуализм, но и в отношении самого философского спиритуализма, хотя сам он и определяет себя как противоположность материализму. На самом деле, материализм и спиритуализм в философском смысле этих слов немыслимы друг без друга, поскольку они суть две половины картезианского дуализма, ставшие вслед за их первоначальным разделением противоположностями. И с тех пор вся философия ограничена этими двумя пределами, не будучи в состоянии выйти за них. Несмотря на этимологию, спиритуализм не имеет ничего общего с духовностью1, и его борьба против материализма вообще не может ни в малейшей степени заинтересовать тех, кто стоит на более высокой интеллектуальной позиции и кто прекрасно видит, что две эти противоположности в сущности почти совпадают, и в 1 Термин «спиритуализм» происходит от латинского слова spiritus, дословно «дух». — Примеч. перев. 175 Рено Геном большинстве случаев противоречия между ними сводятся, в конечном итоге, лишь к вербальным и терминологическим расхождениям. Современный человек в целом не может себе представить никакой иной науки, кроме науки, занимающейся вещами, которые можно измерить, посчитать или взвесить, или, иными словами, материальными вещами, так как только к таким вещам вполне применим чисто количественный подход. Стремление свести качество к количеству является типичным для современной науки. Эта тенденция дошла до того, что появилось положение, гласящее, что наука в подлинном смысле слова существует только в том, что можно измерить, и никаких подлинно научных законов, кроме законов, выражающих количественные соотношения, просто не может быть. Эта тенденция возникла вместе с механицизмом Декарта и становилась с тех пор все более и более ярко выраженной, несмотря даже на отвержение картезианской физики, так как она была связана не с какой-либо частной теорией, но с общим представлением о научном знании. Сегодня принцип измерения пытаются применить даже к области психологии, по самой своей природе заведомо исключающей подобный метод. На настоящем этапе никто более не способен понять, что возможности измерения проистекают из основополагающего качества, присущего самой материи, то есть из ее неопределенно большой делимости. И утверждение, что это качество присуще вообще всему существующему, равнозначно сведению всего до уровня материи. Как мы говорили ранее, именно материя является принципом разделения и всякой множественности. Поэтому предпочтение, отдаваемое количественному подходу и обнаруживаемое, как мы показали выше, даже в сфере социальной, тождественно 176 Из книги "Кризис современного мира" настоящему материализму в том смысле, в каком мы его определили. И такой подход не обязательно связан с философским материализмом, так как на самом деле в развитии тенденций, составляющих сугубо современное мировоззрение, сам материалистических материализм тенденций. Мы появился не станем несколько позднее останавливаться на изначальной ошибочности стремления свести качество к количеству или на неправомочности всех объяснений более или менее механицистского типа. Это не входит здесь в наши задачи, но заметим лишь по этому поводу, что даже в сфере чувственного материального мира, наука, практикующая подобный подход, имеет самое отдаленное отношение к действительности, и большая часть реальности с необходимостью остается вне сферы ее компетенции. Упоминание термина «реальность» обращает наше внимание на иной факт, который многими остается не замеченным, но который при этом является чрезвычайно выразительным признаком всей совокупности разбираемых нами воззрений: люди обычно употребляют слово «реальность» исключительно для описания реальности чувственного уровня. Так как любой язык отражает особый тип мышления, свойственного тому или иному народу или временному периоду, из этого следует заключить, что для подобных людей все, что не может быть воспринято с помощью чувств, является нереальным, то есть иллюзорным или даже вообще несуществующим. Возможно, не все до конца осознают это, но, тем не менее, именно таковым является их внутреннее убеждение. Даже если некоторые внешне и отрицают это, подобное отрицание проистекает из более поверхностных структур их ментальности, хотя они об этом и не подозревают, а иногда подобное отрицание вообще остается чисто вербальным. Если кое-кто по177 Рено Генон думает, что мы преувеличиваем, ему следует лишь повнимательней приглядеться к тому, что представляют собой религиозные убеждения многих современных людей: несколько идей, заученных наизусть чисто механическим, школьным образом, без какого бы то ни было подлинного усвоения, о которых никогда серьезно никто не задумывался, но которые хранятся в памяти и повторяются от случая к случаю как дань условностям или формальной позиции — вот и все, что понимается сегодня под религией. Мы уже говорили о минимализации религии, и подобный вербализм представляет собой одну из ее последних стадий. Это объясняет, в частности, почему так называемые верующие заходят столь же далеко в практическом материализме, как и неверующие. Следует снова вернуться к уже упомянутому нами тезису: современные науки не являются сферой чистого знания, и их умозрительный характер, даже для тех, кто искренне в них верит, не более, чем маска, скрывающая чисто практические интересы. Но именно эта маска порождает иллюзию псевдо-интеллекгуальности. Сам Декарт, разрабатывая свою физику, был изначально заинтересован в выведении из нее системы механики, медицины и морали. Но еще большие изменения произошли с распространением англосаксонского эмпиризма. Более того, именно извлекаемые из науки практические результаты делают ее столь престижной в глазах широкой публики, поскольку здесь снова вещи можно увидеть и потрогать. Мы указали, что прагматизм представляет собой логическое завершение современной философии и последнюю стадию ее упадка. Но несистематизированный прагматизм был распространен уже задолго до появления прагматической философии, и такой прагматизм находится в том же отношении к этой философии, как практический ма178 Из книги "Кризис современного мира" териализм к материализму теоретическому. Именно этот прагматизм и называют обычно здравым смыслом. Более того, инстинктивный утилитаризм также почти неразделим с материалистической тенденцией, так как здравый смысл заключается в ограничении сферы интересов интересами чисто житейскими, а также в игнорировании всего, что не имеет непосредственной практической пользы. Именно здравый смысл рассматривает чувственный мир как единственно реальный и признает лишь знание, полученное с помощью органов чувств. Кроме того, он наделяет ценностью эту узкую сферу знаний только в той степени, в которой она дает возможность удовлетворить либо материальные потребности, либо определенные сентиментальные склонности, так как сентименты — мы должны откровенно признать это, рискуя шокировать современных моралистов, на самом деле расположены очень близко к уровню материи. Во всем этом собственно интеллекту вообще не остается места, или в лучшем случае, ему отводится служебная роль при достижении практических целей и он становится не более чем инструментом, подчиненным потребностям низшего и телесного уровня человеческой индивидуальности, прибором для производства приборов, как довольно точно выразился Бергсон'. Прагматизм во всех своих формах порождает абсолютное безразличие к истине. 1 Бергсон Анри (1859—1941) — французский философ. Представитель интуитивизма, эволюционистского спиритуализма и «философии жизни». Разделяя посылки философского спиритуализма о том, что человек есть дух, что духовность — единственный подлинно человеческий вид активности людей, в ходе которой они продуцируют смысл вещей, Бергсон отстаивал идею безусловного наличия физического тела и материального универсума. Духовное у Бергсона нематериально лишь в том понимании, что оно — перманентно воспроизводимая творческая энергия, генерирующаяся при этом в реальных условиях. — Примеч. ред. 1Т9 Рено Геном В таких условиях промышленность перестает быть только приложением науки, от которого наука сама по себе была бы независима, но превращается в смысл существования и в оправдание самой науки, так что нормальные соотношения между вещами совершенно переворачиваются. Современный мир изо всех сил стремится, даже тогда, когда он декларирует, что следует за наукой, к единственной цели — к развитию промышленности и механизации. И таким образом, стремясь подчинить себе материю и поставить ее себе на службу, люди в конечном итоге лишь становятся ее рабами. Они не только ограничили свои интеллектуальные претензии — если о существовании таких претензий сегодня вообще можно говорить — изобретением и конструированием механизмов. Они кончили тем, что сами превратились в механизмы. Не только ученые, но и техники, и даже рабочие проходят специализацию, столь восхваляемую сегодня некоторыми социологами под видом разделения труда. И это окончательно лишило рабочих возможности разумного труда. В противоположность артельщикам прошлых времен они превратились в простых рабов механизмов, с которыми они составляют единый блок. Чисто механическим образом они вынуждены постоянно повторять определенные движения, всегда одни и те же и выполняющиеся в одинаковой последовательности, чтобы избежать малейшей потери времени. По крайней мере, именно этого требуют американские методы, которые рассматриваются как самая передовая стадия технического прогресса. Цель всего этого производить как можно больше. Качество мало что значит, важно лишь количество. И это снова отсылает нас к замечанию, сделанному нами по другому поводу: современная цивилизация может быть названа количественной цивилизацией, а это лишь иная форма выражения для определения ее как цивилизации материальной. 18О Из книги "Кризис современного мира" Все те, кто хочет других подтверждений этой истины, должны обратить внимание на то, какое гигантское значение имеют сегодня экономические факторы в жизни народов и отдельных людей. Промышленность, коммерция, финансы — это, кажется, единственное, что сегодня принимается в расчет. И это вполне логично согласуется с тем уже упомянутым фактом, что единственным сохранившимся до сего времени социальным различием является различие в материальном благосостоянии. Политика полностью контролируется финансами, и торговая конкуренция оказывает решающее влияние на отношения между народами. Возможно, однако, что такая картина соответствует только внешней стороне вещей и что на самом деле эти факторы суть скорее поводы к действию, чем его настоящие причины, но, тем не менее, уже сам выбор таких поводов ярко показывает специфику того периода, в котором они используются. Более того, современные люди убеждены, что сегодня только экономические условия предопределяют исторические события, и они даже воображают себе, что так было всегда. Была изобретена особая теория, которая все объясняет исключительно экономическими факторами и которая носит чрезвычайно показательное название — исторический материалам. Здесь также можно различить эффекты внушения, о котором мы упоминали выше, и сила этого внушения тем больше, чем точнее оно соответствует всеобщим тенденциям актуального мышления. И в результате подобного вкушения экономические факторы действительно начинают становиться решающими в отношении всего происходящего в социальной сфере. Конечно, массы всегда были тем или иным образом ведомы, и можно сказать, что их роль в истории и заключалась в том, чтобы позволять себя вести, поскольку они представляют собой пассивный элемент, 181 Рено Геном материю в аристотелевском смысле этого слова. Но чтобы вести их сегодня, достаточно обладать чисто материальными (на сей раз в обыденном смысле слова) средствами, и это ясно показывает, до каких глубин падения дошла наша эпоха. И в то же время массам внушается, что они отнюдь не ведомы, что они действуют спонтанно и управляют собой самостоятельно, и тот факт, что они верят этому, убедительно доказывает, что свойственная массам глупость является воистину беспредельной. Раз уж мы заговорили об экономических факторах, воспользуемся случаем, чтобы рассеять иллюзию относительного того, что установление коммерческих связей якобы способствует сближению народов и устанавливает между ними взаимопонимание. На самом же деле это приводит как раз к обратному результату. Материя, как мы уже неоднократно указывали, есть, по существу, множественность и разделение, делимость, и поэтому она является причиной борьбы и конфликтов. И в случае народов, и в случае отдельных личностей экономическая сфера есть сфера конкуренции интересов. Так, в частности, Запад не может рассчитывать ни на промышленность, ни на неотделимую от нее науку в качестве основы для взаимопонимания с Востоком. Если люди Востока вынуждены принять промышленность как неприятную и временную неизбежность и для них она в принципе не может быть чем-то иным, они используют ее лишь как оружие, позволяющее противостоять экспансии Запада и оберегать свое собственное существование. Следует четко усвоить, что это и должно быть именно так: люди Востока, признающие необходимость экономической конкуренции с Западом, несмотря на все отвращение, которое они к этому испытывают, идут на это с единственной целью спастись от иноземного господства, основанного на грубой силе и на 182 Из книги "Кризис современного мира" материальных возможностях, открывающихся благодаря промышленности. Насилие призывает насилие, но следует признать, что к сражению на этом поприще первыми стремились отнюдь не люди Востока. Более того, вне всякой связи с отношениями между Востоком и Западом, легко заметить, что среди результатов индустриального развития наиболее показательными являются сегодня достижения в сфере производства военной техники, которая постоянно совершенствуется, увеличивая свои разрушительные возможности до тревожных пропорций. Уже одного этого достаточно, чтобы развеять пацифистские мечты некоторых фанатиков прогресса. Добавим, что эти тотальные войны стали возможными благодаря другому специфически современному феномену — формированию наций, произошедшему как следствие разрушения феодальной системы и разложения высшего единства средневекового Христианства. Не имея возможности развить здесь эту тему полнее, так как это завело бы нас слишком далеко, укажем лишь, что вещи усугубляются еще и за счет непризнания никакой духовной власти, которая в нормальных условиях смогла бы выступить как подлинный арбитр, в силу своей собственной природы находясь выше всех конфликтов чисто политического уровня. Отрицание духовной власти также является практическим материализмом. Даже те народы, которые теоретически признают эту духовную власть, на практике отказывают ей в каком-либо действенном влиянии или вмешательстве в социальную сферу, подобно тому, как религия выносится за пределы каждодневного существования простых верующих: и в общественной, и в личной жизни преобладает одно и то же мировоззрение. Даже если допустить, что материальное развитие имеет на самом деле некоторые преимущества, хотя и весь183 Рено Геном ма относительные, рассмотрение его последствий, которые мы упоминали выше, с необходимостью ведет к закономерному сомнению: не перевешивают ли негативные результаты такого развития его позитивных результатов? Мы уже не говорим о множестве несравнимо более ценных вещей, принесенных в жертву чисто материальной форме развития; о забытом в угоду материализму высшем знании, о заброшенной интеллектуальности и об исчезнувшей духовности. Мы утверждаем, что даже при оценке современной цивилизации в ее собственных терминах, сравнение ее преимуществ с ее недостатками, скорее всего, покажет, что преобладающими являются именно недостатки. Новые изобретения, число которых с каждым днем возрастает, становятся все более и более опасными благодаря тому, что они апеллируют к таким силам, чья истинная природа остается совершенно неизвестной для использующих их людей. И подобное невежество лишний раз доказывает неспособность современной науки объяснить что бы то ни было и ее несостоятельность как сферы истинного знания, даже в такой узкой области, как физика. Тот факт, что такое невежество отнюдь не препятствует практическим приложениям науки, свидетельствует лишь о том, что, в действительности, она ориентирована исключительно на практические цели, и что промышленность и ее проблемы являются единственной подлинной заботой всех ее поисков. Опасность, заключенная в подобных изобретениях, даже в том случае, если они не имеют прямого отношения к орудиям массового уничтожения (что не мешает им быть причиной множества катастроф, не говоря уже о нарушении экологического баланса окружающей среды), несомненно, будет все более и более возрастать до тех пределов, которые довольно трудно предвидеть. И более чем вероятно, что именно благодаря 184 Из книги "Кризис современного мира" этим тревожным изобретениям современный мир сам породит причину собственной гибели, если движение в этом направлении не будет остановлено в ближайшее время, пока это еще возможно. Однако при оценке современных изобретений недостаточно только сдержанности, основанной на понимании заключенной в них опасности. Здесь есть и другая сторона дела. Часто можно слышать славословия тем благодеяниям, которые несет с собой так называемый прогресс, и можно было бы согласиться с самим этим термином «прогресс», если уточнить, что речь идет исключительно о материальном прогрессе. Но не являются ли эти благодеяния, которыми так гордятся сегодня, чисто иллюзорными? Современные люди настаивают, что с помощью прогресса они значительно повысили свое благосостояние. С нашей точки зрения, даже если они действительно добились в чем-то своей цели, вряд ли затраченные усилия могут быть оправданы полученными результатами. И более того, достигнуты ли эти цели, это еще вопрос. Во-первых, следует учесть, что не все люди имеют одинаковые вкусы и одинаковые потребности, и кое-кто, быть может, с радостью избежал бы современной спешки и страсти к большим скоростям, хотя это более не представляется возможным. Разве можно считать благодеянием по отношению к подобным людям то, что их заставляют участвовать в чем-то совершенно противоположном их собственной природе? Могут в ответ на это возразить, что сегодня таких людей немного, и к ним, поэтому, можно относиться как к ничтожному меньшинству. И в этом случае, равно как и в области современной политики, большинство узурпирует полномочия на подавление меньшинства, которое в его глазах просто не имеет права на существование, так как такое существование идет вразрез с эгали185 Рено Геном тарной манией униформности. Но если принять во внимание все человечество, а не только один западный мир, то вопрос станет совершенно иначе: то, что было большинством, станет меньшинством. Поэтому здесь используют иной аргумент, и, несмотря на всю противоречивость данного утверждения, поборники равенства во имя превосходства своей позиции стремятся навязать свою цивилизацию всему остальному миру, привнося тем самым смуту в народы, которые сами их никогда об этом не просили. И так как все это превосходство сводится к превосходству чисто материальному, для его утверждения используются самые грубые и материальные средства. Более того, надо прояснить этот вопрос до конца: если широкая публика действительно искренне верит в предлог о необходимости распространения цивилизации, для многих это лишь форма морализаторского лицемерия, прикрывающего чисто экономические интересы и амбиции. Насколько странно выглядит эпоха, в которую людей можно заставить верить, что счастье можно получить ценой своего полного подчинения посторонней силе, ценой разграбления всех их богатств, то есть всех ценностей их собственной цивилизации, ценой насильного насаждения манер и институтов, предназначенных для совершенно иных народов и рас, ценой принуждения к отвратительной работе ради приобретения вещей, не имеющих в их среде обитания никакого разумного применения! Но именно это и происходит сегодня: современный Запад не выносит людей, которые заведомо согласны были бы меньше работать и скромнее жить, и поскольку во всем в расчет принимается только количество, а все, что не воспринимается органами чувств, считается просто несуществующим, то всякий человек, не пребывающий в состоянии ажитации и не производящий материальных предметов, с неизбежностью квалифицируется как лентяй или бездельник. 186 Из книги "Кризис современного мира" В подтверждение этого (не говоря уже о расхожих мнениях относительно людей Востока) достаточно упомянуть об оценке, бытующей даже среди людей, считающих себя религиозными, относительно чисто умозрительных монашеских орденов. В современном мире нет больше места ни для интеллекта, ни для каких бы то ни было вещей внутренней природы уже потому, что их нельзя ни увидеть, ни потрогать, ни взвесить, ни сосчитать. Всех занимают только чисто внешние действия во всевозможных формах, даже те из них, которые начисто лишены всякого смысла. Поэтому не следует удивляться тому, что англосаксонская мания спорта с каждым днем распространяется все шире и шире: идеал современного мира — это человеческое животное, развившее свою мускульную силу до последних пределов. Его герои атлеты, даже если они грубы и бессмысленны. Именно такие персонажи вызывают всеобщий энтузиазм, и их достижения возбуждают страстный интерес толпы. Мир, в котором процветают подобные вещи, действительно безмерно пал и предельно близок к своему концу. Однако посмотрим на вещи с позиции тех, чей идеал действительно состоит в материальном благосостоянии, и кто, поэтому, на самом деле восхищается всеми изменениями, привнесенными в жизнь современным прогрессом. Но не обманываются ли и они? Разве в действительности использование средств быстрого сообщения и других подобных вещей, а также более суетливая и усложненная современная жизнь делают сегодняшних людей более счастливыми, чем их предки? Напротив, справедливо скорее обратное: отсутствие сбалансированности и уравновешенности не может быть условием подлинного счастья. Кроме того, чем больше у человека потребностей, тем больше шансов, что ему чего-то будет недоставать, и поэтому 187 Рено Генон он будет несчастлив. Современная цивилизация стремится искусственно создавать все новые и новые потребности, и как мы уже сказали, этих потребностей всегда будет больше, нежели она сможет удовлетворить, и раз ступив на этот путь, будет крайне сложно остановиться, а, кроме того, для подобной остановки нет никаких весомых причин. Раньше для людей не составляло никакого труда обходиться без вещей, о существовании которых они и не подозревали и к которым никогда и не стремились. Сегодня, напротив, им тягостно выносить отсутствие определенных вещей, так как они привыкли считать их необходимыми, и в конечном итоге, они действительно стали для них необходимы. Поэтому люди всеми возможными путями стремятся приобрести средства для удовлетворения своих материальных нужд, которые одни только и остались у современного человека. Все заинтересованы лишь в том, чтобы делать деньги, поскольку лишь деньги позволяют им приобрести все эти вещи, и чем больше этих вещей находится в их распоряжении, тем больше они хотят приобрести еще, продолжая постоянно обнаруживать все новые и новые потребности. И эта страсть становится единственной целью в жизни. С некоторых пор жестокая конкуренция в концепциях некоторых эволюционистов была возведена в статус научного закона под именем борьбы за существование, чьим логическим следствием стало утверждение, что только сильнейший, причем сильнейший в узко материальном смысле этого слова, имеет право на существование. Тогда же появилась зависть и даже бешеная ненависть к тем, кто имеет больше, со стороны тех, кто имеет меньше. И как могут люди, которым постоянно внушаются теории равенства, ие восстать, видя вокруг полное неравенство во всем, что касается материальной стороны вещей, то есть 188 Из книги "Кризис современного мира" именно той, которая затрагивает их более всего? И если современная цивилизация однажды будет уничтожена беспорядочными и безмерными аппетитами, пробужденными ею же самой в массах, надо быть слепым, чтобы не увидеть в этом справедливого воздаяния за ее же собственные грехи, или иными, не имеющими отношения к морали, словами, за последствия ее собственных действий в сфере развертывания этих действий. Евангелие гласит: «Все те, кто возьмут меч, от него и погибнут». Те, кто пробуждают грубые силы материи, сами погибнут, раздавленные теми же силами, над которыми они хотели господствовать. Раз приведя их в движение, глупо затем надеяться, что контроль над ними будет продолжаться вечно. Неважно, будут ли это силы природы или сила людской толпы, или и то и другое одновременно. В любом случае это будут силы материи, впущенные в мир, и они неизбежно уничтожат того, кто хотел управлять ими, не умея при этом встать надо всем материальным уровнем. Евангелие также гласит: «Если царство разделится в себе самом, оно не устоит». И это целиком и полностью относится к современной цивилизации, которая в силу своей собственной природы не может не сеять повсюду беды, конфликты и разделения. Из всего этого, даже не прибегая к другим доводам, можно со всей уверенностью сделать логический вывод, что этот мир, если в нем не произойдет радикального изменения, радикального вмешательства, которое перевернет естественный сегодня ход вещей, должен неизбежно прийти к трагическому концу, причем это должно случится в самом ближайшем времени. Так как мы настаиваем на том, что современная цивилизация является исключительно материалистической и 189 Рено Генон материальной, наверняка, многие обвинят нас в том, что мы упускаем из виду некоторые элементы, которые в определенном смысле смягчают этот материализм. На самом деле, если таких элементов вообще не было бы, то, возможно, эта цивилизация в настоящее время уже прекратила бы свое жалкое существование и погибла бы. Поэтому мы никоим образом не оспариваем наличие подобных элементов, но, с другой стороны, и по этому поводу не следует строить себе никаких иллюзий: во-первых потому, что различные философские течения, именующие себя спиритуализмом и идеализмом, а равно такие современные тенденции, как морализм и сентиментализм, не принадлежат к числу этих подлинно нематериалистических элементов. Мы уже объясняли причины этого и напомним лишь, что для нас эти течения являются не менее профаническими, нежели сам теоретический или практический материализм, и вовсе не так уж и далеки от него, как это может показаться. Во-вторых, если остатки истинной духовности действительно сохранились, то лишь вопреки всей стихии современности и в полном противоречии с ней. Эти остатки духовности, если говорить лишь о собственно западной традиции, можно найти только в религии. Но мы уже отмечали, насколько сужена сегодня сфера религии, насколько скудное и посредственное представление о ней бытует среди самих верующих, и до какой степени она лишена подлинной интеллектуальности, тождественной истинной духовности. В таких условиях, если религия и содержит в себе еще некоторые возможности, то лишь в латентном, потенциальном состоянии, и ее реальное влияние чрезвычайно ограничено. Тем не менее поразительно видеть, с какой жизненной силой держится религиозная традиция, даже сузившись до виртуального, потенциаль19О Из книги "Кризис современного мира" ного состояния, несмотря на все многовековые попытки уничтожить и вытеснить ее окончательно. Те, кто еще способен мыслить, не могут не заметить в этом сопротивлении знаки не-человеческой силы. Но мы должны повторить еще раз, что эта традиция не принадлежит современному миру, не является одним из его компонентов, и, напротив, совершенно противоположна всем его тенденциям и целям. На этом следует настаивать, вместо того, чтобы тщетно пытаться примирить эти две непримиримые вещи: между религиозным сознанием в подлинном смысле этого слова и сознанием сугубо современным не может быть ничего, кроме радикального противостояния, и любой компромисс между ними только ослабит первое и усилит второе. В случае такого компромисса враждебность современного сознания по отношению к сознанию религиозному ни в коем случае не будет усмирена окончательно, так как его конечная цель и смысл существования состоит в уничтожении всего, что представляет в человечестве отблески реальности, далеко превосходящей собственно человеческий уровень. Иногда современный Запад называют христианским, но это совершенно неверно. Современное сознание является глубоко антихристианским, поскольку оно сущност-но анти-религиозно. А антирелигиозно оно по той причине, что оно анти-традиционно в самом широком смысле этого слова. И именно это качество является его отличительной чертой, делает из него то, что оно есть. Без сомнения, кое-что от христианства все же осталось и в современной анти-христианской цивилизации, так что даже самые передовые, по их собственному определению, ее представители подвержены, хотя подчас невольно и бессознательно, определенному, порой косвенному христианскому влиянию: каким бы решительным 191 Рено Геном ни был порыв с прошлым, он никогда не может уничтожить вообще всякую связь с ним. Более того, мы утверждаем, что все, имеющее хотя бы малейшую ценность в современном мире, пришло в него именно из христианства, или, по меньшей мере, через посредство христианства, так как христианство принесло с собой все наследие предыдущих традиций, оживляло это наследие, пока это было возможно, и до сих пор содержит в латентном состоянии многие подобные возможности. Но разве кто-нибудь сегодня, даже среди тех, кто называют себя христианами, имеет подлинное знание об этих возможностях? Где найти, хотя бы в католичестве, людей, которые сознавали бы глубинный смысл исповедуемых ими внешне доктрин, и которые, не довольствуясь более или менее поверхностным, скорее сентиментальным, нежели разумным верованием, действительно знали бы истины традиции, наследниками которой они сами себя считают? Мы бы хотели увидеть доказательство, что такие люди существуют, пусть даже в ничтожном количестве, и тогда это могло бы быть величайшей, и быть может, единственной надеждой действительно спасти Запад. Но мы вынуждены признать, что до сих пор мы не встречали ничего подобного: быть может, следует предположить, что они живут окруженные тайной в каком-то недоступном убежище, как некоторые мудрецы Востока? А может быть, надо вообще расстаться с этой надеждой на спасение? Запад был христианским в Средневековье, но он более таковым не является. Если кто-то скажет, что он снова может стать христианским, мы заметим, что ничего большего мы сами и не желали бы, и что мы искренне хотели бы верить, что это случится раньше, чем того позволяет ожидать внешнее течение событий. Но и в этом отношении не следует заблуждаться: если это случится, с современным миром будет покончено навсегда. 192 Из книги "Кризис современного мира" Экспансия Запада Как мы уже говорили, современное смешение коренится в западном мире, и вплоть до последнего времени оно имело более или менее локальные масштабы. Но сегодня процесс смешения приобретает такие пропорции, что его значение безмерно возрастает: смешение и хаос распространяются повсюду, и кажется даже, что сам Восток становится их жертвой. Конечно, западная экспансия не представляет собой ничего нового, но в предшествующие эпохи она ограничивалась более или менее грубой до-минацией над народами, и воздействие Запада не распространялось дальше уровня политики и экономики: несмотря на все виды пропаганды, проводимой представителями Запада под любыми предлогами, сугубо восточное мыш-i оиие оставалось незатронутым, и древние традиционные цивилизации продолжали существовать так же, как и прежде. Сегодня же, напротив, появляется все больше и больше восточных людей, которые целиком и полностью «вес-тернизированы», которые отрекаются от своих традиций и усваивают все заблуждения, свойственные сугубо современному мировоззрению. Подобные «вестернизирован-иые» элементы, сбитые с пути обучением в европейских или американских университетах, становятся источниками смуты и волнений в своих собственных странах. Но при этом, по крайней мере, в настоящее время, не следует преувеличивать их значимость: люди Запада часто воображают, что эти шумные, но малочисленные персонажи и представляют собой современный Восток, но на самом деле их влияние не имеет какого бы то ни было широкого или глубокого резонанса. Это заблуждение имеет весьма простое объяснение: истинные представители Востока 7 - 6054 193 Рено Геном не имеют ни малейшего желания быть известными и популярными на Западе, тогда как восточные модернисты, если можно так выразиться, постоянно стремятся выдвинуться на передний план, произносят речи, пишут книги и вступают во всевозможные формы внешней деятельности. Но, тем не менее, это анти-традиционное движение действительно имеет шансы распространиться достаточно широко, и эту возможность, какой бы неприятной она ни была, все же следует принимать во внимание. Истинно традиционный дух сегодня имеет тенденцию все более и более замыкаться в самом себе, и центры, хранящие его во всей его полноте, становятся с каждым днем более закрытыми и труднодоступными. Тотальность смешения точно соответствует тому положению вещей, которое и должно иметь место в последней стадии Кали-юги!. Следует сказать со всей определенностью: сугубо современное мировоззрение является чисто западным, и те, кто затронут им, должны считаться носителями «западного» мышления, даже в том случае, если они по происхождению являются людьми Востока. Восточные идеи совершенно чужды подобным людям, и их враждебность по отношению к традиционным доктринам объясняется только их полнейшим невежеством в этой области. Странным и парадоксальным может показаться в данной ситуации тот факт, что сторонники Запада на интеллектуальном, а точнее, на анти- интеллектуальном плане, часто являются 1 Согласно Ведам, Земля в своем развитии последовательно проходит через циклы из четырех веков или эпох, сменяющих одна другую, как времена года. Последний век, Кали-юга, называется Железным веком или Веком машин. В эту эпоху люди отличаются самыми ужасными и отвратительными качествами. Наступает общая экономическая и духовная деградация. После окончания века Кали, Господь исправляет положение, восстанавливает религиозные принципы и начинает новый цикл в развитии Земли. — Примеч. ред. 194 Из книги "Кризис современного мира" противниками Запада в вопросах политики. Но в этом нет ничего удивительного, так как подобные люди стремятся к формированию на Востоке различных «наций», а всякий национализм глубоко чужд традиционным воззрениям. Даже если такие деятели справедливо хотят противостоять иностранной дом и нации, они используют для этого те же западные методы, что и сами западные народы в своей междоусобной борьбе. Может быть, в этом единственно и состоит смысл самого их существования. Если использование подобных методов стало уже неизбежным, то заниматься этим могут только те члены общества, которые порвали всякую связь с традицией. Возможно, подобные элементы и следует использовать в прагматических целях, чтобы впоследствии избавиться от них, равно как и от самих западных завоевателей. Кроме того, довольно логично было бы обратить против Запада его же собственные идеи, так как такие идеи не могут породить ничего, кроме разделения и разрушения, направленных против тех, кто их впервые выдвинул. Быть может, именно в результате подобных идей и суждено погибнуть современному миру. Не так уж важно, произойдет ли это в ходе внутренних раздоров на самом Запада, раздоров между нациями или социальными классами, или, как предполагают некоторые, вследствие атак «вестернизирован-ных» людей Востока, или же вследствие катаклизма, вызванного «научным прогрессом» — как бы то ни было, всякая опасность для Запада исходит от него самого и является плодом, порожденным им самим. Единственный вопрос, который следует здесь поставить, состоит в следующем: переживет ли Восток под влиянием Запада лишь временный и довольно поверхностный кризис, или Запад вовлечет в свое падение все человечество? На сегодняшний день трудно дать по этому 195 Рено Геном поводу какой-либо определенный ответ, основанный на конкретных фактах. Обе эти противоположные возможности рассматриваются сегодня на Востоке, но может статься, что все же духовная сила, присутствующая в традиции, — о наличии которой ее враги даже и не подозревают, — одержит верх над материальной силой, когда та отыграет свою роль, и рассеет ее, как свет тьму. Но вероятно и то, что прежде, чем это произойдет, наступит период полнейшего мрака. Традиционный дух не может погибнуть, будучи по ту сторону изменения и смерти. Но он может полностью покинуть этот мир, и в этом случае свершится настоящий «Конец Света», «Конец Мира». Из всего вышесказанного должно быть ясно, что подобное событие, скорее всего, произойдет в самом ближайшем будущем. Смешение, захлестнувшее сегодня Запад и все больше распространяющееся на Востоке, может быть понято как «начало конца», как предупредительный знак о скором наступлении того момента, когда, согласно индуистской традиции, вся сакральная доктрина замкнется, как в раковине, из которой она снова появится во всей своей полноте лишь на заре нового мира. Оставим, однако, предсказания будущих событий и обратимся к настоящему: как бы то ни было, Запад, без всякого сомнения, осуществляет свою экспансию повсюду. Вначале его влияние проявлялось только в материальной, наиболее близкой ему, сфере, через насильственные завоевания, торговлю и контроль за природными ресурсами других стран. Сегодня же ситуация значительно усугубилась. Люди Запада, всегда жаждущие прозелитизма, столь им свойственного, преуспели в насаждении своего анти-традиционного и материалистического мировоззрения среди других народов. Если вначале их завоевания затрагивали людей только телесно, то сегодня они проходят 196 Из книги "Кризис современного мира" в более тонкой сфере, отравляя умы людей и убивая в них всякую духовность. Конечно, только материальное покорение сделало возможным покорение духовное, и поэтому можно утверждать, что Запад, в конечном итоге, навязал себя миру только с помощью грубой силы, что, впрочем, совершенно логично, так как только в грубо материальной сфере состоит единственное преимущество западной цивилизации, какой бы ущербной она ни была с другой точки зрения. Западная экспансия — это экспансия материализма во всех его формах, и она не может быть ничем иным. Ничто не способно опровергнуть эту истину — никакие лицемерные предлоги, никакие моралистические оправдания, никакие гуманитарные восклицания, никакие пропагандистские уловки, никакое (подчас довольное ловкое и искусное) внушение, пытающиеся прикрыть эти разрушительные цели. Отрицать ее могут либо законченные простаки, либо люди, непосредственно заинтересованные в осуществлении «сатанинской» в самом прямом смысле этого слова операции1... Уместно было бы упомянуть здесь и некоторые предсказания, имеющие прямое отношение к судьбе современного мира. Ими и следовало бы закончить настоящую работу, если бы ссылки на них не подвергались оиску дать «профаническому» невежеству легко доступный повод для вульгаризации определенных знаний, а к изложению некоторых соображений такого рода следует всегда подхо1 Сатана по древнееврейски означает «враг», «противник», то есть тот, кто извращает, переворачивает все вещи с ног на голову. Дух отрицания и переворота фактически совпадает с нисходящей, низводящий все и вся тенденцией, с тенденцией «инфернальной» в этимологическом смысле этого слова (infernus — по-латыни означает «низ», «нисходящий» и одновременно «ад». — Примеч. перев,), которая вовлекает существ в процесс материализации, лежащий в основе развития современного мира, — Примеч. авт. 197 Рено Геном дить с величайшей осторожностью. Мы не принадлежим к числу тех, кто полагает, что обо всем можно говорить совершенно открыто, по меньшей мере, тогда, когда дело касается не самой чистой доктрины, а ее частных приложений. Определенные ограничения в этой области совершенно необходимы, а, кроме того, всегда следует сообразовываться с конкретными обстоятельствами. Но эта обоснованная и необходимая осторожность не имеет ничего общего с ребяческими страхами, проистекающими из простого невежества и подобными ужасу человека, который, согласно индусской пословице, «принял веревку за змею». Нравится ли это кому-то или нет, но определенные вещи должны быть высказаны только тогда, когда этого требуют обстоятельства. И этому не могут помешать ни эгоистические интересы одних, ни бессознательная враждебность других, но, с другой стороны, и нетерпение третьих — тех, кто захвачен спешкой современного мира и хочет узнать все сразу, — не может ускорить тот срок, в который определенным вещам суждено открыться. Ко этим последним следует утешать себя тем, что все возрастающая скорость событий в современном мире, несомненно, не замедлит удовлетворить их любопытство. Хотелось бы только, чтобы они не пожалели о своей недостаточной подготовленности к получению определенных знаний, к которым они стремились скорее эмоционально, нежели обдуманно. Заключение Главная задача настоящего труда состояла в том, чтобы показать, как путем приложения данных традиции найти прямые ответы на вопросы, возникающие сегодня; каким образом можно объяснить актуальное положение со198 Из книги "Кризис современного мира" временного человечества, а также как следует оценивать сущность современной цивилизации в соответствии с духовной истиной, а не просто исходя из условных правил или сентиментальных предпочтений. Мы отнюдь не утверждаем, что полностью осветили данную проблему или разобрали ее во всех деталях, а также, что мы развили все аспекты этой темы. Уже сами принципы, которыми мы вдохновлялись, обязывали нас придерживаться сущност-но синтетической, а не аналитической точки зрения, на которой настаивает современное «профаническое» обучение. Но именно потому, что эта точка зрения является синтетической, она позволяет дать гораздо более глубокие объяснения, нежели какой бы то ни было анализ, в действительности пригодный лишь для описания, а не для объяснения явлений. Но мы считаем, что сказали достаточно, и те, кто способен понять суть, смогут теперь сами вывести для себя все те следствия, которые потенциально содержатся в тезисах данной работы. И они могут быть уверены, что подобный труд будет для них более ценным, нежели чтение книг, не оставляющих место для самостоятельных раздумий и размышлений. Мы же, напротив, стремились самостоятельных предложить поисков, интеллектуального здания, отправную разработать способного точку фундамент для для возвыситься подобных возведения надо всем бессмысленным множеством частных и узко индивидуальных мнений. Остается добавить несколько слов относительно практической значимости данной работы. Вообще говоря, эта практическая значимость не должна представлять для нас особого интереса, так как мы стоим на точке зрения чистой метафизической доктрины, по отношению к которой всякое ее приложение остается не важным и условным, а именно о таком приложении здесь и идет речь. Однако, помимо какой бы то ни было практической пользы, это 199 Рено Геном приложение в данном случае необходимо по двум причинам: оно является правомочным следствием определенных принципов, закономерным развитием доктрины, которая, будучи единой и универсальной, должна охватывать все уровни реальности без исключения. Одновременно с этим подобное приложение может являться, по крайней мере, для определенных людей, подготовительным этапом для перехода к высшему уровню знания, как мы показали это на примере «сакральной науки». Но, кроме того, находясь в сфере приложений принципов, вполне правомерно рассматривать эту сферу в ее собственных терминах, оценивая присущую ее элементам значимость в категориях самого этого уровня, но, естественно, лишь при том условии, что сами принципы ни на мгновение не будут упущены из виду. Забвение принципов — опасность вполне реальная, и мы видели, что такое забвение лежало в основании вырождения, приведшего к возникновению «профанической науки». Но эта опасность не грозит тому, кто ясно понимает, что все проистекает из чистого интеллекта, и все зависит от него, в то время как то, что не осознает этой зависимости, с необходимостью являет- ся иллюзорным. Как мы уже неоднократно говорили, все должно начинаться с уровня чистого знания. То, что представляется максимально удаленным от практической сферы, является максимально эффективным. Эта эффективность реальна даже в самой этой практической сфере, поскольку здесь, как и везде, без знания принципов нельзя добиться ничего серьезного, долговременного и ценного, и всякая деятельность такого рода останется лишь поверхностной и тщетной суетой. Возвращаясь непосредственно к интересующему нас вопросу, следует заметить, что именно по этой причине, если бы все люди познали то, чем является современный мир в действительности, этот мир в то же мгновение прекратил бы свое существование, 2ОО Из книги "Кризис современного мира" так как это существование, равно как и сам современный мир, суть явления негативные, основанные на чистом отрицании, как и вообще всякое невежество, «не-знание» и чистая «ограничительность». Современный мир есть не что иное, как отрицание традиционной и сверхчеловеческой истины. И в случае такого понимания сущности современного мира всем человечеством финальная трансформация произошла бы безо всякой катастрофы, которой иначе нельзя избежать ни при каких условиях. И мы не ошибемся, если скажем, что такое понимание чревато воистину неисчислимыми практическими последствиями. Но, с другой стороны, трудно представить себе, что действительно все смогут достичь этого знания, так как большинство современных людей сегодня далеки от этого, как никогда ранее. Впрочем, это даже и не является строго необходимым, так как в данном случае достаточно небольшой, но адекватно сформированной элиты для юго, чтобы задать массе определенное направление. При угом масса, подчиняющаяся воздействию элиты, могла бы даже и не подозревать о существовании самой этой элиты и о методах ее воздействия. Возможно ли еще на Западе формирование такой элиты? Мы не будем возвращаться к тому, что уже было сказано нами в другом месте относительно роли ингеллекту-альной элиты, которую она смогла бы сыграть при определенном стечении обстоятельств в более или менее недалеком будущем. Ограничимся лишь следующим замечанием: какой бы ни была трансформация, происходящая при переходе от одного мира к другому, — независимо от того, идет ли речь о больших или малых циклах, — она, оставаясь внезапной и резкой, не предполагает полного обрыва всякой преемственности, абсолютной дисконтинуально-сти, так как все циклы связаны друг с другом цепью причин. Элита, о которой мы говорим, могла бы, пока для ее 2О1 Рено Генон формирования еще осталось немного времени, подготовить эту трансформацию таким образом, чтобы она произошла при наиболее благоприятных условиях, и чтобы заключенные в ней неизбежные потрясения были бы сведены к минимуму. Но даже если бы этого не удалось добиться, у нее остается еще одна, более важная задача — способствовать сохранению того, чему суждено пережить гибель современного мира и принять участие в становлении мира грядущего. Вполне понятно, что не следует дожидаться конца нисхождения, чтобы начать подготавливать новое восхождение, так как такое восхождение неизбежно грядет даже в том случае, если нельзя избежать финального катаклизма, которым завершится процесс нисхождения. Итак, в любом случае усилия не будут потрачены даром: и потому, что сама эта элита будет вознаграждена сторицей уже самим фактом своего появления, и потому, что так или иначе результаты этих усилий с необходимостью коснутся всего человечества. Вот как следует рассматривать актуальное положение дел в этом вопросе: элита в восточных цивилизациях еще существует, и, несмотря на то, что она становится все более и более малочисленной под воздействием экспансии современного мира, она будет существовать до конца цикла, так как это необходимо для сохранения традиции, которая не может погибнуть окончательно, и для дальнейшей передачи того, что сохранилось. На Западе же, напротив, такой элиты в настоящий момент нет. Вопрос остается открытым: сможет ли она сформироваться до конца нашей эпохи, то есть будет ли участвовать западный мир в сохранении и передаче традиции, или же вся западная цивилизация, потеряв последние остатки подлинного духа традиции, должна быть уничтожена за неимением пригодных для будущего века элементов? На конечном результате цикла судьба Запада, конечно, не скажется, и поэто2О2 Из книги "Кризис современного мира" му, строго говоря, поставленный вопрос имеет весьма второстепенное значение, но все же, учитывая конкретные условия нашего периода, эта проблема имеет некоторый смысл. В принципе, можно было бы ограничиться замечанием, что западный мир, несмотря ни на что, является частью единого целого, от которого он отделился окончательно лишь с началом современной эпохи, и что в финальной интеграции нашего цикла все части должны обрести свое законное место. Но это не обязательно предполагает предварительную реставрацию самой западной традиции, так как эта традиция может продолжать существовать в виде постоянной возможности в самом своем принципиальном истоке, вне всякой обусловленной обстоятельствами формы, в виртуальном состоянии. Подобный исход был бы самым печальным для западного мира, взятого как самостоятельная реальность, и его актуальное состояние заставляет опасаться, что именно такой исход наиболее вероятен. Но все же мы утверждаем, что некоторые признаки позволяют не терять до конца надежду на более благоприятное разрешение сложившейся ситуации. Сегодня на Западе существует гораздо больше, чем обычно принято считать, людей, начинающих понимать, чего недостает их цивилизации. Если они подчас к остаются на уровне смутных стремлений, если их поиски часто оказываются тщетными и даже заводят их в полный тупик, то лишь потому, что у них не хватает конкретных данных, заменить которые ничто не в состоянии, и потому, что не существует никакой организации, которая могла бы указать им должное направление. Мы здесь не говорим о тех, кто находит это направление в восточных традициях и кто интеллектуально выходит тем самым за рамки западного мира. Подобные люди, представляя собой случай исключительный, не могут стать членами чис2ОЗ Рено Генон то западной элиты. Они остаются как бы продолжением восточных элит и могут служить переходным звеном между этими элитами и элитой Запада, если таковая будет сформирована. Но западная элита должна организоваться по инициативе самого Запада, и в этом состоит главная трудность. Эта инициатива может развиваться двояким образом: либо Запад найдет в самом себе средства для прямого возврата к своей собственной традиции, как бы мгновенно пробудив свои скрытые возможности, либо определенные западные люди осуществят эту деятельность по реставрации традиции с помощью знаний, почерпнутых из восточных доктрин. Такое знание, однако, не может быть для них прямым, так как они несмотря ни на что должны оставаться людьми Запада. Но это знание может быть усвоено ими через косвенное влияние, оказываемое теми, кто вступил в элиту Востока и о ком мы упоминали выше. Первая из этих гипотез маловероятна, так как она предполагает интегральное и целостное сохранение на Западе хотя бы одного полноценного элемента традиционного духа, но вопреки заявлениям некоторых авторов о том, что такое сохранение действительно имеет место, нам оно представляется весьма сомнительным. Поэтому следует подробнее разобрать вторую гипотезу. В этом случае определенное преимущество, хотя и отнюдь не необходимое, заключается в том, что формирующаяся элита смогла бы найти точку опоры в какой-то западной организации, которая уже существует в реальности. Но на Западе есть только одна организация действительно традиционного характера, сохранившая доктрину, которая может предоставить надежное основание для осуществления реставрации: это Католическая Церковь. Для того, чтобы Церковь стала действительно центром создания интеллектуальной элиты, достаточно было бы, ничего не меняя в ее внешней религиозной форме, вер2О4 Из книги "Кризис современного мира" нуть ее доктрине ее глубинный смысл, который был свойствен ей изначально, но который не осознается более современными представителями Церкви. Кроме того, следовало бы всемерно подчеркивать сущностное единство Христианства с другими аутентичными формами Традиции. Впрочем, эти два аспекта вообще неотделимы друг от друга. Все это и явилось бы подлинной реализацией католицизма в истинном смысле слова, а слово «католический» этимологически заключает в себе идею универсальности, что часто забывают те, кто хочет отождествить это название с узко западной религиозной формой, не имеющей никаких связей с другими традициями. И можно сказать, что при настоящем положении дел католицизм как универсальность существует лишь в потенции, так как в нем нет более и следов сознания истинной универсальности. Но верно, однако, что сам факт существования организации с таким названием является указанием на возможное основание для реставрации духа традиции во всей его полноте, тем более, что в Средние века Католическая Церковь уже служила опорой для этого духа в западном мире. Итак, речь идет лишь о воссоздании того, что уже существовало до начала современного извращения. Остается лишь произвести определенную адаптацию к условиям актуальной эпохи. И если кто-то из католиксв удивится подобной идее и попытается ее опровергнуть, то причина этого может корениться только в невольной бессознательной затронутое™ современным духом, который превращает нынешних верующих в носителей внешней скорлупы традиции, и не подозревающих о ее внутреннем глубинном содержании. Однако крайне важно установить, не заглушил ли еще окончательно и бесповоротно формализм буквального подхода (который сам по себе является еще одним проявлением того же «материализма») чистый дух религии? Или в лоне данной организации еще можно про2О5 Рено Гемон будить этот дух, не исчезнувший окончательно, но лишь временно затемненный и омраченный подобным буквальным подходом? Ответ на этот вопрос смогут дать только грядущие события. Возможно, что сам ход событий заставит руководителей Католической Церкви рано или поздно осознать важность того, что они отказываются признавать на чисто интеллектуальном уровне. И, безусловно, вызывает сожаление, что эта необходимость осмысления определенных вещей будет порождена преходящими обстоятельствами чисто политического характера в отрыве от всякого высшего принципа. Но следует признать, что повод для развития некоторых скрытых потенций дается во всех случаях средствами, соответствующими непосредственным и актуальным способностям каждого в отдельности. Вот почему мы беремся утверждать следующее: перед лицом усугубления все возрастающих беспорядка и хаоса следует призвать к союзу все духовные силы, оказывающие еще хотя бы какое-то влияние на внешний мир как на Востоке, так и на Западе. И в случае Запада это может относиться только к Католической Церкви. Если она сумела бы таким образом войти в контакт с представителями восточных традиций, мы всецело одобрили бы такой поворот событий, так как это послужило бы отправной точкой для процесса, о котором мы говорили выше. Но это будет не более чем первым шагом, так как, несомненно, не замедлит обнаружиться то обстоятельство, что чисто внешнее, «дипломатическое» взаимопонимание будет иллюзорным и не приведет ни к каким позитивным результатам. И снова придется возвращаться к тому, с чего в нормальных случаях следовало бы начинать — к согласию относительно самих принципов, к согласию, необходимым и достаточным условием которого будет новое осознание представителями Запада этих принципов в той же мере, в какой оно 2О6 Из книги "Кризис современного мира" всегда было свойственно представителям Востока. Подлинное согласие — повторим это еще раз — может установиться только сверху и изнутри, то есть в сфере чисто духовной и чисто интеллектуальной, что одно и то же, так как для нас эти слова суть синонимы. И затем, отправляясь от этой точки, согласие установится и во всех остальных областях. После того, как станут ясны принципы, не составляет труда вывести из них в качестве следствий, в качестве «эксплицирования», и все остальное. И преградой для этого может быть только одно: западный прозелитизм, который никак не может признать, что иногда надо иметь равноправных «союзников», а не просто «подчиненных». А еще точнее, истинной преградой является недостаток понимания определенных вещей, который и приводит к подобному прозелитизму. Преодолимо ли это препятствие? Если оно непреодолимо, то формирующейся элите придется рассчитывать исключительно на личные усилия тех, кто достаточно интеллектуально квалифицирован сами по себе, вне всякой конкретной среды, при само собой разумеющейся поддержке Востока. В таком случае дело значительно осложнится и замедлится, поскольку элите придется самой создавать для себя все необходимые инструменты, вместо того, чтобы использовать уже готовые. Но мы не думаем, что эти трудности, какими бы значительными они ни были, смогут сами по себе помешать тому, что должно осуществиться тем ЕЛИ иным образом. Мы считаем уместным добавить следующее: сейчас в западном мире существуют признаки одного движения, которое остается еще недостаточно определенным, но которое в нормальном случае должно привести к воссозданию интеллектуальной элиты, если, конечно, катаклизм не произойдет до того, как этот процесс успеет завершиться. Вряд ли стоит говорить, что Церкви в перспективе ее бу2О7 Рено Генон дущей роли было бы чрезвычайно выгодно тем или иным образом способствовать этому движению, а не предоставлять его самому себе, чтобы рано или поздно не оказаться в ситуации, когда придется догонять его ради сохранения своего влияния, которое может в один момент и прекратиться. Не надо даже прибегать к высшим соображениям, чтобы увидеть преимущества, которые сама Церковь может извлечь из нормального и внимательного отношения к этим тенденциям, тем более что оно не потребовало от нее никаких доктринальных уступок, и, напротив, очистило бы ее ото всех примесей современного духа, а также ничего не изменило в ее внешних аспектах. Было бы парадоксально, если бы Интегральный Католицизм реализовался без участия самой Католической Церкви. Эта Церковь оказалась бы в странном положении, так как перед лицом самых страшных нападок, которым она когда-либо подвергалась, она вынуждена была бы воспользоваться помощью и защитой тех, кого сами ее руководители (или по меньшей мере, те, кто выступает от имени ее руководителей), постарались дискредитировать совершенно необоснованными подозрениями. Что касается нас самих, го мы очень сожалели бы о подобном исходе. Но если все же ответственные представители Церкви в данной ситуации не хотят, чтобы дела дошли до этой стадии, они должны действовать именно сейчас, и полностью осознав все происходящее, запретить некоторым более или менее второстепенным деятелям Церкви по недостатку знаний или по общему недоброжелательству препятствовать тем попыткам, которые могут привести к очень важным и позитивным результатам. И подобные препятствия на пути позитивных процессов уже не раз ставились этими второстепенными церковными деятелями, что лишний раз доказывает повсеместность хаоса и беспорядка, не миновавших и саму Церковь. Мы уже предвидим, что 208 Из книги "Кризис современного мира" нас не преминут обвинить в отсутствии беспристрастности в данном вопросе, но мы утверждаем, что высказали эти соображения независимо ни от каких личных симпатий и совершенно объективно. Впрочем, подобные обвинения нас вообще не затрагивают, и мы всегда будем высказывать то, что должно быть сказано в тех случаях, которые мы считаем для этого подходящими. Наши настоящие замечания суть итог определенных заключений, к которым мы пришли в результате наблюдения за некоторыми «опытами», поставленными в чисто интеллектуальной сфере. Здесь же мы не хотели бы более вдаваться в подробности, которые сами по себе не представляют для нас большого интереса. Но мы спешим заверить читателей, что каждое сказанное нами слово по этому поводу мы хорошо обдумали. Следует однозначно предупредить, что тут совершенно бесполезно возражать, прибегая к социальным или чисто философским аргументам. Мы говорим о серьезных вещах и говорим о них всерьез, а поэтому у нас нет никакого желания терять время на дискуссии, в которых мы не видим ни малейшего смысла. Мы стоим в стороне от всякой политики, от всяких партийных ссор и раздоров между различными школами. Точно так же мы категорически отказываемся от всех западных «этикеток» и ярлыков, навешиваемых на высказываемые нами идеи, так как в западной терминологии нет того слова, которое могло бы их адекватно охарактеризовать. Нравится ли это кому-то или нет, но дела обстоят именно таким образом, и ничто не может изменить нашей позиции в этом вопросе. Здесь мы хотим высказать одно предупреждение, адресованное тем, кому, — если не в силу действительных и уже полностью усвоенных знаний, то, по меньшей мере, в силу природной способности к пониманию определенных вещей, — суждено стать членами возможной элиты 8 - 6054 2О9 Рено Геном Запада. Не вызывает никаких сомнений, что современный дух, будучи «дьявольским» в самом прямом смысле этого слова, стремится изо всех сил помешать тому, чтобы члены потенциальной элиты, сегодня изолированные друг от друга и разрозненные, смогли бы сплотиться должным образом для оказания эффективного воздействия на общественное мышление. Мы всячески настаиваем, чтобы те, кто более или менее глубоко осознал цель, к которой направлены их усилия, не позволили бы каким бы то ни было трудностям и препятствиям свернуть их с пути. Те, кто еще не выбрал такой абсолютной ориентации, которая охранила бы их от опасности сбиться с дороги, подвергаются серьезному риску, чреватому серьезными извращениями. В этом вопросе необходимы определенная осторожность и даже «недоверчивость», так как «враг», пока он не будет уничтожен окончательно, всегда может принимать самые различные и порой самые неожиданные формы. Часто бывает, что люди, полагающие, что они ускользнули от современного «материализма», притягиваются вещами, которые могут казаться противоположными этому материализму, но которые на деле оказываются реальностями того же порядка. И учитывая особенности западного характера, следует быть особенно бдительными к столь притягательным для этого характера «экстраординарным феноменам». В этом состоит основное заблуждение нео-спиритуалистов, и эта опасность, скорее всего, со временем будет возрастать, так как для сил мрака, поддерживающих актуальный хаос, это является наиболее эффективным средством. Вполне возможно, что мы не так далеки сегодня от эпохи, предсказанной словами Евангелия: «Поднимется лжехристос и лжепропроки, которые будут творить великие чудеса и дивные вещи, и даже избранные соблазнятся». «Избранные» — это в согласии с этимологией и есть элита в самом шиИз книги "Кризис современного мира" роком смысле этого слова, и заметим, что именно по этой причине мы настаиваем на использовании термина «элита», вопреки всем сугубо профаническим злоупотреблениям этим словом. Действительно избранными являются те, кто, завершив внутреннюю реализацию, не могут более поддаться соблазну. Но остаются еще и те, кто, имея в себе лишь потенции знания, являются только «зваными». Мы вступаем в эпоху, когда крайне трудно будет отличить «зерна от плевел», осуществить ту операцию, которую богословы называют «различением духов», так как скоро произойдет великое множество чрезвычайно сложных, беспорядочных и хаотических событий. Кроме того, те, кто при нормальных обстоятельствах должны были бы быть поводырями и вождями, сегодня, в силу недостатка истинных знаний, часто сами становятся «слепыми поводырями слепых». И неужели в подобных обстоятельствах, для того, чтобы воспрепятствовать высвобождению подлинно адских сил, помогут диалектические тонкости или какая-нибудь, пусть даже самая прекрасная, философия? Это не более чем иллюзия, которой следует остерегаться. Часто люди, находящиеся в полном неведении относительно того, что является чистым интеллектом, воображают, будто философское знание, которое даже в самом ,1гучшем случае есть не что иное, как бледная тень знанил истинного, может все поправить и всерьез излечить болезнь современного мышления. Есть также и те, кто видит в современной науке средство подняться до высших истин, в то время как на самом деле эта наука основывается как раз на отрицании таких истин. Все подобные иллюзии ведут лишь к потере истинной ориентации. В результате будет лишь зря растрачено множество усилий, и те, кто искренне хочет сопротивляться современному духу, будут обречены на полное бессилие, так как, не обретя знания глубинных принципов, без которых всякое действие окажет21О 211 Рено Геном ся совершенно тщетным и пустым, они с неизбежностью зайдут в безысходный тупик. Те, кто преодолеет препятствия и победит сопротивление среды, противостоящей всякой духовности, будут, без сомнения, весьма немногочисленны. Но здесь количество не играет роли, так как в этой сфере действуют иные законы, нежели законы материи и количества. Поэтому отчаиваться не следует. Но даже если нет никакой надежды достичь хоть сколько-нибудь весомого результата в деле реставрации традиции прежде, чем современный мир погибнет в ходе той или иной катастрофы, это не может быть оправданием того, чтобы не заниматься делом, глубинная значимость которого выходит далеко за рамки современного мира. Все, кто склонен предаваться отчаянию, должны помнить: ничто совершенное в этой области не проходит бесследно. Мрак, заблуждение и хаос побеждают лишь по видимости и на очень короткий промежуток времени. Все частные и преходящие нарушения равновесия являются лишь элементами универсальной гармонии. И, наконец, ничто и никогда не сможет противостоять силе истины. Так пусть девизом таких людей станет девиз некоторых древних инициатических организаций Запада: «Vincit omnia Veritas» («Истина побеждает все»). Часть III МИРУ СТАРОМУ КОНЕЦ Эмиль-Мишель Чоран Механика утопии В какой бы большой город ни заносила меня игра случая, я всякий раз удивляюсь: как это в нем что ни день не разражаются мятежи, резня, неслыханные побоища, светопреставление, наконец? Как столько людей могут сосуществовать в этакой тесноте, не уничтожая один другого, не питая друг к другу смертной ненависти? Любой из нас, естественно, ненавидит окружающих. Но не до белого каления. И эта усредненность, эта дряблость хранит общество от срыва, утверждает преемственность, прочность. Временами как будто чувствуешь подземный толчок, инстинкты просыпаются — но вот все уже опять смотрят друг другу в глаза, словно решительно ничего не произошло, и живут бок о бок, не поедая соседа, — по крайней мере, на людях. Все приходит в порядок, возвращается к спокойствию повседневных зверств, в конечном счете, не менее опасному, чем только что нарушивший его хаос. Но еще удивительней другое: в обществе со всеми его прелестями находятся люди, упорно воображающие, будто оно может стать иным, в корне перемениться. Откуда такое простодушие, такое неразумие? Вопрос, казалось бы, естественный, больше того — банальный. Но, может быть, мне извинят стоящее за ним любопытство, которое, напротив, здоровым не назовешь. 213 Эмиль-Мишель Чоран Ища новых испытаний и совсем было отчаявшись их отыскать, я подумал: а что, если взяться за утопическую словесность, обратиться к ее так называемым шедеврам, погрузиться, нырнуть в это все с головой? К вящей радости, там я нашел, чем утолить свою жажду покаяния, тягу к самоуничтожению. Несколько месяцев подряд сличать между собой сны о лучшем будущем, о пресловутом идеальном обществе, питаться этим неудобочитаемым хламом — какая невероятная удача! Предупрежу сразу: в подобной никчемной словесности скрыто немало поучительного, и тот, кто в нее окунется, не потеряет времени уж совсем даром. Он воочию увидит ту роль (полезную или губительную, решайте сами), которую играет в завязке любых событий даже не само счастье, а идея счастья. Идея, без которой не понять, почему с тех самых пор, как на земле вместе с историей воцарился железный век, каждая эпоха пускается на поиски совсем другого века — золотого. Положите этим поискам конец, и начнется всеобщий застой. Нас ведет одно — чары несбыточного. Иначе говоря, обществу, которое неспособно дать жизнь утопии и посвятить себя ей, угрожают склероз и распад. Житейская мудрость (до чар, как известно, не охотница) советует держаться счастья общедоступного, непридуманного. Человек отвечает отказом, и этот отказ — единственное, что делает его историческим существом, другими словами — искателем недосягаемого счастья. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали», — сказано в Апокалипсисе. Опустим небо, ограничимся «новой землей» — и перед нами ключ и формула утопических систем. Для пущей точности стоило бы заменить «землю» «городом», но это уже детали. Важно другое: предчувствие нового пришествия, лихорадка неотступного ожидания, обмельчавшая, осовремененная парусия, которая и порождает эти систе214 Механика утопии мы, дорогие сердцам обездоленных. Нищета — заветная соломинка утописта, сырье его труда, хлеб мысли, путеводная звезда наваждений. Что бы он делал, не будь нищеты? Она поглощает его ум, окрыляет или стоит поперек дороги — смотря по тому, беден он или богат. Но и нищете, в свою очередь, не обойтись без утописта: ей позарез нужен такой теоретик, такой фанатик будущего. Тем более что сама она, бесконечно размышляя над тем, как сбежать из настоящего, без одержимости иной землей впадает в непереносимое отчаяние. Не верите? Значит, не пришлось вам хлебнуть настоящей нужды. А если приведется, тогда вы поймете: чем большего вы лишены, тем больше времени и энергии расходуете на то, чтобы мысленно изменить все, иначе говоря — тратите попусту. Я имею в виду не учреждения, дело рук человеческих, — их вы прокляли раз и навсегда» — а сам ход вещей, обычных вещей, в гом числе самых ничтожных. Не принимая их такими как есть, вы пытаетесь навязать им свои законы и причуды, а сами красуетесь за их счет в роли законодателя, самодержца. Вы не оставляете в покое даже природу, рветесь перекроить ее облик и строй. Воздух не по вам — сменить, и немедленно! Камень? — та же история. А растительность? А человек? Добраться до устоев бытия, до самых основ хаоса — подчинить даже их, утвердиться даже там! Человек без гроша в кармане не находит себе места, он в горячке, он мечтает завладеть всем на свете и, пока в нем бушует неистовство, взаправду владеет этим всем, равный Богу, только никто этого не видит, даже Бог, даже он сам. Бред неимущих — прародитель любых событий, первоначало истории. Толпа бесноватых, жаждущих иного мира здесь и сейчас же, — это они вдохновляют утопии, это ради них утопии создаются. Но утопия, как мы помним, значит «нигдейя». 215 Эмиль-Мишель Чоран И откуда бы в самом деле взяться этим городам, которые стороной обходит беда, где труд — благословение, и в чьих стенах никто не боится смерти? Там царит принудительное счастье геометрических идиллий, регламентированных экстазов, несчетных и тошнотворных чудес, которые с неизбежностью подразумевает картина совершенного, сфабрикованного мира. Кампанелла с умилительной дотошностью перечисляет жителей своего Солнцеграда, не знающих «подагры, ревматизма, катаров, ишиаса, колик, водянки, газов в кишечнике...» У солнцеградцев всего в избытке, «ведь каждый здесь стремится к совершенству в том, что делает. Отличившийся в чем-то зовется Правителем... Женщины и мужчины, объединенные в группы, предаются труду, ни в чем не отступая от приказа своих Правителей и никогда не выглядя усталыми, как это бывает у нас. Они видят в своих вождях отцов или старших братьев». Сколько подобных пошлостей в любом образце утопического жанра, особенно у Кабе, Фурье, Морриса, где нет даже щепотки соли, без которой не бывает искусства, хоть словесного, хоть любого иного. Чтобы всерьез возводить подлинную утопию, с убежденностью живописать картину идеального общества, нужна, что ни говорите, известная доза простодушия (то бишь глуповатости). А она колет глаз и рано или поздно начинает раздражать читателя. Единственные нескучные утопии — пародийные. Написанные для игры, ради развлечения или в приступе мизантропии, они либо предвосхищают, либо вызывают в памяти «Путешествия Гулливера», эту Библию разочарованных, квинтэссенцию видений трезвого ума, утопию без надежды. Свифтовские сарказмы лишили жанр невинности, и хорошо, если не уничтожили его вовсе. Что проще смастерить: утопию или апокалипсис? У них разные правила, разные шаблоны. Первая — ее тра216 Механика утопии фареты ближе нашим глубинным инстинктам — положила начало утопической словесности, которая оказалась бы необозримой, не будь второго. Не каждый готов ставить на мировую катастрофу, не всем близки язык и манера тех, кто ее возвещает и афиширует. Но поклонники и фанатики жанра не без извращенного удовлетворения читают евангельские пассажи и клише, пригодившиеся потом на Патмосе: «.„Солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба... восплачутся все племена земные... не прейдет род сей, как все сие будет». Предчувствие небывалого, предвосхищение коренного перелома, эпохальное ожидание могут обернуться либо миражем (и надеждой на рай, земной или небесный), либо тревогой, и тогда перед нами образ идеального Зла, притягательного и отталкивающего катаклизма. «Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы». Все эти ужасы, разумеется, условность, прием. Иоанн Богослов не мог не прибегнуть к ним, решившись на свою блистательную тарабарщину, парад катастроф, который, впрочем, куда предпочтительней бесконечных островов и городов, где читателя душат безликим счастьем, где вас затягивают и перемалывают жернова «всемирной гармонии». Мечты утопистов рано или поздно сбываются, но в умах других. То, что для них было совершенством, для нас превращается в изъян, их химеры становятся нашими бедами. Тип общества, рисовавшийся им в самых возвышенных тонах, для нас, в ежедневном употреблении, непереносим. Взять хотя бы этот отрывок из «Путешествия в Икарию»: «Две с половиной тысячи женщин-модисток трудятся в ателье, одни сидя, другие стоя, почти все — приятные на вид... Поскольку каждая делает только свою деталь, это вдвое убыстряет работу и повышает качество. Самые элегантные голов217 Эмиль-Мишель Чоран ные уборы выходят из рук прелестных мастериц тысячами за утро...» Можно, конечно, признать подобные благоглупости плодами слабоумия или дурного вкуса. Но физические детали Кабе, что-ни говори, разглядел верно, а ошибся в другом — в сути. Нимало не подозревая о зазоре между существованием и производством (человек по-настоящему живет лишь помимо того, что делает, за пределами своих поступков), Кабе не сумел увидеть роковую силу принуждения, которое неотделимо от всякого труда, будь он ремесленным, промышленным или любым другим. Что больше всего поражает в утопической литературе, так это отсутствие психологического нюха, обыкновенного чутья. Ее герои — автоматы, игрушки, символы: они всегда неправдоподобны, всегда послушно исполняют роль куклы, идеи, затерянной в безликом мире. Кто в утопиях абсолютно неузнаваем, так это дети. В социе-тарном государстве Фурье они до того невинны, что им и в голову не приходит взять что-нибудь чужое, «сорвать яблоко с ветки». Но ребенок, который не воровал, это не ребенок. Так стоит ли придумывать общество, состоящее из марионеток? По-моему, лучшего рвотного, чем описание Фаланстера, не найти. В противоположность Ларошфуко, изобретатель утопий — это моралист, видящий в людях одно бескорыстие, самопожертвование, самозабвение. Лишенные плоти и крови, безупречные и никакие, растоптанные общественным Благом, свободные от изъянов и пороков, объемов и контуров, знать не знающие о реальной жизни, об искусстве краснеть за самого себя, изощряться в самообвинениях и самомучительстве, они не подозревают об удовольствии, которое приносят человеку горести ему подобных, о нетерпении, с каким он предвкушает и торопит их провал. Кстати, эти удовольствие и нетерпение могут 218 Механика утопии идти от вполне доброкачественного любопытства и никакой дьявольщины в себе не заключать. Набирая общественный вес, добиваясь процветания, двигаясь вперед, человек не знает, каков он на самом деле. Ведь поднимаясь выше и выше, он все дальше от самого себя, все острей чувствует свою пустоту, выморочность. Именно поэтому понимать себя начинаешь, только пережив провал, постигнув невозможность успеха ни в одном из человеческих предприятий: крах раскрывает глаза, лишь теперь ты становишься хозяином самому себе, порывая с привычной толстокожестью прочих. Чтобы в полную силу пережить собственное или чужое банкротство, нужно узнать беду, а если потребуется — даже окунуться в нее с головой; но как это сделать в городах и на островах, где подобное начисто исключено по высшим государственным соображениям? Сумерки здесь запрещены, дозволяется только свет. Никакого раздвоения: утопия как таковая противостоит манихейству. Враждебная всякому от-клонению, всему бесформенному, всему выбивающемуся из ряда, утопия укрепляет однородное, типичное, повторяющееся, правильное. Но жизнь — это взрыв, ересь, нарушение физических норм. Тем более человек: если соотносить его с жизнью, он — ересь в квадрате, победа индивидуальности, прихоти, явление возмутительное, существо, несущее раскол. Общество, эта совокупность до поры до времени спящих чудовищ, стремится наставить человека на истинный путь. А он, еретик по природе, чудовище уже разбуженное, воплощенный одиночка, нарушитель мирового порядка, находит удовольствие в своей исключительности, несет тяжкое бремя привилегий, расплачиваясь за превосходство над себе подобными собственной недолговечностью. Чем резче он выделяется, тем он опасней и уязвимее разом, ценой своей жизни возму219 Эмиль-Мишель Чоран щая покой других и утверждая в самом центре города устав изгнанника. «Наши надежды на будущее государственное устройство рода человеческого можно свести к трем главным пунктам: уничтожение неравенства между разными государствами, развитие равенства в каждом отдельном государстве и, наконец, усовершенствование человека» (Кондорсе). Описывая лишь реально существовавшие города, история, везде и во всем видящая скорее крах, чем исполнение наших надежд, увы, не узаконила ни одного из этих ожиданий. Для Тацитов не существует идеального Рима. Устраняя все неразумное и непоправимое, утопия противостоит трагедии — вершине и квинтэссенции истории. В совершенном городе не будет конфликтов; воля каждого подчинится, утихомирится и каким-то чудом сольется с волей остальных; воцарится полное единение, без самомалейших неожиданностей или противоречий. Утопия — это смесь ребяческой рассудительности с обмирщенным ангел оподобием. Человечество тонет во зле. Мы не просто совершаем злые поступки, но и, делая порой добро, мучимся, поскольку пошли наперекор собственной воле: не зря добродетельная жизнь требует покаяния, умерщвления плоти. Обращенный в демиурга падший ангел, Сатана, получив во владение землю, кичится перед лицом Бога и чувствует себя здесь, внизу, куда вольнее и могущественней, чем Господь. Если ограничить мир человеком, то Сатана — не захватчик его, а хозяин, полноправный суверен, восторжествовавший над Всевышним. Наберемся же смелости признать, в чьих мы руках. Великие религии на сей счет не заблуждались. Мара предлагает Будде, Ахриман Зороастру, а Искуситель Иисусу именно землю и господство надо всем земным, ко22О Механика утопии торым Князь мира владеет безраздельно. Пытаться утвердить на земле новое царство, всеобщую утопию или мировую империю — значит ввязаться в игру Сатаны, включиться в дьявольский замысел и довести его до конца: чего он хочет больше всего, так это втянуть нас в участие и тем самым увести от света, от сожаления о счастье, потерянном навсегда. Запертый в течение пяти тысячелетий рай, по Святому Иоанну Златоусту, снова открыл свои врата, когда Иисус испустил дух на кресте. В сопровождении наконец-то вернувшегося Адама туда был впущен разбойник и узкий круг праведников, прозябавших до того в аду, ожидая, когда пробьет «час искупления». Судя по всему, потом его снова заперли — и надолго. Взять Царство небесное силой невозможно. Горстка блаженствующих избранников, понятно, забаррикадировалась, использовав опыт, прелестям которого вполне обучилась на земле. Вот он, наш рай, совсем как настоящий. Это о нем мы мечтаем в минуты глубочайшего уныния, в нем хотели бы раствориться. И вдруг внезапный рывок увлекает и переносит нас туда: неужели мы не хотели бы на минуту вернуть то, что навсегда утратили, исправить ошибку собственного рождения? Лучший ключ к метафизическому смыслу ностальгии —- невозможность слиться со временем. Человек ищет утешения в далеком, незапамятном и недостижимом прошлом, еще до всякого становления. Мучающая при этом боль — действие первоначального разрыва — не дает перенести золотой век в будущее. По природе ностальгии ближе древнее, исконное; она стремится к нему не в поисках утехи, а для того, чтобы исчезнуть, сбросить ношу сознания. Она возвращается к истоку времен, чтобы найти настоящий рай, предмет своих сожалений. А земной рай, наоборот, свободен 221 Эмиль-Мишель Чоран от всякого сожаления. Это перевернутая, ложная, ущербная ностальгия, обращенная к будущему и затушеванная «прогрессом», — опровержение времени, глумливая перелицовка первозданного рая. Зараза это или привычка, но такая перелицовка в конце концов порабощает каждого. Вольно или невольно мы начинаем полагаться на будущее, делаем из него панацею и, свыкшись с этим перерождением времени в иное время, видим в нем теперь бесконечную и вместе с тем завершенную длительность, некую вневременную историю. Перед нами противоречие в терминах, неразрывное с надеждами на новое царство, на победу несокрушимого над становящимся, причем в рамках того же становления. В основе наших грез о лучшем будущем — попросту слабость теории. Так надо ли удивляться, что для ее подкрепления приходится прибегать к капитальнейшим парадоксам? Пока все помыслы людей поглощало христианство, они оставались глухи к соблазнам утопий. А вот когда в христианстве начали разочаровываться, утопия пустилась завоевывать и обживать умы. Она принялась за дело уже в период Ренессанса, но победить смогла лишь двумя веками позднее, в эпоху «просвещения» предрассудков. Тогда и родилось Будущее — образ неукоснительного счастья, рая по указхе, где нет места случаю, а в любой фантазии видят ересь или вызов. Описывать его — значит углубляться в подробности невообразимого. Сама мысль об идеальном городе — сущая пытка для разума, предприятие во славу сердца и в посрамление рассудка. (Как мог Платон опуститься до таких вещей? Ведь именно он — сколько ни отгоняй от себя эту мысль — стоял у истока подобных извращений, подхваченных и удесятеренных потом отцомоснователем современных иллюзий Томасом Мором.) Сооружать общество, где каждый твой шаг учтен 222 Механика утопии и упорядочен по чудовищному ранжиру, где из доведенной до неприличия милости к ближним следишь даже за собственными задними мыслями, — да это значит переносить в золотой век все муки ада, строить дом призрения при пособничестве Сатаны. Безобразные имена солнцеградцев, утопийцев, гармонийцев под стать их судьбе, обетованному кошмару, поджидающему и нас, поскольку подобный идеал — наших рук дело. Прославляя достоинства трудовой жизни, утопии неизбежно противостоят Книге Бытия. В этом узком смысле они — автопортрет человечества, с головой ушедшего в работу и с удовольствием, даже со спесью принявшего последствия грехопадения, тягчайшим среди которых остается неотвязный труд. Мы с гордостью и хвастовством несем на себе стигматы человеческого рода, который дорожит «потом лица своего», который превращает его в знак отличия и который суетится и мается, находя в этом радость. Отсюда — тот ужас, который нам, проклятым, внушают избранные, отказавшиеся гнуть спину и добиваться превосходства в своем деле. Этот отказ, за который мы укоряем отступника, может быть, делает его единственным, кто еще хранит воспоминание о незапамятном счастье. Чужой среди себе подобных, он такой же, как мы, и все-таки не в силах слиться с нами. С какой-то явной для него одного стороны он чувствует себя нездешним; во всем окружающем ему чудится посягательство на его «я» — взять хотя бы имя... Любое его начинание ждет провал, он хватается то за одно, то за другое, по-настоящему не веря в эти призрачные подделки, от которых его отвращает явственный образ иного мира. Чтобы изгнанник из рая не томился и не мучился, он получает взамен способность хотеть, стремиться к действию, бросаться в него с жаром, забывая себя. А что делать, за что 223 Эмиль-Мишель Чоран уцепиться отсутствующему с его отчуждением, его выходящей уже за всякие границы расслабленностью? Из отрешенного состояния его не выведет ничто. Но и ему не избегнуть общего проклятья: он тоже истощает свои силы, расходу на сожаление не меньше энергии, чем мы на свои подвиги. Провозгласив, что Царство Божие не «здесь» и не «там», а внутри нас, Христос заранее отверг все утопические постройки, для которых любое «царство» всегда вовне и не связано ни с нашим подспудным «я», ни с индивидуальным спасением каждого. Но мы настолько срослись с подобными мыслями, что ждем освобождения только со стороны, от хода вещей или развития общества. Отсюда потребность в Смысле истории, мода на который вытеснила прежний Прогресс, ничего не изменив, по сути. Тем не менее стоило бы сдать в утиль если не само это понятие, то, по крайней мере, одну из его словесных формулировок, которой слишком злоупотребляют. Не прибегая к синонимам, нового шага в идеологии не сделать. Идея совершенства, как ее ни переодевай, вошла в каждого: под ней подписывается даже тот, кто ставит ее под вопрос. С тем, что прямого продолжения в истории не существует, что она вовсе не движется заданным курсом к определенной цели, в наше время не согласится никто. «У Истории есть цель, к которой она стремится, которую она содержит в себе как возможность» — вот что провозглашают наши желания и учения в один голос. Чем больше идея обещает на завтра, тем скорее она победит сегодня. Не способные найти Царство Божие в себе самих или, скорее, слишком испорченные, чтобы подобным поискам предаваться, христиане перенесли его в будущее: исказили смысл преподанного урока, зато застраховали себя от 224 Механика утопии неудач. Но и Христос допускал тут известную двойственность. С одной стороны, он, парируя нападки фарисеев, ратовал за царство внутри нас, неподвластное времени, а с другой — предсказывал ученикам, что спасение близко и что они вместе с нынешним «родом» увидят гибель этого мира. Понимая, что смертные видят в ореоле мученика химеру, а не истину, он снисходил к их слабости — иначе под угрозой оказывалось все предприятие. Но то, что было для него уступкой и тактикой, для утопистов стало постулатом и страстью. Решительный шаг вперед был сделан в тот день, когда человечество поняло: чтобы как следует тиранить других, нужно организоваться, объединиться в общество. До той поры, если верить утопистам, это удавалось лишь отчасти. Утопии предложили здесь свою помощь, обеспечивая людей планом того, как достичь абсолютного счастья. В качестве платы требовалось одно: отказаться от свободы или, если она все-таки сохранялась, пользоваться ею лишь для изъявлений радости под пытками, каким наперебой подвергали себя утопийцы. Видимо, в этом и состоит смысл дьявольской заботы, которой окружен человек в утопиях. Как тут не вывернуть утопию наизнанку — как не отказаться от ничтожных благ и несчетных зол любого социального порядка? Соблазнительная мысль, непобедимое искушение. Что за гигантское сборище уродств — нет ли способа с ним покончить? Как пригодился бы здесь какой-нибудь всеобщий растворитель из тех, что искали алхимики и чье действие стоило бы опробовать не на металлах, а на человеческих установлениях. А пока нужного средства не найдено, между делом отметим, что во всем положительном алхимия и утопия близки: мечтая о похожей, если вообще не об одной и той же, трансмутации в разных областях, первая подкапывается под неуничтожимое 225 Эмиль-Мишель Чоран в природе, вторая — в истории. Идеи жизненного эликсира и совершенного города питаются одним умственным изъяном или, если угодно, одной надеждой. Чтобы выделиться среди других народов, чтобы унизить и растоптать их или просто чтобы найти свое неповторимое лицо, народу нужна безумная идея, которая его ведет, ставит перед ним цели, несоизмеримые с любыми реальными возможностями. Точно так же и общество: оно развивается и упрочивается, только если ему подсказывают либо внушают идеалы, абсолютно непропорциональные нынешнему состоянию. Утопии для общества — то же, что предназначение для народа. А идеологии — по- бочный продукт, как бы простейшее выражение мессианских или утопических чаяний. Сама по себе идеология ни хороша, ни плоха. Все зависит от того, в какой момент ее усваивают. Скажем, на окрепшую страну коммунистическое учение действует как стимулятор: толкает вперед, способствует расширению. Но если страна подточена, коммунистическое влияние может оказаться не столь благоприятным... Задумаемся над воздействием раннего христианства. Античному обществу оно нанесло смертельный удар, парализовало его, довело до гибели. Для варваров же, наоборот, стало благословением, обострив на первое время их природные инстинкты. Не возродив одряхлевшего мира, оно возродило только возродившихся. Таково и коммунистическое учение: напрямую оно спасает лишь тех, кто и так спасен. Но оно не в силах дать твердую надежду умирающим, а еще меньше — вернуть к жизни умерших. Разоблачив нелепости утопий, обратимся к их достоинствам. Поскольку человечество так прижилось в обществе и государстве, что почти не замечает их прирожденного зла, последуем за ним, присоединимся к невменяемым. 226 Механика утопии Утопии — и тут их роль вряд ли можно переоценить — показали весь вред собственности, весь ужас, который она воплощает, все беды, которые несет с собой. Мелкий или крупный, каждый собственник развращен, раз и навсегда испорчен. Он бросает тень на любую мелочь, которую тронул и присвоил. Когда угрожают его «достатку», когда его обирают, сознание собственника работает с такой остротой, на какую в нормальной обстановке оно не способно. Чтобы вернуть ему человеческий облик, так называемую душу, его надо разорить, надо, чтобы он признал свое разорение. На помощь приходит революция. Возвращая к первобытной наготе, революция, по сиюминутным понятиям, уничтожает собственника. Но по абсолютным меркам она его спасает, освобождая — речь, понятно, о внутреннем освобождении — именно тех, на кого в первую очередь и обрушивается: имущих. Революция их деклассирует, иными словами — возвращает на прежний уровень, к тем ценностям, от которых они отступились. Но даже не обратившись еще в орудие или причину возмездия, революция зароняет в них спасительный страх. Она бередит их сон, питает кошмары, а ведь кошмар — начальная точка метафизического пробуждения. И разрушительное воздействие революции — залог ее пользы. При всех злосчастьях, ее оправдание в одном: только у нее есть в запасе ужас, способный потрясти самый бесчеловечный из возможных миров — мир собственников. Любая форма обладания — давайте не побоимся это признать — унижает и портит человека, потакая чудовищу, дремлющему в каждом. Владеть хотя бы простой шваброй, считать что бы то ни было своим достоянием — значит соучаствовать в общем бесчестье. И напротив: сколько достоинства в сознании, что у тебя ничего нет! Какое освобождение! Только что ты считал себя по227 Эмиль-Мишель Чоран следним из людей и вдруг, потрясенный, как будто прозревший, больше не мучишься, напротив — гордишься. И единственное, чего ты, пожалуй, еще хотел бы, так это разориться совсем, дотла, как святой или сумасшедший. Устав от традиционных ценностей, с неизбежностью обращаются к идеологии, которая не оставляет от них* камня на камне. Секрет ее притягательности — в силе формулировках. Призывая отрицания, к подрыву а не в утвердительных общественного порядка, коммунистическая мысль указывает выход из кризиса. Так обстоит дело сегодня, так было вчера, так будет завтра. С эпохи Ренессанса повторяется одна и та же история: кажется, что умы привлекает либерализм, а по сути их влечет коммунизм. Он вовсе не продукт уникальных обстоятельств, не историческая случайность. Он наследник утопических систем прошлого, похозяйски присваивающий плоды многовекового скрытого труда. Когда-то прихоть и ересь, со временем он приобрел черты самой судьбы, единоспасающего учения. С тех пор для сознания существуют лишь две формы бунта: коммунистический и антикоммунистический. Но неужели ктото не видит, что антикоммунизм дышит той же яростной, ужасающей верой в будущее коммунизма? Когда приходит час идеологии, все, даже ее враги, работают на ее успех. Никакая полемика, никакая полиция не в силах сдержать ее натиск, отсрочить победу. Она ищет любую возможность — и обладает силой! — реализоваться, воплотиться в жизнь. Но чем большего она добивается, тем скорее рискует истощить силы. Упрочиваясь, она лишается идеального смысла, иссушает свои истоки, чтобы рано или поздно, обманув надежды на спасение, которыми питалась, выродиться в болтовню и обратиться огородным пугалом. 228 Механика утопии Срок, отпущенный коммунистической идее, зависит от скорости, с какой она израсходует свои утопические запасы. Но пока они есть, коммунизм неизбежно будет соблазнять общества, которые его еще не пережили. Отступая в одном, выигрывая в другом, наделенный добродетелями, которых нет у идеологий-соперниц, он обойдет весь земной шар, замещая умершие или ослабевшие религии и на каждом углу суля нынешним толпам достойный их ничтожества абсолют. Сам по себе он выглядит единственной реальностью, на которую еще может положиться всякий, кто сохранил хоть соломинку веры в будущее, — вот почему мы все в той или иной степени коммунисты... Но разве человечество не впадает в пустые абстракции, когда судит то или иное учение, забывая об уродствах, неотрывных от его воплощения в жизнь? Человек всегда надеется на торжество справедливости. Ради ее триумфа он готов пожертвовать даже свободой, о которой потом горько пожалеет. За что бы он ни взялся, любое дело, любая мысль неминуемо ведут его в тупик, как будто тупик — не предел пути, а его отправная точка, условие, разгадка. Ни одна новая форма общественного устройства не способна даже на самое простое: сохранить преимущества старой-- и примерно одну и ту же сумму неудобств встретишь в обществе любого типа. Проклятое равновесие, неизлечимый застой, от которого страдают и отдельные люди, и целые общественные группы! Теории бессильны: глубины истории непроницаемы для доктрин, задевающих лишь ее поверхность. Если утопия — это материализованная иллюзия, то коммунизм— иллюзия еще и навязанная, принудительная: вызов, брошенный вездесущему злу, оптимизм поневоле. К нему вряд ли приспособится искушенный и эре229 Эмиль-Мишель Чоран лый ум, который опьяняет лишь одно — разочарование, или тот, кому по примеру составителя Книги Бытия претит связывать золотой век с идеей развития. Не то чтобы он презирал маньяков, бредящих «бесконечным прогрессом» и прилагающих все силы, чтобы водворить справедливость на земле. Но он, к своему несчастью, знает: справедливость — это воплощенная несбыточность, гигантская неосуществимость, единственный идеал, о котором можно уверенно утверждать, что он не реализуется нигде и никогда, и которому, кажется, противостоят все законы природы и общества. Подобные противоречия и конфликты — вовсе не удел одиночек. С той или иной остротой их переживает каждый: кто среди нас не мечтал разрушить нынешнее общество, зная при этом, сколько разочарований готовит ему будущее? Всеобщее, пусть даже бесполезное, потрясение, революция без веры — вот все, на что еще осталось надеяться в эпоху, когда ни у кого не хватает простодушия, чтобы стать настоящим революционером. Тот, кто, жертвуя неистовством разума, отдается неистовству хаоса, поступает как собравшийся с силами одержимый, как победивший болезнь безумец или как бог, который в приступе трезвой ярости с удовлетворением пускает на ветер и свое порождение, и собственное бытие. Отныне наши мечты о будущем неотделимы от страхов. Вначале утопическая словесность ополчалась на Средневековье, на тогдашний пиетет перед адом и пристрастие к картинам светопреставленья. Успокоительные системы Кампанеллы и Мора ставили, можно сказать, одну цель — дискредитировать видения Святой Хильдегарды. Свыкшись с ужасным, мы переживаем сегодня сращение утопии с апокалипсисом. Обетованный «новый мир» все больше напоминает новый ад. Но мы с нетерпением ждем 23О Механика утопии этого ада и даже считаем своим долгом поторапливать его приход. Два жанра, казавшихся противоположными, — утопия и апокалипсис — смешиваются, окрашивают друг друга, образуя третий, замечательно приспособленный отражать ту разновидность реальности, которая нам грозит и которой мы, тем не менее, говорим «да», твердое и трезвое «да». Такова наша единственная возможность сохранить безупречность перед лицом рока. Эмиль-Мишель Чоран Из книги «Разлад» В садах Запада пробил час закрытия. Сирил Конналли Гностическая легенда рассказывает о битве ангелов, в которой воинство архангела Михаила победило воинство Змия. Те же ангелы, что лишь нерешительно наблюдали, были сосланы сюда, на землю, чтобы сделать выбор, который не сделали на небе, и выбирать им тем труднее, что у них не сохранилось ни малейшего воспоминания ни о сражении, ни о своем малодушии. Таким образом, выходит, что побудительной причиной истории послужило колебание, а человек появился в результате первородного сомнения и неспособности занять определенную позицию до изгнания. Сброшенный в этот мир, чтобы научиться выбирать, он обречен на деятельность, на поступки, и сможет выполнить это предназначение, только если подавит в себе созерцателя. Если на небе нейтральность в какой-то мере еще была возможна, то земная история стала наказанием существам, которые до воплощения не сочли нужным примкнуть к тому или иному лагерю. Тогда становится понятно, почему смертные так стремятся очертя голову принять чью-либо сторону, так склонны сбиваться в группы, собираться вокруг какой-нибудь истины. Какова же эта истина? В позднем буддизме, в частности в школе мадхьями-ка, существует отчетливое различие между истиной подлинной, или парамартой, достоянием свободных душ, и 232 Из книги "Разлад" обыденной, или самврити, «замутненной», точнее «ошибочной», уделом или проклятием скованных. Абсолютная истина, не боящаяся ничего, даже отрицания всякой истины и самой идеи истины, — привилегия пассивности, привилегия тех, кто сознательно устранился из сферы действий и озабочен лишь одним — выпадением (мгновенным или постепенным) из действительности, которое не сопряжено ни с каким огорчением, ибо переход в нереальность, напротив, приносит несказанное блаженство. История для такого человека всего лишь дурной сон, с которым он смиряется, поскольку никто не может видеть сны по собственному произволению. Чтобы уяснить, в чем смысл исторического процесса, или, вернее, уяснить, как мало в нем смысла, нужно согласиться с той очевидностью, что все выдвигаемые им истины ошибочны, а ошибочны они потому, что приписывают содержательность пустоте, выдают мнимое за вещественное. Теория о двух истинах устанавливает место истории, этого рая лунатиков, этого грандиозного наваждения, в ряду других фикций. Строго говоря, нельзя сказать, что в ней совсем нет сути и смысла, ибо ее смысл — обман, она и есть по сути своей обман, универсальное ослепляющее и облегчающее жизнь во времени средство. Сарвакармафалатьяга... Когда-то, много лет тому назад, я написал большими буквами это волшебное слово на листе бумаги и приколол на стену у себя в комнате так, чтобы весь день иметь перед глазами. Оно провисело так несколько месяцев, пока я не снял его, заметив, что все больше поддаюсь его магическому звучанию и все меньше вспоминаю о содержании. Между тем оно означает безразличие к результату действия, и важность его такова, что у того, кто по-настоящему проникнется им, не останется больше никаких стремлений, потому что он достиг233 Эмиль-Мишель Чоран нет единственно стоящей из всех крайностей — подлинной истины, отменяющей все остальные как пустышки. Впрочем, пуста и она сама, но в отличие от них эту пустоту сознает. Еще немного трезвости, еще шаг к пробуждению — и сделавший его окончательно станет призраком. Когда прикоснешься к этой предельной истине, то неуютно чувствуешь себя в истории, где намешано множество истин ложных, одинаково напористых и, разумеется, одинаково иллюзорных. Прозревшие, пробужденные неминуемо оказываются немощными и не могут участвовать в событиях, ибо заранее знают, что все это пустая суета. Столкновение двух истин полезно для отрезвления мысли, но губительно для деятельности. С него начинается крушение как отдельной личности, так и целой культуры или даже целого народа. Пока пробуждение не наступило, мы проводим дни в беспечности, блаженстве, упоении. Когда же спадает пелена иллюзий, наступает пресыщение. Протрезвевшему от всего тошно; как всякий излечившийся фанатик, он больше не может выносить бремя химер, уродливых или симпатичных — все едино. Теперь он так далек от них, что не понимает, в силу какого помрачения мог ими прельститься. Когда-то благодаря им он преуспевал и утверждался. Ныне ему так же трудно представить себе прошлое, как и будущее. Он растратил впустую всю свою энергию, подобно одержимым бесом перемен народам, которые развиваются слишком быстро и, отбрасывая один идол за другим, в конце концов, исчерпывают их запас. Еще Шаррон1 отмечал, что во Флоренции за десять лет происходило больше потрясений и смут, чем в Гризоне за 1 Шаррон Пьер (1541—1603)— французский философ и теолог. В главном сочинении «О мудрости» (1601) развивал идеи, близкие к скептицизму М. Монтеня. — Примеч. ред. 234 Из книги "Разлад" пятьсот, и делал вывод, что жизнеспособно то общество, где дремлет дух. Архаичные цивилизации потому просуществовали так долго, что не знали страсти к обновлению и смене мнимых ценностей. Когда же шкала меняется с каждым поколением, об исторической долговечности нечего и мечтать. Древняя Греция и современная Европа — примеры культур, обрекших себя на преждевременную смерть своей жаждой менять обличья и неумеренным потреблением богов и их заменителей, Китай же и Египет тысячелетиями млели в величественной косности. Как и африканские культуры до контакта с европейцами. Теперь эти культуры тоже под угрозой, потому что приспособились к чужому ритму. Утратив благотворную неподвижность, они все больше разгоняются и неизбежно придут к падению, как и образцы, которым они подражают, как и все скоротечные, неспособные протянуть больше десятка веков цивилизации. Народам, которые займут господствующее место в дальнейшем, достанется еще меньший срок: в истории замедленный темп всегда сменяется гонкой. Как не позавидовать фараонам и их китайским коллегам! Установления, общества, цивилизации разнятся по масштабам и продолжительности существования, но все подчиняются общему закону, согласно которому источник неуемной энергии, которому они обязаны своим подъемом, со временем ослабевает и входит в рамки, а как только исступление, эта главная движущая сила, остывает, наступает упадок. По сравнению с буйными периодами роста закатная пора кажется нормальной, она и впрямь нормальна, даже чересчур, и это делает ее едва ли не столь же губительной. Народ, достигший процветания, истративший все свои таланты и полностью истощивший свой гений, искупает этот успех бесплодием. Он выполнил свой долг и мечтает 235 Эмиль-Мишель Чоран пожить спокойно, но, увы, этого-то ему не удается. Когда римляне — или их жалкие остатки — вознамерились отдохнуть, пришли в движение варвары. В учебниках, рассказывающих о нашествиях, говорится, что до середины V века германцы, служившие в армии и администрации империи, брали латинские имена. Ну а потом обязательными стали германские. Выдохшиеся господа, теснимые во всех областях, не внушали больше ни страха, ни почтения. Зачем было называться на их лад? «Повсюду царила убийственная сонная одурь», — писал Сальвиан, самый беспощадный обличитель античной культуры в последней стадии вырождения. Как-то вечером в метро я внимательно огляделся по сторонам: все сплошь, включая меня самого, приезжие... Только двое или трое, судя по лицам, местные, они явно испытывали неловкость и словно извинялись за то, что затесались среди нас. Та же картина в Лондоне. В наше время миграции происходят не как массовые переселения, а в виде постепенного проникновения: чужаки понемногу просачиваются в среду «коренных жителей», слишком анемичных и утонченных, чтобы опускаться до идеи «своей территории». Тысячу лет бдительно охранявшиеся двери распахнулись настежь... Когда подумаешь о долгих распрях между французами и англичанами, потом между французами и немцами, кажется, что все они, взаимно выматывая друг друга, старательно приближали общий крах, чтобы уступить место другим представителям человечества. Новое Volkerwanderung (переселение народов), как и в древности, вызовет этническое смешение, все фазы которого пока не предугадать. Глядя на эти разномастные физиономии, нельзя и помыслить о сколько-нибудь однородном сообществе. Сама возможность такого пестрого сборища — признак того, что у коренных жителей того пространства, которое это сборище 236 Из книги "Разлад" занимает, не было желания хоть в какой-то мере сберечь свою идентичность. В Риме в III в. н. э. только шестьдесят тысяч жителей из миллиона были латинского происхождения. Как только какой-нибудь народ доведет до конца историческую идею, воплощение которой входило в его миссию, ему становится незачем сохранять свою самобытность, свою характерную внешность в хаосе разноплеменных лиц. Европейцы, господствовавшие в обоих полушариях, мало-помалу становятся всемирным посмешищем: им, худосочным, в буквальном смысле измельчавшим, уготована участь париев, дряхлых, слабосильных рабов, и только русские, последние белые люди, возможно этой участи избегнут. У них еще осталась гордыня, этот двигатель, нет, этот стимул истории. Нация, потерявшая гордость и переставшая видеть в себе смысл или главную ценность вселенной, сама себе отрезает дальнейшее развитие. На свое счастье или несчастье — как посмотреть, — она насытилась. Честолюбец, глядя на нее, отчается, зато созерцатель с червоточинкой в душе придет в восторг. Только продвинувшиеся до опасной грани народы и интересны, особенно для тех, кто сам не слишком обласкан Временем и заигрывает с Клио из желания наказать себя, заняться самобичеванием. Впрочем, этой потребностью продиктованы чуть ли не все человеческие деяния, как большие, так и малые. Каждый из нас работает против собственных интересов; мы этого не сознаем, пока вовлечены в дело сами, но достаточно оглянуться назад, чтобы убедиться — во все времена люди боролись и жертвовали собой ради пользы своего явного или потенциального врага: деятели Революции старались для Бонапарта, Бонапарт — для Бурбонов, Бурбоны — для Орлеанов... Так что же, история — это сплошное издевательство и у нее нет никакой цели? Есть, и не одна, а много, но она достигает их, дви237 Эмиль-Мишель Чоран гаясь в противоположную сторону. Это явление универсальное. Мы достигаем обратного тому, к чему стремились; мы рвемся навстречу прекрасной лжи, которую сами себе выдумали. Вот откуда успех биографий, наименее скучного из несолидных жанров. Воля никогда никого не доводила до добра: обычно то, чего добиваются упорнее всего, ради чего идут на самые большие лишения, оказывается более чем сомнительным благом. Это верно для писателей, завоевателей — для всех, кого ни возьми. Конец любого из нас дает не меньше пищи для размышлений, чем конец целой империи или конец человека вообще, который так гордится своим с трудом приобретенным прямохождением и так боится вернуться в исходную точку: закончить эволюцию таким, каким начал — согнутым и заросшим шерстью. Над каждым существом нависает угроза деградировать до первоначального состояния (не говорит ли это о тщетности его да и любого развития?), если же кому-то удается этой угрозы избежать, то кажется, что он уклонился от выполнения долга, нарушил правила игры, из экстравагантности выбрав для себя другой способ падения. Роль периодов упадка заключается в том, чтобы обнажить, разоблачить цивилизацию, разбить ее кумиры, избавить ее от привычки кичиться своими достижениями. Она получает таким образом возможность оценить свое прошлое и настоящее, увидеть бесплодность всех потрясений и усилий. И по мере отстранения от бредней, на которых основывалась ее слава, она все больше продвигается к осознанию реальности... к отрезвлению, к всеобщему пробуждению — словом, делает роковой скачок и вскоре вырывается из истории; либо иначе: она оттого и просыпается, что уже выпала из исторической колеи и потеряла лидерство. Итак, сначала слабеют инстинкты, затем просветляется сознание, затем утверждается трез238 Из книги "Разлад" вость, а это означает раскрепощение сферы духа и атрофию сферы деятельности, в частности деятельности в истории, которая замирает на отметке «крушение»: кто обратил взгляд на собственную историю, тот так и останется удрученным зрителем. Мы машинально сопрягаем понятия «история» и «смысл», между тем это типичный пример ошибочной истины. Некий смысл в истории при желании можно найти, но этот смысл ставит под сомнение ее самое, отрицает ее в каждый ее момент, показывает ее смешной и жуткой, жалкой и грандиозной— словом, попирающей всякое представление о нравственности. Кто принял бы ее всерьез, не будь она прямой дорогой к гибели? Само то, что в обществе занялись историей, говорит о ее определенной стадии: как сказал Эрвин Райснер, историческое сознание есть симптом конца времен (Geschich-tsbewusstsein ist Symptom der Endzeit). В самом деле, озабоченность историей приходит вместе с озабоченностью ее близким закатом. Богослов размышляет о жизни, провидя Страшный суд, человек, охваченный тревогой, (или пророк) — провидя вещи менее эффектные, но столь же важные. Оба ждут катастрофы, подобной той, какую ин-дейцы-делавары проецировали в прошлое: по преданию, в то время молились от ужаса us только люди, но и звери. Но, возразят мне, разве не бывает спокойных периодов? Бесспорно бывает, но это спокойствие — всего лишь складный кошмар, безукоризненная пытка. Нельзя согласиться с теми, кто утверждает, будто понятие трагического приложимо только к отдельной личности, а не к истории. Это отнюдь не так: история не просто подвластна трагедии, но и проникнута ею еще больше, чем судьба трагичнейшего из героев, и за ее перипетиями следят с пристальным вниманием. Мы так увлечены ею, потому что инстинктивно чувствуем, какие неожиданности подстерегают ее в пути и на какие неподражаемые 239 Эмиль-Мишель Чоран фортели она способна. Правда, для искушенного ума она добавит не много нового к общей неразрешимости и безвыходности. Да ведь и трагедия ничего не разрешает, потому что разрешать нечего. Угадать будущее можно лишь по недоразумению. К сожалению, нам нестерпимо положение полной неопределенности. Едва же события хоть немного проясняются, как мы впадаем в крайний детерминизм, в буйный фатализм. Свободным произволением людей объясняется лишь поверхностный слой истории, обличья, которые она принимает, какие-то внешние завихрения, но не глубины, не настоящий ее ток, который, несмотря на ни что, остается таинственным и непостижимым. Мы до сих пор даемся диву, как это Ганнибал после битвы при Каннах не двинулся на Рим. Сделай он это, и сегодня мы бы гордо именовали себя потомками карфагенян. Конечно, глупо отвергать роль случая, прихоти, а значит, личности в истории. И все же каждый раз, когда оглядываешь всю картину, неизменно приходят на ум слова из «Махабхараты»: «Нельзя развязать узел Судьбы, ничто в этом мире не зависит от наших поступков». Жертвы двойного обольщения, мечущиеся между двумя истинами, не в силах выбрать одну из них и тотчас не пожалеть о другой, мы слишком прозорливы, чтобы не утратить кураж, не остыть от иллюзий и от их потери. В этом смысле мы похожи на Ранее1, оставшегося в плену у своего прошлого и посвятившего годы отшельничества полемике с теми, кого сам же покинул, или с авторами вздорных книжонок, где оспаривалась искренность 1 Ранее Доменик (1626—1700) — основатель ордена траппистов, свя- щенник, доктор богословия. Вел сначала крайне распутную жизнь, но в 1660 г. вследствие какого-то потрясающего обстоятельства покинул Париж и предался самому строгому аскетизму. Он пожертвовал все свое имущество парижской богадельне и в монастыре La Trappe ввел самый строгий устав, требующий от братии полнейшего самоотречения. — Примеч. ред. 24О Из книги "Разлад" его обращения и хулились все его дела, — вот доказательство того, что легче реформировать траппистский орден, чем отрешиться от времени. Точно так же легче легкого обличать историю и страшно трудно оторваться от нее: она окружает тебя и не дает о себе забыть. Она мешает окончательному прозрению, она — та преграда, которую можно перескочить, только осознав ничтожность всех событий, кроме одного-единственного — самого этого осознания, поскольку лишь оно позволяет нам хоть на миг увидеть подлинную правду, то есть одержать победу над всеми ошибочными. Недаром Моммзен' говорил: «Историк обязан, подобно Богу, любить все и всех, даже самого дьявола». Другими словами, он должен отринуть все предпочтения и учиться полному самоустранению. Историк, сумевший встать вне времени, мог бы служить примером свободного человека. Мы вынуждены выбирать, между убийственной истиной и целительным враньем. И только такая не совместимая с жизнью истина достойна своего названия. Она выше того, чтобы отвечать каким-то требованиям, и не снисходит до уступок смертным. Такие истины «бесчеловечны», сногсшибательны, мы не приемлем их, ибо не можем обойтись без подпорок в виде догм или богов. Увы, во все времена именно иконоборцы или те, кто объявлял себя таковыми, чаще всего прибегали к басням и лжи. Античный мир должен был заболеть уж очень тяжко, раз ему понадобилось такое грубое противоядие, как христианство. То же происходит и с современным миром, судя по всеобщей жажде чудодейственных лекарств. Эпикура, самого нефанатичного из мудрецов, не жаловали ни пре1 Моммзен Теодор (1817—1903) — знаменитый немецкий историк. Профессор римского права. Научные труды Моммзена отличаются осно- вательностью и тщательной проработкой исторических источников. — Примеч. ред. 9-6054 241 Эмиль-Мишель Чоран жде, ни теперь. Призывы к освобождению Человека общество обычно встречает с недоумением и даже со страхом. Да и как рабы освободят Раба? Так можно ли верить, что история, эта бесконечная цепь заблуждений, способна тянуться еще долго? Час закрытия скоро пробьет во всех садах. *** Конец истории предопределен тем, что у нее имелось начало; человек и история подчинены времени, человек и время отмечены одними и теми же стигматами. Время есть некая непрерывная беспорядочность, самодробящаяся бесконечность, оно само по себе грандиозная драма, а история ярчайший эпизод этой драмы. Не та же ли в ней беспорядочность, не то же ли бешеное дробление, лихорадочное стремление установить нечто там, где уже нечему установиться? Христианские богословы справедливо именуют нашу эпоху постхристианской, точно так же наши далекие потомки будут когда-нибудь рассуждать о том, хорошо или плохо им живется в эпоху постисторическую. Что ни говори, а было бы любопытно окунуться в этот сумеречный опыт: смена поколений и череда грядущих «завтра» прекратится, а на руинах исторического времени наконец возникнет самодовлеющее бытие и снова станет тем, чем было, прежде чем погрязло в истории. Историческое время так напряжено, что попросту не может не взорваться. Вот-вот пружина лопнет — мы ощущаем это каждый миг. Возможно, это будет не так скоро, как нам кажется. Но катастрофа неизбежна, сомнений нет. И только после того, как она произойдет, уцелевшие постисторической эпохи узнают, чем же была исто- счастливчики, жители 242 Из книги "Разлад" рия. «Отныне никаких событий!» — воскликнут они. Таким вот образом завершится самая причудливая глава вселенской эпопеи. Понятно, что возглас прозвучит, лишь если крушение окажется не окончательным. Полный же успех радикальным образом упростит проблему подавления будущего. Однако совершенные катастрофы крайне редки, говорю это, чтобы унять тех, кому неймется и кто любит размах, хотя в данном случае более пристало смирение. Не всем дано воочию наблюдать Потоп. Нетрудно представить себе, каково тем беднягам, которые его предчувствовали, но не дожили до того, чтобы увидеть своими глазами. Чтобы положить конец распространению такого аномального животного, как человек, хороши все средства, и люди все больше ощущают необходимость и потребность заменить естественные бедствия еще более эффективными искусственными. Идея Светопреставления носится в воздухе. Чуть выйдешь на улицу, посмотришь, поговоришь, послушаешь — и сразу поймешь, что час близок, пусть даже до него осталось еще сто или тысяча лет. Тень близкой развязки придает своеобразный пафос самым обыденным делам, самым банальным зрелищам, самым глупым случайностям. Чтобы не заметить этого, надо упорно отворачиваться от Неизбежного. Пока история протекает более или менее размеренно, каждое событие представляется причудой, коленцем в об щем ходе вещей, но как только ритм сбивается, все обретает знаменательность. Во всем, что бы ни произошло, видится симптом, предупреждение, все побуждает к многозначительным выводам. В нейтральные (условно говоря) эпохи событие есть одно из многих рядовых проявлений настоящего, оно имеет автономное значение и словно бы выпадает из времени. Напротив, в критические времена, 243 Эмиль-Мишель Чоран которые завихряются в бесконечные круги ада, каждая мелочь становится ступенькой к гибели, вписывается в картину, нарисованную в «Самматийяникайя»: «Мир охвачен пламенем, мир задыхается в дыму пожарищ, мир пылает и содрогается». Злорадное чудовище Мара держит когтями и зубами колесо рождения и смерти, во взгляде ее (на тибетских изображениях) то вожделение, та тяга ко злу, подспудная в природе, полуосознанная у людей и явная у богов, та ненасытная злая воля, разрушительное проявление которой мы видим в нескончаемой цепи событий и которую приписываем идолам. Ужас истории — единственное доступное нам подобие ужаса перевоплощений. Однако с существенной оговоркой. Для буддиста переход от одного существования к другому — кошмар, из которого он стремится вырваться. На это направлены все его силы, он совершенно искренне, как величайшего бедствия, боится новых рождений и смертей, и ему чужда сама мысль тайно этим бедствием наслаждаться. Снисходительного отношения к злу, к подстерегающим извне и особенно изнутри опасностям в нем нет и быть не может. Иное дело — мы. Мы заигрываем с тем, что нам угрожает, лелеем то, что сами прокляли, жаждем того, что для нас губительно, мы от своего кошмара ни за что не откажемся, мы надавали ему столько названий с большой буквы, сколько напридумали иллюзий. Иллюзии лопнули, большие буквы умалились, но кошмар остается, обезглавленный, голый, и мы продолжаем любить его, потому что он наш, и нам нечем его заменить. Если бы стремящийся к нирване вдруг устал гоняться за ней, махнул на нее рукой и нырнул в сансару, став пособником собственной гибели, вот тогда он повел бы себя совсем как мы. Человек делает историю, история же разделывается с человеком. Человек одновременно ее творец и объект, двигатель и жертва. До недавнего времени он полагал, что 244 Из книги "Разлад" управляет ею, теперь же знает, что она ему неподвластна, что все бесчинно и неразрешимо в этой безумной эпопее, конец которой не означает достижения цели. Как и какую цель предписать ей? Да если бы она и была... Как только цель достигается, наступает конец процесса. Значит, осчастливлены будут только последние отпрыски человеческого рода, выжившие, оставшиеся, они одни пожнут плоды бесчисленных усилий и страданий предыдущих поколений. Но это откровенная несправедливость, гротеск. Кому позарез хочется, чтобы история имела смысл, пусть лучше ищет его в тяготеющем над нею проклятии и нигде более. В таком случае жизнь отдельного индивида осмысленна постольку, поскольку его тоже затрагивает это проклятие. Какой-то злокозненный демон распоряжается путями истории. Цели у нее нет, вместо этого над ней тяготеет рок, придающий ее ходу мнимую закономерность. Этот рок, и только он, позволяет всерьез говорить о логике истории и даже о провидении, правда, несколько подозрительном, чьи замыслы не столь неисповедимы, как замыслы другого Провидения, слывущего благостным. Оно действует таким образом, что подведомственные ему цивилизации постоянно сбиваются с пути, идут не туда и наконец рушатся с упрямым постоянством, которое выдает происки темной глумливой силы. История еще только начинается, думают некоторые, забывая, что история — исключительное и по сути своей недолговечное явление, этакая прихоть, передышка, оплошность... Участвуя в ней, питая ее, человек расточился, ослаб, истощился. Пока он оставался близок своей первоначальной, хотя и извращенной им природе, еще можно было рассчитывать на долгое существование, отвернувшись же и начав окончательно от этой природы отдаляться, он обрек себя на краткую, всего в каких-то несколько тысячелетий, жизнь. История, порожденная чело245 Эмиль-Мишель Чоран веком, стала независимой от него, она язвит и мучит его, она его, в конце концов, и убьет. Человек погибнет с нею вместе, то будет полный крах, справедливое наказание за самонадеянность и безрассудство, порожденные его потугами сравниться с титанами. Предприятие Прометея с треском провалилось. Нарушив все неписаные законы — а только они и идут в расчет, — выйдя из всех положенных ему границ, человек вознесся слишком высоко и неминуемо возбудил ревность богов; они решили прикончить его и ждут с ножом за углом. Конец исторического процесса неотвратим, неизвестно только, грянет ли он в одночасье или растянется надолго. Судя по всему, человечество, несмотря на свои достижения, а вернее, благодаря им, скатывается в пропасть. Если для каждой отдельной цивилизации сравнительно легко обозначить точку апогея, то совсем иначе обстоит дело с историческим процессом в целом. Что считать его вершиной? Где она располагается? В античной Греции, древней Индии или Китае? Или гденибудь на Западе? Любой однозначный ответ заведомо пристрастен. Бесспорно одно: лучшее, что было в человеке, он уже отдал. И если предположить, что на наших глазах возникнут другие цивилизации, они, конечно же, не будут равноценны ни древним, ни даже современным, а кроме того, и они неизбежно будут поражены жестко запрограммированным вирусом распада. Такова с доисторических времен до наших дней и впредь от нашего времени к постисторическому дорога к крушению, которое готовилось и предвиделось во все эпохи, включая самые процветающие. Все и всегда видели грядущее как дорогу к гибели, даже утописты: недаром государства, которые они придумывали, были намеренно извлечены из реальной истории и помещены в особый кокон, где время не течет и потому гибельное грядущее застыло. Но история, кото246 Из книги "Разлад" рой заправляет Ариман1, затаптывает эти бредни и отметает всякую возможность рая» даже потерянного, делая, таким образом, утопии абсолютно беспочвенными. Весьма характерно, что мы наталкиваемся на понятие рая каждый раз, когда хотим уразуметь сущность истории. Дело в том, что только так, от противоположного, и можно ее постичь, ибо история — не что иное, как последовательное отрицание, нарастающее удаление от исходного состояния, изначального чуда. Пусть оно всего лишь притягательная легенда, вызывающая ностальгию пошлость... Когда движение к концу завершится, история достигнет своей «цели» и от первоначального состояния — не важно, правда это или вымысел — совсем ничего не останется. Если представить себе рай в прошлом еще возможно, то в будущем — никак; он мыслим не иначе как до истории, и это придает ей зловещий оттенок, так что задаешься вопросом: не лучше ли было ей остаться потенциальной возможностью? Однако важнее размышлять не о «будущем» — оно внушает страх, но не более, — а о конце, то есть о том, что наступит после будущего, когда историческое время, сопряженное с человеческой волей, прекратится и прекратит тем самым существование народов и империй. Останется освободившийся от бремени истории и совершенно обессиленный, уже не мнящий себя исключительным человек с опустошенным сознанием, которое нечем заполнить. Искушенный и разочарованный троглодит. Пойдет ли он путем далеких предков, и станет ли в этом случае постисторическая эпоха усугубленным повторением доисторической? Каким будет этот человек, отброшен1 Ариман — бог зла в религии древнего Ирана, основанной Зоро- астром. Ариман — источник несправедливости, всех вредных сил природы; во всякое доброе начинание он может заронить зерно зла. — Примеч. ред. 247 Эмиль-Мишель Чоран ный всемирным катаклизмом назад, к пещерам? Как поведет себя тот, на ком замкнулись две разделенные огромным интервалом оконечности, и кто отрекся от нажитого за это время наследства? Протрезвевший и одряхлевший, он не захочет и не сможет измышлять новые ценности и иллюзии взамен рухнувших. Тогда игра, по правилам которой до тех пор одна цивилизация сменяла другую, будет окончена. После всех своих блестящих завоеваний и свершений человек начинает выходить из моды. Единственное, что еще может представлять интерес, это наблюдать за тем, как, прижатый к стенке, он агонизирует, и гадать, скоро ли задохнется совсем. До сих пор он еще как-то тянет только потому, что не хватает силы капитулировать, прекратить скатывание вперед (каковым по преимуществу является история) — слишком велика инерция скольжения. Трудно сказать, что именно в человеке повреждено, но изъян очевиден. Можно возразить, что он был в нем с самого начала. Да, но тогда весьма незначительный для него, еще полного мощи. Ничего общего с нынешней зияющей трещиной. Она — результат долгого саморазрушения злосчастного существа, плод его подрывной деятельности, направленной сначала на все вокруг, а потом и само на себя. Выдавая войну против себя за гордое восстание, существо это расшатало собственные основы (именно к этому ведет анализ, психологический или любой другой) — основы своей личности, своей деятельности. Поражены сокровенные глубины, прогнило все до корней. Мы и ощущаем себя людьми не прежде, чем осознаем эту нутряную испорченность, до недавней поры еще как-то прикрытую, но обнажающуюся все больше и больше, по мере того как мы исследуем и взрываем все, что существовало в нас в скрытом виде. Став прозрачным для самого себя, человек окажется не способен более ни на какие действия, ни на Из книги "Разлад" какое «творчество». Прозрев, лишившись наивности, он полностью истощится. Где найти энергию, чтобы упорствовать в том, что требует хоть какой-то свежести и ослепления? И если относительно себя он порой может обольщаться, то относительно судьбы всего рода людского — ни в коей мере. Только глупец может утверждать, что человек еще в начале пути. На самом деле эта чудом держащаяся на ногах развалина бредет к последнему акту и там предстанет мудрецом, которого разъела мудрость. Да, человек — сплошное гноище, его гложет гангрена, и таковы мы все. Мы движемся гуртом к невиданной дотоле сваре, когда все набросятся друг на друга, как буйно помешанные, как взбесившиеся марионетки, потому что все станет невозможным, непереносимым, а единственным достойным делом для тех, кто останется жить, будет уничтожать себя и себе подобных. Одно лишь возбуждение еще доступно нам — агония перед кончиной мира. А потом — вечное оцепенение: роли сыграны, сцена опустела и можно всласть пережевывать эпилог. По известному выражению — что сегодня суета, когда-нибудь станет историей, и это не делает ей чести... Не стоило бы придавать значения всему текущему и происходящему, однако слабонервные на это не способны. Ну а в броне презрения — откуда взяться живому переживанию? Настоящий историк — это человек без кожи, который носит маску объективности, страдает и упивается страданием. Вот почему он горячо участвует во всем, что описывает. Например, Тацит вовсе не с заоблачных высот взирал на ужасы, о которых рассказывал, нет, он осуждал, но смаковал их, варился в них, был ими заворожен. Без устали говоря о бесчинствах, он начинал скучать, едва несправедливость и злодейства шли на убыль. Ему, как позднее Сен-Симону, были ведомы восторг негодования, сладость ярости. Юм утверждал, что Тацит — 248 249 Эмиль-Мишель Чоран самый глубокий ум античности, самый, добавим от себя, живой и самый близкий к нам своим мазохистским духом, этим то ли пороком, то ли необходимым свойством всякого, кто вглядывается в дела человеческие, будь то хроника дня или конец света. Внимательно рассматривая самое незначительное происшествие, легко заметить, что положительные и отрицательные стороны в нем самое большее уравновешивают друг друга, обычно же отрицательных — куда больше. Лучше всего было бы, если бы оно вообще не имело места. В таком случае мы избавились бы от необходимости терпеть его и принимать в нем участие. Чего же ради добавлять к тому, что уже имеется или имеет видимость? Истории, этой бессмысленной одиссее, нет оправданий, а порой возникает искушение замахнуться и на искусство, какой бы настоятельной потребности оно ни отвечало. Ведь творческий импульс в нем — нечто побочное, главное же — разобраться в себе, проявить себя максимальным образом, какой бы ни была форма этого самовыражения. Возводить соборы так же нелепо, как устраивать побоища. Было бы лучше попытаться жить вглубь, чем нестись сквозь столетия в погоне за гибелью. Нет, решительно в истории нет спасения. Ее никоим образом нельзя считать основным измерением человечества, она лишь апофеоз того, что на виду. Так, может быть, когда придет конец этой поверхностной авантюры, мы обретем первоначальную суть? Сможет ли располагающий полным досугом постисторичесий человек найти в себе вневременное содержание, которое было задушено в нас историей? Засчитываться будут исключительно те мгновения, которые она не затронула. Только среди людей, способных открыться навстречу таким мгновениям, возможно общение и понимание. Кульминационные точки, подлинные вершины прошлого — это эпохи метафизических исканий. Бли25О Из книги "Разлад" же всего к неуловимой сущности подступают внутренние прозрения, пусть они длятся порой секунду, зато перевешивают всю жизнь и вообще стоят больше, чем время. «15 октября 1764 года в Риме, когда я, задумавшись, сидел на руинах Капитолия и слушал, как босоногие монахи поют вечерню в храме Юпитера, меня впервые осенила идея написать историю заката и падения этого города». Все империи рано или поздно ждет конец — просто ли распад, катастрофа или то и другое вместе. Такие же варианты предстают перед человечеством в целом. Вообразим будущего Гиббона1, размышляющего о том, чем оно было, если, конечно, останется еще какой-нибудь историк по завершении не одной, а всех эпох. Как сможет он описать нашу одержимость, буйные страсти — исгочник нашей энергии, — он, живущий среди совсем иных людей, которые погружены в святую инертность, дошли до последней стадии немыслимого процесса разрушения и навсегда освободились от маниакальных идей утверждать себя, оставлять после себя след, отмечать свое присутствие на земле? Как поймет нас, не способных усвоить статичную картину мира и сообразовываться с ней, отбросив навязчивую идею постоянно действовать? Нас губит — уже погубило! — стремление иметь судьбу, не важно какую; это извращение — движущая сила истории. Однако если оно уничтожило, умертвило нас, то оно же и спасет, поскольку с идеей судьбы сопрягается тяга к трагическо1 Гиббон Эдуард (1737—1794) —знаменитый английский историк. По- сле пребывания 1764 в Риме всецело посвятил себя изучению римской истории и после 12-летней работы издал первый том своей «Истории постепенного падения и разрушения Римской империи» Блестящий труд Гиббона мастерски в широких картинах рисует историю падения Рима и Византии от конца II в. по Р. Хр. до 1453; подвергался сильным нападкам за отношение автора к христианству. — Примеч. ред. 251 Эмиль-Мишель Чоран му финалу, к верховному, превосходящему все бывшие прежде событию, величайшему, дотоле небывалому кошмару. Ну а коль скоро единственно возможной развязкой оказывается катастрофа, единственным выходом, единственным шансом — постистория (если допустить, что она достижима), то логично задаться вопросом: не лучше ли человечеству исчезнуть сейчас же, чем томиться и изводиться ожиданием и обрекать себя на переживание агонии, в которой ничего героического — даже героической кончины — не останется? Часть IV МИРУ НОВОМУ НАЧАЛО? Элвин и Хейди Тоффлер1 Создание новой цивилизации (из книги «Третья волна») Суперборьба Наша цивилизация входит в нашу жизнь, но слепой человек всюду старается подавить ее. Она приносит с собой новые семейные отношения, изменения в стиле работы, в любви, в жизни, новую экономику, новые политические конфликты и, кроме того, изменения в сознании. Человечество стоит перед гигантским прыжком вперед. Оно оказалось перед лицом глубочайших социальных переворотов и творческого переустройства всей эпохи. Мы неосознанно начали строительство новой цивилизации с самого ее основания. Это и есть смысл Третьей Волны. 1 Тоффлер Элвин (р. 1928) — современный американский социолог и футуролог, один из авторов концепции «сверхиндустриальной цивилизации». В его основных работах проводится тезис о том, что человечество переходит к новой технологической революции, т. е. на смену первой волне (аграрной цивилизации) и второй (индустриальной цивилизации) приходит новая, ведущая к созданию сверхиндустриальной цивилизации. Тоффлер Хейди — жена и соавтор Элвина Тоффлера. 253 Элвин и Хейди Тоффлер До сих пор человечество пережило две великие Волны перемен, каждая из которых практически уничтожала предыдущие культуры или цивилизации и создавала условия жизни, немыслимые для тех, кто жил раньше. Первая Волна перемен — аграрная революция — заняла целое тысячелетие. Вторая Волна — становление индустриальной цивилизации— по меньшей мере, три столетия. В последнее время темпы развития истории сильно возросли, и похоже, что Третья Волна закончится через несколько десятилетий. Тем из нас, кому случится разделить с планетой этот переломный момент, в дальнейшем предстоит почувствовать влияние Третьей Волны на собствен- ных судьбах. Третья Волна принесла с собой совершенно новый стиль жизни, основанный на возобновляемых энергетических источниках, на методах производства, которые доказали несовременность большинства производственных линий, на новом общественном институте, который можно назвать «электронный коттедж», и на радикально измененных школах и корпорациях будущего. Приходящая цивилизация готовит для нас новый кодекс поведения и уводит нас от стандартизации, синхронизации и централизации, от концентрации энергии, денег и сил. Новая цивилизация имеет свое специфическое мировоззрение, свои способы контакта со временем, пространством, логикой и причинноследственными связями, а также собственные принципы управления будущим. Революционные предпосылки Сегодня воображением людей владеют два противоположных друг другу образа будущего. Большинство людей если и задумывается о будущем, то предполагают, что мир, который они знают, будет вечен. Им трудно даже 254 Создание новой цивилизации представить образ жизни, отличный от их собственного. Конечно, они признают, что все меняется, но полагают, что сегодняшние перемены не затронут привычный им образ жизни, а с экономикой и политической структурой ничего не произойдет. Он и уверенно ожидают будущего — для них это продолжение настоящего. События последнего времени серьезно пошатнули это самоуверенное представление о будущем. Распространяется более пессимистический взгляд. Многие люди, привыкшие к постоянному набору плохих новостей, фильмов ужасов и кошмаров, окончательно решили, что у сегодняшнего общества нет будущего. Для них события Армагеддона могут повториться в любую минуту. Земля решительно движется к финальному катаклизму. Наше предположение основано на том, что мы называем «революционными предпосылками». Они исходят из того, что, даже если последующие десятилетия будут полны переворотов и беспорядков, даже если насилие получит широкое распространение, мы все-таки не уничтожим сами себя. Они предполагают, что перемены, которые мы сейчас переживаем, являются не хаотичными или случайными, а фактически складываются в точную и ясную модель. Они основаны на том, что эти перемены приближают нас к полному изменению образа жизни, спшя работы, правил игры и самого мышления и что нормальное и желаемое будущее возможно. Из предпосылок следует, что все то, что сейчас происходит — не что иное, как глобальная революция, гигантский скачок. С другой стороны, наше предположение исходит из гипотезы, что мы — последнее поколение старой цивилизации и первое поколение новой. Таким образом, большую часть наших личных проблем, боли и неопределенности можно прямо отнести к конфликту, происходящему внут255 Элвин и Хейди Тоффлер ри нас и внутри политических учреждений, к конфликту между умирающей цивилизацией Второй Волны и возникающей цивилизацией Третьей Волны, которая уже нагрянула, чтобы занять свое место. Когда мы, наконец, поймем это, многие события, казавшиеся нам ранее бессмысленными, станут вдруг понятными. Обширные модели перемен начнут отчетливо выявляться. Выживание вновь окажется возможным и правдоподобным. Словом, революционные предпосылки освобождают наш ум и волю. Один из новых получивших широкое распространение подходов может быть назван анализом социальных течений. Этот подход рассматривает историю как последовательность волн, несущих перемены, и ставит вопрос о главной идее каждой из волн. Он фокусирует наше внимание не столько на самом течении истории (как бы важно это ни было), сколько на переломных моментах и нововведениях. Этот подход определяет возникновение моделей основных изменений с позиции наших возможностей воздействия на них. Подход исходит из простой идеи о том, что подъем сельского хозяйства явился первым поворотным пунктом в социальном развитии общества, а следующим стала индустриальная революция. Он рассматривает каждый из этих моментов не как отдельное событие, а как поток перемен, движущийся с определенной скоростью. До Первой Волны, принесшей изменения, большинство людей жило в маленьких, зачастую мигрирующих группах, питаясь растительной пищей и рыбой, занимаясь охотой и скотоводством. В то же время, примерно десять тысячелетий назад, началась и медленно распространилась по всей планете сельскохозяйственная революция, 256 Создание новой цивилизации создавшая поселения, деревни, возделываемые земли и новый образ жизни. Между тем Вторая Волна, перевернувшая за несколько коротких столетий жизнь в Европе, Северной Америке и некоторых других частях земного шара, продолжает еще распространяться: множество стран, до сегодняшнего дня являвшихся по сути своей аграрными, сейчас вовсю строят машиностроительные и сталелитейные заводы, текстильные и пищевые фабрики, железные дороги. Силы Второй Волны до сих пор еще не исчерпаны. Но, несмотря на то, что этот процесс продолжается, уже начался процесс более значительный. Как только в первые десятилетия после Второй мировой войны прилив индустриализации достиг своей вершины, начала подниматься Третья, еще не совсем понятная волна, изменяя все, с чем она соприкасалась. Многие страны, таким образом, ощущают одновременное влияние двух, даже трех совершенно разных волн перемен, которые движутся с разными скоростями и с разной силой. Для удобства будем считать, что эра Первой Волны началась где-то около 8 тысяч лет до нашей эры к доминировала в мире вплоть до 1650— 1750 гг. С этого момента Первая Волна потеряла свою силу, а Вторая Волна, наоборот, стала ее приобретать. Индустриальная цивилизация, продукт этой Второй Волны, доминировала на нашей планете, пока не потерпела крах. Последний поворотный пункт истории имел место в США, и время его определяется где-то в районе десятилетия, берущего свое начало с 1955 года— десятилетия, когда впервые количество служащих превысило количество рабочих. Это было то самое десятилетие, когда появились компьютеры, противозачаточные таблетки и другие нововведения. Именно в течение этого десятилетия Третья 257 Элвин и Хейди Тоффлер Волна начала набирать силу в США. С тех пор она проникла и в другие индустриальные державы. Сегодня пошатнулись позиции из-за всех высокоразвитых столкновения Третьей индустриальных Волны с стран устаревшими экономическими институтами Второй. В осознании этого кроется секрет понимания многих политических и общественных конфликтов, имеющих место в современном мире. Волны будущего Всякий раз, когда в данном обществе преобладает отдельная волна перемен, модель будущего развития сравнительно легко распознать. Писатели, художники, журналисты и другие распознают «волну будущего». Поэтому в XIX веке многие западные мыслители, бизнесмены, политики и обычные люди имели ясные, в основном правильные представления о будущем. Они чувствовали, что история движется к окончательному триумфу индустриализации через механизацию сельского хозяйства, и с большой точностью предвидели многие изменения, которые принесет с собой Вторая Волна — более мощные технологии, города больших размеров, более быстрый транспорт, массовое образование и т.д. Эта ясность видения имела непосредственное политическое значение. Партии и политические движения смогли определить свои позиции в расчете на будущее. Доиндуст-риальные аграрные интересы вели арьергардную деятельность против индустриализма, против «большого бизнеса», против объединения боссов и «греховных городов». Труд и менеджмент боролись за контроль над основными рычагами управления в возникающем индустриальном обществе. Этнические и расовые меньшинства, опреде258 Создание новой цивилизации ляя свои права в условиях увеличения их роли в индустриальном мире, требовали доступа к работе, корпоративным позициям, жилью в черте города, увеличению оклада и массовому общему образованию. Такое индустриальное видение будущего имело значительный психологический эффект. Общее представление об индустриальном будущем определяло выбор, помогало людям понять не только то, кем они являются и кем они были, но и то, кем они, вероятно, станут. Это обеспечивало стабильность и чувство самосознания даже в условиях экстремальных социальных перемен. Когда же общество, напротив, подвергается ударам двух или более волн перемен и ни одна еще явно не преобладает, образ будущего ломается. Становится очень трудно определять смысл перемен и возникающих конфликтов. Столкновение волн порождает бушующий океан, полный схлестывающихся потоков, водоворотов и вихрей, в которых кроются более глубокие и значительные исторические течения. В США — и во многих других странах — столкновение Второй и Третьей Волн создает социальное напряжение, опасные конфликты и новые странные политические волны, которые не совпадают с обычным классовым делением, разделением по расовому или половому признаку и принадлежностью к разным партиям. Это столкновение вносит хаос в традиционную политическую терминологию и очень затрудняет разделение на новаторов и реакционеров, на друзей и врагов. Все старые разделения и коалиции ломаются. Очевидная бессвязность политической жизни вызывает распад личности. Психотерапевты и гуру занимаются земельным бизнесом, а люди бесцельно слоняются среди соревнующихся тираний. Они становятся приверженцами культов истории или впадают в патологический при259 Элвин и Хейди Тоффлер ватизм, уверенные, что действительность — это абсурд, безумие или бессмыслица. Жизнь действительно может быть абсурдной в более широком, космическом смысле, но вряд ли это доказывает бессвязность сегодняшних событий. Вообще, существует определенный скрытый порядок, который станет очевидным, как только мы научимся отличать перемены Третьей Волны от перемен Второй Волны. События, вызванные этими волнами, влияют на нашу работу, семейную жизнь, сексуальные отношения и личностную мораль. Они выявляются в образе жизни и в выборе поведения. Судя по нашей личной жизни и политическим событиям, знаем мы это или нет, но большинство, живущее в богатых странах, является в основном людьми Второй Волны, продолжающими поддерживать умирающий порядок. А люди Третьей Волны создают радикально другое завтра или спутанную самоотрицающую смесь обеих волн. Конфликт между Второй и Третьей Волной является, в сущности, основной причиной политического напряжения в сегодняшнем обществе. Наиболее важный политический вопрос, как мы увидим, состоит не в том, кто контролирует последние дни индустриального общества, но в том, кто формирует новую цивилизацию, быстро растущую на смену старой. С одной стороны, мы видим приверженцев индустриального прошлого, с другой — растущие миллионы тех, кто понимает, что большинство важных мировых проблем больше не могут быть разрешены в рамках индустриального порядка. Этот конфликт и есть «суперборьба» завтрашнего дня. Эта конфронтация между интересами Второй Волны и людьми Третьей пронизывает, как электрический ток, политическую жизнь каждой страны. Даже в неиндустриальных странах мира все старые войны прекратились с приходом Третьей Волны. 26О Создание новой цивилизации Старая война аграрных, часто феодальных интересов против индустриальных элит, как капиталистических, так и социалистических, принимает иные размеры и свете нынешнего устаревания индустриализма. Теперь, когда возникает цивилизация Третьей Волны, подразумевает ли быстрая индустриализация освобождение от неоколониализма и бедности или она, фактически, гарантирует окончательную зависимость? Этими широким предпосылкам только противоречит то, что мы начнем придавать смысл заголовкам, выбирать наши приоритеты, вырабатывать разумные стратегии для контроля над изменениями в нашей жизни. Теперь, когда мы осознали, что между сторонниками сохранения индустриализма и сторонниками его вытеснения бушует ожесточенная борьба, у нас есть новый инструмент для изменения мира. Однако, чтобы использовать этот инструмент, мы должны научиться четко различать те перемены, которые относятся к старой индустриальной цивилизации, от тех, которые содействуют возникновению новой. Иными словами, мы должны различать как старую, так и новую индустриальную систему Второй Волны, во время которой многие из нас родились, к цивилизацию Третьей Волны, в которой нам и нашим детям предстоит жить. Конфликт цивилизаций Лишь недавно люди начали осознавать, что индустриальная цивилизация подходит к своему закату. Разгадка этого была очевидна уже в 1970 году, когда мы писали в книге «Шок от Будущего», об «общем кризисе промышленности», который приносит с собой угрозу неограниченного числа войн нового типа. Многочисленные перемены в обществе не могут происходить без конфликтов, 261 Элвин и Хейди Тоффлер поэтому мы считаем, что метафора «история как волны перемен» более динамична и показательна, чем разговор о переходе к «постмодернизму». Волны динамичны, поэтому при их столкновении происходят мощные переходные процессы; когда же сталкиваются волны истории, возникает конфликт цивилизации. Это проливает свет на многое, что в других условиях кажется в сегодняшнем мире лишенным смысла или случайным. Волновая теория конфликтов предсказывает, что основной конфликт произойдет не между Востоком и Западом или «Между Западом и остальными», как недавно предположил Самуэль Хантингтон. Это не будет и упадком Америки, как заявил Пол Кеннеди, или «концом истории», по выражению Френсиса Фукуямы. Всеобщие глубокие экономические и стратегические перемены приведут к разделению мира на три отдельные, потенциально конфликтующие цивилизации, которые не могут быть охарактеризованы традиционными определениями. Цивилизация Первой Волны была и всегда будет тесно связана с землей. Какую бы локальную форму она ни принимала, на каком бы языке ни разговаривали люди, какой бы ни была их религия — это результат аграрной революции. Даже сейчас множество людей живут и умирают, роясь в неплодородной земле, подобно тому, как это делали их предки. Время появления цивилизации Второй Волны находится под вопросом. Для многих людей жизнь радикально изменилась примерно триста лет назад. В это время появилась ньютоновская наука, паровой двигатель был впервые использован в экономических целях и в Англии, Франции и Италии начали появляться первые фабрики. Крестьяне стали переезжать в города. Начали распространяться смелые идеи: идея прогресса, доктрина личных прав, рус262 Создание новой цивилизации соистское понятие социального договора, идея отделения школы от церкви, отделения церкви от государства и новая идея о том, что руководители должны выбираться общественностью, а не волей Божьей. Движущей силой многих из этих перемен был новый способ обогащения — фабричное производство. Задолго до этого множество элементов должны были соединиться и сформировать систему массового производства, потребления, массового образования и средств информации, объединенных вместе и обслуживаемых специализированными институтами: школами, корпорациями и политическими партиями. Изменилась даже структура семьи: из большой, вместе занимающейся домашним хозяйством семьи аграрного превратилась в типа, объединяющей уменьшенную семью несколько нового типа, поколений, она типичную для индустриального общества. Людям, вовлеченным в эти перемены, жизнь должна была казаться хаотичной. Тем не менее все перемены были тесно взаимосвязаны. Они явились шагами к высшему развитию того, что мы называем современностью — обществ массовой индустрии, цивилизаций Второй Волны. Термин «цивилизация» может звучать претенциозно, особенно для многих американцев, но никакой другой термин не может быть достаточно всеобъемлющим, чтобы включать в себя такие понятия, как технология, семья, религия, культура, политика, бизнес, иерархия, лидерство, системы ценностей, мораль и теория познания. Сдвиги и радикальные перемены присутствуют на всех этих уровнях общества. При изменении стольких социальных, технологических и культурных параметров одновременно возникают не только сдвиги, но и изменения, не только новое общество, но и зачатки абсолютно новой цивилизации. 263 Элвин и Хейди Тоффлер Эта новая цивилизация с шумом вошла в историю Западной Европы, встречая на каждом шагу сильнейшее сопротивление. Борьба за сферы влияния В каждой стране, становящейся на путь индустриального развития, разразились ожесточенные кровавые войны между промышленными и коммерческими группами Второй Волны и землевладельцами Первой Волны, часто в союзе с церковью (тоже являющейся крупным землевладельцем). Множество крестьян было согнано с земель, чтобы стать рабочими на «дьявольских мельницах» и фабриках, которые занимали все новые территории. Стычки и бунты, гражданские войны, территориальные споры, национальные восстания начали происходить, когда война Первой и Второй Волны за интересы переросла в борьбу за сферы влияния — основной конфликт, ставший причиной многих других. Подобная ситуация повторялась во всех странах, вступающих в индустриальную эпоху. В США для этого понадобилась ужасная гражданская война индустриально-коммерческого Севера против аграрной элиты Юга. Всего несколько лет спустя в Японии разразилась революция Мэйдзи. Модернисты Второй Волны в очередной раз восторжествовали над приверженцами традиций Первой Волны. Распространение цивилизации Второй Волны с ее новыми методами обогащения дестабилизировало отношения между странами, образуя пробелы в сферах влияния. Индустриальная цивилизация, результат Второй Волны перемен, быстрее всего стала распространяться на северных берегах огромного Атлантического бассейна. Атлан264 Создание новой цивилизации тические державы, вступив в индустриальную эпоху, требовали новых рынков сбыта и дешевого сырья из отдаленных регионов. Поэтому передовые державы Второй Волны вели колонизаторские войны и добились господства над оставшимися державами Первой Волны и племенами по всей Азии и Африке. Это снова была борьба за сферы влияния — индустриальных держав Второй Волны против аграрных держав Первой Волны — но на этот раз на более глобальном, а не на внутригосударственном уровне. Это сопротивление до последнего времени в основном определяло международное положение. Племенные и территориальные войны между разными аграрными группами продолжались, как и раньше, на протяжении всего последнего тысячелетия, но важность этих войн была невелика, и они обычно просто ослабляли обе стороны, делая их легкой добычей для колонизатора — индустриальной державы. Так случилось, например, в Южной Африке, когда Сесиль Роде со своими вооруженными силами захватил огромные территории, принадлежавшие местным племенам, которые в это время были заняты войной друг с другом, используя примитивное оружие. Где-нибудь в другом месте множество, казалось бы, не связанных друг с другом войн на самом деле были проявлением одного глобального конфликта не между враждующими странами, а между враждующими цивилизациями. Но самыми большими и кровопролитными войнами эпохи индустриализации были войны друг против друга, спровоцированные державами Второй Волны, такими, как Германия и Англия, при том что каждая из них боролась за мировое господство, оставляя при этом в подчинении мировые популяции Первой Волны. Окончательным результатом стало четкое разделение. Индустриальная эра 265 Элвин и Хейди Тоффпер поделила мир на доминирующую цивилизацию Второй Волны и зависимые колонии Первой Волны. Многие из нас выросли в мире, разделенном между этими цивилизациями. И наиболее влиятельная из них очевидна. Сегодня расстановка сил в мире изменилась. Мы движемся к совершенно другой структуре сил, разделяющей мир не на две, а на три четко определенные противоположные враждующие цивилизации. Символ Первой, как и прежде, — мотыга, Второй — конвейер, а Третьей — компьютер. В разделенном натрое мире сектор Первой Волны поддерживает сельскохозяйственные и минеральные ресурсы, сектор Второй Волны обеспечивает дешевый труд и производит массовую продукцию, а быстро растущий сектор Третьей Волны использует новый способ доминирования — создание и эксплуатацию знаний. Народы цивилизации Третьей Волны продают информацию и нововведения, менеджмент, культуру и поп-культуру, новые технологии, программное обеспечение, образование, педагогику, медицинские, финансовые и другие услуги всему миру. Одной из этих услуг может оказаться военная защита, так как силы Третьей Волны являются лучшими. (Это то, что высокоразвитые страны сделали для Кувейта и Саудовской Аравии в войне в Персидском заливе). Индивидуализированные общества Вторая Волна породила массовые общества, которые производили массовую продукцию и нуждались в ней. В Третьей Волне научно обоснованная экономика и массовое производство (которое может быть признано отли266 Создание новой цивилизации чительной устаревшими. чертой Появился индустриального новый способ общества) уже являются — немассовое производство небольших партий товаров высокого спроса. Массовая торговля делает возможным разделение и «частичный маркетинг», с параллельным изменением производства. Старые индустриальные громадины терпят крушение. Средства массовой информации делятся параллельно с производством, и гигантские телевизионные сети становятся ненужными с увеличением числа новых каналов. Семья также становится малочисленной: семьи нового типа, бывшие прежде стандартом нашего времени, остаются в меньшинстве, в то время как увеличивается число родителей-одиночек, разведенных, бездетных семей и одиноких людей. Поэтому вся структура общества меняется, когда однородность общества Второй Волны заменяется разнородностью цивилизации Третьей Волны. Массовость заменяется раздробленностью. В свою очередь, сама сложность новой системы требует все большего обмена информацией между ее частями — компаниями, органами власти, больницами, ассоциациями, другими институтами, даже отдельными лицами. Это создаст огромную потребность в компьютерах, цифровых телекоммуникационных сетях и новых средствах информации. Одновременно увеличиваются темпы технолигическо-го обмена, деловой повседневной жизни. Фактически, экономика Третьей Волны оперирует с такими высокими скоростями, что ее основные поставщики едва удерживают темп. Более того, поскольку информация все больше заменяет сырье, труд и другие ресурсы, то страны Третьей Волны становятся менее зависимыми от партнеров Первой и Второй Волны (мы не имеем в виду торговлю). Они все больше стремятся сотрудничать друг с другом. 267 Элвин и Хейди Тоффлер Со временем многие работы, выполняемые сейчас в странах с дешевой рабочей силой, станут областью применения высоких технологий, да и в настоящее время они уже выполняются там быстрее, лучше и дешевле. Другими словами, эти перемены ставят под угрозу множество существующих экономических связей между передовыми и развивающимися странами. Но, тем не менее, полный разрыв маловероятен. Невозможно остановить загрязнение окружающей среды, болезни и иммиграцию в страны Третьей Волны. Богатые страны не смогут выжить, если бедные страны будут вести экологическую войну. По этим причинам напряженность между цивилизацией Третьей Волны и двумя более ранними цивилизациями будет нарастать, и новая цивилизация может с успехом бороться за глобальную гегемонию так же, как это делали модернизаторы Второй Волны по отношению к своим предшественникам — представителям Первой Волны — несколько веков назад. Будучи осознанной, эта концепция конфликта цивилизаций поможет нам понять смысл многих, казалось бы, случайных явлений, например, сегодняшних вспышек национализма. Национализм — это идеология национального превосходства, являющаяся порождением индустриальной революции. Так, как только аграрные общества Первой Волны пытаются начать или закончить свою индустриализацию, они испытывают необходимость в атрибутах национального статуса. Бывшие советские республики, такие, как Украина, Эстония или Грузия настаивают на самоопределении и нуждаются в устаревших символах государства: флагах, армиях и валютах, которые определяли статус нации во время Второй Волны или индустриальной эры. Миру высоких технологий трудно понять мотивации ультранационалистов. Их самодовольный патриотизм про268 Создание новой цивилизации изводит смешное впечатление. Это напоминает страну Фридонию в фильме братьев Маркс «Утиный суп», в котором высмеиваются чувства национального превосходства у воюющих вымышленных наций. Напротив, националистам непонятно, почему некоторые нации позволяют другим посягать на их «священную» свободу. Однако «глобализация» бизнеса и финансов, необходимая для развивающейся экономики Третьей Волны постоянно ломает национальные «суверенитеты», так бережно охраняемые новыми националистами. Экономика изменяется под воздействием Третьей Волны, поэтому националисты вынуждены отказываться от части своего суверенитета и принимать все возрастающее экономическое и культурное вторжение стран Третьей Волны. В то время как поэты и интеллектуалы экономически отсталых регионов сочиняют национальные гимны, поэты и интеллектуалы стран Третьей Волны воспевают достоинства «мира без границ» и «мирового самосознания». В результате столкновения, отражающие острое разли чие интересов двух противоположных цивилизаций, могут спровоцировать в будущем самые ужасные кровопролития. Если сегодняшний передел мира из двух на три части кажется сейчас менее чем очевидным, то это лишь потому, что переход от экономики Второй Волны, основанной на тягловой силе, к экономике Третьей Волны, основанной на силе интеллекта, еще нигде не закончился. Даже в США, Японии и Европе локальная борьба за власть между элитами Второй и Третьей Волн еще не завершена. Важные институты и секторы Второй Волны остались, и политические лобби Второй Волны до сих пор держатся у власти. Смесь из элементов Второй и Третьей Волн в каждой высокоразвитой стране дает свои характерные формации. 269 Элвин и Хейди Тоффлер Тем не менее общее направление вполне ясно. Глобальная гонка будет выиграна странами, которые закончат свой переход к Третьей Волне с минимальными внутренними неувязками и беспорядками. Тем временем исторический переход от двухчастного мира к трехчастному может привести в движение ожесточеннейшую борьбу на планете, так как каждая страна постарается найти себе место в возникающей трехъярусной структуре влияний. За всем этим монументальным распределением сил лежит изменение ролей, приоритетов и природы знаний. СОДЕРЖАНИЕ Часть I. Восстал брат на брата Георг Зиммель. Человек как враг Перевод с немецкого В, Ванчугова ..........................................5 Витторио Хёсле. Кризис индивидуальной и коллективной идентичности ............................................... 16 Эмиль-Мишель Чоран. Портрет цивилизованного человека. Перевод с французского В. Никитина...................................46 Жан-Люк Нанси. О событии. Перевод с французского В. Фуре ......................................... 104 Часть II. Распалась связь времен Эмиль-Мишель Чоран. Выпасть из времени. Перевод с французского В. Никитина ................................ 123 Рено Генон. Из книги «Кризис современного мира». Перевод с французского Т, Любимовой .............................. 133 Часть III. Миру старому конец Эмиль-Мишель Чоран. Механика утопии. Перевод с французского Б. Дубина .....................................213 Эмиль-Мишель Чоран. Из книги «Разлад». Перевод с французского И. Мавлевич .................................232 Часть IV. Миру новому начало? Элвин и Хейди Тоффлер. Создание новой цивилизации. Перевод с английского П. Гуревича .....................................253 АПОКАЛИПСИС СМЫСЛА Сборник работ западных философов XX—XXI вв. Редактор О. Селин. Художник М. Медведь Верстка А. Кувшинников. Корректор Н. Самойлова ООО «Алгоритм-Книга* Тел.: 617-0952, 617-0825 Оптовая торговля: Центр политической книги — 733-9789 «СтолицаСервис» - 375-3211, 375-2433, 375-3673 «ТД АМАДЕОС»- 513-5777, 5135985 Мелкооптовая торговля: г. Москва, СК «Олимпийский». Книжный клуб. Торговое место № 30, 1-й эт. Тел, 8-903-519-85-41 Сайт: http://www.algoritm-kniga.ru Электронная почта: algoriim- [email protected] Подписано в печать 04.06.2007. Формат 84x108 1/32Печать офсетная. Гарнитура «Тайме». Бумага тип. Усл. печ. л. 14,28. Тираж 3000 экз. Заказ № 6054. Отпечатано с предоставленных диапозитивов в ОАО «Тульская типография». 300600, г. Тула, пр. Ленина, 109.