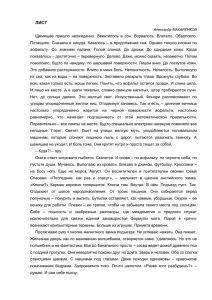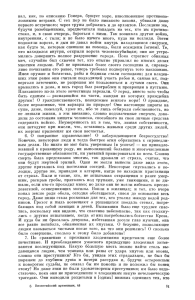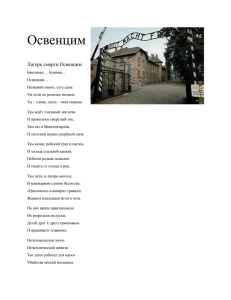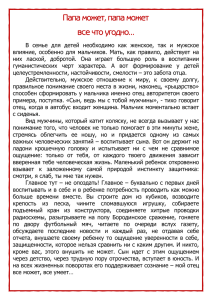Лиляна Хабьянович
реклама

Лиляна Хабьянович-Джурович «Игра Ангелов» (отрывок) Перевод с сербского Ильи Числова Ей было семь лет, когда ей впервые разрешили встретить отца за воротами замка. Он возвращался из дальнего похода, из-под Сера, с безуспешной войны, которую по повелению своего могущественного государя, Душана Сильного, вел против врага вместе с прославленным воеводой Релей Крылатым. Они с матерью стояли чуть в стороне от толпы женщин, детей, мужчин, по воле Божией не годных к ратному делу, и тех, кто был изувечен в прежних битвах. И, объятые тем же страхом, что и все, прислушивались к приближающемуся топоту копыт усталой конницы, который нарастал с каждым мгновением. Мать держала ее руку в своей, как это бывало тысячу раз прежде, и всетаки сейчас в ее прикосновении было что-то новое. Незнакомое. Пугающее. Влажная ладонь дрожала от беспокойного и тревожного предчувствия. Когда распахнулись широкие ворота перед показавшимися наконец воинами, общее оцепенение сменилось горестными стонами. Изнуренная, сломленная горечью поражения масса людей, медленно вползавшая на площадь, мало напоминала ту блестящую рать, что несколько месяцев назад уходила на войну, чтобы исполнить королевскую волю. Они уходили на добрых конях. В дорогих плащах и надежной чешуйчатой броне, с коваными щитами, на которых красовался герб господаря. Лес великолепных новехоньких копий вздымался над колонной, тяжелые и острые мечи грозно звенели в ножных. Шлемы с поднятыми забралами, роскошные перья. Народ шумно теснился вокруг и осыпал ратников цветами. Гордо реяли стяги, высоко вздымаемые дюжими знаменосцами. Трубили трубы. Громко звучал боевой клич. Во имя силы, победы, державной мощи. Потом им пришлось пройти долгий путь по чужим и неведомым землям. Под моросящим холодным дождем, по непролазной грязи. Под палящим солнцем, от которого не было спасения в раскаленных доспехах. Через густые облака пыли, забивавшейся в рот и в глаза лошадям и людям. Потные, изнемогающие от собственного и чужого смрада, уставшие от бессонных ночей и измученные долгими переходами, они наконец вышли к вражеской крепости, которую им нужно было захватить. Но взять ее не смогли. И тем же путем, показавшимся теперь 1 еще тяжелее и мучительнее, воротились в Жупаневац-град, неся на плечах бремя позора и горечи поражения. Они привезли с собой израненных и покалеченных соратников. И принесли страшные вести семьям погибших. Осиротевшим матерям, детям и вдовам. Во главе измученной и расстроенной колонны ехал ее отец. Следом за ним — Никола, ее единственный брат. И еще многие, кого она знала. О, с какой силой стиснула тогда мама ее крохотную ручонку! Сколь тяжело и мучительно было это пожатие для девочки, о которой мать просто позабыла в тот миг. В этом пожатии было все. Тревога долгого ожидания. Страх. Стыд поражения, который она разделила с супругом. Скорбь госпожи при виде боли и страданий несчастных, чьи жизни вверены ее мужу, а значит и ей. И радость. Радость! Радость! Радость! Оттого, что снова видит мужа и сына. Живыми и невредимыми. Радость, которую она должна сейчас скрыть, чтобы не ранить ею тех, кому возвращение ратников принесло одно только горе. Со спокойными лицами, не ускоряя шага, мать и дочь пошли навстречу Николе и Богдану Югу. Госпожа поцеловала своего мужа и господина в грудь, а он ее — в лоб, как того требовал обычай. Только после этого она коснулась своим лицом его лица, но это нежное, невольное касание продлилось всего мгновение. Воевода решительно отстранил жену, едва лишь почувствовал на своей щеке ее слезы. Милицу же он крепко обнял и долго держал так, прижав ее голову к своей груди. Каким сильным было это объятие! Сколько самых противоречивых чувств и мыслей, отягощавших ум и бередивших душу, испытал он в эти волнующие минуты. Ибо несказанно велика была его любовь и забота о жене и дочери, которую носил он в своем сердце. Девочка почувствовала, что теряет сознание. Словно проваливается кудато. Что это было? Непомерная сила отцовских рук? Или ужасный запах, исходивший от его одежды и кожи. «Верно, это запах поражения», — подумала она. И из последних сил крепко обхватила отца за шею, исполненная бесконечной любви и жалости. С годами она поняла, что победа и поражение имеют один и тот же запах. Запах пота и крови, нечистоты людской. Запах войны. И страх ее каждый раз был один и тот же. Даже тогда, когда победа стала постоянной спутницей всех ратных походов Душана Сильного. У Душана была своя мечта. Ему казалось, что он рожден для того, чтобы через Сербское царство воскресить угасшую Византию. Его держава раскинулась на берегах трех морей. Любые преграды, любые препятствия на своем пути сокрушал он своей железной волей. И не разу не содрогнулся от мысли, что все мечты своих подданных — о страстной любви, о песнях и плясках, о родительской и супружеской радости, о тихих вечерах и шумных рыцарских забавах, о мирных трудах и молитвенном покое, все эти обыкновенные мечты обычного человека, скрашивающие ему жизнь и 2 делающие ее таковой, — все это замуровал он, словно в гробницу, в основание величественного строения, кое задумал воздвигнуть. Все чаще царевы посланцы приносили племичам повеление седлать коней и собирать войско. Отец и Никола возвращались домой все реже. Все короче были эти долгожданные встречи. Встречи, бывшие лишь передышкой перед новым походом, в который вместе с жупаном и его сыном каждый раз уходили новые воины — едва успевшие повзрослеть юноши. Она не знала, чего боится больше: ухода или возвращения ратников. Ибо страх ее был непрестанным. Он стал частью ее повседневной жизни, как еда и питье. Как соль. Проник ей глубоко под кожу. В кровь. Растворился в ней и разлился, подобно яду, по всему ее существу, так что она уже никогда, никогда, казалось, не могла его изгнать из себя. Страх всегда был один и тот же. Вернутся ли из битвы отец с Николой? Или же одного из них привезут, как постоянно привозят других воинов. Раненого? Мертвого? А вдруг они погибнут оба? Страшно было смотреть на вдов. Матери гордились рождением сына, громко произнося его имя. Но наставал час, когда они в ужасе молились: только бы не услышать его в списке павших. Вдовы и сироты. Страх и стыд. Стыд от собственной радости, что снова дождалась отца и брата. Смутное чувство стыда перед людьми. И пред Богом, Коему не уставала возносить искренние молитвы, благодаря Его за великую милость, коя в очах многих выглядела неправдой. «Сколько раз еще будем мы вот так встречать и провожать ратников? Неужели именно так должно быть? И разве нет другой, иной жизни?» — часто вопрошала она втайне. Но ответа не было. Даже от меня. О том ведал лишь Бог. «Как ты можешь так жить?» — спрашивала она мать. Она уже стояла на пороге девичьей жизни. И ей казалось, что у нее есть право задать такой вопрос. И услышать материнский ответ. «Живу так, как должна жить. Как повелел мне Господь. Как всякая женщина. Ты тоже привыкнешь к этому. Поймешь, что женская доля — ждать. В одиночестве. В тревоге и страхе. И лишь иногда вкушать малую радость. Так всегда было и будет. И к более страшным вещам ты привыкнешь. Твоя любовь научит тебя этому. И твой страх. Свое счастье ты будешь измерять чужим горем. Чем ужаснее будет разверзаться пропасть вокруг тебя, тем сильнее почувствуешь ты Божию любовь к себе. Будешь проливать горячие слезы, благодаря Его, всемилостивого, за то, что пощадил самых дорогих твоему сердцу и не дал ему разорваться от боли. Такова наша доля, Милица. Рожденная в семье смердов или властелы, женщина всегда будет женщиной. Она слышит только голос своего сердца. И живет по заповеди этого гласа». 3 *** Пока Богдан Юг водил воинов в походы, покоряя грады и земли власти своего государя, его верная люба, Милица и все близкие им люди, оставаясь дома, не переставали говорить о нем. Словно хотели призвать его этими речами. Почувствовать за беседой его живое присутствие. Дабы он всегда оставался частью жизни тех, кто его ждет, и, воротясь после долгой разлуки, не показался им чужим и незнакомым. Поэтому они вспоминали прошлое. Тешили себя давнишними историями, улыбаясь дорогому и далекому. И мечтали о том, что будет, когда он вернется. Строили различные предположения и планы, укрепляя свою веру в его неизбежное возвращение. На невидимой карте, существовавшей только в ее мыслях и испещренной только ей ведомыми знаками, благородная госпожа ежедневно отмечала путь войска и нередко прерывала домашние разговоры неожиданными словами: «Они уже прошли Паракинов Брод. Прибыли в Ново Брдо. Теперь они уже в Неродимле. А сейчас переходят Ибар». И затем снова возвращалась к обычной беседе, как будто ничего другого и не говорила. Ибо все речи в этом доме так или иначе сводились к одной великой повести о Богдане Юге. Но была у прославленного полководца и иная жизнь. Она чередовалась с ратными буднями столь же естественно, как день сменяет ночь. Наступала после них так же просто и неизменно, как понедельник после воскресного дня. Вернувшись из похода, отец часто исчезал уже на следующее утро. Уходил куда-то. И словно растворялся в окрестном просторе. Куда мог ходить Богдан Юг, царский родич и воевода, мудрый жупан, облеченный доверием государя, пешком и в крестьянской одежде? Что за тайная сила вела и хранила его на этом пути? И в чем заключалась сия тайна? Тайна, которую он уносил с собой и приносил обратно? Кому она принадлежала? О том не ведал никто. Через неделю-другую отец вновь объявлялся в Жупаневац-граде. Такой же, как и прежде. Не говоря ни слова о своем путешествии, словно ничего и не было. Пыталась ли мать проследить эти таинственные пути своего мужа. Могла ли? И смела ли? Этого Милица не знала. Ибо в те дни мама ни единым словом не упоминала о нем. И на все вопросы дочери отвечала молчанием, храня ледяное спокойствие, как если бы речь шла о чем-то запретном и постыдном. О боли и муке. О шепоте души. «Почему мама молчит? Не хочет, чтобы вместе со словами у нее вырвались слезы обиды и ревности? Либо, наоборот, боится проговориться и выдать то, что известно только ей? Быть может, в эти минуты она не желает нарушить своими речами, воспоминаниями и даже немыми призывами мира в его душе, боится помешать ему в каком-то необыкновенно важном деле, 4 ради которого он покинул нас? Или же и сама участвует в нем, по крайней мере в мыслях?» Так размышляла Милица. А под сводами замка, в посаде, на лугах, пашнях и лесных тропинках ту же самую тайну обсуждали псари и сокольничии, конюхи и прислуга, крестьяне и воины. Шептались по углам служанки. Судачили посудомойки. Cостязались в остроумии кузнецы и оружейники. Выдвигали свои предположения каменщики. Спорили до хрипоты мастера и подмастерья. Каждый изо всех сил напрягал свое воображение, пытаясь в силу собственных умственных способностей и нравственных возможностей отгадать эту загадку. Каких только историй не рассказывали люди! Чего только не сочиняли они о своем господине. Куда только не уходила его дорога в их бесконечных повествованиях. Он якобы ездил в Зету, дабы опять увидеть свое наследие и родовое гнездо, которого несправедливо лишился. Все ведь это когда-то было Вуканово. Потому-то и заезжал жупан в Давыдов монастырь на Лиме, чтобы поклониться своему праотцу Давиду и перед его мощами вымолить у Бога силы для свержения Душана. Да нет же! То был царский приказ. Тайное посольство к венецианцам, чтобы договориться с ними за спиной у венгров. А крестьянская одежда — для того, чтобы легче было общаться с простым народом, слушать разные речи и разговоры: что думают люди, чего хотят и какой правды желают от Душана в новом законнике. Да и за вельможами надо приглядывать. Что они мыслят о войне. И насколько верны государю. Ибо с давних пор известна старая истина: никогда не можешь быть до конца уверен в тех, у кого в руках власть над людьми. А может, причина в женщинах? Слышно, особо доверенные слуги специально покупают для него красавиц на невольничьих рынках. О, те заморские прелестницы, такие сладкие и желанные — каждая по-своему, знают толк в любовных ласках. Не зря ведь за них платят чистым золотом. Тем самым, за которое проливается столько крови в далеких походах. Известное дело, ради богатств и сокровищ, а не ради рыцарской чести и государевой службы так охотно спешат на царский зов и наш жупан и прочая властела. Слухи рождались и множились. Разрастались буйной порослью, как сорняк вокруг ростка истины. Вокруг молчания тех, кто знал правду. Милица всей душой желала узнать отцову тайну. Но ее побуждала к этому любовь. И затаенная ревность. «Неужели для него есть что-то более важное, чем мы? К кому он так спешит? Ради кого покидает нас, едва успев вернуться с войны?» — она терзалась подобными мыслями. И плакала. Всхлипывала, глотая слезы, стараясь не показать виду. Как всякая девочка, усомнившаяся в любви своего папы. В такие дни ее тоска по отцу нередко бывала еще сильнее и болезненнее, чем во время долгих походов. Но никогда не осмеливалась она искать утешения у матери. Научилась не спрашивать ее об этом. По правде сказать, она еще и боялась. И часто сама не 5 знала, чего больше. Ледяного молчания, которое так тяжко переносить, когда оно исходит от мамы? Или другого? Боялась ранить мать жестоким вопросом и вырвать у нее позорное признание? *** Вставай, Милица! И скорее собирайся! Ты пойдешь с отцом», — мать вырвала ее из мягких объятий сна быстро и неожиданно. Обычно она не спешила просыпаться сразу. Мысли и движения ее были неторопливы и размеренны. Девочка любила досматривать свои сны и подолгу лежала с закрытыми глазами, не вставая. Но то утро было не таким, как другие. Едва только мама произнесла эту великую новость, сна не осталось ни в одном глазу. Она даже не спрашивала, куда поведет ее отец. Она и так это знала! Тотчас поняла! «Туда! Конечно же, туда», — шептала Милица. Туда, где находится его тайна. Наконец-то она увидит ее. И сможет к ней прикоснуться. Наконец-то! Наконец-то! Она быстро натянула простое грубое платье, принесенное специально для такого случая. Наскоро попрощалась с матерью, даже не обняв ее. И, схватив отца за руку, потянула его за собой. Она вела его так уверенно, словно это она знала дорогу и была его провожатым. Сколько было восторга! Сколько радости! Радости, которая буквально переполняла ее и требовала немедленного выхода. Она резвилась и шалила. Тараторила взахлеб, без умолку. Сама себя обрывала на полуслове и поминутно сбивалась с мысли. И тут же весело напевала известные песенки, которые разносили по всей Сербии бродячие музыканты, знаменитые дубровницкие шпильманы. И смеялась. Смеялась от всей души и от чистого сердца. Она бежала вприпрыжку, приплясывая и звеня по камням дробными, стремительными шажками. Но при этом ни на минуту не выпускала из своей тонкой девичьей руки сильную и надежную отцовскую руку. Ибо в тот день как никогда была исполнена благодарности, любви и доверия к нему. Дорога оказалась недолгой и вела по знакомым местам. Они остановились за Грабовацким перевалом. Посреди буйной зелени виноградника. У бревенчатой хижины, притулившейся возле небольшой церквушки, вплотную к ее стене. «Народ называет здешний край Богданьем. И холмы, и виноградники, и речную долину — все окрестил он этим именем». «Это потому, что ты здесь правитель», — сказала она уверенно. «Те две реки, вон те две, что сливаются в одну — отсюда они кажутся тонкими синими нитями, — это Любостыня и Западная Морава. Дальше, где уже не видит око, текут Расина и Великая Морава. А еще дальше — Ибар и Южная Морава», — продолжал отец. 6 Милица слышала, но не слушала. Ибо явилась сюда не за этим. Ее влекла тайна. И только то, что составляло часть этой тайны казалось ей сейчас достойным внимания. Сердце ее то и дело замирало. А напряженный взор беспокойно блуждал вокруг. Она искала то, зачем пришла. О, как отрадно было наблюдать за ней в эти минуты! Я знал: приближается миг, когда она впервые познает и ощутит прикосновение вечности. Что будет потом? Это было сокрыто даже от меня. «Испугается ли она? Опешит? Или же, наоборот, раскроет ей свои объятия и свое сердце?» Так спрашивал я сам себя. И не получал ответа. Архангелы безмолвствовали, хотя, конечно же, слышали мою мысль. Так же ясно, как и я — ее. Все, что можно было объять человеческим взором, выглядело совсем обычным. Виноградник. Лес за виноградником. Бревенчатая хижина. Маленькая церковь. Однако беспокойство, что нарастало с каждой минутой, не было столь же обычным. Милица чувствовала, что колкие мурашки по всей спине — явно не от чужой грубой одежды. Равно как и то, что вовсе не полуденный зной является истинной причиной ее нетерпения. Она озиралась вокруг, пытаясь понять самое главное и выбрать верное направление. Наконец она решилась. И двинулась в сторону церкви. Ступила на каменный порог. И более уже не колебалась. Обретя внезапно абсолютный покой, Милица уверенно, словно ее вела невидимая рука, прошла несколько шагов от входных врат до южного придела. А там, на стене, ее уже поджидала Святая, улыбавшаяся ей с фрески как долгожданной гостье. «Кто это?» — спросила девочка дрогнувшим голосом. «Преподобная Параскева», — сказал Богдан Юг. Его простые, отрывистые слова, казалось, тонули в горячих слезах благодарности. «Она — моя заступница и покровительница. Во всех битвах я ясно ощущаю ее живое присутствие. Не знаю, чем заслужил я эту милость, но чувствую, что все доброе, что есть во мне и вокруг меня, это и от нее тоже. Во славу преподобной Параскевы построил я некогда эту церковь. И теперь прихожу сюда после каждого похода. Бывает, но нескольку дней живу здесь как отшельник. Беседую с ней. И очищаю свою душу постом и молитвой, чтобы хоть немного приблизиться к Богу. Так поступал и мой праотец, монах Давид. Ты знаешь его историю. Он продолжил Вуканов род. Но потом, передав моему родителю власть над жупой и весь свой опыт воина и правителя, удалился в святую обитель». Милица слушала его лишь краешком уха. Словно его тайна уже потеряла для нее свою важность. И все же слышала и понимала все. Здесь, в этом винограднике, ее отец мог соединить в себе любовь к Богу и долг перед государем. Здесь обретал он мир и покой. Исцеляя жестокие раны в душе и рубцы на сердце. Только так и мог он жить дальше. Она видела все ясно. Как будто читала по книге. И не удивлялась, откуда у нее, девочки, такие мысли. Кто подсказал ей это? В тот час, перед сияющим ликом Преподобной, все было возможно. Она уже смотрела без страха. 7 «Я ее знаю, батюшка. Видела во сне. Тогда она мне ничего не сказала. Только улыбалась. Вот как сейчас. И протянула руку, словно звала к себе. Сперва я подумала, что это одна из наших дам. Но ни одна наша благородная госпожа не была так прекрасна. Ни в одной из них не было столько нежности и достоинства. Ни одна не умела так смотреть. Все понимая. И все прощая. Никто из тех, кого я видела во сне или наяву, не походил на нее. И все же она была такой родной и близкой, как будто тысячу раз баюкала меня на коленях». «Твоя мать рассказала мне о твоем сне. Поэтому я взял тебя с собой. Это сюда звала тебя Преподобная». Девочка взглянула ему в глаза, затем перевела взгляд на лик святой Параскевы, а потом вновь посмотрела на отца. Она не решалась вымолвить то, что знала. Боялась обидеть милого родителя. И все-таки должна была сказать правду. Тот сон был для нее слишком важен, и нельзя было утаить даже малую часть его. «Церковь у нее за спиной была не такая. Она была другая. Какую я прежде никогда не видела. Какая-то разноцветная. То красная, то белая. В ней шли через ряд то побелка, то слой кирпичей. Как будто строители играли. И еще на стенах были большие украшения, словно белое каменное кружево. Ты нигде не видел такую церковь, батюшка?» «Нет», — серьезно и задумчиво ответил Богдан Юг. На мгновение ей показалось, что отец хочет еще что-то сказать. Открыть ей какую-то тайну. Важную. Касающуюся ее. Слова уже готовы были сорваться с его уст, но он словно удержал их в уголках губ. Как будто размышлял, смеет ли открыть ей тайну, которая не принадлежит ему. И заключил, что не смеет. Не смеет без одобрения свыше. Пока не получит знак от Владыки всех тайн и всех знамений. Не отрывая взгляда от лика на фреске, который был как живой, и даже реальнее, чем просто живая женщина, девочка медленно опустилась на колени и воздела благоговейно сложенные руки в горячей и искренной молитве: «Молю тебя, будь всегда со мною, как была ты с моим отцом, и моли за меня Господа и Пречистую Его Матерь», — шептала она. И слезы текли у нее по щекам. С того дня жизнь ее обрела дополнительный смысл, а сама она — еще одну заступницу, о которой знала теперь самое главное. И к которой всегда обращалась отныне в трудную минуту, как к родной матери. Теперь и у нее была собственная тайна. Она хранила ее как чудесный ларец о семи замках. И не открывала целых полвека. И только через пятьдесят лет узнала о драгоценном содержании. 8