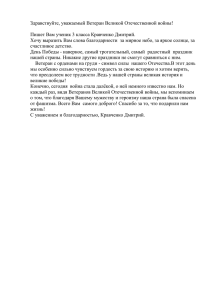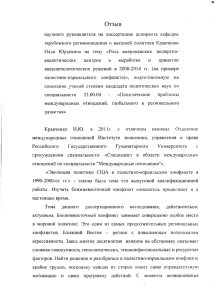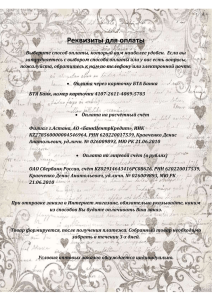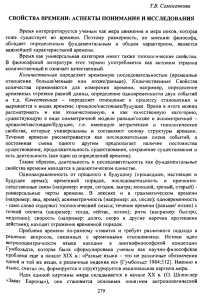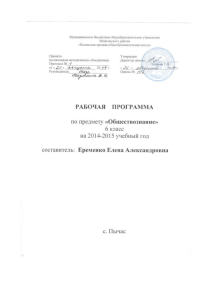Леон и Татьяна Нотины Ловушка времени
advertisement
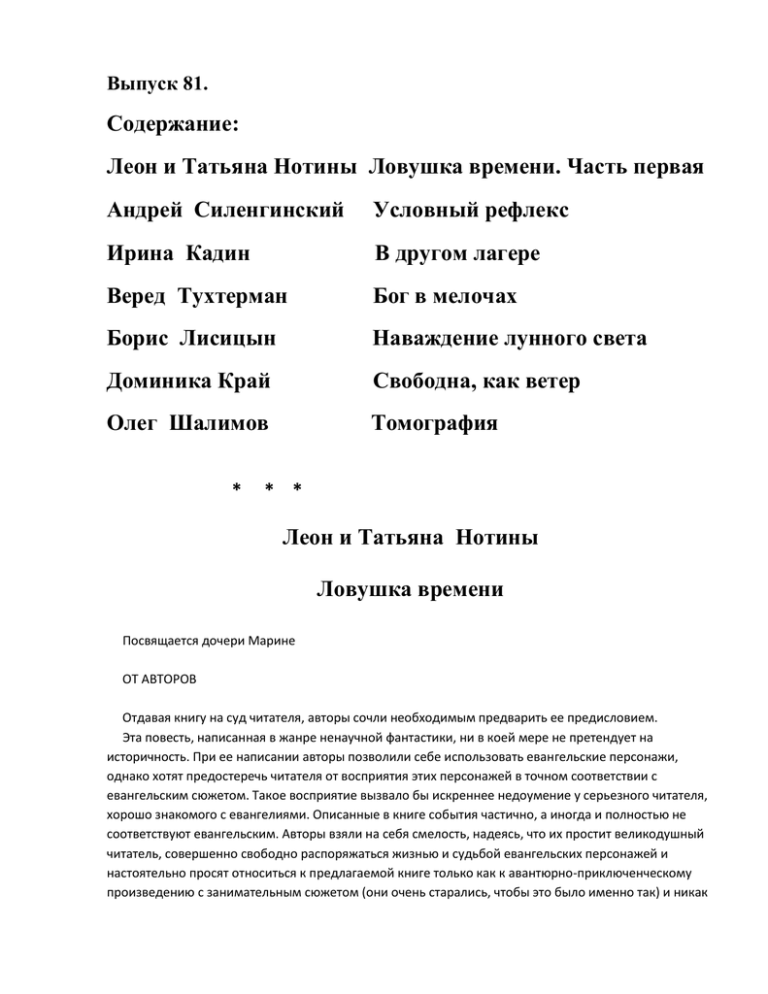
Выпуск 81. Содержание: Леон и Татьяна Нотины Ловушка времени. Часть первая Андрей Силенгинский Условный рефлекс Ирина Кадин В другом лагере Веред Тухтерман Бог в мелочах Борис Лисицын Наваждение лунного света Доминика Край Свободна, как ветер Олег Шалимов Томография * * * Леон и Татьяна Нотины Ловушка времени Посвящается дочери Марине ОТ АВТОРОВ Отдавая книгу на суд читателя, авторы сочли необходимым предварить ее предисловием. Эта повесть, написанная в жанре ненаучной фантастики, ни в коей мере не претендует на историчность. При ее написании авторы позволили себе использовать евангельские персонажи, однако хотят предостеречь читателя от восприятия этих персонажей в точном соответствии с евангельским сюжетом. Такое восприятие вызвало бы искреннее недоумение у серьезного читателя, хорошо знакомого с евангелиями. Описанные в книге события частично, а иногда и полностью не соответствуют евангельским. Авторы взяли на себя смелость, надеясь, что их простит великодушный читатель, совершенно свободно распоряжаться жизнью и судьбой евангельских персонажей и настоятельно просят относиться к предлагаемой книге только как к авантюрно-приключенческому произведению с занимательным сюжетом (они очень старались, чтобы это было именно так) и никак иначе. В процессе работы над книгой авторы следили за тем, чтобы не оскорбить чувства верующих, и надеются, что им это удалось. Они заранее приносят свои извинения тем, чьи чувства, несмотря ни на что, окажутся задетыми. События, описываемые в книге, происходят в Иудее. Имена персонажей и географические названия сохранены в их древнееврейской транскрипции. Поэтому имени «Иисус» в книге соответствует «Ешуа», имени «Лазарь» – «Эльазар», имени «Симон» (Петр) – «Шимон», вместо первосвященника Анны в книге действует Ханан. Селение Вифания авторы называют «Бейт-Ания», Вифлеем – «Бейт-Лехем» и т. д. Иерусалим, 2006 Часть первая РОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА Порвалась дней связующая нить, Как мне обрывки их соединить! В. Шекспир. Гамлет Глава 1, в которой я разговариваю с неизвестным Как бы я хотел, чтобы эта книга никогда не была написана, и те ужасные события никогда бы не произошли, но увы... Это был ничем не примечательный пятничный день середины октября. Погода в Тель-Авиве стояла прекрасная, было сухо и совсем не жарко. Ярко светило солнце, отражаясь в синей глади Средиземного моря. Небо, необъятное и глубокое, без единого облачка, сливалось на горизонте с морской поверхностью. Желтый песок сверкал и переливался. На пляже было многолюдно, взрослые загорали или играли с мячом, бегали дети, кое-кто купался. Я сидел в маленьком кафе на набережной и пил пиво. Я любил это кафе, уютное и чистое, здесь всегда можно было быстро и недорого перекусить. Хозяин, толстый смешной марокканский еврей Моше, приветствовал меня дружеской улыбкой и привычно спрашивал: «Как всегда?» Чаще всего я садился под большим портретом Ицхака Рабина*, который висел на стене перед входом. Этот портрет был одной из тель-авивских достопримечательностей. Он нередко служил причиной жарких споров между посетителями, длившихся порой часами. Я уверен, что хитрец Моше нарочно повесил его, чтобы привлечь в свое заведение публику. В тот день все было как обычно. Я молча наслаждался приятной погодой, предвкушением выходных и одиночеством и не сразу заметил, что ко мне подсел незнакомец. – Шалом! Мар Слуцкий, им ани ло тоэ?** Вопрос был задан с сильным русским акцентом, поэтому я ответил: – Ата ло тоэ, аваль эфшар ледабер русит***. Терпеть не могу, когда двое русскоговорящих общаются между собой на иврите. Это звучит настолько нелепо и вычурно, что хочется крикнуть им: «Слушайте, кончайте валять дурака». Однако мой собеседник не смутился. – Конечно, конечно, – продолжал он уже по-русски, – вы не могли бы меня выслушать, господин Слуцкий? Не знаю как вас, но меня вовсе не радует, когда незнакомый человек обращается ко мне на улице по фамилии. Мне сразу кажется, что я влип в какую-то историю, что меня «зацепила» полиция или налоговая инспекция. Однако незнакомец совсем не выглядел официальным лицом, скорее – слегка свихнувшимся интеллигентом. На вид ему было лет пятьдесят, голова тщательно выбрита, очки без оправы с тонкими дужками напоминали пенсне. Одет мужчина был скромно, но опрятно – впрочем, в Израиле так одеваются многие. Он был сухощав, говорил неприятным, надтреснутым голосом и смешно склонял голову в полупоклоне. Мне не хотелось с ним разговаривать, я словно предчувствовал, что ничем хорошим это знакомство для меня не кончится, но из природной вежливости остался сидеть за столом, вместо того чтобы тут же встать и убраться подальше. – Итак, господин Слуцкий... – начал мой собеседник. – Меня зовут Михаил, вы можете обращаться ко мне по имени, – представился я. – Благодарю вас, – незнакомец привстал и поклонился. – Итак, Михаил, начну сразу, как говорят, с места в карьер. Я знаю, над чем вы сейчас работаете. А вот это уже вообще черт знает что! Моя работа, конечно, не относится к разряду секретных, но и афишировать ее я не собирался. – Ну и что, мне это тоже известно, – поджал я губы. – А собственно говоря, кто вы такой и что вам от меня нужно? – Простите, что не представился, – снова начал расшаркиваться незнакомец. – Меня зовут Владимир Кравченко, я – филолог. – Так вам нужно интервью? – догадался я. – Нет, нет! – всполошился Кравченко. – Я совсем по другому поводу. – У нас с вами есть общие знакомые? – предположил я, стараясь быть учтивым. – Это совсем неважно, – отрезал Кравченко, – я бы хотел поговорить с вами о том, что косвенно связано с вашей работой… Здесь, наверное, мне следует немного рассказать о себе. Меня зовут, как вы успели понять, Михаил Слуцкий. Я – физик, мне сорок пять лет. Физика стала для меня не только профессией, но и способом мироощущения. Я отношусь к тому разряду ученых, которые не разделяют время на рабочие будни и выходные дни. Я не женат, вернее, был женат короткое время. В девятнадцать я в юношеском порыве женился на однокурснице. Наша семейная жизнь продолжалась около двух лет, пока мы в конце концов не надоели друг другу и расстались без всякого сожаления. Неудачный брак так сильно на меня повлиял, что в дальнейшем я старался избегать серьезных отношений с женщинами. Постепенно я свыкся с холостяцкой жизнью и больше не помышлял о женитьбе. Как говорил мой учитель, профессор Шапиро, «настоящему физику жена не нужна, он обручен с физикой». Кстати, именно благодаря профессору Шапиро я начал работать над проблемой хроноволн. Позже, когда наука в бывшем Советском Союзе стала чахнуть, мы вместе переехали в Израиль. Хроноволновая теория – это детище и смысл жизни профессора Шапиро. Еще студентом на факультативном студенческом кружке я заинтересовался этой темой и в дальнейшем уже не прекращал над ней работать. Вскоре после переезда в Израиль профессор Шапиро умер, но фундамент, заложенный им, оказался настолько прочным, что мне удалось довести его идею до логического конца и выйти на уровень ее практического применения. Еще лет сорок назад профессор Шапиро высказал предположение о существовании временных волн, которые пронизывают пространство нашего мира и одновременно находятся вне его. Мой учитель назвал их хроноволнами. Эти волны должны двигаться в одном направлении – от прошлого к будущему в нашем понимании, но это не значит, что при определенных условиях материальное тело не могло бы двигаться в обратном направлении или, наоборот, ускорять движение вперед. Таким образом, профессор Шапиро утверждал, что возможно перемещение во времени. Кроме того, с точки зрения профессора, прошлое никуда не исчезает, а существует одновременно с настоящим, точно так же как и будущее. Я вспоминаю, как мы, молодые студенты, завороженно слушали профессора, рассказывавшего нам о возможности движения по хроноволнам. «Представьте себе, что вы плывете по Волге, – возбужденно говорил он, размахивая руками, – допустим, вы выехали из Рыбинска, проплыли Ярославль, Кострому и в данный момент находитесь на уровне Горького. Однако из-за того, что вы уже не в Рыбинске и не в Ярославле, эти города никуда не исчезли, так же как то, что вы еще не доплыли до Ульяновска и Куйбышева, не отменило факт существования этих мест. Просто Рыбинск и Ярославль в данный момент – это ваше прошлое, а Ульяновск и Куйбышев – ваше будущее, но для кого-то эти города – их настоящее. Точно так же и движение по хроноволнам не отменяет прошлое и не создает будущее. Прошлое и будущее существуют и будут существовать всегда, потому что то, что для одного является прошлым или будущим, для другого представляет собой настоящее. Именно поэтому в данный момент в одной из реальностей Наполеон выигрывает Аустерлицкое сражение, в другой – он бежит из России, а в третьей – проигрывает битву при Ватерлоо». Все это производило на нас, студентов, очень сильное впечатление, мы были очарованы профессором. Но с годами большинство из нас стало относиться к его идеям как к чему-то несбыточному и фантастическому, и постепенно вокруг профессора образовался небольшой кружок энтузиастов, которые верили в хроноволны и готовы были посвятить им всю жизнь. Прошло немало лет, многих из тех энтузиастов уже нет в живых, как и самого профессора, но только сейчас, в Израиле, нам, кажется, удалось воплотить идею учителя в жизнь и создать устройство, способное перемещать материальные тела по хроноволнам. Во всяком случае, первые эксперименты прошли успешно. Никто, конечно, не собирался забрасывать в прошлое или будущее людей, но нам удалось переместить сначала в прошлое, а затем в будущее молекулярные структуры, которые потом были успешно возвращены в настоящее. Фактически, мы стояли на пороге новой эры в истории человечества, когда путешествия во времени перестанут быть уделом научной фантастики. Учитывая важность нашей работы, мы старались как можно дольше сохранять наши эксперименты в тайне, но жители Израиля прекрасно знают, что в этой стране тайн не существует. В любом месте найдется кто-нибудь, кто что-то знает или слышал, и этот кто-то обязательно поделится новостью с соседом, родственником или сослуживцем. Именно поэтому меня нисколько не удивило заявление этого чудака, назвавшегося Владимиром Кравченко, что он знает, над чем я работаю. Без особого энтузиазма я приготовился выслушать его восторги или, наоборот, предостережения. – Так о чем же вы хотите со мной поговорить? – со скукой спросил я. – О судьбе еврейского народа, – торжественно заявил мой собеседник. Хорошо, что к тому времени я уже допил свое пиво, иначе я бы точно поперхнулся. – Вы что, шутите? – искренне удивился я. – Нисколько, – спокойно ответил Кравченко. – Простите, но какое отношение имеет моя работа к судьбе еврейского народа? – Позвольте мне это объяснить, – все так же спокойно и невозмутимо проговорил он. Я подумал, что нарвался на явного психа, и на всякий случай посмотрел на часы. Оставалось надеяться, что он не буйный, по крайней мере он не выглядел возбужденным. Пожалуй, самым правильным в данной ситуации будет выслушать его и уйти при первой возможности. Очевидно, выражение моего лица настолько красноречиво отражало эти мысли, что мой собеседник глубоко вздохнул: – Успокойтесь, я не сумасшедший. Если вы можете уделить мне пятнадцать минут своего времени, я вам все объясню. И тут он начал говорить. Я его почти не перебивал, тем более что ничего в этом не смыслил. В его словах была своя логика, но меня эта проблема никогда особенно не интересовала. Сначала он рассказал о том, что иудаизм – это первая и единственная монотеистическая религия, в том смысле, что объясняет суть мироздания активной творческой деятельностью Уникального Высшего Разума. Все остальные религии либо скопированы с иудаизма, либо не являются монотеистическими, либо вообще ничего не объясняют. Потом он начал распространяться о том, что на рубеже нашей эры античное язычество дошло до полного вырождения и было обречено на исчезновение. Весь цивилизованный мир подошел к той черте, за которой следовало осознание существования Уникального Высшего Разума, творческая деятельность Которого создала наш мир. На мой вопрос, почему евреям на это потребовалось гораздо меньше времени, он ответить не смог, просто сказал, что не знает. Итак, античное цивилизованное общество готово было принять монотеизм. Однако монотеизм – это и был иудаизм, ведь монотеизм бывает только один, он не бывает в разных проявлениях. Точно так же как вода – она и есть вода, она состоит из двух атомов водорода и одного – кислорода, и другой воды с теми же свойствами не бывает. Тем не менее, античная цивилизация того времени, греческая по духу, еще не была готова принять иудаизм, он был слишком сложен для нее. Переход от примитивного язычества к осознанию Уникального Разумного Творца не мог быть резким, для этого требовалось время. Со слов Кравченко, уже тогда язычники начали принимать иудаизм, но этот процесс еще не стал массовым. И вот на сцену вышло христианство, которое как нельзя лучше подходило язычникам, так как сочетало привычные атрибуты язычества: божество, порождающее детей от союза с земной женщиной, умирающий и оживающий бог – с нравственными основами монотеизма: свободой выбора между добром и злом, приоритетом нравственного начала над физическим. Таким образом, пришел к выводу Кравченко, раннее христианство было упрощенным, адаптированным для язычников вариантом иудаизма. Так адаптируют или упрощают оригинальные книги для изучающих иностранный язык. Меня это никогда не волновало, но если бы я был неевреем, то, наверное, возмутился. Дальше Кравченко стал говорить о том, что если бы христианство не появилось в то время, то иудаизму был бы дан дополнительный шанс, и наверняка античный мир в конце концов стал бы иудейским. – Но христианство тем не менее появилось, – возразил я, – значит так было надо. – Кому надо? – возмутился мой собеседник. – Евреям уж точно это было не надо. – Послушайте, при чем тут евреи? – Как при чем? А вы кто? Я промолчал, посчитав его вопрос риторическим. – Поймите, – продолжал Кравченко после паузы, – Иисус совсем не собирался придумывать новую религию, и уж тем более не претендовал на роль сына Бога, это было бы для него как для верующего иудея просто нонсенсом. Вся проблема была лишь в том, что его казнили. Это событие стало фатальным для еврейского народа и привело к возникновению христианства, основанного на обвинении евреев в богоубийстве. Именно это и послужило причиной многовековой трагедии еврейского народа. Я перестал ему возражать, тем более что совершенно не понимал, куда он клонит. – Я уверен, – продолжал Кравченко, – что тогдашние власти Иудеи не только не принимали участия в казни Иисуса, но, наоборот, всячески старались его спасти от рук римского прокуратора. Им казнь Иисуса была совершенно невыгодна, так как превращала их в глазах народа в явных пособников римских оккупационных властей. – Все, что вы рассказываете, конечно, очень интересно, но какое отношение это имеет ко мне, – попытался я вернуть моего собеседника к действительности. – Самое прямое! – вскрикнул Кравченко. – Неужели вы ничего не поняли? Вы изобрели машину времени! – Послушайте, вы просто не понимаете, о чем говорите. Никакой машины времени я не изобретал, вы напридумывали себе Бог знает что. Я работаю над проблемой хроноволновой теории, и нам удалось произвести некоторые молекулярные перемещения в хроноволновом пространстве. – Не пытайтесь запутать меня в дебрях научных терминов, – Кравченко спокойно положил ногу на ногу, – ведь ясно, что благодаря вашему изобретению человек вполне может переместиться в прошлое. – Нет, нет и еще раз нет! – в запальчивости воскликнул я. – Об этом не может быть и речи. Было проведено лишь несколько экспериментов по перемещению в прошлое микрочастиц. – Где микрочастицы, там и макротела, – заверил меня Кравченко. – Так, давайте закончим этот пустой разговор, – сухо сказал я и резко встал из-за стола. Тогда Кравченко стал хватать меня за руки и сбивчиво говорить, что мой долг как человека, как ученого и как еврея – спасти еврейский народ от трагедии. С его точки зрения, мы должны были срочно отправиться в Иудею начала нашей эры, разыскать Иисуса и спасти его от казни. Ситуация была довольно странная, я просто не знал, что делать. Можно, конечно, обратиться в полицию, но что я буду там объяснять? Кравченко воспользовался моей нерешительностью. Он стал доказывать мне, что, спасая Иисуса, мы совершаем акт милосердия, способный изменить историю человечества в сторону ее гуманизации. – Представьте себе, что не будет ни крестовых походов, повлекших за собой гибель сотен тысяч людей, ни инквизиции, ни религиозных войн, ни средневекового антисемитизма в Европе, ни Холокоста наконец, а я просто уверен, что Холокост был естественным продолжением средневекового европейского антисемитизма, – продолжал проповедовать он. Уже тогда я понимал, что он говорит ерунду, но не чувствовал в себе силы серьезно ему возражать. А он был очень убедителен. Вероятно, он обладал каким-то гипнотическим даром или, как сейчас модно говорить, экстрасенсорными способностями. И тут я совершил главную ошибку – стал доказывать техническую невозможность осуществления его проекта. На это он вполне резонно возразил, что любое техническое препятствие можно устранить. Сам того не желая, я втянулся в обсуждение деталей. Мы проговорили несколько часов. Перед тем как расстаться, Кравченко взял с меня слово, что я хорошенько обдумаю его предложение, прежде чем приму окончательное решение. Он обещал позвонить через месяц и растворился среди гуляющей вдоль набережной публики. Глава 2, в которой я начинаю понимать, что моей спокойной жизни приходит конец Последующие дни были очень напряженными. Мы много и успешно экспериментировали с нашим прибором. Я почти не бывал дома, вернее, возвращался только поздно вечером. В то время мне часто звонила моя сестра Ольга, которая была старше меня на пять лет и поэтому всегда считала, что несет за меня ответственность. Она уехала в Израиль сразу же после замужества, больше двадцати лет назад. Здесь они неплохо устроились. Ее муж стал психиатром, хорошо продвинулся по службе и вел большую частную практику. В последнее время сестра перестала работать, хотя раньше преподавала в школе химию. Детей у Ольги двое: дочь Вита родилась еще в России, сейчас она в США. Сын Шурик родился в Израиле. Шуриком его называли, конечно, дома, официально он был Алексом. Мой племянник заканчивал службу в армии и собирался поступать в медицинский институт. В Израиле я поселился рядом с сестрой. Я купил небольшую двухкомнатную квартиру в доме на соседней улице, так что мы много времени проводили вместе. Ольга помогла мне благоустроить новое жилище – у нее была необыкновенная способность создавать уют из мелочей. Она выбрала мне мебель, немного напоминавшую ту, которая стояла в доме наших покойных родителей, и развесила на окнах тюлевые занавески, которые так обожала наша мама. Именно Ольге я обязан тем, что у меня дома висит картина, изображающая уголок старой Москвы. Она нарисована бывшим москвичом, а ныне ностальгирующим израильским художником, которого моя сестра нашла и уговорила изобразить дорогое его сердцу место родного города. С тех пор эта картина стала украшением моей квартиры, я с удовольствием ее рассматриваю и до сих пор нахожу все новые и новые нюансы. Однажды Ольга позвонила. – Миша, как дела, чем занимаешься? – раздался в трубке ее бархатный голос. – Вот, чай заварил в своей любимой кружке и пить собираюсь, – проворчал я. Эту кружку я купил в Ялте, когда отдыхал там со своей знакомой. Вещица была довольно аляповатой, но навевала такие приятные воспоминания, что я даже захватил ее с собой в Израиль. – Представляешь, Миша, Шурик вдруг взял и принес домой аквариум с двумя золотыми рыбками, – пожаловалась Ольга. – Оль, ну и что, рыбки – это очень хорошо. Говорят, что они успокаивают нервы. – Если бы так... Мои нервы они наоборот травмируют. Я их совершенно не понимаю, не знаю, как с ними нужно обращаться. А вдруг они заболеют или умрут? – Заболеют – вылечишь, умрут – похоронишь, – отрезал я. – Ну и шутки у тебя, – обиделась Ольга. – Кстати, у меня вчера убирала Света, так она сказала, что к тебе в четверг, в твое отсутствие, заходила какая-то женщина. У тебя что, новый роман? Почему ты мне ничего не рассказываешь? «Все, – подумал я, – выгоню к чертовой матери эту Свету. Мало того, что она отвратительно убирает, она еще и шпионит за мной». – Какой роман, Оля, это заходила соседка. Просто ей срочно нужен был учебник для сына. Ты же знаешь, что я занимаюсь математикой с ее сыном, кроме того, я всегда оставляю ей на всякий случай ключи от своей квартиры, – стал оправдываться я. – Глупости, это была не соседка. Твоя соседка – блондинка с длинными волосами, а это была коротко стриженная брюнетка, – продолжала допрос Ольга. – Значит, она подстриглась и покрасилась. Все, Оля, я не могу больше разговаривать, полно работы. – Кстати, ты сам-то подстригся? – в сестре проснулся учитель. – Ты за последнее время совсем оброс. Не забудь, что ты уже не юноша, и длинные волосы с проседью иногда выглядят странно. – Я договорился с парикмахером на завтра,– вздохнул я, сознавая, что сестра права. – И усы подравняй, а лучше бы ты их совсем сбрил. Евреи в Израиле усы не носят, – поучала Ольга. – Оль, без усов у меня будет слишком глупый вид, – усмехнулся я. – К тому же с усами, Олечка, я похож на Эйнштейна. – Ладно, я позвоню завтра. Возразить ей было нечего. От кого-то из наших общих знакомых я слышал, что она сама очень этим гордится и всем рассказывает о моем необыкновенном сходстве с всемирно известным физиком. Такие разговоры, с одной стороны, сильно мешали мне сосредоточиться, но с другой – напоминали, что помимо хроноволн существует и обычный мир, который временами казался мне призрачным. Я уже начал забывать о существовании Кравченко, однако ровно через месяц после нашей встречи раздался звонок. Спустя час мы вновь сидели в том самом кафе под портретом Рабина. – Итак, – начал Кравченко, – вы согласны на мое предложение? – Поймите, от моего согласия или несогласия ничего не зависит. То, что вы предлагаете, просто неосуществимо. Неужели вы, взрослый и, кажется, разумный человек, не можете отделить реальность от фантастики? – Уверяю вас, что я много думал над этим и примерно представляю себе весь проект, – сказал Кравченко, как будто речь шла о субботней прогулке за город. – Вы не можете представлять все в деталях, ведь вы даже не знаете принцип работы хроноскопа, прибора, позволяющего перемещаться в хроноволнах, – хмыкнул я. – Давайте назовем его по старинке: «машина времени», – предложил Кравченко. – Вы можете назвать его как угодно, хоть «спаситель человечества», от этого мало что изменится. – Хорошо, пусть будет хроноскоп. Скажите, принципиально возможно отправить человека в прошлое с помощью хроноскопа? – Не знаю, не пробовал, – съязвил я. – Но хоть планы такие есть? – словно не замечая моей иронии, не унимался Кравченко. – Конечно, нет. Единственное, о чем мы думаем, это начать переговоры с биологами, чтобы приступить к экспериментам с заброской в прошлое бактериальных культур. – Вы что, их там всех перезаражать хотите? – Речь идет, конечно, не о болезнетворных бактериях, – заверил его я и сам засомневался. – Допустим, это удастся, следующим этапом, очевидно, будет отправка простейших организмов, а потом животных. Интересно, сколько времени могут занять эти эксперименты, – начал рассуждать Кравченко. – А если вообще ничего не выйдет, если живая клетка разрушится при движении по хроноволнам? Ведь этого никто знать не может! – я уже почти кричал. – Тогда придется работать над тем, чтобы она не разрушалась, и снова экспериментировать, – спокойно резюмировал Кравченко, как будто ученым был он, а не я. – Вы готовы участвовать в эксперименте? – я не на шутку разозлился. – Я бы не отказался, но нет смысла рисковать зря, – невозмутимо ответил он. «Да, – подумал я и посмотрел на него оценивающе, – этот бы точно не отказался». – Вы можете объяснить мне принцип работы хроноскопа, разумеется, без технических деталей, которые я все равно не пойму, а общий принцип: каким образом предмет посылается в прошлое, и как он возвращается обратно? Кстати, а почему хроноскоп, а не хрономобиль, такое название более точное? – Прибор создает туннель из пространства нашей реальности в пространство прошлой или будущей реальности. Туннель проходит через хроноволновую субстанцию, – начал объяснять я, – а хроноскопом прибор назван потому, что предполагал только изучение хроноволн, а не перемещение тел по ним. Кроме того, хрономобиль, на мой взгляд, звучит по-идиотски. – Согласен... А сколько времени занимает само перемещение? – Не знаю, но думаю, что в хроноволновой субстанции понятие времени очень относительно, может быть, вообще нет разницы между вечностью и мгновением. – Хорошо, а как тело возвращается обратно? – На приборе заранее программируется время возвращения, и посланный предмет возвращается по вновь образованному туннелю. – Значит, если тело в прошлом переместится, уйдет из точки прибытия, а потом опоздает ко времени возвращения, то оно навсегда останется в прошлом? – забеспокоился Кравченко. – Вероятно... Я никогда об этом не задумывался. Мы не экспериментировали с перемещающимися предметами. – Да, интересно, этот факт сильно ограничивает возможности человека, находящегося в прошлом, если, конечно, он хочет вернуться обратно, – нахмурился Кравченко, – хотя к этому можно приспособиться, если увеличить время пребывания в прошлом и возвращаться к месту прибытия заранее. Скажите, а место в прошлом точно соответствует месту в настоящем? Если человек, скажем, будет послан в прошлое из этого кафе, то и в прошлом он окажется на том же самом месте? – Скорее всего. Это выглядит логично, – немного подумав, ответил я. – Это тоже нехорошо. Ведь мы намерены оказаться в Иерусалиме начала нашей эры, а прибор находится, насколько я понял, в Реховоте, в институте Вейцмана*. Это в 56 километрах от Иерусалима. В те времена для преодоления такого расстояния мог потребоваться целый день, а ведь нужно еще заранее вернуться обратно... Воцарилось молчание. Я вдруг увидел себя со стороны: вот мы сидим, пьем пиво, рядом море, вокруг солнце, над нами портрет Рабина – все так реально и обыденно. Но говорим-то мы о чем?! О путешествии в Древнюю Иудею двухтысячелетней давности! И обсуждаем это буднично и по-деловому. Бред какой-то! Кравченко наклонился ко мне и доверительно сообщил: – Выход один, хроноскоп должен находиться в Иерусалиме. Тут я не выдержал и расхохотался: – А вот это совершенно невозможно. Я же не могу положить прибор в карман и перевезти его в Иерусалим. – Да, это большая проблема, – нахмурился Кравченко, – об этом стоит серьезно подумать. – О многом нужно серьезно подумать и, прежде всего, о необходимости самого проекта. Мне все это кажется полнейшим идиотизмом! – я не хотел так откровенно обижать своего собеседника – человек он вроде бы умный и на сумасшедшего не похож, – но меня просто понесло, – Предположим, само перемещение технически возможно, что, с моей точки зрения, было бы чудом, но вы даже не можете предположить, с какими трудностями столкнетесь. Представьте себе, вы, современный человек, появляетесь в римской Иудее. Во что вы будете одеты, на каком языке будете разговаривать, как будете себя вести, на что будете существовать? Да мало ли вопросов можно задать по этому поводу. Согласитесь, что все это похоже на авантюру. Если вы действительно там окажетесь, то вас либо сразу арестуют, либо зарежут разбойники, – все больше распалялся я. Конечно, я тогда еще плохо знал и понимал Кравченко. Не так-то просто было его обидеть или сбить с толку. Позднее я в полной мере оценил его целеустремленность, его веру в правильность своего выбора и огромное самообладание. Он ничуть не обиделся на мою реакцию, наоборот, стал еще спокойнее и убедительнее. – Дорогой Михаил, вы, возможно, удивитесь, но я уже давно думал обо всем этом. Я проработал массу литературы, изучил, насколько возможно, бытовые условия тогдашней жизни и могу ответить на все поставленные вами вопросы. Одежда – это очень важный момент. Я примерно знаю, как одевались люди в то время, это можно выяснить точнее и сшить одежду на заказ. Разумеется, возможны накладки, поэтому после перемещения одежду необходимо сразу поменять на местную. – И где вы ее возьмете? – ехидно поинтересовался я, еще не понимая тогда, что уже включился в обсуждение деталей проекта. – Куплю. – На какие деньги, на шекели или, может быть, на доллары? – Это действительно очень важный вопрос, – невозмутимо произнес Кравченко, – но я и об этом подумал. Мы должны взять с собой что-нибудь на продажу, причем необходимо тщательно продумать, что именно. – Ага, вы собираетесь там заниматься мелкой спекуляцией! – Теперь насчет языка, – продолжал он, не замечая моего выпада, – в то время в Иудее разговаривали по-арамейски. Этот язык я знаю плохо, вернее, недостаточно хорошо для общения, но зато я знаю древнегреческий и латынь. Мы выдадим себя за паломников издалека, скажем, из Трапезунда. – Где это? – такое название я услышал впервые. – Это город на севере Малой Азии, в Каппадокии. – Мне это мало что говорит, – пожал я плечами. – Сейчас этот город называется Тробзон. Он расположен в северо-восточной части Турции на побережье Черного моря, не так далеко от современного Батуми. Когда-то он входил в состав Понтийского Царства, а в то время, о котором мы говорим, принадлежал Римской Империи. – И что, там тоже жили евреи? – не поверил я. – Евреи жили везде. – А почему мы должны быть именно оттуда? – заинтересовался я. – Потому что вряд ли кто-то из тех, кого мы встретим, будет знать, где это находится, как там живут люди, на каком языке говорят и так далее. Это даст нам свободу маневра, во всяком случае между собой мы сможем разговаривать по-русски. Вот так! «Мы встретим, мы сможем, мы будем...» – мысленно повторял я про себя. Кравченко еще долго рассуждал о деталях путешествия. Оказывается, он многое тщательно продумал. Самые обыденные бытовые мелочи вдруг стали превращать фантазию в реальность. Помню, когда я мальчиком читал «Робинзона Крузо», я так увлекся тем, как герой обустраивал свою жизнь на острове, что к концу книги абсолютно поверил в документальность описываемых событий. Кравченко планировал путешествие в два этапа. Первый – разведка. Необходимо было попасть в прошлое уже после казни Иисуса, чтобы точно установить дату события, затем вернуться в наше время и отправиться вновь в точно установленный год. «А ведь если бы существовала машина времени, – вдруг подумал я, – то путешествие в прошлое было бы вполне реальным... Стоп, что значит «если бы», да она уже фактически существует, и создал ее я, остались лишь мелкие, мало что значащие доработки. Уж с самим-то собой нет смысла лукавить». Мне никогда не приходила в голову такая дикая мысль – испробовать хроноскоп для проникновения в прошлое. Я просто подходил к хроноволновой теории чисто теоретически. Вот если бы профессору Шапиро удалось построить хроноскоп, неужели он не попытался бы использовать его для путешествий во времени? Да он бы сам первый отправился куда-нибудь, к черту на рога, лишь бы поскорее испытать свое изобретение. Все-таки не хватает мне авантюризма. А настоящему ученому без этого никак нельзя. Глава 3, которая подтверждает, что ни одно дело не обходится без женщин Весь следующий месяц мы совершенствовали работу хроноскопа, а к концу месяца уже были готовы провести первый эксперимент с заброской в прошлое бактериальной культуры. Решили остановиться на кишечной палочке. Это классический объект исследований, к тому же присутствует повсеместно и массовой эпидемии вызвать не может. Заброска в прошлое и возвращение назад бактериальной культуры кишечной палочки никаких результатов не дали. То есть на самом деле результат был блестящий, потому что бактерии после возвращения из прошлого совершенно не отличались от тех, которые никуда не отправлялись. Они прекрасно «себя чувствовали» и активно размножались. Очевидно, движение по хроноволнам напрямую живую клетку не повреждало, однако это еще ни о чем не говорило. Однажды, вернувшись вечером домой, я обнаружил в гостиной аквариум с двумя золотыми рыбками. Я долго таращился на них, а потом схватил телефонную трубку и набрал номер сестры. – Оль, что за дела? Почему ты притащила мне своих рыбок? – Миша, ты был прав. Рыбки действительно успокаивают нервы, поэтому я решила отдать их тебе. Ты много работаешь, очень устаешь, так что рыбки тебе просто необходимы. В выходные дни ты будешь смотреть на них и отвлекаться от своей дурацкой работы. – Слушай, мне не надо отвлекаться от работы, кроме того, я и мои нервы совершенно спокойны! – закричал я. – Я это слышу, – ехидно заметила Ольга. – Перестань передергивать, – рассердился я, – неужели ты не понимаешь, что при моей работе у меня совершенно нет времени заниматься рыбками? Мы еще долго спорили, и в конце концов она уговорила меня оставить аквариум, пообещав, что Света во время уборки будет промывать его и менять воду. Мне останется только бросить вечером рыбкам щепотку корма. Напоследок сестра сообщила, что рыбку, которая покрупнее, зовут Клава, а ту, которая помельче, Тоня, и повесила трубку. Кравченко, в отличие от Ольги, меня часто не беспокоил, но все же периодически позванивал. Он продолжал обдумывать план путешествия. Постепенно я так увлекся деталями, что затея уже не казалась мне нелепой и фантастической, а «проект Кравченко» незаметно стал «нашим проектом». Как-то Кравченко предложил интересный опыт, который позволял увеличить время пребывания в прошлом и практически снять все ограничения. Он посоветовал не программировать хроноскоп заранее на возврат из прошлого, а назначить определенный час, в который прибор ежедневно будет включаться, и путешественник всегда сможет попасть в образующийся временной тоннель, когда прибудет к этому времени в исходную точку. Если это технически возможно, то такой метод сильно упрощает путешествие во времени. Нужно лишь прибыть к назначенному сроку, как сегодня мы приезжаем к отправляющемуся поезду. Однако возникала другая проблема: был необходим кто-то третий, кто мог бы запустить хроноскоп в нашем времени, а это значит, что нужно было в наши планы посвящать еще кого-то. Впрочем, я уже давно пришел к выводу, что тайно осуществить наш проект не удастся. При очередном разговоре с Кравченко я сказал ему об этом. Он спросил, кого я думаю привлечь. Я объяснил, что над хроноскопом работают фактически двое: я и официальный руководитель лаборатории Тали Халили, молодая женщина лет тридцати. Кравченко лишь поставил условие, что он сам поговорит с Тали и объяснит ей суть проекта. Я организовал встречу все в том же пресловутом кафе, которое постепенно превратилось в нашу штаб-квартиру. Чтобы Тали согласилась прийти, мне пришлось ее заинтриговать, сказав, что у Кравченко как представителя бизнеса есть к нам деловое предложение. Сначала Тали не могла понять, чем наша работа заинтересовала бизнесмена. Я объяснил, что Кравченко все расскажет сам при встрече. Моя уловка удалась, и Тали пришла в назначенное время. Она выглядела очень эффектно. Рыжеватые волосы, подстриженные в стиле Клеопатры, подчеркивали тонкие черты лица и придавали их обладательнице вид независимой и уверенной в себе женщины. Тали всегда умело пользовалась косметикой. Я, конечно, не знаток, но, как и любой нормальный мужчина, могу оценить стиль, вкус и умеренность. Моя начальница любила украшения, но и здесь чувство меры никогда ей не изменяло. Только серьги она почему-то носила всегда одни и те же – маленькие, изящные, которые так шли к ее безупречной формы ушам. Я не любопытный, но про серьги спросить хотелось – почему она их никогда не меняет, но стеснялся. Тали была чуть выше среднего роста и носила строгую, облегающую одежду, прекрасно подчеркивающую ее великолепную фигуру. Когда она вошла в кафе своей легкой походкой, Кравченко посмотрел на нее с явным интересом, а хозяин Моше даже рот разинул от удивления и восторга. Переговоры начались неудачно. Точно так же как и я в свое время, Тали начала возмущаться, узнав о предложении Кравченко. Как и я, она сначала пыталась прекратить разговор и уйти. Внешность Тали была обманчива – она обладала твердостью характера и умела ее проявлять. Тали сказала, что она, как взрослый и серьезный человек, даже слышать не хочет о той авантюре, в которую мы пытаемся ее втянуть. Но Кравченко умел убеждать. К моему удивлению, он совершенно свободно говорил на иврите, причем использовал такие слова и выражения, которые я с трудом понимал. Способность к языкам у этого человека была незаурядной. Постепенно Тали начала проявлять интерес к идее путешествия в Древнюю Иудею, однако ее все еще продолжало волновать то, что она как руководитель лаборатории несет юридическую ответственность за безопасность проекта. Наконец, Тали откровенно сказала, что не хочет попасть из-за нас в тюрьму. Я пообещал, что перед отправкой оставлю ей заявление, в котором напишу, что делаю все это самовольно, не поставив в известность руководителя лаборатории. В конце концов, я не ребенок, и за свои действия отвечаю сам. Я понимал, что в душе Тали происходит борьба, ей явно хотелось ухватиться за это предложение. Тали ведь тоже была ученым, и азарт, присущий людям нашей профессии, все больше овладевал ею. Чувствовалось, что она не может устоять перед шансом оказаться участницей такого грандиозного проекта. Тали беспокоило лишь то, что, отсылая нас в столь опасное приключение, сама она выглядит не совсем достойно с моральной точки зрения. Моя начальница в задумчивости теребила левую сережку – была у нее такая привычка, и это был хороший признак. Она всегда так делала, когда серьезно что-то обдумывала. Я давно заметил: когда мочки ушей у нее разного цвета, ее что-то волнует или тревожит, и лучше ее в этот момент не отвлекать пустыми разговорами. Тогда снова заговорил Кравченко. Он объяснил Тали, что на нее возлагается самая ответственная миссия, от которой зависит успешный исход всего проекта. Мы просто отдаем свою судьбу в ее руки и не можем подставлять ее под удар, рискуя провалить все дело и бесследно сгинуть в прошлом. Когда же Кравченко сказал, что нам не к кому больше обратиться, и Тали является нашей последней надеждой, я понял, что дело сделано... Наши исследования шли успешно, и вскоре было решено забросить в прошлое животное. Мы выбрали типичный подопытный объект – кролика, посадили его в клетку и включили хроноскоп. На этот раз мы решили не программировать прибор на возвращение, а просто снова включили через пятнадцать минут. К нашему неописуемому восторгу зверек появился в полном здравии, и, по-моему, вообще ничего не заметил. Мы приближались к завершающей стадии наших экспериментов. Настроение у всех было приподнятое, казалось, что мы стоим на пороге великих событий. Кравченко усиленно занимался подготовкой к путешествию. Он снова и снова обдумывал все детали, составлял список необходимых вещей и, как выяснилось в дальнейшем, старательно учил арамейский язык. Кравченко долго не мог окончательно решить, что нам взять с собой на продажу. Он советовался со специалистами, копался в книгах и, наконец, пришел к выводу, что лучше всего взять пряности, которые всегда пользовались спросом на рынках древности и стоили немалых денег. Решили остановиться на корице, которая в те времена была хорошо известна, использовалась при богослужении в Храме для приготовления священного масла и ценилась на вес золота. И вот наступил день, когда все возможные эксперименты с животными были проведены и никаких отрицательных воздействий на живой организм не было обнаружено. Теперь оставались лишь эксперименты с человеком. Кравченко потребовал, чтобы его забросили в прошлое первым. Тали долго отказывалась, но Владимиру, как всегда, удалось ее уговорить. Во-первых, сам опыт будет проводиться еще очень нескоро: к нему надо тщательно подготовиться. А во-вторых – и это был основной аргумент – он, Кравченко, – совершенно одинокий человек. У него нет близких родственников ни в Израиле, ни в России, поэтому, если он исчезнет, этого просто никто не заметит. Мы, правда, не подумали тогда, а что будет, если из прошлого вернется его мертвое тело. Я слушал их спор и думал: удивительный он все-таки человек, этот Владимир Кравченко – просто одержимый. Мне сначала казалось, что он немного рисуется, выставляя себя этаким суперменом, презирающим опасности, но потом я понял – он настолько верит в свою миссию, что считает себя неуязвимым. Наверное, именно так поступали Цезарь или Наполеон. Они ввязывались в совершенно безнадежные, с точки зрения здравомыслящего человека, авантюры, словно заранее знали, что выйдут из них победителями. Все мы тогда находились в эйфории, слегка помутившей наш рассудок. Честно говоря, я всегда думал, что бесшабашность и склонность к авантюризму более свойственны ментальности русского человека, поэтому очень удивился, когда понял, что и Тали тоже потеряла голову. Кроме того, Тали, как всякая незамужняя женщина, относилась с симпатией ко всем мужчинам, а уж перед таким как Кравченко, обладавшим поистине магнетической силой, она не могла устоять. Как раз тогда Тали рассталась со своим очередным другом, после того как поняла, что он нагло ее использует. Тали относилась к так называемому типу женщин со сложной судьбой. Впервые она вышла замуж в двадцать лет за очень привлекательного внешне парня, но вскоре вынуждена была с ним разойтись, осознав, что, кроме красивой наружности, никакими другими достоинствами ее избранник не обладает. Потом, вроде бы, было еще одно неудачное замужество, за которыми последовали многочисленные романы. Несмотря на свои предыдущие разочарования, Тали при знакомстве с мужчинами снова обращала основное внимание на внешность. При всем при том она не была наивной дурочкой, попадавшейся в сети очередного искателя легкой наживы, скорее наоборот, она была умной и волевой женщиной. Очевидно, она просто жалела этих обиженных судьбой, неуверенных в себе мужчин и относилась к ним по-матерински. Впрочем, кто их поймет, этих женщин... Глава 4, в которой Кравченко демонстрирует свою эрудицию Месяца за два до намеченного срока Кравченко предложил встретиться и составить детальный план первого путешествия. На этот раз собрались у меня дома. Тали уже бывала у меня раньше, а Кравченко попал впервые. Он с интересом обошел мою маленькую квартирку, похвалил картину, и, я уверен, не из вежливости, потому что сразу понял настроение художника. Он так и сказал: «Этот художник скучает по старой Москве». Но больше всего ему понравились Тоня с Клавой. Кравченко даже попросил у меня разрешения самому покормить рыбок, а потом рассказал, что в детстве у него тоже был свой аквариум. «Какое человек сложное существо, – подумал я, – готов ради идеи, пусть и высокой, рискнуть всем, даже собственной жизнью, а сам умиляется двум совершенно заурядным рыбкам». Кравченко вручил каждому из нас список вещей, которые необходимо взять с собой в Древнюю Иудею. Он предложил сначала обсудить список вместе, а потом каждый должен был подумать на досуге, не упущено ли что-нибудь. Список был длинным. Там встречались такие вещи, назначение которых для меня было совершенно непонятно. – Скажите, Владимир, а зачем вы берете портативный проигрыватель ди-ви-ди и диски, вы будете там смотреть кино на досуге? – улыбнулся я. – Давайте разберемся... Какова цель нашего путешествия? Мы собираемся отправиться в Древнюю Иудею времен Иисуса, чтобы предотвратить его казнь. Вы задумывались над тем, как можно это сделать? Последовала пауза, Кравченко явно ждал нашего ответа. – Ну, возможно, предполагается каким-то образом нейтрализовать Иисуса или его врагов, – не выдержал я и тут же понял, что сказал глупость. В то же время мне вдруг пришла в голову мысль, что мы были настолько одержимы задачей проникновения в Древнюю Иудею, что даже не задумывались о способах достижения самой цели проекта. Ну, в самом деле, как мы будем спасать Иисуса? Очевидно, Кравченко по нашим лицам догадался об обуревавших нас чувствах и усмехнулся: – Что значит нейтрализовать? Ликвидировать? Мы же не банда наемных убийц, мы отправляемся спасать, а не убивать. – Однако я заметил в вашем списке два пистолета и несколько обойм патронов к ним, – возразил я. – Разумеется, оружие нам необходимо. Мы отправляемся в далекое прошлое, можно с уверенностью сказать, во враждебную среду. Вы должны помнить, что полиции в то время не было, а разбойники, наоборот, были, и дороги, по которым мы будем ходить, просто кишели ими. Кроме того, люди тогда были гораздо агрессивнее, а человеческая жизнь ценилась намного меньше. Тем не менее, оружие мы применять не должны, мы берем его для собственного спокойствия. Еще раз повторяю, мы – не убийцы, и тот факт, что за совершение убийства в прошлом мы не понесем наказания, не должен снимать с нас моральную ответственность за наши поступки. Кроме того, мы не имеем права никого убивать и из практических соображений: никто не знает, какую катастрофу может вызвать исчезновение человека в прошлом. А вдруг мы непоправимо нарушим что-нибудь? Словом, убивать никого нельзя ни в коем случае! – Кравченко даже привстал от волнения, но поскольку никто не возражал, снова сел и продолжил. – Для целей активной самообороны я, если вы заметили, приготовил шокеры. Думаю, в случае чего они будут очень эффективны. – Так все-таки для чего нам ди-ви-ди? – поинтересовалась Тали. – Давайте снова вернемся к вопросу о том, каким образом мы планируем осуществить наш план. Мне кажется, что единственный способ предотвратить казнь Иисуса – это убедить его отказаться от активной деятельности, а, проще говоря, затаиться и перестать волновать народ. Для этого, я думаю, ему нужно рассказать правду и о нас, и о нем. – Что? Вы предлагаете рассказать Иисусу, что мы прибыли из будущего, и что он будет основоположником христианства? – удивилась Тали. – Именно так, – Кравченко спокойно перевел взгляд с Тали на меня, – для этого я и беру ди-ви-ди с фильмами про распятие Христа. Мы с Тали, не сговариваясь, громко рассмеялись. – Так вы ему будете кино про него самого показывать? – сквозь смех спросил я. – Честно говоря, не вижу в этом ничего смешного. Уверен, что Иисусу будет уж точно не до смеха при просмотре этих фильмов. Мне кажется, это наиболее эффективный способ доказать, что мы действительно прибыли из будущего, а значит все, что мы рассказываем, – правда, – Кравченко поучительски приветливо посмотрел сначала на меня, потом на Тали. – Мне бы хотелось посоветоваться с вами по поводу того, какой фильм выбрать. – Говорят, что фильм Мела Гибсона очень впечатляет, – неуверенно предложила Тали. – Кто-нибудь смотрел его? – спросил Кравченко. – Нет. – Надо посмотреть, – тон Кравченко больше походил на приказ. – Теперь мне бы хотелось обсудить, – продолжал он, – медицинскую сторону нашего предприятия. Мы должны понимать, что речь идет не о пикнике и даже не о путешествии в страну третьего мира. Речь идет о времени, когда свирепствовали все мыслимые и немыслимые болезни, поэтому к этой проблеме мы должны отнестись крайне серьезно, если не хотим умереть от какой-нибудь инфекции. Я думаю, что нам просто необходимо посоветоваться со специалистом о том, как уберечься от болезней и как лечиться в случае заболевания. – Ну, допустим, у меня есть знакомый врач, – вмешалась Тали, – но как я ему объясню, для чего мне нужна такая информация? – Мне кажется, что мы должны пройти весь набор прививок, который предусмотрен перед поездкой в страны третьего мира, – предложил я. – Это правильно, – согласился Кравченко, – но я уверен, что этого недостаточно. Я знаю, например, что в те времена свирепствовала малярия, а от нее, насколько мне известно, прививок нет. Тали, я попрошу вас обсудить этот вопрос с вашим знакомым, сделайте это тонко и элегантно. Уверен, у вас получится. – Теперь, друзья, – продолжал Кравченко после небольшой паузы, – мне бы хотелось поговорить о средствах личной гигиены. Надеюсь, вы понимаете, что в те времена, в которые мы отправляемся, люди не пользовались дезодорантами, французскими духами, мылом «Кристиан Диор» и тому подобным. Однако, если вы думаете, что это не важно, вы ошибаетесь. Одна из основных задач, которую мы ставим перед собой при путешествии в Древнюю Иудею, – это свести к минимуму наше отличие от людей того времени. Думаю, что в любом случае мы будем выделяться среди местных жителей манерой речи, поведением, мимикой, жестами и так далее. Даже если мы выдадим себя за путешественников с другого края земли, все равно люди будут чувствовать, что в нас что-то не так. Так вот, запахи, которые источает наше тело, – это важная часть того, как нас воспринимают окружающие. Когда мы находимся в привычной среде, мы не обращаем внимания на запахи вокруг, но стоит уехать в другую страну, как мы начинаем замечать, что от людей пахнет по-другому. Отсюда вывод: от нас не должны исходить сильные запахи. Поэтому я предлагаю перед поездкой, не менее чем за неделю, а то и за две, прекратить пользоваться всякой косметикой: никаких дезодорантов, ароматических мыл и кремов. Давайте будем ближе к природе. – Но мылом-то пользоваться можно? – заволновался я. – Самым простым. Кстати, мыло мы с собой брать не будем, а купим на месте, – заявил Кравченко. – А оно там есть? – Во всяком случае, что-то подобное мылу должно быть. – Как мы будем решать проблему одежды? – спросил я. – Одежду мы сошьем здесь, мало того, мы должны научиться носить ее свободно и непринужденно, но как только мы окажемся в том времени, мы должны приобрести местные вещи. Я уже заказал два комплекта мужской одежды у портного, объяснил ему, что собираюсь ставить спектакль из жизни Древней Иудеи. Когда одежда будет готова, мы с вами, Михаил, потренируемся ее надевать. Придется походить в ней дома некоторое время. Мы с Тали переглянулись и прыснули, как два отстающих ученика за последней партой. Я представил себе, как в странном одеянии сижу в собственной гостиной перед телевизором, смотрю футбол и пью пиво. Уж не знаю, почему засмеялась Тали. Кравченко укоризненно покачал головой и продолжил: – Кроме того, друзья, мне бы хотелось обсудить детальный план первого путешествия. Я считаю, что оно должно быть коротким, во всяком случае, короче следующего. Мы отправимся в Иудею в год, скажем, 35-й. – Почему именно в 35-й? – удивился я. – Потому что этот год в Иудее был относительно спокойным. Понтий Пилат еще управлял провинцией, а Иисуса к тому времени уже казнили. Если мы попадем чуть раньше или чуть позже, мы рискуем нарваться на беспорядки, а это нам совсем не нужно. – Хорошо, – продолжал я, – мы попали в Иудею 35-го года, и что мы будем там делать? – Нам нужно лишь произвести разведку, при этом свести к минимуму контакты с местным населением. В основном, нам надо присматриваться, оставаясь незаметными. Единственное, что мы должны узнать, – точную дату казни Иисуса. Кстати, нам нужно продумать, как мы будем это выяснять. – Наверное, лучше всего было бы посмотреть архивные записи Синедриона. Если перед казнью было разбирательство дела Иисуса, то должны были остаться записи, – предположил я, – только как к ним подобраться? – Думаю, в то время эти вопросы решались точно так же, как и в наше: небольшая взятка мелкому чиновнику, и вы получаете доступ к архивным документам. Да, это, пожалуй, будет самый правильный способ. Если мы не придумаем ничего лучшего, то так и сделаем. – Кравченко жестом изобразил, как он будет отсчитывать «купюры». – Теперь о плане самого путешествия. Как я понимаю, в Древней Иудее мы окажемся на том же самом месте, из которого отправились, то есть в окрестностях Реховота. Но так как город Реховот возникнет примерно через 1850 лет, то никакого города Реховота там не будет, а будет там, вероятно, пустырь или поле. Я читал, что когда-то эти земли принадлежали семейству некоего Дорона или Дурана, более подробно мне выяснить не удалось. Надеюсь, что никто не увидит нашего внезапного появления. Оттуда мы пойдем пешком по компасу на северо-восток в сторону города Лода, который тогда назывался Лидда. Это примерно в десяти километрах от места прибытия. Думаю, что дорога займет два - три часа. В Лидде мы наймем ослов и поедем вместе с караваном паломников в Иерусалим. На ночлег остановимся в городе Эммаусе, которого в настоящее время не существует. Этот город был расположен на месте современного канадского парка в районе перекрестка Латрун*. Мы должны прибыть в Иудею перед праздниками Песах или Суккот**, когда в страну стекалось много паломников, тогда наш вид не будет бросаться в глаза. – А почему нам нужно останавливаться в каком-то Эммаусе, а не идти сразу в Иерусалим? – поинтересовался я. – Это не какой-то Эммаус, Михаил, это тот самый Эммаус, где, по преданию, Иисус явился своим ученикам после казни, так что, скорее всего, он посещал этот город и раньше, и мы сможем выяснить точную дату его казни. Если же в Эммаусе ничего узнать не удастся, тогда мы вместе с потоком паломников отправимся в Иерусалим. Если у нас есть хоть какой-то шанс получить исчерпывающую информацию в Эммаусе и избежать посещения Иерусалима, им надо воспользоваться. – Почему? – удивился я. – Поймите, Иерусалим – неформальная столица Иудеи, там находится римский гарнизон. В это время, перед праздником, туда приедет прокуратор. Будут предприняты повышенные меры для охраны общественного порядка, а это значит патрули и досмотры на улицах. Нам это надо? – Нет, – замотали головой мы с Тали. – Вот и я об этом говорю. Так что в Иерусалим пойдем в самом крайнем случае. Как только получим сведения – сразу назад. Надеюсь, нам на все это должно хватить недели. Ровно через неделю после отправки, в определенный час, который мы обговорим заранее, Тали включит хроноскоп. Если мы не появимся после первого включения, то ровно через двенадцать часов включение придется повторить, и так до тех пор, пока мы не появимся. Главное – не забыть перед отправкой сверить часы. «А что будет, – подумал я – если мы не появимся вовсе? Когда следует прекратить включения хроноскопа?..» У меня по спине вдруг пробежал легкий холодок. Возможно, другие тоже подумали об этом, но никто не решился высказать эту мысль вслух. – Мы должны отметить место прибытия, чтобы потом найти его, – предложил я, скорее чтобы отвлечь самого себя от нехороших предчувствий. – Естественно, и отметить как следует, чтобы избежать всяческих случайностей, – согласился Кравченко. – Теперь давайте обсудим вопрос языка. Я уже говорил Михаилу о том, что в Древней Иудее местные жители говорили по-арамейски. – Странно, я всегда думал, что древние евреи говорили по-древнееврейски, – удивился я. – Так оно и было, – пояснил Кравченко, – но, если вы помните, после разрушения Первого Храма евреев угнали в Вавилон. – Вавилонское пленение, – вставила Тали. – Совершенно верно. Официальным языком Вавилонского царства был арамейский, поэтому евреи быстро усвоили местный язык и вскоре стали разговаривать по-арамейски. Вас же не удивляет, что евреи России разговаривают по-русски. После окончания вавилонского пленения евреям было разрешено вернуться в Иудею. Первая группа вернулась через пятьдесят лет после изгнания, а весь процесс возвращения занял больше восьмидесяти лет. Естественно, что вернувшиеся евреи уже не говорили на иврите, а объяснялись между собой по-арамейски, – закончил Кравченко. – Вы что-то говорили о греческом языке и латыни, – заметил я. – Если вы помните, Александр Македонский завоевал Иудею в четвертом веке до нашей эры. С тех пор страна потеряла независимость и попала под власть эллинистических государств, сначала египетских Птоломеев, а затем сирийских Селевкидов. Официальным языком этих государств был греческий, следовательно, в Иудее появился второй государственный язык – греческий. Власть греков продлилась чуть меньше двухсот лет. За это время большинство населения стало свободно говорить на греческом, да и вообще, греческий язык в то время был языком международного общения, как сейчас английский. Ведь если американец или англичанин приезжает в современный Израиль, у него нет проблем – почти все местное население владеет английским. Точно так же тогда было и с греческим. Латынь, думаю, в то время, в которое мы собираемся отправиться, была менее популярна, и простой народ вряд ли свободно владел этим языком, но с греческим, надеюсь, у нас проблем не будет. Кстати, хочу добавить, я явно поскромничал, когда сказал Михаилу, что не владею арамейским. В последнее время я много работал над этим языком и уверен, что смогу на нем объясняться. – А если я попробую разговаривать с местными жителями на иврите? – проявил я инициативу. – Боже вас упаси! – всплеснул руками Кравченко. – Это будет очень нехорошо. – Почему? – заволновался я. – Представьте себе, вы идете по Москве, а к вам кто-то обратится на старославянском языке. Что вы подумаете? – Я просто не пойму и решу, что это украинский или белорусский, – пожал я плечами. – А вот жители Древней Иудеи как раз поймут, что это иврит, но они не поймут, почему на нем ктото разговаривает, ведь к тому времени на этом языке уже почти пятьсот лет никто не говорил, он использовался только для богослужения, а простой народ его почти не знал. Так что давайте не будем экспериментировать. Какой бы вопрос мы ни задавали Кравченко, ответ всегда был самый полный и исчерпывающий. Я часто слышал выражение «человек – ходячая энциклопедия», но в жизни никогда подобных людей не встречал. А вот Кравченко оказался именно таким, к тому же он объяснял и рассказывал настолько понятно и образно, что мы с Тали уже не слышали его трескучего голоса, а просто видели все как наяву, будто смотрели телепередачу «Клуб кинопутешественников». Мы еще долго обсуждали детали предполагаемого путешествия, как будто понимали, с чем столкнемся. Глава 5, в которой за мной сгорает последний мост Продолжая работу над хроноскопом, я одновременно занимался и подготовкой к путешествию. Мы с Кравченко много времени проводили вместе, обсуждали и обдумывали мельчайшие детали нашего проекта. Встречались обычно у меня дома. Кравченко, как мне кажется, даже понравилось бывать у меня. Иногда он подолгу сидел перед аквариумом и наблюдал за Клавой и Тоней, которые, как оказалось, не только отличались внешне, но даже имели разный характер. Особенно он любил кормить рыбок. Эту простую процедуру он превращал в целый ритуал. Сначала он зажигал в аквариуме свет, и рыбки тут же оживлялись, устремляясь вверх. Затем он стучал по стенке аквариума ногтем, рыбки начинали ошалело хватать ртом воздух, чуть ли не выпрыгивали из воды. И только потом он бросал щепотку сухого корма, который съедался в течение нескольких минут. После кормления рыбки начинали гоняться друг за другом, и Кравченко с восторгом наблюдал за их игрой. – А вы уверены, Михаил, что они – самки? – как-то спросил он. – А вдруг один из них самец? – Вы знаете, меня их проблемы мало волнуют, – фыркнул я. Однажды Кравченко пришел с большой кожаной сумкой. В ответ на мой вопрос, что он принес, Кравченко молча вытащил разноцветные куски материи и аккуратно положил их на диван. – Что это, Володя? – я был заинтригован. – Наша одежда. Я только что забрал ее от портного. Сейчас мы будем ее примерять. Я бы не сказал, что принесенное им было похоже на одежду, скорее это напоминало занавески. Кравченко велел мне раздеться и разделся сам. Затем он взял в руки кусок белой материи и разложил его на полу – получилась просторная ночная рубашка. – Это называется хитон. Надевается на голое тело. Попробуйте, это несложно. Я надел белую рубашку, которая доходила мне до колен, и стал похож на душевнобольного, этакого обитателя чеховской палаты номер шесть. – Теперь наденьте вот это. Кравченко протянул мне другую ночную рубашку, но гораздо более свободную, пошитую из грубой ткани синего цвета. – А это что? – спросил я, пытаясь понять, что с этой штукой делать. – Это называется туника, она носится сверху. Надевайте, не бойтесь. Я надел тунику, которая доходила мне почти до щиколоток, и сразу запутался в многочисленных складках. – Как видите, – объяснил Кравченко, – это одежда свободного покроя. Она просто незаменима в жарком климате, хотя и от холода тоже спасает. – Теперь надевайте пояс, – Кравченко вытащил из сумки широкую двухслойную полосу материи. Я повязал пояс и почувствовал себя гораздо удобнее. – Подоткните хитон и тунику под пояс, – объяснил Кравченко, – обратите внимание, что пояс сшит из двух кусков ткани, поэтому его можно использовать как большой карман. Сверху наденьте мантию. Это самая верхняя одежда, если так можно выразиться. Мантия представляла собой огромный квадратный кусок ткани с двумя складками и дырками для рук. Кравченко показал, как нужно заворачиваться в мантию. Я посмотрел на себя в зеркало и усмехнулся. Вид был вполне экзотический. – Подождите, – прервал мой восторг Кравченко, – мы еще не закончили. Вы забыли надеть головной убор. Он протянул мне кусок ткани и показал, как укрепить его на голове. Получилось нечто вроде современной арабской куфии. – Ну, теперь все? – нетерпеливо спросил я. – Почти. Кравченко достал из сумки сандалии. – А это зачем? – Как зачем, – удивился Владимир, – это очень важно. Вы должны научиться в них ходить. Я надел сандалии, на редкость примитивные: просто кусок подошвы, из которого торчали ремни. – Где вы только достали такую обувь? – проворчал я. – В жизни не носил ничего подобного. – Купил в арабской лавке в Лоде. – Что вы там делали? – пропыхтел я, пытаясь справиться с нехитрой конструкцией. – Как что? Обследовал местность, конечно. Наконец, я обмотал вокруг голени ремни сандалий и подошел к зеркалу. – Вот теперь все, – удовлетворенно кивнул Кравченко. – Я бы советовал вам каждый вечер надевать этот костюм и сандалии и ходить в таком виде дома. На высоком и худом Кравченко одежда сидела великолепно. Я тоже худощавый, но ниже ростом, поэтому костюм с многочисленными складками смотрелся на мне немного по-бабьи. Владимир, моментально почувствовавший мое разочарование, попытался меня успокоить. Он покрутил меня перед зеркалом, немного присборил сзади ткань и сказал, что мой костюм надо просто немного ушить, и портной это сделает в самое ближайшее время. В то время как я вышагивал по комнате в костюме жителя Древней Иудеи, дверь внезапно отворилась, и в квартиру вбежал мой племянник Шурик со своей собакой, огромным бассетом Артабаном, который тут же начал обнюхивать нас с Кравченко и громко приветственно повизгивать. Бассет – удивительная порода. Обладая добродушным характером и забавной внешностью, эта собака страдает фантастическим упрямством. Кроме того, бассет – очень крупная собака, отвратительно пахнет, постоянно пускает слюни и периодически пачкает ими мебель и одежду окружающих. На мой взгляд, все это делает бассета совершенно непригодным для совместного проживания в одной квартире с человеком, но у моей сестры на этот счет было иное мнение. – Дядя Миша, что это с тобой? – ухмыльнулся Шурик, увидев нас с Кравченко в странной одежде. – Шурик, во-первых, здороваться надо, когда куда-то приходишь, во-вторых, сколько раз я тебя просил стучаться перед тем, как войдешь. Чему тебя только родители учат? – возмутился я. – Так у тебя же не заперто! – недоуменно воскликнул мой племянник. – Ну вот и объясняй что-либо после этого израильской молодежи, – пожаловался я Кравченко. – Нет, а все-таки, дядя Миша, почему вы так странно оделись? – не унимался Шурик. – К празднику Пурим* готовимся, – быстро нашелся Кравченко. – Неплохие костюмы, правда? – Да, ничего, – согласился Шурик и многозначительно засопел, – только до Пурима еще далеко. В это время послышался звон разбитой посуды. Я обернулся и увидел, что Артабан роется мордой в тарелках, оставленных на столе, – поедает остатки печенья и торта. Одна из тарелок, естественно, соскользнула на пол. Я схватил собаку за шиворот и оттащил от стола. Артабан посмотрел на меня с ненавистью и шумно встряхнулся, разбрызгивая по комнате слюни. – Черт бы побрал твоего Артабана! – разозлился я. – Представь себе, что было бы, если бы он разбил мою любимую кружку. Зачем ты его вообще притащил? – Просто с ним надо было погулять, а мама попросила занести тебе пирог, который она только что испекла. – А пирог, наверное, съел Артабан? – усмехнулся Кравченко. – Нет, пирог здесь. Шурик протянул мне небольшой сверток. – А кто дал собаке такое экзотическое имя – Артабан? Кстати, ты знаешь, что оно означает? – Кравченко почувствовал себя в своей стихии. – Знаю. – Шурик потрепал Артабана по слюнявой морде. – Был такой парфянский царь, мне папа рассказывал. – У тебя папа не историк случайно? – поинтересовался Кравченко. – Нет, он – врач. – Что же вы, Миша, не сказали, что у вас родственник – врач, когда мы обсуждали эту тему с Тали? – удивился Кравченко. – Он врач не того профиля, который нам нужен, – пояснил я, – он психиатр. – А-а-а, – протянул Кравченко, – к нему нам действительно пока рано. – А какой врач вам нужен, гинеколог? – глаза Шурика озорно заблестели. – Я вот сейчас позвоню матери и расскажу ей про твои шутки, – пригрозил я. – Дядя Миша, скажи, а куда лучше всего после армии поехать, – спросил Шурик, меняя тему, – на Дальний Восток или в Южную Америку? – Поезжай лучше в Трапезунд, – внезапно предложил я. – А где это? – В Понтийском Царстве. – Или можно отправиться в Древнюю Иудею, – подхватил Кравченко. Мой племянник расценил его слова как не очень удачную шутку и молча направился к выходу. Уже у самой двери он повернулся и обиженным голосом спросил: – Дядя Миша, скажи, что такое пилотка? – А ты сам как думаешь? – ответил я вопросом на вопрос, подозревая подвох. – Вчера один мой друг сдавал в армии тест, и там был такой вопрос, а к нему несколько ответов, и я выбрал – жена летчика. Так он до сих пор смеется. Это было настолько неожиданно, что мы с Кравченко, не сговариваясь, захохотали. На парня жалко было смотреть, поэтому мы тут же стали извиняться и объяснили, что пилотка – это военный головной убор. Хорошо, что у моего племянника легкий характер – не очень-то приятно, когда двое взрослых так откровенно над тобой смеются. – Ну, ладно, я пошел, – Шурик потянул за поводок, – Артабан, ко мне. Они ушли, но в комнате еще долго стоял запах, оставленный тезкой парфянского царя. На следующий день мы с Кравченко отправились в местное отделение минздрава, чтобы сделать прививки, необходимые для поездки в страны третьего мира. В приемной мы сразу почувствовали себя неловко – вокруг была одна молодежь. Казалось, что люди старше двадцати вообще не ездят по таким маршрутам. Большинство молодых людей выглядели очень экзотично: длинные волосы, покрашенные в необычные цвета, потертая или даже порванная в некоторых местах одежда и серьги в разных частях лица. Одна девушка с гордостью показывала подруге металлическую шпильку, вшитую в язык, а та, явно с завистью и восхищением, ее рассматривала. Даже всегда уверенный в себе Кравченко растерялся в такой компании. Вскоре нас пригласили в зал, где мы прослушали лекцию о правилах поведения в развивающихся странах, а потом послали делать прививки от тифа, желтой лихорадки, столбняка и гепатита. Кравченко особенно волновался по поводу малярии. Оказалось, что для профилактики малярии нужно раз в неделю принимать специальные таблетки. Правда, эти таблетки сами могли привести к неприятным осложнениям, таким как боли в животе, тошнота, чувство тревоги или даже депрессия. Услышав это, я решил, что ни за что не стану их принимать, но нам доходчиво объяснили, что вероятность получить осложнения от лечения гораздо ниже, чем вероятность умереть от малярии. Прививки оказались довольно болезненными, кроме того, у меня на следующий день началось сильное недомогание, даже поднялась температура, а плечо, в которое сделали укол, вообще болело целую неделю. Неумолимо приближался день нашего путешествия. Все приготовления были закончены. Мы с Кравченко пешком прошли весь путь от института Вейцмана в Реховоте, где находился хроноскоп, до Лода. Идти приходилось не всегда прямо из-за скоростных шоссейных дорог, пересекавших местность, но все равно через два с половиной часа мы подошли к Лоду. Вскоре нам предстояло повторить этот путь, но уже в Древней Иудее. Наш хроноскоп успешно прошел все испытания. Дольше откладывать было нельзя. В то время я находился в каком-то лихорадочном состоянии, так меня захватили подготовка к путешествию и последние испытания хроноскопа. Но за несколько дней до отправки я вдруг подумал, что никто из моих родственников и знакомых не знает о моих планах. Разумеется, я не собирался никому рассказывать о том, куда я отправляюсь, но предупредить их о моем отсутствии было необходимо. А когда я вспомнил, что на мне теперь висит забота о Клаве и Тоне, мне стало совсем не по себе. Чем больше я размышлял о своих обязательствах перед окружающими, тем тоскливее становилось у меня на душе. Раньше я не задумывался или не хотел задумываться над тем, что могу не вернуться из этого путешествия, и никто никогда не узнает, что со мной случилось и где я... В тот же день я отправился к нотариусу и написал завещание, в котором все свое имущество оставлял сестре Ольге, причем я подчеркнул, что речь идет не только о моей смерти, но и об отсутствии на протяжении года или более. Я попросил нотариуса послать это завещание Ольге по почте, если через месяц я не приду к нему и не отменю свое распоряжение. Нотариус, составляя необычный документ, и бровью не повел. Видно, у него такая профессия – ничему не удивляться. Вечером я позвонил сестре и долго выслушивал, какой Шурик гениальный ребенок, а Боря – муж Ольги – напротив, идиот. Если бы не важный разговор, я бы обязательно напомнил Ольге, что этот идиот Боря пашет как проклятый, чтобы обеспечить ей такую жизнь, при которой она может сидеть дома и не работать. Наконец, улучив момент, я сказал: – Ольга, мне скоро нужно будет уехать по делам. – Куда? – В Японию, – почему-то выпалил я, очевидно, в расчете на то, что она не сможет потребовать, чтобы я ей оттуда звонил. – Куда-куда?! – Прекрати кудахтать, я же сказал, в Японию. – А что ты там забыл, и какие у тебя могут быть дела в Японии? – Мне нужно туда поехать по работе, – объяснил я. – Что-то тебя раньше не только в Японию, но и в Эйлат* было не вытащить, – докапывалась Ольга. – Оля, я еду на симпозиум с докладом, по поводу окончания нашей работы. – Ой, Миша, что-то ты темнишь. Скажи честно, ты с кем-то познакомился и едешь в романтическое путешествие? – Оль, ты, по-моему, просто помешалась на сексе, – со злостью упрекнул я. – Короче говоря, мне нужно, чтобы кто-нибудь взял на себя заботу о моих, вернее, о твоих рыбках. Только не говори, что ты не можешь, в конце концов, это ты мне их навязала. Тут Ольга полностью переключилась на то, какой я неблагодарный человек, потому что не ценю заботу ближнего о моем душевном здоровье. Я дал ей немного поговорить, а потом сказал, что мне звонят по мобильному, и я не могу с ней больше разговаривать, напомнив, что она должна подумать насчет рыбок. Через полчаса Ольга перезвонила и объявила, что будет сама приходить ко мне и кормить рыбок в мое отсутствие. В день путешествия я вышел из дома рано и встретил соседку Женю, приятную, скромную женщину, которая тут же начала рассказывать об успехах своего сына Патрика, а по-нашему Пети, в учебе. Дело в том, что год назад я согласился позаниматься с этим оболтусом по математике, с которой у парня были такие проблемы, что ему грозил перевод в другую школу. Через год он заметно подтянулся, и мать решила, что у него способности к точным наукам. Я слушал вполуха ее восторги по поводу успехов сына, мысли мои были уже далеко отсюда. В какой-то момент мне даже захотелось сказать, чтобы она прекратила приставать ко мне с ерундой в то время, как я занимаюсь судьбой еврейского народа. Конечно, я сдержался, похвалил Патрика, сделал комплимент Жене – хорошая женщина, и есть за что ее уважать. Муж умер рано, она одна растит сына, много работает и при этом никому не завидует и не обижается на судьбу. В наше время редкий по душевным качествам человек. Когда я вошел в лабораторию, Кравченко и Тали уже ждали меня. Они громко и возбужденно разговаривали и неестественно смеялись. Именно в тот момент я впервые осознал, что сейчас должно произойти. Внезапно мне все это показалось страшной авантюрой. Я отчетливо понял, что собираюсь совершить что-то немыслимое и непонятно зачем рискую собственной жизнью. Не знаю, о чем думал Кравченко, может быть, о том же, но мне вдруг расхотелось отправляться в Древнюю Иудею, и только ложный стыд помешал мне повернуться и уйти. Мы решили, что сначала отправим Кравченко одного на тридцать секунд. Во-первых, чтобы убедиться, что перемещение во времени проходит без последствий для человеческой психики, во- вторых, чтобы была возможность осмотреться на месте и определить, не подстерегает ли нас опасность. Итак, Кравченко встал в зоне действия хроноскопа, Тали нажала кнопку пуска, и... первое путешествие человека во времени началось. Мы с замиранием сердца следили за секундной стрелкой. Через полминуты Кравченко снова появился в лаборатории. Вид у него был слегка ошарашенный. – Ну что? – выкрикнули мы с Тали одновременно. – Я ничего не почувствовал, как будто вообще ничего не произошло. Это довольно странно, ведь я пролетел за тридцать секунд четыре тысячи лет, – пожал плечами он. – Как четыре, две, – возразил я. – Но я же сразу вернулся обратно, и пролетел еще две тысячи лет, – объяснил Кравченко. – Вы лучше скажите, что вы там видели? – нетерпеливо спросила Тали, ее глаза возбужденно блестели. – Ничего особенного, пустырь или поле, а впереди что-то наподобие рощи. Кстати, там очень холодно, намного холоднее, чем здесь, – Кравченко поежился. – Мы рассчитали так, что вы должны оказаться там где-то за неделю до праздника Песах, то есть в начале апреля. В это время года бывает холодно, но недолго. Вы можете одеться теплее, например, надеть под местную одежду тренировочный костюм, – предложила Тали. – Ладно, там разберемся, – Кравченко посмотрел на меня. – Итак, нам пора. Мы взвалили на плечи сумки с нашим скарбом, сверили мои карманные часы с лабораторными и подошли к хроноскопу. Последнее, что я увидел, – движение руки Тали к кнопке пуска... Глава 6, в которой я начинаю испытывать симпатию к ослам Кравченко был прав, я вообще не почувствовал никакого движения или перемещения. Все было как в кино, будто мгновенно сменился кадр, кроме того, стало действительно прохладно. Мы очутились посреди большого поля, лишь где-то вдалеке виднелись низкие деревья или кустарник. Никакого поселения поблизости не было видно. «Хорошо, что институт Вейцмана расположен в таком месте, – подумал я, – а то мы могли бы появиться в крупном городе или деревне или, чего доброго, у кого-нибудь в доме». Кравченко достал компас, и мы быстро определили нужное направление. Перед тем как отправиться в путь, он вытащил металлический колышек, воткнул его в землю почти до самого конца и обрызгал место вокруг зеленой краской из небольшого баллончика. Он пояснил, что в темноте и колышек, и краска фосфоресцируют, поэтому место прибытия можно будет легко найти. Кроме того, по ходу нашего продвижения Кравченко также разбрызгивал краску. Идти было совсем не так удобно, как по асфальту. Сандалии, которые были у нас на ногах, с моей точки зрения, не годились для длительных путешествий. – Эх, нам бы сейчас кроссовки... – словно угадав мои мысли, вздохнул Кравченко. Через четверть часа мы подошли к деревьям, которые увидели с места прибытия. Это был большой оливковый сад, окруженный низким каменным забором, преградившим нам путь. – Мне кажется, нам стоит обойти это место, наверняка это чья-то частная собственность, – предложил Кравченко. – Да бросьте, – беспечно ответил я, – никого же нет, да и противоположный конец сада виден. Пройдем за пять минут. Мы перелезли через забор и углубились в сад. Через несколько шагов я поскользнулся и угодил ногой в канаву с водой. Оказывается, вся территория сада была изрыта узкими мелкими каналами, которые, разумеется, использовались для орошения. Отряхиваясь и чертыхаясь, я вылез из канавы. Мы уже почти пересекли сад, когда, ступив на небольшое возвышение, я вдруг почувствовал, что куда-то проваливаюсь. Через мгновенье я уже был по пояс в яме. Под ногами было что-то мягкое. Кравченко быстро схватил меня за руки, и вскоре я оказался на твердой почве. Я заглянул в яму, из которой только что вылез, и увидел груду мешков. – Это хранилище зерна, в нем местные жители хранят свои запасы, маскируют их от любопытных глаз, – пояснил Кравченко, но в голосе его послышалось беспокойство. – Говорил я вам, что это место надо обойти стороной. Давайте быстро уходить отсюда. Мы вышли из сада и продолжили путь по пустынной местности. Мы шли уже три часа, но никаких признаков города не было. Я почувствовал, что начинаю замерзать. Вообще-то одежды на нас было много, но дома в такую погоду я всегда ношу ботинки и брюки. Сейчас же мы были в сандалиях на босу ногу, да еще и без брюк – снизу сильно поддувало. Внезапно Кравченко остановился. – В чем дело? – занервничал я. – Мы уже очень долго идем, а города все нет. Мне это непонятно и совсем не нравится, – пробормотал он. – А может быть, никакого города Лода вовсе нет? – неуверенно посмотрел я на своего спутника. Кравченко хмуро огляделся по сторонам и потер щеку. – Есть-то он есть, но, очевидно, не там, где мы его ищем. – Как это? – опешил я. – Понимаете, принято считать, что город Лод – это и есть древняя Лидда, но с уверенностью сказать, что он находится на том же самом месте, нельзя. На протяжении веков город неоднократно разрушался и отстраивался вновь, поэтому вполне возможно, что современный Лод значительно сместился по отношению к древней Лидде, и мы просто не там ее ищем. – И что же нам теперь делать? Ходить кругами в поисках Лидды? А может быть, она вообще не здесь, или мы ее давно прошли, – забеспокоился я. – Давайте не будем впадать в панику. Попробуем поискать город чуть западнее, он наверняка был намного меньше, чем в наше время, – предложил Кравченко. Мы повернули к западу, прошли еще минут пятнадцать и вышли на проезжую дорогу, покрытую густым слоем пыли. Вдали виднелись какие-то постройки. Постепенно стали появляться люди, некоторые шли пешком, другие ехали верхом на ослах. Все они были довольно бедно одеты. Вскоре мы с облегчением поняли, что подходим к городской стене. – Михаил, надеюсь, вы не забыли, о чем мы с вами договорились, – напомнил мне Кравченко. – Все переговоры веду я, а вы помалкиваете и ведете себя так, будто вы – глухонемой. Я нехотя кивнул. Когда мы подошли к городским воротам, Кравченко попросил меня подождать, а сам пошел узнать насчет каравана в Эммаус. Я остался в одиночестве и с интересом стал осматриваться по сторонам. Площадь перед воротами оказалась довольно беспокойным местом. Здесь постоянно сновали люди с тюками или корзинами на спине, некоторые вели навьюченных животных – в основном ослов, но попадались и волы, запряженные в телеги. Один раз я даже увидел верблюда. Слева от ворот находились торговые лавки. В одной из них продавали глиняную посуду, в другой – сельскохозяйственные инструменты: вилы, серпы, лопаты. Рядом, в тени дерева, на коврике, расстеленном прямо на земле, сидели трое мужчин и мирно беседовали. В центре площади, возле небольшого бассейна, играли дети. Было очень шумно. То и дело доносились крики погонщиков скота, детский смех, скрип проезжающих телег – все это сливалось в непривычную какофонию. Мне вдруг стало очень неуютно, я почувствовал себя ряженым чужаком. Все вокруг находилось в движении, а я словно оцепенел. Во время подготовки к путешествию мы продумали много мелочей, вплоть до одежды и мыла, но здесь, на площади, я неожиданно понял, что главное – люди, с которыми нам придется общаться. Они же не дураки, они уж точно почувствуют в нас что-то странное. «Немедленно прекрати озираться!» – с досадой приказал я себе. Конечно, я понимал, что надо постараться вести себя естественно, поэтому на почему-то негнущихся ногах подошел к одиноко стоящему дереву, неловко сел на землю и привалился спиной к стволу – а может быть, я устал и отдыхаю тут в тени. Минут через пятнадцать вернулся Кравченко и сказал, что скоро из Лидды выходит караван с паломниками в Иерусалим, так что времени у нас почти не осталось. Караван должен был собраться у других городских ворот, до которых еще нужно дойти. Кравченко договорился о том, что нам дадут двух ослов. Я спросил, как ему это удалось без денег, на что он ответил, что уже успел реализовать немного корицы, и в подтверждение позвенел в руке горстью серебряных монет. В очередной раз меня удивила способность этого человека моментально ориентироваться в любой обстановке. Пока мы искали место сбора паломников, я стал замечать, что на нас обращают внимание местные жители. Многие косились подозрительно, а некоторые даже указывали пальцем и что-то громко говорили. Мне стало не по себе. – А что бы вы хотели? Это вполне естественно, я вас предупреждал еще дома, – заметив мое беспокойство, сказал Кравченко. – Мы сильно отличаемся не только от местных жителей, но даже от обычных паломников. – И что же нам делать? – Главное – не волноваться. Держитесь спокойно и с достоинством. Если кто-то на вас смотрит, слегка наклоните голову в полупоклоне и улыбнитесь, не во весь рот, конечно. Вскоре мы нашли караван, который представлял собой группу людей весьма странного вида, а проще говоря, большинство из них напоминало самый настоящий сброд. Утешало одно: на их фоне мы уже не выглядели нелепо. Через полчаса караван отправился в путь. Ехать на осле совсем не так приятно, как в автомобиле. Очень скоро я уже не мог сидеть спокойно, а то и дело ерзал, пытаясь найти удобное положение. Кравченко, казалось, легче переносил неудобства. Мы ехали по равнине, поэтому ослы шли довольно быстро. Интересно, что ослом совсем не нужно было управлять, он шел сам – видимо, прекрасно знал дорогу. Наконец, кое-как устроившись в седле, я начал озираться по сторонам. Немало попутешествовав по современному Израилю в первые годы пребывания там, я неплохо знал ландшафт страны, а уж то место, по которому мы ехали, было мне хорошо знакомо. Однако сейчас, рассматривая окрестности, я совершенно не узнавал их. Казалось, я нахожусь не в Израиле. Больше всего меня удивило обилие растительности. Вокруг стоял самый настоящий лес, в котором так и чувствовалось присутствие всякой живности. Это открытие поразило меня, ведь в современном Израиле мы боремся за каждое дерево, каждый кустик, беспрестанно поливаем и культивируем их. А тут все растет само, не требуя никаких усилий и затрат. Удивительно! Позже Кравченко объяснил мне, что за две тысячи лет многое изменилось: климат, почва, количество выпадаемых осадков. Через час путешествия у меня появилось ошущение, что я весь, с головы до ног, покрыт пылью. Она была везде: в одежде, в волосах, даже во рту и ушах. Пыль скрипела на зубах и щекотала в носу. Но ладно пыль, дорога, по которой мы ехали, эдакий караванный путь, на всем протяжении была густо сдобрена навозом. И запах был соответствующий, такой густой и резкий, что перехватывало дыхание, а иногда просто мутило. Этот запах потом долго преследовал меня, особенно во время еды. Впрочем, наверное, только я был таким чувствительным, потому что остальные, казалось, не обращали на это никакого внимания. Лишь в самом конце поездки я задумался о том, что пришлось бы мне испытать, если бы я проделал весь путь от Лидды до Эммауса пешком, и тогда я почувствовал искреннюю благодарность к моему четвероногому спутнику, который в течение нескольких часов безропотно тащил меня на спине. Глава 7, в которой мы неожиданно разбогатели Солнце уже клонилось к закату, когда наш караван подошел наконец к Эммаусу. Это был небольшой город у подножия Иудейских гор. Кравченко решил сразу обратиться в ближайшую лавку или магазин, в котором можно было бы купить новую одежду и попробовать продать остаток корицы. Медленно продвигаясь в толпе, мы оказались на небольшой площади. Очевидно, это был рынок. Повсюду прямо на земле были разостланы куски ткани, на которых лежали товары. В стороне стоял двухэтажный дом серого цвета с потрескавшимися стенами, отчего он казался слегка перекошенным. На первом этаже располагалось что-то вроде склада или магазина. Кравченко уверенно открыл низкую дверь, и мы, наклонив головы, вошли в помещение. Внутри мы увидели нагромождение разного хлама: глиняные горшки, тряпки, циновки, всякую рухлядь. Потолок был настолько низким, что приходилось все время стоять пригнувшись. Запах на складе был отвратительный, затхлый и гнилостный. Среди всего этого беспорядка я не сразу заметил хозяина, который стоял за неким подобием прилавка или стола. Вдруг он бросился в нашу сторону и с восторженной улыбкой склонился в поклоне перед Кравченко. Потом он начал что-то громко говорить. Кравченко кивал головой и бросал отдельные реплики, хотя вид у него был довольно растерянный. Хозяин лавки вернулся за прилавок и начал торопливо копаться в каком-то хламе. Через некоторое время он вновь подошел к Кравченко и, продолжая громко говорить, положил в его руку горсть монет. «Вот это да, – подумал я, – здесь, видно, путешественникам выдают деньги на расходы». Кравченко с хозяином продолжали что-то обсуждать. Затем они, очевидно, о чем-то договорились, потому что Кравченко направился к двери, попросив меня следовать за ним. На улице я сразу стал расспрашивать Кравченко о том, что произошло, но он, судя по всему, и сам ничего не понимал. – Странно, этот человек говорил со мной, как со старым знакомым. Мало того, сказал, что несколько лет назад я продал ему очень красивые золотые серьги, он выручил за них много денег и теперь хочет меня отблагодарить и вернуть то, что он, якобы, мне должен, и еще спрашивал меня почему-то о здоровье жены. – Чьей жены? – удивился я. – Моей, разумеется. Чьей же еще? – А разве у вас есть жена? – я даже руками развел. – Я тоже хотел задать ему этот вопрос, – усмехнулся Кравченко. – Странно… Он явно принимает меня за кого-то другого. Он сам сказал, что с трудом узнал меня без бороды. Кстати, я думаю, что именно из-за отсутствия бороды на нас все смотрят подозрительно. Если вы успели заметить, в этом мире каждый взрослый мужчина носит бороду. Жаль, что я не подумал об этом раньше. – Ну, и что мы теперь будем делать, отращивать бороды? – усмехнулся я. – В другой раз, а пока хозяин попросил подождать его здесь. Он скоро закончит дела в магазине, а потом отведет нас на склад, где мы выберем себе одежду. – А это разве не склад? Кравченко оставил мой вопрос без ответа. Он был явно обескуражен случившимся. Спустя несколько минут появился хозяин магазина, которого, как выяснилось, звали Йуда. Он повел нас во двор дома, открыл низкую дверь и впустил в тесное помещение с еще более резким и неприятным запахом. Вдоль стены стоял ряд сундуков. Открывая их поочередно, Йуда стал вытаскивать части одежды. Кравченко так натренировал меня, что я легко различил хитон, тунику и мантию. Фактически, на нас и сейчас была такая же одежда, но она, разумеется, отличалась покроем от местной. Кравченко что-то сказал хозяину, и тот убрал хитон в сундук. Я понял, что Кравченко решил не менять хитон, который, как я уже говорил, представлял собой длинную рубаху – его носили на голое тело. Правда, под хитон мы надели трусы и майки, но самое главное, что под ним у нас висела кобура с шокером и пистолетом, поэтому менять хитон явно не было смысла. Йуда подал каждому тунику и пояс. Сверху мы обернулись в мантии. Ноги мы обули в сандалии, которые были значительно удобнее наших. Кравченко отдал хозяину нашу одежду, и он с удовольствием взял ее, потому что качество ткани было гораздо выше местного. Мы вышли со склада, и хозяин предложил нам отдохнуть во дворе под навесом. Мы сели на подушки, брошенные на циновку, хозяин вынес кувшин с водой и начал о чем-то разговаривать с Кравченко. Я обратил внимание, что по мере продолжения разговора Йуда все более мрачнел. В его голосе чувствовались боль и страдание. Кравченко все больше кивал, лишь иногда задавал хозяину вопросы. Вскоре кто-то вошел во двор и позвал Йуду. Тот ушел, и мы с Кравченко остались вдвоем. – Мне кажется, ваш хроноскоп плохо откалиброван, – неожиданно сказал Кравченко. – В каком смысле? – удивился я. – В том, что мы попали не туда, куда собирались, а на четыре года позже, – расстроено пояснил Кравченко. – Как вы это определили? – Сейчас не 35-й год, а 39-й или даже 40-й, – Кравченко глубоко вздохнул. – Хозяин рассказал мне, что император Гай, который правит в Риме, по-нашему это Калигула, распорядился поставить свою статую в иерусалимском Храме. Народ возмутился этому богохульству, и в стране начались беспорядки. Это очень известная история, она происходила где-то в 39–40-м году. Правда, беспорядки вскоре улеглись, так как тогдашний правитель Иудеи Петроний всячески оттягивал исполнение приказа императора, а потом Калигулу убили в 41-м году, и об этом вообще все забыли, но местные жители-то этого еще не знают. Так что получилось то, чего я боялся. Вместо спокойного периода мы попали в беспокойный. – А что если рассказать им, что все закончится благополучно? – предложил я. – И показать фильм про Калигулу, – засмеялся Кравченко, – но, к сожалению, я его не захватил. – Что же нам делать? – Мне кажется, нам нужно сидеть тихо и ни во что не вмешиваться. Кстати, есть одна хорошая новость. Хозяин лавки знает Иисуса. Это очень большая удача. Он говорит, что тот был здесь в последний раз девять лет назад, останавливался на несколько дней в городе, а потом куда-то внезапно ушел, и было это перед праздником Песах. Йуда хорошо это запомнил, потому что у него той весной родилась младшая дочь. С тех пор, по словам Йуды, он Иисуса больше не видел, но слышал, что тот погиб, а подробностей он не знает. Так что, вполне возможно, нам вообще нечего здесь больше делать. Жаль, что мы можем вернуться не раньше, чем через неделю. В это время с улицы донесся шум, который быстро усиливался. Я попытался подняться, но Кравченко схватил меня за руку и резко усадил на место. – Я вас прошу, сидите спокойно и не высовывайтесь. Нас это совершенно не касается. – Послушайте, но там ведь явно что-то происходит. По-моему, кого-то бьют. – Ну и что, пусть бьют. Главное, чтобы не нас. Тех, кого бьют, равно как и тех, кто бьет, по нашим понятиям уже около двух тысяч лет нет в живых. Они для нас – призраки, фантомы. Представьте себе, что вы смотрите фильм из жизни Древней Иудеи. Вы же не станете вмешиваться в сюжет. Постепенно шум нарастал. На улице, похоже, разыгрывалась настоящая драма. Я сидел как на иголках. Мне вдруг стало очень тревожно. Наконец, я не выдержал и вскочил. – Вы знаете, – обратился я к Кравченко, – нас это не касается до тех пор, пока мы сидим здесь, но вы же не собираетесь отсиживаться тут целую неделю! Глава 8, которая показывает, к чему может привести языковой барьер Внезапно во двор вбежал наш хозяин Йуда. Я даже не сразу узнал его – он был весь в пыли, а лицо разбито в кровь. Он что-то крикнул и упал. Следом за ним во двор вошли два человека, выглядевшие как римские легионеры. Один из них ударил лежавшего Йуду ногой по голове, другой, увидев нас, что-то резко закричал. Кравченко ему ответил. Солдат стал приближаться к нам с явно недружественными намерениями. Я сделал шаг в сторону и просунул руку под мышку, где висела кобура. Кравченко прошипел мне: «Не вздумай», и стал что-то быстро говорить солдату. Тот, видимо, заметил мое движение и повернулся в мою сторону. Я нащупал шокер и вытащил его наружу. Солдат увидел непонятный предмет и угрожающе шагнул ко мне. Я резко выбросил вперед руку и одновременно включил шокер. Раздался громкий треск электрического разряда, и солдат вскрикнул от боли. Я снова включил шокер и ткнул его в плечо, не выключая электрический разряд. Солдат задергался всем телом и упал без движения. Второй легионер, склонившийся над Йудой, наблюдал всю эту сцену, разинув рот. Наконец, видимо, придя в себя, он выхватил меч и направился ко мне. Я бросил шокер на землю, снова сунул руку под мышку, нащупал пистолет и рывком вытащил его, одновременно передергивая затвор. Выстрелить я не успел, так как рядом появился Кравченко и ударил солдата шокером в шею. Тот упал как подкошенный. – Давай быстро отсюда сматываться! – крикнул мне Кравченко. Пока я собирал наши вещи в сумки, Йуда пришел в себя, увидел лежащих солдат и сказал что-то Кравченко. Тот молча кивнул и, повернувшись ко мне, зашептал: – Он предлагает укрыться у него в подвале, а ночью поможет нам незаметно выйти из города. – А что делать с этими? – кивнул я на солдат, которые, кстати, уже начинали шевелиться. – Будем надеяться, что они подумают, что мы убежали очень далеко. Давай не будем терять времени. Мы снова вошли в дом Йуды. Он сдвинул в сторону один из сундуков, и в нижней части стены мы увидели отверстие. Йуда указал нам на него, мы подбежали, быстро протиснулись вниз и оказались в узком темном подвале с каменными стенами. Йуда последовал за нами, а потом изнутри установил сундук на место. Стало совершенно темно. Йуда что-то прошептал, и Кравченко велел мне ползти вперед. Воздух был настолько спертым, что было трудно дышать. Ползли мы долго, думаю, минут десять, причем все время вниз. Я до крови ободрал локти и колени, потому что вокруг был один камень. Кому удалось пробить такой длинный ход в сплошной скале? Наконец, тоннель кончился, и я свалился вниз, больно стукнувшись о каменный пол. Было абсолютно темно, но я понял, что нахожусь в большом помещении. Когда глаза немного привыкли к темноте, я заметил, что неподалеку горит слабый огонек, который оказался фитилем лампады. Вслед за мной из тоннеля появились Кравченко и Йуда. Наш хозяин зажег неизвестно откуда взявшиеся факелы, и теперь можно было, наконец, осмотреться. Мы находились в огромном зале. При тусклом свете факелов я не смог определить его точные размеры, но это явно была большая пещера. Йуда стал объяснять Кравченко, а тот переводил мне, что много лет назад почва в этом месте просела после землетрясения, и образовалась щель. Кто-то решил обследовать эту щель и обнаружил ведущий в пещеру тоннель. Йуда сказал, что не знает, когда это было, при его деде или прадеде, но один из его предков построил на этом месте дом, в подвале которого оказался вход в этот самый тоннель. С тех пор пещера стала их семейным достоянием, а сведения о ней передавались от отца к сыну. Я знал, что недра Израиля скрывают много пещер, подобных этой, которые наверняка не раз служили укрытием и спасли не одну жизнь за столь богатую войнами и катаклизмами историю Иудеи. Я подумал, что эта пещера, возможно, имеет другой выход, и попросил Кравченко спросить об этом Йуду. Тот ответил, что в противоположном конце пещеры есть небольшое озерцо, которое переходит в еще один тоннель. Если идти по этому тоннелю, то можно выбраться наружу за пределами городской черты. В свете факелов перед нами открывалась только часть пещеры, но и этого было достаточно, чтобы ощутить ее великолепие. Я был заворожен необыкновенным зрелищем. Кравченко тоже с восторгом озирался по сторонам. Там было на что посмотреть. С высокого потолка свисали огромные сталактиты, создавая причудливые, а иногда просто фантастические фигуры и образы. Во многих местах сталактиты соединялись с растущими из пола сталагмитами, образуя огромные столбы или колонны. Казалось, что пещера дышала, со всех сторон доносились звуки: где-то капала вода, слышались шорохи, всплески и шуршание. Пещера определенно жила своей жизнью, которая словно проходила в другом измерении. Мне показалось символичным то, что мы явились сюда сквозь толщу веков, чтобы встретиться с пещерой, о существовании которой в наше время, возможно, никому неизвестно. Может быть, эту пещеру откроют еще через тысячу лет после нас, но для нее это не имеет значения, для нее вся эта толща времени – всего лишь мгновенье, равное нескольким сантиметрам выросших сталактитов. Немного успокоившись – шутка ли, тут тебе и схватка, да еще с самыми настоящими римскими легионерами, и бегство, и таинственное подземелье, – я решил вернуться к более насущным делам и, прежде всего, обдумать наше положение, которое, прямо говоря, казалось незавидным. – Что мы теперь будем делать? – спросил я Кравченко. – Скажи лучше, зачем ты все это затеял? – вопросом на вопрос ответил он. – Что я затеял? – удивился я. – Ну, всю эту драку с шокерами и пистолетами. Ты что, фильмов про ковбоев насмотрелся? Вообразил себя Брюсом Уиллисом? – отчитывал меня Кравченко. – То есть как? – обиделся я. – Они же нас собирались арестовать. – С чего ты взял? Они просто поинтересовались, кто мы такие, и потребовали, чтобы мы уходили. – Ничего себе поинтересовались, – возмутился я, – таким тоном? – А ты хотел, чтобы они перед тобой извинились за то, что невольно побеспокоили? Я же просил тебя ни во что не вмешиваться, тем более что ты не понимаешь местного языка. У тебя же началась самая настоящая паранойя. – Скажешь тоже, паранойя. А то, что нашего хозяина избивали, это тоже паранойя? – я сердито посмотрел на Кравченко. – Мало ли кто кого избивает, у них могли быть свои счеты. Разве ты всегда хватаешься за пистолет, когда видишь уличную драку? Я даже не заметил, как мы с Кравченко перешли на «ты». Вообще, обращение на «ты» среди русскоговорящего населения Израиля более естественно, чем для россиян, так как в иврите нет слова «вы» в том понимании, в котором оно употребляется в русском языке, – в качестве уважительного обращения. В иврите «вы» – это исключительно местоимение множественного числа. Поэтому выходцы из России в Израиле, даже общаясь по-русски, быстро переходят на «ты». В это время стоявший рядом Йуда прервал наш спор и начал что-то объяснять Кравченко. Оказалось, что солдаты искали повстанца и смутьяна, который, как им донесли, забежал в дом Йуды. Они требовали, чтобы Йуда выдал его, так как он считался государственным преступником, но Йуда категорически отказывался, утверждая, что не понимает, о чем идет речь. Тогда солдаты разозлились и стали избивать Йуду, а он, пытаясь скрыться от них, забежал во двор своего дома. Дальнейшие события мы наблюдали сами, вернее, участвовали в них. Несколько раз он прерывал свой рассказ молитвой, в которой благодарил Всевышнего, что тот надоумил его в такое неспокойное время отправить семью к родственникам в Галилею. Во время нашего разговора мы услышали шаги и вскоре увидели, что из глубины пещеры к нам приближается человек. Мы тревожно переглянулись, но Йуда успокоил нас, объяснив, что это и есть тот самый повстанец, которого он спрятал от солдат. – Хм, значит, они все-таки были правы, – усмехнулся я, – Йуда действительно дал убежище бунтовщику. – Ну вот, а ты их шокером, – упрекнул меня Кравченко. – Я что-то не понимаю, кому ты симпатизируешь, – в сердцах заметил я, – евреям или оккупационным властям? – Ты хоть сам понимаешь всю нелепость своего вопроса? – в голосе Кравченко я уловил иронию. – Все то, что происходит в данный момент, на самом деле уже произошло две тысячи лет назад, и результат этих событий тебе прекрасно известен. Не собираешься же ты, в самом деле, переделать историю, освободить евреев от римской оккупации и создать государство Израиль в первом веке нашей эры? – А мне кажется, мы сюда для того и прибыли, чтобы переделать историю. Разве не так? – заметил я. – Послушай, не надо передергивать, – невозмутимо улыбнулся в ответ Кравченко, – я ставлю перед собой куда более скромные цели. – Не сказал бы, – возразил я. Мы, наверное, еще долго бы спорили, если бы подошедший человек не отвлек наше внимание. Он начал что-то быстро говорить Йуде, причем явно на повышенных тонах. Это был очень молодой человек, думаю, ему было не больше двадцати. Одет он был скромно, в тунику, пошитую из ткани, напоминающей мешковину. При взгляде на его одежду у меня сразу возникла ассоциация со словом «рубище». Внешне незнакомец сильно смахивал на разбойника. Волосы и борода его были всклокочены, глаза горели недобрым огнем, движения были резкими и агрессивными. Кравченко повернулся в его сторону и стал что-то ему объяснять. Парень внимательно слушал, и через некоторое время я с облегчением заметил, что он стал успокаиваться. Вскоре все мы уже сидели вместе и мирно закусывали. Оказывается, у Йуды в пещере был запас пищи и воды на случай длительного пребывания. Трапеза была скромной, фактически она состояла из хлеба и воды, но мы были рады и этому. За едой и разговорами незнакомец показался нам не таким уж и страшным, просто он был сильно напуган нашим появлением. Постепенно выяснилось, что наш новый знакомый, которого, кстати, тоже звали Йудой, и хозяин дома – земляки. Оба они родились в Галилее*. Как потом объяснил мне Кравченко, Галилея в то время представляла собой нечто вроде провинции Иудеи. Помимо евреев там было очень много язычников. Евреи и язычники, живущие в Галилее, находились в сложных отношениях друг с другом. Эти отношения можно было охарактеризовать двумя словами – взаимная неприязнь. Евреи, всегда относившиеся к язычникам с пренебрежением, считавшие их примитивными и дикими, получали от них в ответ недоверие, а нередко и враждебность. Однако, живя бок о бок, галилеяне научились ладить друг с другом, и все бы ничего, если бы иудейские евреи не вмешивались в эти отношения. Жители Иудеи относились к галилейским евреям как к людям второго сорта и называли их «народом земли», а проще говоря, «быдлом». Во многом это отношение было обусловлено именно тем, что галилейские евреи жили среди язычников и умели с ними ладить. Кроме того, уровень жизни – если можно применить этот термин к античным временам – галилейских евреев был гораздо ниже, чем иудейских. Галилеяне платили в римскую казну непомерно высокие налоги, разорявшие их. Однако стремление к свободе у галилейских евреев всегда было очень сильным, недаром именно в Галилее начинались все смуты и беспорядки. Если в Иудее народ кое-как мирился с римским господством, отстаивая главным образом религиозную свободу, то в Галилее люди стремились к настоящей независимости и не хотели терпеть власть Рима. Поэтому там постоянно зрели бунты, которые время от времени распространялись на всю страну. Именно в Галилее зародилась секта зелотов, или ревнителей, которые готовы были либо погибнуть с оружием в руках, либо отстоять свою независимость и освободить страну от римского владычества. Основателем секты зелотов был некий Йуда Галилеянин, личность историческая и незаурядная. Этот Йуда поднял мощнейшее восстание в начале нашей эры в знак протеста против переписи в Иудее, объявленной римским наместником Квиринием. Ясно, что перепись была нужна римским властям исключительно для определения величины налогов. Возможно, именно эта перепись и отмечена в Евангелиях как событие, совпавшее с рождением Иисуса. Восстание было, конечно, сурово подавлено, но Йуду не поймали, секта зелотов не была разгромлена, а продолжала свое существование вплоть до самой Иудейской войны*, закончившейся разрушением Второго Храма. В разговоре выяснилось, что молодой бунтовщик Йуда приходится Йуде Галилеянину близким родственником, а именно племянником, и даже был назван в честь знаменитого Йуды. В ответ на вопрос Кравченко о судьбе Йуды Галилеянина племянник сказал, что тот утонул в болоте в устье реки Иордан, когда прятался от преследования римлян. Глава 9, в которой мы превращаемся в туристов Эту ночь и весь следующий день мы провели в пещере. Сразу после ужина стали готовиться ко сну. Наш хозяин Йуда притащил откуда-то два тюфяка – для нас с Кравченко. Одеял и подушек, разумеется, не было. Факелы давно погасили, горела только лампадка, прикрепленная к стене, но света она давала ровно столько, чтобы освещать саму себя. Разумеется, у нас собой были электрические фонарики, но пользоваться ими мы не могли. Мы завернулись в плащи и легли. Тюфяки были тонкие, поэтому лежать было неудобно и жестко. К тому же мне безумно хотелось помыться и почистить зубы – я физически ощущал на теле и на лице грязную и пыльную корку. Но не мог же я пожаловаться Кравченко, он-то ничего, терпит. – Володя, – шепотом позвал я, – а вдруг здесь есть крысы? Нам нельзя спать, еще укусят, а прививку от бешенства сделать негде. Я прислушался, но в ответ услышал лишь ровное дыхание Кравченко. Ну и нервы у него! Мне стало тоскливо, захотелось обратно в свою кровать, в свою квартиру, в свое время, наконец... Проснулся я от яркого света – наш хозяин зажег факел. «Наверное уже утро» – подумал я, потому что Йуда стал суетливо доставать еду. После завтрака, который опять состоял из хлеба и воды, началось томительное ожидание. Оба Йуды, казалось, спокойно переносили вынужденное безделье, мы же с Кравченко просто маялись. Ирония судьбы – попасть в Древнюю Иудею, перенестись во времени на две тысячи лет назад... – и ничего не увидеть, а вместо этого прятаться, отсиживаясь в темной пещере. Именно там, в темной, промозглой пещере, пока мы коротали утомительное и монотонное ожидание разговорами, я узнал удивительную историю семьи Кравченко. В 1945 году Богдан Кравченко, боец 1-го Украинского фронта, освобождал Освенцим. Потрясение, которое он тогда пережил от увиденного, в один день превратило его из мальчишки в мужчину. Там Богдан познакомился с Сарой Лурье. Она была его ровесницей, но выглядела лет на десять младше. Богдан поначалу и принял ее за маленькую испуганную девочку с тонкими ручками, прозрачной кожей и глазищами в поллица. После войны он разыскал Сару, женился на ней и увез в Киев. А через несколько лет у них родился сын Владимир. О матери Кравченко рассказывал с такой нежностью, что у меня даже сердце защемило. А отцом он гордился. Я понял, что отец стал для него примером, образцом настоящего мужчины, и именно на него Кравченко равнялся в своей жизни. Утром третьего дня наш хозяин отправился на разведку, чтобы выяснить, долго ли нам тут придется скрываться. Пока его не было, Кравченко стал расспрашивать галилеянина об Ииусе. Молодой Йуда уже не дичился нас и охотно отвечал на вопросы. Оказывается, он хорошо знал Иисуса. В ответ на вопрос Кравченко, что с ним стало, молодой человек вздохнул: – Я слышал, что его казнили римские власти, правда, не понимаю, за что. Он всегда был мирным человеком и не одобрял наших взглядов. – А мы слышали, люди рассказывали, что он воскрес, – я попросил Кравченко перевести вопрос. В ответ наш собеседник рассмеялся: – Дай-то Бог, чтобы все наши герои воскресали. Впрочем, я вспоминаю, что у него был брат, помоему, его звали Яков. Может быть, кто-то видел его и пустил слух о воскресении Ешуа. К полудню вернулся наш хозяин Йуда и сообщил, что мы можем выходить наружу. В ответ на недоверчивый протест Кравченко он объяснил, что рано утром объявили: приказ императора о внесении статуи в иерусалимский Храм отменен, а наместник Петроний в целях прекращения беспорядков делает жест доброй воли и прощает всех бунтовщиков. Солдаты были выведены из города, и ликующий народ высыпал на улицу. Мы тоже вышли из нашего убежища. После пещерной духоты воздух снаружи показался мне удивительно свежим и вкусным. Погода стояла замечательная, солнечная. Ко мне опять вернулась надежда на большое приключение. Кравченко договорился с нашим хозяином Йудой, что несколько дней мы поживем у него в доме, конечно, небезвозмездно. Йуду это только обрадовало. Он до сих пор не мог забыть, как мы за него заступились, к тому же без семьи дом все равно пустовал – много ли ему одному надо? Йуда показал нам комнату, в которой собирался нас разместить. Она была небольшая и очень скромно обставленная. Собственно, из мебели там было только два топчана с тюфяками и, главное, подушками, да большой сундук, который можно было использовать как стол. Первым делом я спросил у Йуды, где мы можем помыться. Хозяин проводил нас в специальную комнату для омовений, в которой находилась ванна в виде углубления в полу. У стены стояли два больших глиняных кувшина с водой. Правда, вода была холодной, но немного привести себя в порядок мы все же смогли. Я упросил Кравченко отправиться на экскурсию по городу. Оказывается, то место, которое мы третьего дня приняли за рынок, на самом деле было лишь небольшой торговой площадью. Рынок же находился в другом месте и представлял собой очень интересное зрелище. Когда мы углубились в торговые ряды этого настоящего восточного базара, у меня сразу возникли ассоциации со «Сказками тысячи и одной ночи». Казалось, здесь продавалось все, что только можно было вообразить. Овощи, фрукты, одежда, предметы быта и культа, вина, пряности, оливковое масло, ткани, мебель – словом, все товары, существовавшие в те времена, были здесь представлены. К общему рынку примыкал рынок скота. Тут были волы, коровы, овцы, бараны, ослы, не говоря уже о курах и гусях. Все это кричало, мычало, ревело, кудахтало и блеяло, создавая дикую какофонию и распространяя такую резкую вонь, что трудно было дышать, но постепенно мы привыкли и еще долго ходили по рыночным рядам и с восторгом наблюдали это великолепие. – Похоже, люди древнего мира жили и питались ничем не хуже нас, – сказал я. – У меня, однако, после нашего скудного застолья разыгрался зверский аппетит, его не может испортить даже этот жуткий запах скотного рынка. Как ты думаешь, не пора ли нам перекусить? – С удовольствием, – кивнул Кравченко, – только хочу заметить, что далеко не каждый мог позволить себе купить все эти яства, которые мы видим здесь. Многие питались очень скудно, примерно так, как кормил нас Йуда. – А я думал, это он от скупости так скромничает. – Сейчас посмотрим. Мы вошли в небольшую харчевню, расположенную в одном из рыночных рядов. Это было довольно просторное помещение. Столы вдоль стен были расставлены таким образом, что между стеной и столом оставалось небольшое пространство, которое было занято длинной скамьей. Мы сели за стол и вскоре перед нами поставили глиняное блюдо с хлебом. Заказ обеда в чужой стране всегда представляет собой определенную сложность, ведь вы не всегда хорошо знаете язык и плохо разбираетесь в местных блюдах. В нашей ситуации мы не разбирались в них вовсе, поэтому Кравченко на вопрос официанта, что мы будем есть, попросил принести полный обед. Думаю, это было нашей ошибкой, так как официант решил, что мы собираемся что-то праздновать, и начал ставить на стол разные блюда. Были тут и овощи, и орехи, и вареная чечевица, и какой-то суп, и пирог из рыбы, и, конечно, вино. Увидев это изобилие, я сразу понял, что все съесть не удастся. Кравченко набросился на еду, хватая руками куски с тарелок. – Михаил, чего ты ждешь, кушать подано. – А почему не принесли вилки и ложки? – удивился я. – И не принесут, – расстроил меня Кравченко, – в эти времена ими не пользовались. Бери хлеб и макай его в еду. Так ели в Древней Иудее, ничего не поделаешь. Между прочим, советую тебе пить больше вина, оно хорошо дезинфицирует пищу и воду. Очень скоро, насытившись и слегка опьянев от вина, я расслабился и почувствовал себя так, словно мы сидели в том самом кафе на набережной Тель-Авива. Однако Кравченко был особым человеком, он никогда не терял самообладания. – Итак, Михаил, давай обсудим наше положение. Мы установили, что Иисус был здесь девять лет назад накануне праздника Песах. Я считаю, что мы выяснили все, что нам нужно, а значит – выполнили программу первого путешествия. Поэтому в принципе нам здесь больше делать нечего, и мы вполне можем возвращаться домой. Единственная проблема – хроноскоп, который включится через четыре дня, поэтому волей-неволей мы должны это время провести здесь. Денег нам должно хватить на безбедное существование и на обратную дорогу, кроме того, необходимо оставить немного на второе путешествие, – рассуждал Кравченко. – Давай подумаем, что мы будем делать в оставшееся время. – Будем вести обычную жизнь туристов: гулять по городу, осматривать достопримечательности, ходить в рестораны, – предложил я. – А вот этого делать я бы тебе не советовал, – Кравченко покачал головой. – Мы должны как можно меньше бывать на людях. Будь моя воля, я бы все оставшееся время просидел в йудиной пещере. – Ну уж нет, – возразил я, – не согласен. Нам представился шанс увидеть то, что никто из наших современников не видел, а мы будем сидеть в пещере? – Михаил, мне кажется, ты забыл о цели нашего путешествия. Напоминаю: мы отправились не в туристическую поездку, а исполняем очень важную и опасную миссию. От успеха нашего дела зависит слишком многое, так что давай вести себя серьезнее, – охладил мой пыл Кравченко. Мы сидели в харчевне уже довольно долго, есть мы больше не могли, пора было расплачиваться и уходить. Кравченко спросил, сколько мы должны. Оказалось, что обед нам обошелся в три четверти динария. Кравченко дал динарий и получил сдачу мелкой медной монетой. – Обрати внимание, – Кравченко рассматривал монеты, – работник в среднем получает около 20 динариев в месяц, обед стоит около полудинария, но человеку нужно еще содержать семью, одеваться, обуваться, покупать какие-то вещи, платить за жилье и так далее. Кроме того, все платят налоги, причем немалые. Так что не думай, что простые люди живут хорошо, как раз наоборот, они бедствуют. Мы вышли из харчевни, и я снова стал уговаривать Кравченко прогуляться по городу. В конце концов он согласился. Вскоре мы убедились, что Эммаус – довольно большой город. Он находился примерно на половине пути между Лиддой и Иерусалимом. Город располагался, как я уже говорил, у подножия Иудейских гор, и поэтому одна его часть раскинулась на равнине, а другая уступами поднималась в горы. При первом же взгляде на эти две части города можно было понять, что в равнинной части жила беднота, а на горных склонах стояли дома, принадлежавшие богатой публике, причем чем выше по склону, тем богаче и роскошнее становились дома. Эммаус был знаменит прежде всего своими горячими источниками. Считается, что даже своим названием он был обязан им – «хаммата» по-арамейски значит «горячий». Город, по сути дела, был курортом, сюда стекалась публика со всей страны на лечение и отдых. Я уговорил Кравченко окунуться в горячие источники, которые представляли собой комплекс из двух крытых бассейнов, один – для мужчин, другой – для женщин. Люди побогаче могли принять ванну в отдельной комнате. Мы с Кравченко направились в общий зал. Народу в это время дня было немного, и мы с удовольствием посидели в теплой воде целебных источников. Уже минут через десять я почувствовал умиротворение, все мышцы тела расслабились, мне стало удивительно хорошо. Единственное неудобство доставлял сильный запах сероводорода, распространявшийся на сотню метров вокруг. Однако местные жители и курортники воспринимали его спокойно и, казалось, даже считали, что эти испарения полезны для здоровья. Вообще, меня приятно удивило отношение к личной гигиене в Древней Иудее. Я считал, что мы отправляемся в такое место, где люди совсем не мылись или мылись очень редко, и морально подготовил себя к этому временному неудобству. Однако оказалось, что я был совершенно неправ. В каждом доме, даже самом бедном, имелось специальное помещение для ритуальных омовений. Кроме того, в городе, помимо горячих источников, существовала общественная купальня, рядом с синагогой. Кравченко напомнил, что в иудаизме большое значение придается ритуальной чистоте, а фактически гигиене тела, и то, что в наше время воспринимается как само собой разумеющееся, было внедрено в мировую цивилизацию иудейскими религиозными традициями. Мы прогуляли целый день по городу, а в сумерках вернулись в дом Йуды. Хозяин встретил нас радостной улыбкой и предложил перекусить. Мы поблагодарили его, но отказались, сославшись на недавний обед, и пошли в свою комнату. Мы так устали, что повалились на топчаны и моментально уснули. Глава 10, в которой я убеждаюсь в преимуществах цивилизации На следующий день мы снова отправились гулять по городу. Мы еще раз зашли на рынок, заглянули в несколько лавок. Кравченко очень заинтересовался посудой, в основном глиняной – разнообразной формы горшки, тарелки, миски и кувшины. Перед одной из полок он остановился и с восторгом стал рассматривать необычной формы кубки. – Смотри, Миша, эти кубки выточены из камня, поэтому стоят они в несколько раз дороже глиняных. А знаешь, почему? – Кравченко осторожно взял в руки один из кубков. – Каменная посуда ни при каких обстоятельствах не может стать ритуально нечистой, поэтому и пользовались ей вечно. Глиняную же посуду осквернить можно, и тогда ее надо обязательно разбить и купить новую. – А почему так? – удивился я. – Ты не поверишь, – улыбнулся Кравченко, – но я не знаю. Мне тоже стало смешно: Кравченко – и вдруг чего-то не знает! Мы побродили по нижним кварталам, потом решили пойти в верхнюю часть Эммауса, где обнаружили великолепные дома, а кое-где и настоящие дворцы. Улицы были широкими и чистыми, вымощенными булыжником. Гулять в этой части города было очень приятно – много зелени, тишина и солидность. Именно здесь я обратил внимание на странный скрежет, который, казалось, раздавался отовсюду. В нижних районах Эммауса он тоже был слышен, но сливался с гулом города, а здесь, в тихих богатых кварталах, был особенно отчетлив. – Что это за звук? – поморщился я. – Мне кажется, он везде преследует меня. – Думаю, это шум домашних мельниц, – ответил Кравченко. – В эти времена люди не делали запасов муки, а ежедневно мололи столько зерна, сколько необходимо для выпечки хлеба на один день. Так что, скорее всего, мы слышим, как трудятся женщины, перетирая зерно в жерновах. Говорят, эта работа отнимала много часов. На одной из площадей мы зашли в необычную лавку, этакий местный бутик – для богатых женщин. Здесь продавалась косметика, всевозможные коробочки и кувшинчики для красок, палочки и лопаточки для нанесения этих красок на лицо и медные зеркала для модниц. Мне захотелось купить что-нибудь для Тали, просто как сувенир – ей наверняка будет приятно, что мы в далеком прошлом помним о ней. Кравченко со мной согласился, но предложил заняться покупками позже, а сейчас просто гулять и смотреть. И тут на прилавке я увидел странно знакомую вещицу – маленький костяной гребешок с двумя рядами частых зубцов по бокам. – Смотри, Володя, похожий продается у нас в аптеке около моего дома! – я так обрадовался, как будто увидел что-то родное. – Интересно, что такой мелкой расческой делают в Древней Иудее? Кравченко подозвал хозяина, и тот начал что-то восторженно нам объяснять. Я лишь ритмично кивал головой, как бы соглашаясь с ним, а вот Кравченко вдруг заулыбался, поблагодарил хозяина и за рукав потащил меня на улицу. Глаза его при этом хитро блестели, он явно наслаждался происходящим. – Миша, я все выяснил. Этой мелкой расческой, как ты ее называешь, в Древней Иудее делают то же, что и в современном Израиле – вычесывают вшей! Вот такой технический прогресс! Конечно, я был разочарован. Человек я мнительный, и после объяснений Кравченко мне сразу захотелось почесаться, но я сдержался. Осмотрев верхнюю часть города, мы снова пообедали в харчевне, затем понежились в ваннах горячих источников и вернулись домой. Перед сном мы вышли на крышу нашего дома. Погода стояла великолепная – тихий, теплый вечер, такой умиротворяющий и спокойный. Свежий воздух был полон весенних зарахов. Я взглянул на город, раскинувшийся перед нами, и сказал: – Бедные люди, они выглядят такими безмятежными и не знают, что вскоре их ждет страшная катастрофа. Ведь через каких-нибудь тридцать лет, возможно, еще при жизни этого поколения, вся страна будет лежать в развалинах, и везде будут царить горе, запустенье и смерть. – Я смотрю, тебя потянуло на философию, – Кравченко внимательно посмотрел на меня, затем перевел взгляд на город. – Могу тебе на это возразить, что никто не знает, что ждет наше поколение. Вполне возможно, что события, которые произойдут вскоре в этом мире, по сравнению с теми, которые случатся у нас, покажутся лишь мелкими неприятностями – это во-первых. Во-вторых, Иудейская война и разрушение Второго Храма, на которые ты намекаешь, были отнюдь не первой и не последней трагедией еврейского народа, поэтому не стоит все слишком драматизировать. И, втретьих, хочу заметить, что в результате разрушения Храма и последующего рассеянья евреев по миру иудаизм получил дополнительный стимул к развитию и совершенствованию, а европейская цивилизация – дополнительный толчок на пути прогресса. – Мне кажется, ты сам себе противоречишь. То ты утверждаешь, что все, что происходит в мире, даже трагические события, в конечном итоге полезны, так как приводят к прогрессу. То стремишься изменить историю, предотвратить трагическое событие, которое, возможно, тоже принесло пользу человечеству, – возразил я. – Возможно, ты прав... Я уже и сам не вполне уверен, что поступаю правильно, вмешиваясь в события мировой истории, – пробормотал Кравченко. – Меня оправдывает только то, что я пытаюсь спасти жизнь человека. – Не знаю, не знаю, а может быть, от этого будет только хуже, – не уступал я. – Например, ты не задумывался о том, что наше пребывание здесь – это уже вмешательство в историю и попытка ее изменить? Как знать, ведь, может быть, этого молодого бунтовщика-галилеянина должны были схватить и казнить, а мы помогли сохранить ему жизнь и тем самым изменили историю. Представляешь, вернемся мы домой, а там все по-другому, и все из-за того, что благодаря нам этот разбойник остался в живых?! – Что это с тобой сегодня, Миша? Ты такой рассудительный, а когда я умолял тебя ни во что не вмешиваться, ты меня чуть ли не в трусости обвинял!.. Следующие два дня мы провели в прогулках по городу и купаниях в горячих источниках. Мы чувствовали себя настоящими туристами, к тому же богатыми туристами, которые могут позволить себе дорогие покупки и развлечения. Мы уже хорошо ориентировались в городе, нас стали узнавать, приветливо здороваться – еще бы, выгодные клиенты. За все это время ничего необычного с нами не произошло, если не считать одного незначительного события, на которое мы тогда не обратили внимания, а зря. Во время прогулки по улицам нижнего города, неподалеку от городского рынка, мы столкнулись с невысокой женщиной средних лет, которая, едва завидев нас, вскрикнула и быстро скрылась в боковой улочке. Мы даже не сумели как следует разглядеть эту женщину и подумали, что она либо не в своем уме, либо просто обозналась, а вскоре забыли об этом инциденте. До захода солнца мы всегда возвращались домой. Наш хозяин Йуда уже ждал нас с ужином. После еды они с Кравченко вели долгие беседы. Йуда расспрашивал о жизни в Трапезунде, откуда мы якобы приехали, о наших приключениях во время поездки, о других паломниках, которых мы встречали. Уж не знаю, что ему рассказывал Кравченко, но слушал наш хозяин с неподдельным интересом, иногда прицокивая языком. Он вообще был человеком любознательным и очень доброжелательным. Я, естественно, не мог принимать участие в их беседах, поэтому сидел в углу и скучал или уходил в нашу комнату и ложился спать. Вечером шестого дня мы собрали вещи, чтобы утром спокойно погулять в последний раз по городу, купить подарок Тали, а днем отправиться в обратный путь, потом пошли спать. На рассвете нас разбудил громкий стук в дверь. На пороге стоял Йуда, вид у него был встревоженный. Он начал что-то быстро говорить Кравченко, который, слушая его, все больше мрачнел. После того как Йуда ушел, Кравченко повернулся ко мне: – Миша, быстро вставай, одевайся и, как говорится, с вещами на выход. – Что случилось? – забеспокоился я. – Йуда сказал, что скоро нас придут арестовывать. – Арестовывать? За что?! – я был потрясен. – Ты же знаешь, был бы человек, а дело найдется. – Нет, серьезно, объясни, что случилось. – Времени нет, собирайся, по дороге все расскажу. Уходим через пещеру, – поторопил меня Кравченко. Вскоре выяснилось, что у Йуды был родственник, который служил у местного римского наместника. Этот родственник рано утром прибежал к Йуде и предупредил, что какая-то женщина подала наместнику жалобу на нашего хозяина. В жалобе говорилось, что Йуда якобы укрывает у себя в доме опасных преступников, один из которых несколько лет назад убил одного из членов ее семьи. Ситуация складывалась крайне неприятная. Очевидно, мы по ошибке оказались втянутыми в скверную историю. Иди потом доказывай, что ты ни в чем не виноват. Кравченко был совершенно прав, нужно немедленно уходить. И вот мы снова в знакомой пещере. На этот раз Кравченко зажег электрический фонарик, который давал узкий, но яркий пучок света. – Что ты стоишь? – крикнул он мне. – Зажигай свой фонарь. Освещая путь фонариками, мы медленно пересекли пещеру. – По-моему, это и есть то озерцо, о котором говорил наш хозяин. Давай теперь поищем вход в тоннель. – Мы будем уходить через другой выход? – спросил я, растерянно озираясь. – Разумеется, – кивнул Кравченко. – Нам совсем ни к чему разбираться с местными властями и объяснять, что мы никого не убивали в Древней Иудее. К тому же, пришло время возвращаться домой, так что здесь нас больше ничто не держит. Жаль только, что Тали мы так ничего и не купили. Честно говоря, мне хотелось подольше задержаться в этом великолепном месте, но Кравченко стал меня торопить, опасаясь, как бы наши преследователи не обнаружили лаз в пещеру. Мы нашли вход в тоннель и осторожно вошли в него. Идти пришлось по щиколотку, а иногда и по колено в воде, слегка пригибаясь, так как потолок тоннеля низко нависал над нашими головами. К счастью, путь был не очень сложным. Кравченко даже успел прочесть мне небольшую лекцию о природе пещер. Оказывается, он в молодости интересовался спелеологией и не раз бывал в пещерах. Чем только ни увлекался этот человек! Из рассказа Кравченко я узнал, что такие пещеры образуются очень медленно. Дождевая вода, просачиваясь в почву, вступает в химическую реакцию с углекислым газом, который выделяется корнями растений. При этом образуется слабая угольная кислота, подобная той, что находится во всех газированных напитках. Угольная кислота медленно, но верно разрушает горные известняковые породы, просачиваясь в трещины и расширяя их. От этого образуются пустоты, которые постепенно превращаются в пещеры. Этот процесс длится тысячелетия. Протекая сквозь горную породу и разъедая ее, жидкость насыщается кальцием, который и оседает потом в виде сталактитов. Через полчаса тоннель начал расширяться. Впереди показалась полоска света. Мы погасили фонарики и пошли на свет. Вскоре мы выбрались из тоннеля, протиснувшись через небольшое отверстие, и оказались на пологом горном склоне. Впрочем, назвать его горным было бы натяжкой, скорее, это был склон высокого холма, поросший низкорослыми деревьями и кустарником. На протяжении всего пути через пещеру Кравченко следил за стрелкой компаса, поэтому сейчас он определил, что мы находимся чуть южнее Эммауса. Действительно, повернув на запад, мы вскоре вышли на дорогу, по которой несколько дней назад вошли в город. Теперь нам предстояло совершить обратный путь. Часа через полтора мы дошли до постоялого двора. Там мы отдохнули и перекусили, потом наняли ослов и отправились в Лидду, куда добрались только к вечеру. На этот раз дорога уже не показалась мне утомительной, запахи и пыль не раздражали – ведь мы возвращались домой. Я сразу почувствовал разницу между двумя городами: Эммаус был курортом, поэтому улицы там были чище, а дома богаче и солиднее. В Лидде же все выглядело гораздо скромнее и проще. Зато, как рассказал мне Кравченко, жители города славились своей ученостью и набожностью. Кравченко предложил отправиться к месту высадки утром. Последнюю ночь мы провели на постоялом дворе недалеко от главных ворот Лидды. Я очень плохо выспался из-за непрерывного собачьего лая. Как мне потом объяснил Кравченко, в древних городах всегда было много бродячих собак, которые поедали пищевые отходы, выполняя важную санитарную функцию. Естественно, что на пустых ночных улицах собаки устраивали нескончаемые свары, сопровождаемые лаем, воем и визгом, однако местные жители, очевидно, привыкли к этому неудобству. Кроме того, всю ночь нас терзали клопы. Я подумал, что в следующее путешествие нужно будет обязательно захватить средство против этих паразитов. Заснуть мне удалось только под утро, а встать пришлось рано, так как спать стало невозможно изза шума просыпающегося города. Мы неспешно собрались и отправились в путь. Погода испортилась. Стало пасмурно и прохладно, дул сильный ветер. Небо с самого утра затянуло тучами и казалось, что вот-вот пойдет дождь – редкое явление в это время года. Настроение у меня было тревожное, хотелось поскорее покинуть этот беспокойный мир и очутиться в своем, таком привычном и знакомом, времени. Я волновался, найдем ли мы дорогу к месту высадки, но это оказалось совсем несложно. На этот раз мы не стали перелезать через забор и вторгаться в чужие владения, тем более что в саду работали какие-то люди и очень подозрительно посмотрели на нас. Мы решили, что, наверное, в этих местах не ходят посторонние, и поэтому наше появление удивило их. – В следующий раз надо будет обойти это место, чтобы не привлекать внимания, – пробормотал Кравченко. – Я смотрю, ты собираешься наладить сюда чартерные рейсы, – засмеялся я. Кравченко ничего не ответил. Вообще я заметил, что в последнее время он стал задумчивым и не таким самоуверенным. Мне даже иногда казалось, что он начал сомневаться в целесообразности всего проекта. Мы быстро нашли наш колышек. Сюда явно никто не забредал. До отправки оставалось еще полчаса, и мы присели на землю. Я поплотнее закутался в мантию – ветер, сырой и холодный, пробирал до костей. Разговор не клеился, нервы были напряжены. И тут вдалеке показалась группа людей. Они направлялись в нашу сторону. До нас донесся собачий лай. – Сколько времени осталось до отправки? – озабоченно спросил Кравченко. Я посмотрел на часы. – Минут десять. – Не успеем. – Кравченко встал и повернулся лицом к приближающимся людям. – Что же делать? – тревожно спросил я, вставая рядом с ним. – А ничего, – спокойно ответил Кравченко, – будем стоять и ждать, пока Тали включит хроноскоп. Не бежать же нам отсюда! – Давай хоть оружие приготовим, – предложил я. – Зачем? Отстреливаться собираешься? – усмехнулся Кравченко. – Собак перестреляем. – Михаил, ты слишком кровожаден. Животных надо любить. Группа людей с собаками медленно приближалась. До отправки оставалось пять минут. – Попробуем потянуть время. Самое главное – не уходить с этого места, – твердо сказал Кравченко и попытался принять непринужденную позу. Люди остановились метрах в десяти от нас. Их было четверо, в руках у них были короткие палки, кроме того, двое из них держали собак на привязи. Явной агрессии незнакомцы не проявляли – очевидно, они не привыкли бить людей и травить их собаками. Да и собаки не рвались в бой, а лишь вяло погавкивали. Кравченко молчал, держа паузу. Наконец, один из подошедших что-то спросил. Кравченко ему ответил, широко улыбаясь. Выяснилось, что это были работники того поместья, в которое мы так неосторожно вторглись сразу после прибытия. Увидев развороченное зернохранилище, они решили, что кто-то ворует зерно, и стали караулить грабителей. Мы показались им подозрительными, и они решили узнать, что нам здесь надо. Кравченко стал рассказывать, что мы – паломники, направляемся в Иоппу (теперешнюю Яффу), да, видно, сбились с пути. Судя по выражению лиц наших преследователей, они нам не поверили. Однако, пока продолжалось это разбирательство, пять минут прошли. Тали, находившаяся за две тысячи лет отсюда, включила хроноскоп, и внезапно мы оказались в лаборатории. Могу себе представить удивление тех людей, когда мы исчезли у них на глазах. Вот так и возникают всякие фантастические слухи. Трудно передать радость, которую я испытал, снова очутившись в своем мире. Тали, бледная и осунувшаяся – видимо, неделя ожидания далась ей непросто, – сразу же набросилась на нас с расспросами, но единственное, чего мне тогда хотелось – вернуться домой, принять душ и завалиться спать. Мне казалось, что я могу проспать двое суток подряд. На улице я начал с удивлением озираться по сторонам. Я уже настолько свыкся с жизнью в Древней Иудее, что все вокруг казалось мне необычным: высокие многоэтажные дома, мчащиеся машины, запахи современного города, шумные толпы людей... Впрочем, люди как раз изменились мало, они просто были по-другому одеты, выглядели чуть опрятнее, разговаривали на знакомом языке, а в остальном остались такими же. Я немного постоял, понаблюдал за снующими туда-сюда современниками, глубоко вздохнул, ощутив легкий аромат бензиновой гари, и подумал: «а все-таки здорово, что я живу не в Древней Иудее, а в Израиле начала двадцать первого века». Дома я побродил по своей маленькой квартире, насладился видом привычных мне вещей, с удовольствием понаблюдал, как в аквариуме мирно плещутся Тоня и Клава, принял душ и завалился спать. Андрей Силенгинский Условный рефлекс Вячеслав Сергеевич Бубнов презирал тот способ, которым зарабатывал себе на жизнь. Чистым, горьким и немного высокомерным презрением подлинно интеллигентного человека. Больше того, во время своих поездок он презирал самого себя. Так как поездок было много, свободных от презрения моментов почти не оставалось. Нельзя сказать, что это так уж тревожило Вячеслава Сергеевича, ибо, вне всяких сомнений, истинным виновником сложившегося положения дел был не он, а те люди, которые не оставляют образованному человеку иного способа достойно заработать. «Те люди» были достаточно абстрактным понятием, настоящий интеллигент никогда не станет лезть в политику. Отчеством Вячеслав Сергеевич обзавелся совсем недавно. То есть, разумеется, он имел его с самого момента рожденья, но лишь несколько лет назад легковесное «Славик» как-то незаметно сменилось более солидным обращением. Вообще говоря, действия Вячеслава Сергеевича преследовались по закону, но именно «вообще говоря». Кто сможет проследить за всеми туристами, везущими на малоцивилизованные планеты пару килограммчиков стеклянных бус? Нет, конечно, иногда прослеживали, устраивали облавы и показательные суды, но человек неглупый и достаточно осторожный избегал всего этого без приложения сверхусилий. А Вячеслав Сергеевич обладал обоими этими качествами. Немного купленной информации тут, немного смазанных рук там – и вот уже скромный (не стоит выделяться!) звездолет туриста-дикаря В. С. Бубнова покинул пределы Солнечной системы. Правильно обработанные таможенники не обратили внимания на то, что часть багажа несколько необычна для любителей дикого отдыха на далеких планетах. Не обратят они внимания и на совсем уж любопытную поклажу по возвращению господина Бубнова на Землю. Чаще всего Вячеслав Сергеевич летал на те миры, где уже бывал неоднократно. Это было надежно и правильно для коммерции. Но, черт побери, он ведь все-таки был образованным, всесторонне развитым человеком и вдобавок незаурядной личностью, тянущейся ко всему новому, неизведанному. Поэтому один-два раза в год отправлялся на какое-нибудь новое место. Посмотреть на планету, которой никогда раньше не видел, сорвать травинку, которую не встретишь больше нигде, полюбоваться закатом… Закаты! Они везде разные! Хоть немного, хоть самую малость. Но эта малость стоит неизмеримо выше возможной потери прибыли. Тем более, точнее будет сказать, маловероятной потери – информацию Вячеслав Сергеевич подбирал весьма тщательно. Серьезных проколов не бывало. Никогда. Сейчас, лежа в постели на борту своего небольшого, неброского, но уютного корабля, он испытывал смешанные чувства. Легкая неприязнь к самому себе отошла на второй план, уступив место щемящей радости от предвкушения знакомства с новым миром. Разумеется, его изображения уже были просмотрены со всем возможным вниманием, но разве видеозапись, пусть и самого наилучшего качества, может сравниться с непосредственным восприятием? Пустой вопрос… Когда корабль вышел на орбиту, Вячеслав Сергеевич буквально впился в экран. Едва ли эта планета могла участвовать в конкурсе на присвоение ей статуса туристического рая. Пригодный для дыхания (хотя и несколько разряженный) воздух, теплый климат – вот, пожалуй, довольно полный список притягательных для туриста качеств. Унылый однообразный пейзаж, скудная растительность, почти полное отсутствие животного мира и практически никаких достопримечательностей – на другой чаше весов. Однако Вячеслав Сергеевич не был туристом, и весы у него были иные. Здесь имелись примитивные, полудикие туземцы, а у туземцев имелось достаточное количество алмазов. Алмазы – первоклассной чистоты, туземцы – неагрессивные и склонные к товарообмену. Подобные сведения стоили очень недешево, да и доступны были далеко не первому встречному. Оставалось на практике проверить их достоверность. Рисковать с выбором места посадки не стоило – это железное правило. Флегматичные и покладистые здесь, туземцы могли оказаться дикими и воинственными на другой точке планеты. У инопланетян, посети они в незапамятные времена Китайскую Империю и племена кочующих неподалеку монголов, сложилось бы совершенно разное представление о землянах. Вячеслав Сергеевич сел точно там, где предписывала карта, на той же самой круглой поляне посреди негустого бледно-зеленого леса. Почти сразу же из-за деревьев показались двое аборигенов. Они не выказывали страха или беспокойства при виде звездолета – может, видели их раньше, а может, были по природе своей не склонны к проявлению сильных эмоций. Туземцы выглядели как шар светло-серого меха, с выступающими из него короткими ногами, чуть более длинными руками и покатой головой, растущей, казалось, прямо из широких плеч. Если проводить сравнение с земными животными, то наиболее близким аналогом была бы горилла, хотя она, вероятно, протестовала бы против такого вывода. Аборигенов сопровождало сильно суетящееся существо размером с кошку, но внешне напоминавшее помесь ящерицы с лошадью. Бубнов предположил, что это какое-то местное домашнее животное, и был, между нами, совершенно прав. Он вышел из корабля, стараясь, по обыкновению, не делать резких движений. Как всегда в подобных ситуациях пульс заметно учащался, хотя Вячеслав Сергеевич был вооружен достаточно полным словарем местного языка и лучевым пистолетом. Поприветствовав туземцев и услышав адекватный ответ, Бубнов немного успокоился. После обмена несколькими фразами он убедился, что представители двух рас вполне понимают друг друга и успокоился практически полностью. В общем, все прошло на удивление гладко. Если бывает идеальная торговая сделка с инопланетянами, то это была именно она. Аборигены не только с удовольствием согласились провести взаимовыгодный товарообмен, но и смели у землянина все имеющиеся безделушки, расплатившись чудесными алмазами по тому курсу, который он назначал. В конце торга у нашего удачливого коммерсанта возникло даже смутное ощущение недовольства от того, что цены, пожалуй, можно было заломить еще круче. Впрочем, оно быстро прошло. От добра добра не ищут, а сделка и так вышла самой выгодной из всех без исключения его рейсов. Домой Бубнов возвращался весьма довольным собой. *** – Совсем молодой, да? – полуспросил Пао, провожая взглядом исчезающий из вида летательный аппарат. Разумеется, это очень приблизительный перевод. Точнее перевести едва ли возможно, ведь между собой друзья говорили на языке, неизмеримо более сложном, нежели тот, при помощи которого общались с пришельцем. – По всей видимости, – Леун признал очевидный факт. – От девяти до восемнадцати поколений после первого выхода в космос. – Я бы сказал, от двенадцати до пятнадцати, – возразил-согласился Пао. Леун изобразил жест, примерно соответствующий человеческому пожатию плечами. О чем тут спорить? Все дело в доверительной вероятности. Пао с улыбкой указал на кучу барахла, лежащего у их ног. – И это все заберешь? – Конечно! – Леун высказал удивление вопросом-с-очевидным-ответом. – Это будет отличным дополнением к диссертации. Чем больше материала, тем лучше. – Не знаю, – проявил Пао сдержанный скепсис, одновременно признавая, что собеседнику суть вопроса известна в большей степени. – Я совсем не уверен, что это барахло что-либо говорит о психологии представителей молодых цивилизаций. Леун жестом дал понять, что ответ на это слишком сложен для того, чтобы приводить его здесь и сейчас. Пао жестом же выразил согласие и снял свой полувопрос. – Ты считаешь, он еще прилетит сюда? – спросил он. – Почти наверняка, – Леун дал точную оценку вероятности этого события. – И это, насколько я могу судить, важная часть твоей диссертации? – Да, – подтвердил Леун. – Я бы даже сказал, основа ее. – Он прилетит… - задумчиво сказал Пао. – С этим я готов согласиться. Но называть это условным рефлексом… На мой взгляд, чересчур смело. – Буду рад видеть тебя своим оппонентом. – Вот посмотри. – Пао достал с напоясного мешка грушеобразный плод ярко синего цвета и поднял его над головой. Вертящийся поодаль зверек весело подпрыгнул на всех четырех лапах и стремглав понесся к хозяину. Пао аккуратно вложил угощение ему в пасть. – Чеонж видит в моей руке пищу и бежит ко мне. Вполне естественно. Но разве можно назвать это условным рефлексом? – Разумеется, нет! – Леун согласился с очевидным. – Но тот, что только что улетел, не видит в моей руке алмазы. Однако он будет прилетать снова и снова. – Довольно спорно, друг мой. Можно сказать, что он таки видит камни. У тебя они есть, и разум дает ему возможность понять это со всей очевидностью. – Разум! – Леун издал звук, аналогичный фырканью землянина. – Через несколько визитов сюда воспоминания о нашей планете будут совершенно однозначно ассоциироваться в его мозгу с алмазами. Смотри! Леун поднял пустую руку и подозвал чеонжа. Тот подбежал, однако далеко не так поспешно, как к Пао. Леун сорвал с ветки еще одну «грушу» и скормил животному, выразившему свое одобрение чем-то вроде восторженного хрюканья. Все знают, как прожорливы чеонжы… – Всего лишь несколько подобных опытов, и он будет нестись ко мне во весь опор при виде поднятой руки. А во рту у него будет выделяться слюна. Вот это уже рефлекс. – Ты полагаешь, ситуации равнозначны? – Пао обозначил постепенно исчезающее сомнение. – Я в этом уверен. – В голосе Леуна сомнений не было. Ирина Кадин В другом лагере Поначалу я ловила рыбу на гвоздик – папа боялся, что пятилетняя девочка поранится острым крючком. Рыбы объедали нацепленный на гвоздь хлеб и уплывали. Я долго не могла понять, в чём дело, пока какой-то мальчишка не закричал: «Ма, смотри какая дура, прицепила железяку и сидит уже три часа». Мой рёв убедил родителей, что пять лет – достаточно солидный возраст для рыбной ловли. И мы пошли покупать настоящую удочку. В магазине «Учтехприбор», где почему-то продавали снасти, какой-то пожилой дядечка, увидев мои сияющие глаза, отвёл меня в сторону и зашептал: «Обязательно добавляй в тесто подсолнечное масло, запомнила? Они это любят... Только – т-с-ссс. Никому. Обещаешь?» Я пообещала, и честно хранила секрет 45 лет. На базаре продавщица обмакнула горбушку в лужицу золотистой вязкой жидкости. Папа пожевал горбушку и сказал: «Пойдёт». Рыбам масло понравилось ещё больше, чем папе. Они толкались возле моей наживки, игнорируя деликатесных опарышей, навозных червей, мотылей, тараканов и помёт спортивных голубей, обработанный по специальной технологии. Хищные окуни и краснопёрки стаями переходили в вегетарианство ради крошечного комочка теста, пахнущего семечками. Впрочем, кто же не любит семечки. Я быстро научилась дальнему забросу лесы из-за спины, размашистой подсечке, распознаванию вида поклёвки и раздражённому сплёвыванию в воду вслед наглым шумным моторкам. Детское ведёрко не вмещало улов, часть рыбы мы насаживали на кукан – прут ивы, продёрнутый через рот и жабры. Рыбаки смотрели, как я тащу рыбные гроздья и дружно меня ненавидели. Зато полюбили дачные кошки: завидев, неслись, поднимая пыль, словно табун лошадей. Через месяц уже я гонялась за кошками. Кошки отрыгивали плотвой и отворачивались: в реке Казинка водилось множество рыбы, и вся она попадалась на мой крючок. Выбрасывать улов было жалко, поэтому нам приходилось доедать за кошками. Мама купила третью сковородку и целыми днями чистила мелкую рыбёшку. «Всё, – сказал папа, выуживая чешуйки из компота. – Будем делать таранку». Наша база отдыха была скомпонована из десятка покосившихся фанерных домиков, линялой вывески «Рассвет» и железного забора. Забор мы украсили гирляндами подлещиков и верховодок. Рядом с «Рассветом» стояла воинская часть, но и того, что солдаты не успевали утащить, хватало на целую зиму. Таранка хорошо шла под дождь и басни Крылова. Засушенные рыбные хвосты я использовала как закладки, и родители долго не могли понять, откуда на страницах новенького юбилейного издания жёлтые пятна. 18 лет моим друзьям и родственникам не нужно было ломать голову, что мне дарить на день рождения. Выйдя замуж, я переехала жить к мужу. В новую квартиру я зашла с чемоданом, тремя спиннингами и пятью удочками. Семья моего увлечения не одобряла: «Нормальные женщины вяжутвышивают, салфеточки у них, кружевные, повсюду разложены, а у нас в каждом углу, – муж, понизив голос, призносил с отвращением, – подсаки». Сын частично был согласен с мужем: ему нравилось играть с пойманными рыбами, которых он почему-то называл Люсями, но надоело каждый день есть рыбные тефтели. Перед отъездом в Израиль муж сказал: «С собой никаких удочек». – «Почемуууу», – заныла я, поспешно пряча в косметичку новенькие грузила. «Потому что 20 кг на человека. И вообще – глупости». Я напомнила, сколько, судя по письмам, стоит в Израиле свежая рыба – и отвоевала спиннинг с красной катушкой и любимую бамбуковую удочку. В самолёте удочка тыкалась в спины новых репатриантов, и все ругались. Я огрызалась, но до самого Израиля удочку из рук не выпускала. И только в Израиле я её выбросила. Вместе со спиннингом. Потому что перешла в противоположный лагерь. Плавать с рыбами в море оказалось гораздо приятнее, чем их ловить. Особенно в прозрачноголубой, заштрихованной тысячью мальками воде. Рыбы повзрослее, поблёскивая серебристыми бочками, подплывали совсем близко и поедали хлеб прямо с руки. Людей они не боялись, даже присутствие рыбаков не учило их осторожности. Рыбаки бат-ямского залива делились на две категории: пакетные (в дрейфующий на воде целлофановый пакет крошишь хлеб, десять минут ожидания – получаешь улов сразу в упаковке, как в супермакете) и удочковые. К пакетным рыбакам я относилась со сдержанной неприязнью, а облепивших каменную гряду удочково-спиннинговых ненавидела. Мало того, что вытаскивают из воды твоих партнёров по плаванию, так ещё и нет гарантии, что крючок не вопьётся в какую-нибудь часть тела. Летом на зарвавшихся рыбаков всё-таки можно было найти управу. Стоило кому-нибудь из спасателей углядеть поплавок в неположенном месте, он сразу орал в рупор: «Вот сейчас, вот сейчас позову пакаха (инспектора). Он тебе покажет фокус-покус... Опа – и штраф 600 шекелей». 600 шекелей остужали пыл даже у самых азартных, и они беспрекословно сматывали свои удочки, бросив прощальный взгляд на невыловленную рыбу. В середине октября спасатели ушли в отпуск до мая, и рыбаки расползлись по всей территории пляжа. Но ненадолго. Зимние холодные ветры прогнали и рыбаков, и купальщиков. Остались самые стойкие. То есть я. И рыбак в зелёной панамке, зелёном прорезиненном комбинезоне и высоких, наверное, ещё советских сапогах. Рыбак стоял часами в воде, всегда на одном и том же месте, возле скалы. Там, где плаваю я. Вода возле скалы на полградуса теплее, думаю, из-за подводных течений. Полградуса не так уж много, но всё-таки. И рыбам это место тоже нравилось. И зелёному рыбаку. Однажды какой-то прохожий, глядя, как я пытаюсь увернуться от «подсечки», встал на мою защиту: «Адони, асур ладуг по...» Рыбак помотал головой: «Ани ло иврит» (я не иврит). Воодушевлённая поддержкой прохожего, я подплыла к резиновым сапогам: «Товарищ, – к зелёной панамке “господин” как-то не катило, – вам же сказали – здесь пляж. Перейдите, пожалуйста, на другое место. Вы мне очень мешаете плавать». Рыбак посмотрел на меня, как я когда-то на шумные моторки, раздражённо сплюнул в воду, процедил: «Сейчас никто не купается». И произвёл дальний заброс лесы. Из-за спины. Насаженный на крючок червяк просвистел мимо моей щеки. Я сказала злорадно: «Вот сейчас позову “пакаха”, опа – и штраф 600 шекелей». Зелёный комбинезон даже раздулся от возмущения: «Ах ты, сука! Такая с виду приличная женщина и такая сука! Тебя, наверное, мужик по ночам не трахает, так ты ко мне цепляешься». Я обрадовалась: именно так говорил герой моего последнего рассказа. Хороший я, однако, писатель. Знаю жизнь. Увидев мою улыбку, рыбак углубил образ. Мне стало уже не так весело, но я не отступила. Всё-таки зимой полградуса – это много. В середине декабря резко похолодало, как это часто бывает в Израиле. Зимне-летняя погода сменилась зимне-зимней. Ветер раскачивал пальмы и ломал прохожим зонты. Моя кепка, сделав несколько пробных витков на тротуаре, воспарила, словно воздушный шарик, и исчезла между домами. Берег был пуст. Только сумасшедший станет купаться в такую погоду. Я собралась возвращаться, но увидела зелёный комбинезон, нерешительно топчущийся на берегу. Комбинезон тоже заметил меня – и шагнул в воду. Я зашла в воду на 30 секунд позже, но к месту тёплого течения добралась первой. Море бурлило, как стиральная машина, и мешало нам с рыбаком мешать друг другу. Буря затихла так же резко, как и началась. Уже через несколько дней пальмы успокоились, вовсю жарило солнце, но вода не прогревалась, и проплавать более получаса мне не удавалось. Даже в специально купленных резиновых носках. Мой противник тоже вооружился, сменив удочку на спиннинг. Блесна падала в воду, как снаряд, и обещанный мной рыбаку штраф возрос до 2000 шекелей. А я сама стала «главным работником муниципалитета, ответственным за штраф рыбаков». На 2000 шекелей «зелёный комбинезон» реагировал всё тем же матом, но не сдавался. К середине зимы море остыло ещё больше, и я плавала взад-вперёд по совсем маленькому участку, который казался немного теплее. Словно Серая Шейка из сказки. Если только можно проводить аналогию между молоденькой уточкой и женщиной на пятом десятке. Мой противник тоже, видимо, замерзал: дул на посиневшие руки и всё чаще доставал из нагрудного кармана флягу. Идея со спиртным мне понравилась, и я стала класть в пляжную сумку бутылку водки. Пять глотков обжигающей жидкости (два до купания, три после) позволяли проплавать целых сорок минут. В семнадцатиградусной воде! Ну, в семнадцати-с-половиной градусной. Рыбак не мог не отметить мои спортивные рекорды: «От противная баба... Все нормальные женщины зимой дома сидят, вяжут-вышивают. А эта в собачий холод специально таскается, чтобы мне мешать. Я ж эту рыбу ем! Из-за тебя, лахудры, третий месяц от голода маюсь...» Я посмотрела на толстые, красные щёки рыбоеда, на его пальцы-сосиски, сжавшие серебристое тельце, чтобы снять с крючка, и меня затошнило. Так завязавший курильщик не может переносить табачный дым. Ну только попадись мне на суше... Я те покажу «лахудру»! Но к моменту, когда я, посиневшая, выходила из воды, враг всегда куда-то исчезал. Наверное, всё же опасался штрафа. Однажды мне повезло. Припарковав свой новенький серебристый «фокус» рядом с исцарапанной, пожелтевшей от старости Субару, я увидела Его, влезающим в зелёный комбинезон. Застегнул пуговицы, достал спиннинг... Я выскочила из своей машины и походила перед рыбаком, раздражённо сплёвывая. На суше мой противник чувствовал себя менее уверенно, растерянно оглядывался и даже не матерился. Решив закрепить победу, я нырнула в «фокус». Зимой моя машина напоминает нечто среднее между одёжным шкафом и мусорной свалкой. Найти в ней что-либо совсем непросто, но я в конце отыскала какой-то старый бланк и ручку. Сделала ещё несколько кругов вокруг ошарашенного рыбака. Хмуря брови и покачивая головой, записала номер «субару». Сфотографировала мобильником спиннинг и вернулась в машину надевать купальник. В окошко кто-то робко постучал. Я, быстро прикрывшись полотенцем, опустила стекло. Ага! Испугался! Сейчас будет просить прощения... Рыбак, нагнувшись, и растерянно глядя на разбросанные по сиденьям полотенца, куртки и пустые бутылки из-под водки, испуганно произнёс: «Слиха, анахну макирим?» (Простите, мы знакомы?). И как я их перепутала? У этого зелёный комбинезон, а у того – зелёный с белыми пуговицами... Комбинезон с белыми пуговицами не пришёл. Я прошлась вдоль кромки воды. Поле боя пустовало, и даже рогатина для закидушки исчезла. Не может быть! Он же никогда не опаздывает... Неужели сдался? Я посмотрела на часы. Чёрт, это я, не рассчитав время, явилась на сорок минут раньше. Ну ничего, подождём. Мне, кажется, есть чем заняться. Если только найду... Моя огромная пляжная сумка по захламлённости – нечто среднее между одёжным шкафом и моим «фордом». Но всё-таки, покопавшись, я выудила из неё нужный пакет. Прикинула размеры. Размотала клубок. И начала вязать правый рукав будущего свитера. Иногда всё-таки хочется побыть нормальной женщиной. Хотя бы сорок минут. Веред Тухтерман Бог в мелочах Самое интересное стало происходить спустя неделю после получения профессором Баумом Нобелевской премии по физике. Казалось бы, тут противоречие. Можно было ожидать, что его истинные чувства проявятся до вручения премии: окрыленность от самого открытия, напряжение ожидания решения комитета, радость от признания заслуг. Но профессор Баум был уверен, что получит Нобелевскую премию, с того самого момента, как погрузился в свою теорию объединяющих пространственных искривлений – тема настолько грандиозная, что не удостоиться премии было невозможно. Он погрузился в эту тему почти со спокойной душой. Почти, потому что был человеком. И все из-за того, что он хотел эти объединяющие пространственные искривления измерить, увидеть их собственными глазами или в приборы, убедиться в правильности своей теории, ведь Нобелевскую премию ему присудили лишь за теорию, предсказавшую существование в основе материи квантовых искривлений пространства, резонирующих между собой по всей Вселенной. Но пока не существовало способа их измерить непосредственно. Корреспондент подкараулил его на входе в отель накануне награждения. Профессор Баум попытался популярно изложить суть своей теории на пальцах: – Люди постоянно задаются вопросом, как это возможно с точки зрения Вселенной? Предположим, существует объект, назовем его, скажем, «яблоко». Атом на одной стороне яблока не знает, что делает другой атом на противоположной стороне того же яблока. Так что же делает яблоко единым объектом, а не сборищем отдельных атомов? Еще некоторые античные философы утверждали, что яблоко не существует само по себе, а является продуктом человеческого сознания, отражающего окружающий мир. Но это утверждение не объясняет, каким образом люди в разных частях мира распознают, что это именно яблоко. Неужели материя «знает» сама, что она яблоко? Моя теория утверждает, что да. В основе материи имеются кванты искривления пространства, которые можно представить себе как единое искривление, имеющее множество проявлений. Они и осуществляют временную связь всего со всем, поставляя материи «информацию», что она является частью яблока. Или частью звезды. Или галактики. Они определяют структуру материи в любых масштабах и позволяют даже мельчайшим частям объекта «ощущать» свою принадлежность к нему. – Что вы подразумеваете под «определяют структуру материи»? – Как это возможно, что законы природы одинаковы везде? Что же на самом деле заставляет все частицы вести себя подобным образом в любом месте? Утверждение, что такова их природа, мало что объясняет. Моя же теория объясняет это. Законы природы едины везде, потому что с точки зрения квантов искривления пространства материя одинакова в любом месте. На самом деле место одно везде… С небольшим допущением можно сказать, что кванты искривления пространства поддерживают Вселенную в ее настоящем виде. И если существует бозон Хиггса, придающий материи массу, почему бы не предположить существование некоего бозона осознания? – Бозона Баума? – Называйте, как хотите, – скромно сказал профессор и вошел в лобби, оставив корреспондента в полном смятении на ступеньках. Прибор для измерения резонанса квантов искривления пространства, способный непосредственно измерять его, настраиваясь на резонанс Вселенной, был разработан после возвращения профессора из Стокгольма, где ему вручили награду. Соавтором профессора Баума была доктор Гельфин, научная сотрудница университетской лаборатории, с которой профессор публиковал статьи. Лишь после окончания разработки устройства ввода профессор Баум с изумлением обнаружил, каким великолепным исследователем была доктор Гельфин и непонятно, как он не замечал этого раньше. Думая об этом, он наконец-то оценил и ее вклад в развитие теории. Он решил на этот раз предоставить ей почетное право первой произвести измерения реальной материи. Регистратор начал медленно выводить на ленте загогулины. Профессор Баум устремил проницательный взгляд на ленты разматывающейся бумаги, бумажные ленты, обещающие светлое будущее и предвосхищающие эксперименты по многообразному использованию теории квантового искривления пространства. Но на самом деле его не интересовало применение его теории – он хотел лишь подтвердить ее экспериментом. – Странно. – Голос доктора Гельфин прервал ход его размышлений. – Что странно? – спросил он. Она нахмурилась. – Я не знаю почему, но у меня сильное чувство, что я уже где-то видела этот график. – Она посмотрела на медленно раскручивающуюся бумажную ленту, детально фиксирующую колебания Вселенной, изменяющие квантовые искривления пространства. Но было ясно, что мысли ее далеки отсюда. – Что? – произнес профессор Баум после короткого замешательства. – Ш-ш-ш… – Доктор Гельфин нетерпеливо приподняла руку. Через какое-то время она сердито замотала головой. – Я не могу сосредоточиться на этом. Словно мой мозг... – Вдруг на ее лице появилось удивление. Она смотрела на разматывающуюся бумагу. – Вот! Мой мозг! Вот что это мне напоминает! – Что вы имеете в виду? – спросил профессор Баум. – ЭЭГ. Результаты ЭЭГ. Когда я была студенткой, я участвовала в эксперименте на кафедре изучения мозга, и они сделали мне ЭЭГ. Результаты выглядели именно так. Нам следует позвать кого-нибудь из нейробиологов и показать им это. Тут все и закрутилось. Нейробиологи были шокированы сходством волн, зафиксированных прибором, и волн человеческого мозга. Следующий вопрос выглядел для них очевидным, но профессор Баум воспринял его как откровение: «Вы испытывали прибор на человеческом мозге?» Профессор Баум вместе с доктором Гельфин сидели в институтском кафе и пытались определиться с дальнейшими действиями. Он категорически отвергал испытание прибора на ком-нибудь другом из опасения, что прибор, не будучи достаточно проверен, может нанести непоправимый вред мозгу человека. Хотя теоретически этого не должно произойти, но было достаточно случаев, которые теоретически не должны были произойти, но произошли. Он вертел в руках рогалик с шоколадом. – Я полагаю, что мы наблюдали сознание, – убежденно сказала доктор Гельфин. – А я пока что полагаю, что вы преувеличиваете, – ответил профессор Баум. – Обратите внимание, это выглядит как человеческая мысль. Что мешает такой сложной структуре как Вселенная быть мыслящим организмом? Вы забыли, что сказали газетчику? Вы говорили о самосознании материи, о бозоне осо… – Я говорил метафорически, – резко оборвал ее он. – Я не имел в виду дословно. – И все-таки, – сказала она, – законы природы неизменны в любом месте. Материя, говоря вашим языком, «осознает» себя яблоком. Может, кавычки не нужны? Может, она и вправду осознает? – Знаете, куда это приведет нас? – сказал он. – К Богу. Я не верю в Бога. – Вы не обязаны верить в Бога в религиозном смысле. Это не должно мешать вам верить во Вселенную как организм, сознание которого поддерживает законы материального мира, организм, который создал нас. Но вы не обязаны называть его Богом. – Почему вы думаете, что он создал нас? Почему вам кажется, что кто-то управляет нами? – Мне кажется это логичным. Если резонансные волны охватывают всю Вселенную, всю материю, то они могут и управлять ими. – Скоро узнаем, – проворчал профессор Баум и доел рогалик. После эксперимента на своем мозге профессор Баум радовался, что сохранил новое открытие в тайне. – Как такое может быть, что вся материя – вся материя! – согласуется с общими волнами квантового искривления пространства, и только человеческий мозг согласован лишь с собственным ЭЭГ? – спросил он у доктора Гельфин с беспокойством. – Может, сознание человека не подчиняется глобальному сознанию Вселенной? – спросила доктор Гельфин. – Разумеется, или Бог дал нам свободу воли, чтобы принимать этические решения, – заключил он. – Возможно, в коим-то веке Понтифик прав, и в конце концов мы все, кроме хороших детей, отправимся в ад на переделку. Доктор Гельфин взглянула на него с обидой. – Я не рассуждаю теологически, я рассуждаю научно. Вы позволяете своим атеистическим воззрениям влиять на интерпретацию резу... – Я не верю в Бога. Не могу и не желаю. Вера в Бога искажает все, над чем я работаю. – Знаете что, давайте поставим опыт. – О чем вы говорите? Какой еще опыт? – Согласуем волны ЭЭГ с волнами искривления космического пространства с помощью биологической обратной связи. И раз вы настаиваете, не будем искать добровольцев. Подсоединим к прибору вас, и он настроит ваш мозг на частоту космических волн. – И что это нам даст? – Не догадываетесь? Это позволит вам самому ощутить эти волны. Если там есть сознание… мыслящий организм… может, вы сможете ощутить его сами? Может, вы сможете задать вопрос, действительно ли это сознание? Действительно ли оно создало нас? И… что оно хочет, чтобы мы сделали? – Слиться воедино со Вселенной, а? – усмехнулся профессор Баум. – Смейтесь, но может, это как раз то, что люди ищут во всех религиях, культах, медитациях? – сказала доктор Гельфин с жаром. – Хорошо. Давайте проверим, можно ли осуществить подобный опыт в принципе. Это может оказаться интересным. Электроды облепили голову профессора Баума. Данные его ЭЭГ, поступающие в компьютер, сравнялись с частотой волн квантового искривления пространства. Эти волны, преобразуясь в звук, повлияли на изменение частот мозга профессора Баума. Ему стало страшно. Транквилизатор, который он принял, начал действовать. Он почувствовал, как его тело размягчилось и словно растеклось и заполнило все свободное пространство на столе. Его мышцы расслабились, мозг начал блуждать, внутренний вулкан утих. Дремота постепенно охватила его. Его чувства тоже начали блуждать и расширяться, двигаясь и пульсируя вместе с окружающим воздухом, с комнатой, со зданием, с галактикой и со… Вселенной. Сознание профессора Баума распространилось по всей Вселенной, до самых ее пределов и даже дальше. Его сознание, извергающееся волнами, дотянулось до галактик и атомов. Мысль отражалась эхом в нем и во Вселенной, и он не понимал, кому она принадлежит: ему или нет. Он изо всех сил и на пределе чувств пытался остаться собой, но ощущал, как его естество отделяется от него и распространяется далеко за его пределы. Он слышал вопрос и полученный на него ответ, снова, снова и снова от края Вселенной и до ее внутренней сущности. Они передавались смыслами, а не словами, в колебаниях, в обмене энергией. Он уже не мог отличить, где вопрос, а где ответ, что его, а что чужое. Ответ вытолкнул его обратно, его сознание сколлапсировало к его настоящему размеру и еще, и еще… Профессор Баум открыл глаза. Он видел все очень четко и резко, но вместе с тем его охватило чувство нереальности и отстраненности, как бывает с человеком, внезапно пробудившимся от глубокого сна. Доктор Гельфин с тревогой смотрела на него. Ее глаза излучали заботу. Он сразу не смог сфокусироваться на ее словах, он еще пытался удержать те огромные пространства, на которые он распространялся за мгновение до этого. Постепенно он стал ощущать, как его мозг, растянутый как резина, возвращается к своим первоначальным размерам, с трудом приспосабливаясь к границам черепа. – Что случилось, профессор Баум? Вы в порядке? До него дошло, что она уже некоторое время повторяет свои вопросы. – Да-да, я в порядке, – произнес он с усилием, но ответив, почувствовал, что говорит неправду. Слово «я» больше не было правильным в его устах, но он не знал, чем его заменить. – Вы задали вопрос? Получили ответ? – спросила доктор Гельфин. – Да-да, получил ответ, – сказал профессор Баум устало. И про себя добавил: «Примерно». – И каков он? – не отступала доктор Гельфин, начиная сердиться. Он застонал, вопрошая себя отвечать ли, и все-таки ответил. Абстрактная мысль облеклась словами, лишь слетев с уст, и она и песня, и яд на человеческом языке: – Вы уже большие дети. Справитесь сами. Борис Лисицын Наваждение лунного света …Король в желтом уже распахнул свою изорванную мантию, и теперь оставалось только молиться Богу. Роберт Чамберс. «Желтый знак». Одной из курьезных особенностей характера моего друга доктора Реджинальда Гарднера была непреклонная страсть «обязательно отыграться». Мы часто играли вечерами после непритязательного ужина в моем скромном холостяцком жилище. Невезучий доктор имел обыкновение быстро накапливать поражения и затем настаивал на продолжении хотя бы до одной его победы. Это было мне на руку, так как Гарднер, обладая широким кругозором, незаурядным жизненным опытом и философским складом ума, являлся интересным собеседником. Чем дольше мы играли, тем продолжительнее были наши беседы. В тот вечер наше соперничество в нарды особенно затянулось. Близилась полночь, когда душевное расположение Гарднера восстановилось благодаря долгожданной победе. Для этих моментов у меня было наготове любимое доктором кьянти. Пока он наслаждался вкусом тосканского солнца, я подошел к окну и, глядя на лунный серп, предался пространным рассуждениям о значимости ночного светила. — Несомненно, влияние Луны на наш мир колоссально, — пробормотал доктор. — Взять, к примеру, приливно–отливные процессы… — и он уставился вглубь бокала. Позади банальной реплики таилась экстравагантная мысль. Это давно известное мне лукавство являлось прологом к финальной части нашего вечернего времяпровождения. Согласно моей роли я должен был придумать фразу, которая стала бы ключом к последующему рассказу доктора. Реджинальд Гарднер служил в психиатрической клинике Дэмбридж; что подвигло этого талантливого специалиста в молодости покинуть Лондон и загубить перспективу карьеры в этом забытом Богом и властями невразумительном заведении в нашей глухой провинции, я не знал. Однако служба в Дэмбридж–Асилум, не принося ни достойного дохода, ни статусного роста, давала Гарднеру обильную пищу для причудливых, порой поистине диких и жутких повествований. — Меня всегда интересовало воздействие Луны на пациентов вашего профиля, — наконец, сформулировал я исходное предложение. — Каждый случай индивидуален, — отозвался доктор. — В моей практике мне пришлось столкнуться с одним удивительным феноменом, связанным с лунным светом… — он замолчал, на некоторое время задумавшись. — Это произошло достаточно давно, поэтому я не уверен, что моя память хранит в точности все детали. Так начинались все истории Гарднера; и я не сомневаюсь, что это выражение предваряло бы рассказ даже о вчерашних событиях. — Друг мой, ваша изумительная память всегда являлась предметом моего восхищения и зависти, — с моей стороны был соблюден последний стандартный пункт нашей вступительной церемонии, и доктор приступил к рассказу. *** Однажды ночью в клинику привезли нового больного; мне поручили провести процедуру первичного освидетельствования. Это был джентльмен в годах, переселившийся в нашу местность несколько лет назад из одного крупного портового города. Причиной его появления в Дэмбридж- Асилум стало внезапное психическое расстройство. Служанка поначалу обратилась к деревенскому врачу и сообщила о том, что ее хозяин, проводивший, несмотря на поздний час, время в бодрствовании в своем кабинете, вдруг стал отчаянно «вопить» (позволю себе использовать это ее просторечное слово) и метаться по комнате. Его охватил панический ужас, что было, по меньшей мере, странно, учитывая отсутствие тому каких-либо явных причин. Да и что могло до такой степени напугать человека, большая часть жизни которого прошла в длительных и бурных путешествиях по далеким экзотическим странам? Обращал на себя внимание тот факт, что сквайр много и бессвязно кричал о Луне и каких-то немыслимых кошмарах, которые будто бы окружают его и угрожают «забрать». Но самая главная загадка заключалась в том, что состояние сквайра совершенно не изменилось после того, как деревенский врач дал ему успокаивающее лекарство. Однако больной вроде бы успокоился сразу после того, как с помощью служанки врач кое-как перевел его в спальню, где благодаря задернутым шторам было темно. Но это успокоение оказалось обманчивым. Когда служанка приоткрыла окно, чтобы проветрить помещение, внутрь проник луч лунного света — и приступ возобновился с прежней силой. Тогда врач позвонил в Дэмбридж-Асилум. Поначалу я не видел в этом случае ничего уникального. В медицинской литературе уже довольно давно и обстоятельно описаны явления, определяемые как синдром психического автоматизма — иначе именуемый синдромом воздействия. Благодаря классическим трудам Кандинского и Клерамбо наука получила подробное представление об этой разновидности галлюцинаторно–параноидного синдрома. Вам, конечно, хорошо известны истории о людях, которые слышат «голоса», созерцают «магические лучи» и тому подобное. Безумный страх перед лунным светом объяснялся пожилым джентльменом (если можно назвать объяснением его путаные беспорядочные речи) тем, что в этом освещении он будто бы созерцал некие чудовищные объекты и пейзажи. Как только свет Луны пропадал, исчезали и видéния. Должно быть, все началось с какой-нибудь парейдолии, — поначалу решил я. Разнообразие человеческих иллюзий, переходящих в психозы, безгранично; кто-то видит таинственные образы в облаках, кто-то — в скоплениях камней. К примеру, сквайр мог увидеть «лицо» на Луне (в ту ночь, кстати, было полнолуние, и стояла ясная погода). Удивляла сила воздействия этих видéний на разум и физическое здоровье моего пациента. Последнее особенно беспокоило меня: обследование показало, что его состояние — вероятно, и без того подточенное долгим пребыванием в странах с вредным климатом — теперь катастрофически ухудшилось. Вдобавок он стал жаловаться на то, что «видит все в желтом цвете». Это можно было бы объяснить ксантопсией (особой формой патологии зрения), но я склонялся к мысли, что причина в чем-то другом. Я отметил, что сквайр полностью утратил то, что называется жизненной энергией и мотивацией. Менее чем за неделю он угас, несмотря на все наши усилия. Перед смертью сквайр успел намекнуть на исходную причину своих видéний. Кое-как из его искаженного агонией шепота я понял, что мне нужно найти в усадьбе (в том самом кабинете, где случилось трагическое происшествие) какую-то книгу — найти и непременно уничтожить, причем ни в коем случае не заглядывая в нее. Тело покойного похоронили на кладбище Дэмбридж-Асилум. Служанка ничего не знала ни о родственниках, ни о друзьях своего хозяина; он вел полностью уединенную жизнь. Возможно, это и к лучшему, что никто не объявился — лицо умершего приобрело столь ужасающее выражение, что даже наш могильщик, которого, казалось, никогда ничего не трогало, заметно спешил и нервничал, заколачивая крышку гроба. Придумав какой-то более или менее убедительный и простой предлог, я договорился со служанкой о том, что вечером приду в усадьбу и пробуду там некоторое время в кабинете хозяина. По-прежнему было ясно, и почти полный круг Луны безоговорочно царил на сумеречном, быстро темнеющем небосводе. Усадьба была пуста; служанка покинула ее сразу после этого мрачного происшествия, но сообщила мне, где спрятан ключ. В доме я не нашел изобилия так называемых «трофеев» — индийских кинжалов, африканских масок, месопотамских статуэток, шкур и прочего добра, которым так любят заполнять свои жилища те, кто служил в войсках и администрациях в наших колониях, а также поклонники комфортных увеселительных вояжей. Зато кабинет с первого взгляда поразил меня огромным количеством манускриптов и печатных книг. Основная часть этой коллекции была написана на языках, среди которых не нашлось места ни одному, использующему западные алфавиты; многочисленные европейские словари и справочники, очевидно, были нужны для их изучения. Вопрос, какую именно книгу имел в виду умирающий сквайр, получил ответ почти сразу. Поскольку в кабинете все оставалось на своих местах, мое внимание сразу привлек лежавший на полу предмет. Это наверняка и была та самая книга. Точнее, как оказалось, не книга, а что-то вроде альбома, состоящего из двух-трех дюжин больших листов. Я отметил, что эти листы интуитивно производили впечатление весьма древних, хотя состояние бумаги (или, возможно, иного, похожего на бумагу материала) наводило на рациональную мысль об их недавнем происхождении. Это противоречие восприятия насторожило меня. Шрифт был иероглифическим; на каком языке он написан, я, конечно, не знал. Кроме того, в состав альбома входил один рисунок, но поначалу он показался мне настолько невзрачным, что я не стал тратить время на рассматривание. Хотя я сразу по приходу в кабинет зажег несколько свечей и затопил камин, позднее намерение уничтожить книгу совершенно выветрилось из моего сознания. Обследовав кабинет, я нашел журнал, в котором, как стало ясно из беглого прочтения, хозяин вел каталог своей библиотеки. В содержание записей по каждому предмету входило указание пути, которым он был получен. Старый путешественник, несомненно, обзавелся обширными связями во многих регионах мира. Отыскав в каталоге написанное теми же иероглифами название книги, я выяснил, что хозяин добыл ее посредством многоступенчатого заказа, в котором участвовали адресаты из Гонг-Конга, Шанхая и Нанкина. Стало быть, ее можно было условно считать китайской, хотя что-то мне подсказывало, что это слишком поверхностный вывод. Также в каталоге содержался написанный английскими словами перевод названия книги — «Сокровенный Знак Луны». Однако сквайр, не уточнивший ее язык, подчеркнул, что этот перевод весьма примитивный и вульгарный. Он также не уточнил, как в оригинале были выражены первые два слова (возможно, не знал); а для последнего предложил трактовку «плывущий по ночному небу сребряноглавый демон, отвернувший свой устрашающий лик в сторону черной бездны». Ощущая во всем этом какую-то зловещую подоплеку, я тем не менее не понимал, как странная книга могла воздействовать на хозяина усадьбы. Пробыв уже около часа в полутемном помещении, щедро залитом лунным сиянием, я не чувствовал никаких изменений. Мне пришло в голову, что, возможно, для достижения эффекта необходимо читать текст; эта мысль обескуражила и разочаровала меня. Испытав укол раздражения, я сел за стол, развернул альбом и стал бездумно листать его. Снова на глаза мне попала картинка; я решил рассмотреть ее более пристально. Мне вдруг подумалось, что свечи мешают; погасив их, я стал разглядывать рисунок, который теперь выглядел гораздо более выразительным, хотя нельзя было назвать его содержание живописным. На картине был нарисован довольно простой пейзаж — испещренная мелкими бороздами и лунками равнина, на заднем плане переходящая в пологие горы; на переднем плане стояло несколько скал. В верхней части рисунка (то есть на небе) виднелась россыпь ярких белесых точекзвезд; их конфигурация показалась мне смутно знакомой — созвездие Тельца и в голове его Альдебаран? В основном пейзаж был темным, еле освещаемым откуда-то сбоку. Я предположил, что это ночная сцена. На Луне? И что здесь особенного? Раздосадованный, я уже приготовился бросить альбом в камин и уйти, но внезапно на иллюстрации что-то изменилось… Поначалу это было подобно дуновению ветра, возвещающего приближение чего-то пока не видимого. Спустя несколько секунд я уже осознавал невероятное — изображение на рисунке словно оживало. Точнее, в нем появилось нечто «живое» — и я инстинктивно чувствовал, что оно не только одушевленное, но и разумное. Сверхразумное, если можно так выразиться. И при этом… абсолютно чужое. Спустя пару секунд я уже отчетливо видел отливающую тусклым желтым блеском фигуру, быстро приближающуюся к переднему плану картины. Фигура сочетала в себе фантомную аморфность вихря и какую-то гадкую пародийную антропоморфность. Причудливый желтый глянец исходил то ли от мириадов частиц-песчинок, из которых состояло (полностью или частично) существо, то ли каких-то отвратительных лохмотьев, покрывающих его тело. В центре его груди (если принять человекоподобие) угадывалось какое-то пятно; из-за пелены моего сознания выплыла мысль о том, что это и есть Сокровенный Знак Луны… Самым жутким было то, что вопреки крайне неприятному визуальному впечатлению приближающаяся фигура подспудно завораживала меня. Я сознавал, что должен немедленно отвести взор, преодолеть гипноз — и не мог. Существо скрылось за передними скалами… и меня озарило чувство, что когда оно снова вынырнет из-за него и окажется прямо передо мной, я увижу Знак. И что тогда? Знак раскроет передо мной самые Сокровенные Тайны… Запредельно нечестивое безумие… ужасы настолько порочные, что даже намек на них является великим кощунством… хаос, в чудовищной пропасти которого теряется всякий смысл мироздания… Должно быть, в этот момент Луну закрыло облако (я всегда любил нашу пасмурную погоду, а с той поры считаю ее для себя спасительной). Страх и злые чары померкли, и у меня хватило сил и решимости отправить книгу в уже угасавшее пламя камина. Прежде чем лишиться чувств, я успел заметить, что поглотивший листы огонь на мгновение стал лиловым и повеял холодом. *** — Как же вы пережили эти события? — спросил я после продолжительного обоюдного молчания. — Я долго болел — месяц или два, а может, и больше. Мне снились дикие сны; я даже боялся просто закрывать глаза. Признаюсь, мне пришлось прибегнуть к некоторым… гм… непенфам, — с легким смущением ответил Гарднер. — Весьма безобидным, уверяю вас. Однако их помощь, полагаю, была существенной. — Вы наверняка искали объяснение случившемуся? — У меня никогда не вызывали большого энтузиазма задачи, решения которых заведомо лишены достоверности. Я хорошо знал, что одно из главных свойств натуры Гарднера прямо противоположно этому утверждению, поэтому мне оставалось лишь скептически хмыкнуть. Не заметив этой реакции, доктор продолжил: — Тем не менее я действительно много размышлял и даже совершил несколько поездок в Лондон с целью посетить некоторых знакомых, весьма компетентных в области изучения эзотерических загадок. У каждого эксперта свое мнение (а часто несколько мнений), и перечислять их все было бы слишком долго и утомительно. Наименьшие возражения у меня вызвала гипотеза, согласно которой отраженный от Луны свет является чем-то вроде сигнала, используемого для связи между космическими телами. Что касается альбомного рисунка, то его можно интерпретировать как экран– приемник, на котором проецируется передаваемая сигналом информация. Впрочем, эта гипотеза представляет собой лишь наивную попытку использовать в качестве объяснения наши скупые и однобокие технические знания. Возможно, было бы более уместно применить знания мудрецов Античности, Средневековья и Возрождения, которые нынешней наукой задвинуты, как ненужный вздор, в темный угол под названием «мистика». — А кем — или чем — было то жуткое существо?.. — спросил я. — Один из опрошенных мной экспертов уклончиво обронил в ответ на этот вопрос слова: «Magnum Innominandum», то есть «Тот, чье имя не может быть названо». Носитель Сокровенного Знака… Вестник Magnum Tenebrosum — Великой Тьмы. — Интересно, знал ли об этом пожилой джентльмен, ставший жертвой книги? — вслух рассуждал я сам с собой. Потом меня осенила примечательная идея. — А что если в тексте книги содержались фразы — назовем их «заклинаниями», — посредством которых можно было защититься от этого… существа. Но сквайр либо не успел их прочитать, либо прочитал неправильно, что и привело к роковым последствиям. — Вполне возможно. Но ведомые сквайру тайны книг он унес в могилу. Мне же удалось узнать лишь одну из них. Эксперты сообщили мне о том, что в давно утерянном тексте китайской эпохи Шан упоминалась книга, с помощью которой сведущие могли связываться с Луной. Ключом к установлению этой связи служил рисунок, выполненный особой краской. Именно она придавала листу с изображением свойство экрана–приемника лунного сигнала. Согласно легенде, пигмент краски был создан магами предшествовавшей человечеству расы из принесенной в наш мир пневмы безымянного обитателя Луны… Доминика Край Свободна, как ветер 1. – Мисс Дэннивуд, сколько раз вас просить больше не приходить в наше бюро? У входа в кабинет в дверном проёме стояла стройная женщина лет тридцати, с фиолетовым шарфом, изящно обнимающим шею. Её осеннее пальто расширялось книзу, и поверх светлых замшевых перчаток были одеты многочисленные кольца. Безукоризненный макияж и изящная походка делали её похожей на светскую львицу. Но лицо молодой женщины было искажено мольбой. Она пыталась вырваться из цепких рук секретарши и проскользнуть в кабинет. – Прошу вас, выслушайте меня! Клянусь, это в последний раз. Но мне и правда нужно срочно поговорить с вами. – Хорошо, впустите её, она всё равно не уйдёт, пока не добьется своего, – устало вздохнул начальник бюро. – Заходите, мисс, но жалуйтесь поскорее, иначе я из-за вас останусь без обеда. Мисс Дэннивуд торопливо прошла в кабинет и села на стул. Расправив складки пальто, она приступила к рассказу. – Простите, что причиняю вам неудобства. Я хотела записаться на приём, но мне каждый раз отказывали, поэтому у меня не оставалось другого выбора. Я знаю, что пользоваться услугами вашего бюро каждому человеку позволено не больше трёх раз. Но я снова устала от своей жизни и умоляю вас: помогите мне!.. – Это исключено, – категорично заявил мистер Колд. – Наши услуги недороги только потому, что проект спонсируется государством. Оно вносит большую часть денег за своих граждан. Вы помните, что этот проект был создан лишь для того, чтобы уменьшить число самоубийств… Я не верю, что вам хочется покончить жизнь самоубийством теперь, когда вы начали новую и успешную жизнь, когда у вас нет недостатка в деньгах и вам доступны все возможные развлечения и удовольствия. Миссис Дэннивуд наклонилась совсем близко к начальнику бюро и прошептала, выразительно глядя ему в глаза: – Деньги для меня не проблема. Теперь я сама могу заплатить вашему бюро за свою новую жизнь, и для этого мне совсем не нужна помощь государства. – Да очнитесь же, дамочка! Зачем вам менять жизнь, скажите мне на милость? Должно быть, вы ещё оплатите её деньгами вашего мужа? При этих словах женщина вскочила со стула, и сверху вниз, широко расширенными глазами посмотрела на мистера Колда. – Я не пришла бы к вам, если бы была счастлива, – ответила она презрительно и едва сдерживая гнев. – Я заплачу любые деньги. Только позвольте мне снова пройти диагностику. Я уверена, она покажет, что в моей жизни опять необходимы перемены. Ежедневно её проходят сотни человек, так почему же вы мне не позволите, в последний раз?! Мистер Колд задумался. – Значит, вы даже мысли не допускаете, что сейчас, в вашей новой жизни, вы как раз на своём месте? – Ох, не говорите этого. Моя жизнь ужасна, – ответила мисс Дэннивуд, прикрыв рот перчаткой и закатив глаза. – Ну что ж. – Мистер Колд задумчиво почесал лоб. – Я отправлю вас на диагностику к нашему психологу. Пока я вам ничего не обещаю. Всё будет решать он. Но если мы снова возьмёмся за вашу жизнь, то имейте в виду, это обойдётся вам недёшево. – Спасибо вам огромное, – воскликнула мисс Дэннивуд. – Я могу пройти к нему прямо сейчас? – Да, пожалуйста, – безразлично ответил мистер Колд, выпроваживая её из кабинета. – А я пока пойду обедать. 2. Спустя десять минут она уже удобно расположилась в высоком чёрном кресле. Каждый раз, сев в него, она чувствовала себя чуть ли не самим Богом, который сам управляет своей судьбой. Она оказалась в этом месте уже в третий раз. Кабинет был уютным и немного сумрачным. Прямо над её креслом, словно как в кабинете у стоматолога, завис непонятный прибор, записывающий всё, что она говорит, и подсоединённый к её вискам и запястью. Напротив неё сидел седой психолог в белом халате, готовый слушать и записывать всё, что она скажет. – Начинайте, миссис Дэннивуд. Я вас слушаю. – Можно мне начать сразу с моей третьей жизни? – робко переспросила женщина. Доктор развёл руками. – Мы уже не ожидали увидеть вас снова в качестве нашей клиентки, поэтому удалили все данные о предыдущих сеансах. Придётся вам начать рассказывать с самого начала. – Ну хорошо, – ответила мисс Дэннивуд и закрыла глаза, пытаясь сосредоточиться. – Ещё до первого визита в ваше бюро я была замужней женщиной лет двадцати двух. Я училась в университете, но студенткой была весьма посредственной. Я тогда считала, что человек может стать успешным, только если найдёт работу, которой будет предан всю жизнь и которую будет любить. Но время, когда я окончила учёбу, пришлось на пору кризиса, и я никак не могла найти работу. Конечно, помаленьку я подрабатывала, и на жизнь хватало, но успешной я себя в таких условиях чувствовать не могла. Мой муж был человеком добродушным, с мягким характером. Всеми нашими делами руководила я, и принимала решения тоже я. Он во всём слушался меня и подчинялся мне. Конечно, мне это нравилось, но всё же я знала, что для счастья мне не хватает чего-то: во-первых, мне не хватало самодостаточности, потому что я была домохозяйкой и зависела от него, а во-вторых, я хотела быть полноценной личностью, нужной обществу. А ещё я мечтала путешествовать – а денег на это у нас не было. Каждый день я делала одно и то же, каждый день был похож на вчерашний. Я чувствовала себя запертой в такой жизни, и не могла найти в себе сил что-то изменить. Знаете, почему большинство людей апатичны и несчастны? Их жизнь монотонна. Им трудно выйти из замкнутого круга, потому как выходить некуда. В их жизни нет выбора, нет свободы. – Мисс Дэннивуд открыла глаза. Психолог ничего не ответил ей, а лишь делал какие-то пометки в блокноте. Она вздохнула. – Мы с ним жили на Украине. С самого детства меня окружали неуспешные люди, и у меня возникла некая боязнь быть не успешной, по временам даже переходящая в фобию. Я говорила ему, что хочу покончить с собой, но он не верил мне, потому что считал, что моя жизнь не так уж плоха. Он думал, что я сама себе от скуки придумываю проблемы. Но мне вовсе не было скучно. Мне на ум приходили жизни, которые я могла бы прожить, но никогда не проживу, потому что родилась в своей стране и самой собой. Каждый день я чудилась себе в новой роли. А собственной жизни у меня уже и не оставалось: все, что я могла испытывать – периоды веселья, которые сменялись более продолжительной депрессией. И вот однажды мы смотрели телевизор и я увидела вашу рекламу. Я до сих пор помню каждую подробность этой рекламы, каждое лицо и даже музыку. Помните? Та-тара-та-та-та! – мисс Дэннивуд засмеялась. «Многим людям не нравится их жизнь, но они боятся её изменить, – говорит диктор. – Или же у них это не получается, потому что не хватает силы воли, умений или знаний. Наша компания изменит вашу жизнь настолько, насколько это возможно. Вы больше не будете винить себя в том, что когда-то получили не то образование, или выбрали не того спутника жизни. Всё изменяемо! Ваша жизнь динамична и способна к переменам, так что вам ни к чему больше чувствовать себя жертвой обстоятельств. Просто приходите к нам, и мы поможем вам изменить не только образ жизни, но даже и сам ваш характер». – она помолчала. – Я тогда начала восхищаться вашим бюро, и сразу же нашла его сайт в интернете. В то время оно ещё только-только открылось. Я думала, что ваши услуги ужасно дорогие, но оказалось, что государство оплачивает большую часть расходов. Муж смотрел на меня напугано. Он, конечно, замечал мои приступы депрессии, но не думал, что мне на самом деле опостылела моя жизнь. Он полагал, что это всё женские причуды. Но в тот день он испугался, что я его брошу. Я узнала, где в Киеве находится ближайшее отделение вашего бюро, и там ваш коллега постановил, что услуги по перемене жизни будут для меня не лишними. С этого момента начался переход к моей новой жизни. 3. – Когда меня спросили о моих предпочтениях относительно новой жизни, я ответила, что хотела бы получить достойное образование и жить на свои собственные доходы. – Кем бы вы хотели работать? – спросили меня. Я задумалась. Наиболее достойной профессией казалась мне тогда профессия врача. Компания устроила всё как нельзя лучше: мне организовали переезд в Европу, и там я получила образование. Сама не понимаю, как вам это удалось, но компания решала все возникавшие у меня проблемы – будь это проблема со съёмом жилья или разногласия с преподавателем. Мне даже помогли выучить английский язык. Я жила словно под гипнозом; в меня вливали тонны знаний ежедневно. Так я выучилась по ускоренной программе и уже спустя три года начала работать врачом. Ах, совсем забыла сказать, что с моим бывшим мы расстались, как только я переехала. Я тогда решила, что на самом деле всегда мечтала жить одна, и так и заявила вашим коллегам. А может, сделала это, чтобы меня не угнетало воспоминание о том, что я была его домохозяйкой. И вот теперь я могла обеспечивать себя без посторонней помощи, и у меня была работа, которую я сама выбрала и могла полюбить. Работала я много, и зачастую приходилось оставаться сверхурочно. В то время я действительно чувствовала себя человеком, нужным обществу. Но спустя пару лет я осознала, что из-за такой работы времени на личную жизнь у меня совсем не остаётся. Я приходила домой, и там меня никто не ждал. Одиночество пустой квартиры давило на меня, как некая весомая субстанция, как свинец. Тогда же пришла мне мысль, что я пашу как вол, но отдачи от этого никакой. Разве я прославилась оттого, что работаю сверхурочно? Разве это кто-то оценил, кроме меня самой? И вот меня стали посещать честолюбивые планы. Моя природа всегда любила перемены, и я подумала: а что, если с помощью этого бюро у меня получится достичь грандиозного успеха? Жизнь всего одна, но как приятно превратить её в несколько жизней! И тогда я приняла решение: «А что мне мешает попробовать ещё раз?». 4. – Знаете, что я люблю больше всего на свете? Море. Порой я мечтаю жить в какой-нибудь небольшой хижине прямо на берегу моря, вдали от всех людей с их суетой, и каждый день смотреть на волны, накатывающие на берег. Это была бы прелестная жизнь. Но потом я смотрю правде в лицо: с моей натурой, которая вечно требует перемен, я не смогла бы прожить там, в глуши, больше двух недель. Меня бы опять начало манить куда-то. И хорошо, что я не попросила такой жизни у вашего бюро. Организовать это было бы несложно, но и толку от ваших усилий было бы мало. Психолог покорно выслушивал всё, что ему рассказывала мисс Дэннивуд, и ничего не отвечал. Это немного раздражало её, но она лишь вздохнула и продолжила свой рассказ: – В следующий раз я пришла в ваше бюро и сказала, что желаю стать спортсменкой. «Мы можем устроить так, чтобы вы ходили на каждодневные тренировки и участвовали в соревнованиях, но не можем вложить в вас спортивного таланта. Существует вероятность, что спортсменкой вы станете весьма посредственной. Вы просите такую жизнь из честолюбия, но в таком случае оно не будет удовлетворено. Да и понравится ли вам жизнь, полная тяжелых тренировок? Вы хотя бы занимались когда-нибудь спортом?» – Я ответила, что занималась. И что если вдруг с этой жизнью ничего не выйдет, у меня всегда есть шанс прийти в бюро в третий раз. -Но не забудьте, ваш третий раз будет уже последним, – ответили мне. Всё оказалось так, как меня и предупреждали. Мне выбрали вид спорта, нашли тренера, организовали тренировки и возили на соревнования. Но толку было мало. Проигрывая раз за разом, я не чувствовала ничего, кроме досады. В конце концов я поняла, что и от этой жизни не получаю достаточной отдачи, а значит, нет смысла и дальше так себя мучить. И тогда я пришла в бюро в третий раз. 5. – Я пришла и заявила, что теперь мечтаю только о спокойствии и удачном замужестве. – Каковы же ваши предпочтения относительно будущего мужа? – спросили меня, не без оснований опасаясь, что я опять в своих требованиях перегну палку. Так оно и случилось. – Я мечтаю выйти замуж за канадского миллионера и жить в его большом замке. Наверняка там будет полно слуг, и я тогда смогу отдохнуть от постоянных хлопот по дому. И это позволит мне быть уважаемой окружающими и занимать неплохое положение в обществе, ничего для этого не делая. Ошеломлённые моими требованиями, работники бюро ответили: – Для нас, конечно, не составит труда организовать вам встречу с несколькими миллионерами, но мы не можем обещать вам ничего определённого. Понимаете, они ведь живые люди, и мы не можем их заставить влюбиться в вас. Всё зависит от вашего личного обаяния. – Да бросьте, – ответила я, – я слышала столько положительных отзывов о вашем бюро, вы и с более трудновыполнимыми запросами справлялись. – Если честно, – сказали мне, – мы сначала подумали, что вы пожелаете вернуться к вашему первому мужу. – Но я лишь усмехнулась в ответ на такое нелепое предположение. Хотя работники бюро и сказали, что не могут заставить миллионера влюбиться в меня – мол, на всех желающих миллионеров не напасёшься – они сделали для этого всё возможное. Английский язык я уже знала с той поры, когда училась в Англии на врача – меня обучили ещё и французскому. Научили меня одеваться, как полагается женщине, которой нужно соблазнить миллионера, разным способам макияжа, танцу живота – словом, постарались на славу и сделали меня абсолютно очаровательной. Благодаря их стараниям я стала гораздо уверенней в себе и своей притягательности. На курорте в Италии мне организовали встречу с тремя мужчинами, и третий мне очень понравился. Я пустила в ход свои чары и в конце концов он положил на меня глаз. Не прошло и полгода, как я оказалась его женой и хозяйкой замка, о котором мечтала. Нужно признаться, что замок понравился мне безумно. Бывало, я выходила по вечерам на балкон, чтобы полюбоваться видом на озеро, а муж в это время занимался делами на своей фабрике. Несколько месяцев я была абсолютно счастлива. Но потом появилась деталь, которая стала всё больше и больше раздражать меня. Помните, я говорила, что мой первый муж во всём слушался меня? Так вот, второй муж был совсем другим человеком. Он сразу показал мне, кто из нас главный, так что я ему ни в чём не противоречила, даже пикнуть не смела. Сначала его стремление доминировать в отношениях показалось мне качеством привлекательным, но, видно, два капитана на одном корабле – это перебор. Мне трудно стало мириться с такой ролью в семье. Потом, начав скучать, я приступила к уговорам съездить куда-нибудь. До этого мы с ним несколько раз путешествовали, но в тот момент, когда мне приспичило уехать куда-нибудь подальше, он оказался слишком занят, чтобы покинуть Канаду. Однако после его отказа моё желание пуститься в странствие лишь возросло, и я предложила ему такой вариант: пусть он занимается делами, а я съезжу одна. Нужно только, чтобы он выделил мне на это денег. Но он сказал: сиди дома и не дал нужной суммы. Мол, тебе, любимая, нужно больше времени проводить в замке. Я совсем тебя избаловал. После этого случая я начала себя чувствовать в его чудесном замке настоящей пленницей. Я бродила целыми днями вдоль озера, и в моём уме зрел план моей идеальной жизни. Когда я разобралась, чего на самом деле хочу, то пришла к вам. 6. -Ну и чего же вы на самом деле хотите? – спросил психолог, и ей показалось, что ему взаправду интересно, что же она ответит на этот раз. – Вы хотите, чтобы мы поговорили с вашим мужем и уговорили его позволить вам командовать им? Или чтобы мы переделали его? – Ах, если бы всё было так просто. Беззаботная жизнь в замке тяготит меня, и я мечтаю о вечных путешествиях. Психолог удивлённо поднял брови. – Что вы имеете в виду? – Я мечтаю всю жизнь ездить с места на место, нигде долго не останавливаясь. Бывать каждую неделю в новом городе, всё время знакомиться с новыми людьми. Быть каждый день новым человеком. Не иметь постоянной крыши над головой. Чувствовать в себе свободу быть там, где хочешь в каждый момент своей жизни. Всё время ехать куда-то, бежать от самой себя, бежать вслед переменам. Знаете, я посчитала: если в каждой стране проводить всего месяц своей жизни, то целой жизни не хватит, чтобы посетить их все! – А как вы себе это представляете в финансовом плане? – Пусть ваше бюро организует мою работу так, чтобы я могла зарабатывать в пути и этим обеспечивать себе движение вперёд. Психолог встал с кресла и направился к рабочему столу. – Свободны, – коротко скомандовал он. Мисс Дэннивуд испугалась. У неё задрожали губы, как будто бы она собиралась заплакать. – Вы скажите хотя бы, – взмолилась она, – неужели это невозможно? Неужели моя мечта совсемсовсем неосуществима? Психолог снял очки, протёр их, и будто бы нехотя ответил, неторопливо растягивая при этом слова: – Думаете, если б каждому, кто хочет покончить жизнь самоубийством, предложили такую неограниченную свободу, он отказался бы? Если бы их избавили от необходимости зарабатывать на жизнь, или же терпеть боль, или быть запертыми в одном доме, или ходить одним и тем же маршрутом на работу – а стать свободными духами, которые могли бы наслаждаться красотой этого мира, парить с места на место и видеть людей – они отказались бы? Тогда ни один человек не умер бы добровольно, и все до последнего железно держались бы за жизнь – ведь только страдания и тоска отчуждают людей от жизни, которую они до последнего вздоха продолжают любить. Будь у нашего бюро возможность давать людям такую жизнь – они бы не пришли в сюда второй раз. А вы, выйдя сейчас на улицу из моего кабинета, не встретили бы там ни одного живого страдающего человека, а увидели бы лишь одни бесплотные духи, парящие над дорогой и наслаждающиеся безбедной, прекрасной жизнью. А раз этого до сих пор не произошло – мы не можем оказать вам таких услуг. Поэтому до свидания. И если вы в самом деле очень хотите изменить свою жизнь – конечно, в пределах реальности, – а не как вы только что заказывали – вы сможете сделать это сами, не пользуясь услугами нашего бюро. Олег Шалимов Томография «Идет-гудет зеленый шум, зеленый шум, весенний шум…» Некрасов. Часть первая Воскресенье Шумит ветер за окном, ломится внутрь, скрипят стекла. – Кто звонил? – Опять из банка. – И когда отдавать собираешься? – Неделю выпросил. Весну встретим. – Неделю. Думаешь, что-то изменится за неделю? – Да, в этом городе надеяться не на что. – Причем здесь город? Опять голова болит, за таблетки хватаешься? Ты их пачками кушаешь, вчера три пустых упаковки за кроватью нашла? – За месяц накопилось. Что нужно сделать, чтобы жизнь наша как по рельсам летела? – Да что ни делай, только я из-за тебя работу искать не могу. Смотри, цветок совсем сник, ты вчера поливал? – Перелили мы его, теперь только корни промывать. – Это мне опять кажется, что телефон звонит? – Точно, я подойду. Да, привет, куда собираешься? Крым, Крым, как из другой жизни. Мои? Конечно, не против, туда никогда не против. И ты со своими? Что? Подожди, продиктуй свой мобильный. Записал, завтра днем перезвоню, пока. – Это Андрюшка? – В Крым собирается. Поедем в мае? – Поедем, поедем, только деньги найдем. – Через неделю билеты покупать. Никогда еще Семен так не волновался, разве что когда разводились его родители, уставшие от совместной тоски среди столичной суеты. Во всяком случае, сейчас он даже самому себе не мог признаться, отчего дрожит в груди и мерзко колет от сердца до горла. Машинально посмотрев в зеркало на утомленное желтоватое лицо с синими кругами вокруг красных опухших век, он вошел в комнату и закрыл за собой дверь. Включил компьютер, открыл Яндекс, занес: «томография анонимно». Волосы сами в глаза лезут, стричься который месяц неохота. Чтобы читать и сравнивать, нужно время, Семен на клочке от сентябрьской платежки, последней оплаченной, бегло записывал тупым карандашом телефоны и адреса. Параллельно включил Болеро Равеля. С глубокого пианиссимо возникала упругая музыка, а сверху с тоской смотрел автопортрет Ван Гога. – Чего делаешь? Выключи, пожалуйста, эту жестокую музыку, меня тошнит от нее. Суп готов, пойдем весну встречать. – Пойдем. Сегодня, кстати, день рождения Шопена. – Которого я так давно не слышала. – Ля минорный вальс, люблю воскресенье. Как над обрывом стоишь – понедельником, – что будет, где искать. – Расслабься. Тебе бы голову исследовать. А то еще желудок лечить придется. – И что делать, если голова пройдет, а денег не будет? Шучу. Понедельник Утром ветер с дождем, колючий озноб по спине. Быстро проводив дочь в школу, возвращаться домой не стал. Ноги промокли, ботинки пора выкидывать, а новые жалко, пускай еще в коробке лежат. Зашел в первую незакрытую и не занятую бомжами арку, стал названивать по списку. Так не хотелось, чтобы кто-то отвечал, – пусть во сне, по ошибке, но только не по-настоящему, несерьезно. В кармане пять тысяч, подаренные женой на 23 февраля. У одних дорого, у других анонимность ненастоящая. Вдруг сел телефон. Точно, ночью пикал. И Семен весело зашагал домой, шарахаясь от при клеенных на каждый дом табличек. «Город-убийца, зимой «сосули», летом «штукатурный слой фасада», причем везде «самопроизвольное падение», словно что-то может происходить само по себе». И как будто случайно у входа к себе Семен развернулся, достал исписанную адресами платежку, прочитал один из последних адресов и направился в обратном направлении, но прежде поскользнулся и едва удержался, схватившись за торчащий из стены обломок водосточной трубы. – Упасть все успеем. – Мужик сам потерял равновесие, но не оставил другого без реплики. «Внимательные тут все, о себе думай» – скользнул в мыслях Семен. … – Ложимся, не шевелимся, посмотрим, что у вас внутри. Ну что ты будешь делать? Опять западает. Семь недель из Москвы не могли довезти, и что? Обратно отправлять? Какая там наука, одни деньги? « Провинция на то и провинция, чтобы столицу ругать. На дороги бы свои посмотрели» – навязчиво крутилось в отключающейся голове Семена… … – Мне еще подождать? – Сказали же, ждите. … – Извините, а скоро. – А вы… А, вам уже сделали? Сейчас результаты принесу. … – Девушка, Вы про меня не забыли? Не ответила, прошла мимо. … – Девушка, девушка, стойте, я Вам, я к Вам обращаюсь. Догнал. – Сейчас вернусь. Казалось, реальность начала замирать в неучтенных промежутках, как во сне, который не знает своего продолжения, и вдруг непосильным глотком стала натягиваться на что-то несуществующее, но огромное. … – Молодой человек! С вами кто-то есть? – Нет, я один. – Хорошо, проходите. Вас что-то беспокоит? – Постоянные головные боли, третий месяц без перерыва. – Что еше? – Мне тени мерещатся. Идешь по пустой улице, и сидят вдоль стен, скрючившись, словно попрошайки в черном. Я знаю и ясно вижу, что их нет, но они как-то есть. Навязчивые фантазии. – Принимаете лекарства? – мрачно перебил доктор. – Баралгин, третья пачка кончилась. Вы мне прямо скажите, нашли что-нибудь? – Что-нибудь. – Где? – В лобовой части. – Так и знал, где мыслительный центр. И долго мне осталось? – Все зависит…, обычно полгода. Вы спросили, я ответил. Советую срочно на операцию, я направление приложил. Держите бумаги. Хотя кто знает, что делать? – Решеточку пририсовали. Спасибо. – Бог в помощь. Только знаете что? Но Семен его не слушал, страх гнал его. Не узнавая коридора, он искал его конец, шел, шел, и все казалось, что за ним кто-то торопится, именно за ним, и знакомый мотив из какой-то оперы грозным ритмом вторил его неровным шагам. Эх, Семен, Семен, зачем тебе возвращаться домой, зачем пугать любимых жену и доченьку, зачем вообще ты еще живешь на этом свете, зачем прожил свои тридцать лет? Деньги, деньги, гонка ни за чем, никуда и ниоткуда. Серое безмолвие случая. Желтое ночное небо над мокрым городом, отовсюду ветер, озноб еще в подъезде, то есть в парадном. «Домой, домой! Нет, в Интернет на почте зайду» Сто рублей час, все компы заняты. Где же еще? Точно, в Колобке бесплатный, два монитора. И побрел Семен сеткой похожих в своей архитектурной непохожести улиц, не думая, что заблудится, и не заблудился. Рядом большеголовый тип, явно обкурившийся, искал ботинки. Наверняка для виду. Ботинки, ботинки, сколько их может поместиться на экране, бред какой-то, нечего по сторонам смотреть! Машинально заносил Семен в Яндексе запросы, один другого глупее. «Как спастись от отчаяния» – кроме душеспасительной литературы все бросить и уехать далеко-далеко, в паломничество. «Где достойней принять смерть» – на войне, конечно, «Пособия по потере кормильца» – тут уж злость начала подступать ко всему, к чему способна, «Как не возвращать долги» – запастись терпением, выработать стратегию и тактику, действовать сразу по всем фронтам, быстро и решительно, – пропасть с концами, в общем. А куда дочку с женой девать? «Банковские кредиты» – даже искать незачем, все равно ничего не дадут. Как дорогие недоступные витрины мелькают известные бренды: «Райфайзен…», «Альфа…», …, «Сити…» Один активно рекламирует семейное страхование. Жизнь девять миллионов. Вносишь ежеквартально от сорока тысяч и ты в программе, защищен, и твои родные никогда… Но что является страховым случаем? Только несчастный. Обидно. Хотя нет, есть пункт: неожиданная смертельная болезнь. Четыре миллиона. Получить может любой из перечисленных застрахованным лицом. Это интересно. Куда? Адрес, телефон. Вырвавшейся из ниоткуда метелью встретила улица, на фонари страшно смотреть, как бы не увидеть сквозь завихрения призрака снежной королевы. Теперь домой, домой, еще раз домой. Холодно и зябко. Проходя мимо вокзала, увидел бомжей. Бедные, они к ночи приволакиваются к залам ожидания, но их выталкивают обратно. Однажды Семен был свидетелем, как один упорный при третьем штурме раздобыл старый чемодан, и, прикрываясь им, уже почти пролез было внутрь, но выдал гад-криво поднятый чемодан. Враг был пойман и выдворен, как волк из «Ну погоди». «Хоть без крова, но без долгов, не стать бы таким же» – стучало в голове у Семена. И он ускорил шаги от вокзала. Но ускорить не удалось. Его чуть не сбил идущий поперек гид с бородой и в голубом шарфе, влекущий за собой группу из Поднебесной с фотоаппаратами. Тот зло посмотрел на Семена и продолжил поставленным голосом: «Мы с Вами в единственном, можно сказать, в России европейском городе, который по праву считается…» Остальное Семен не расслышал, поскольку группа восточных друзей оказалась более многочисленной, чем представлялось вначале. Обступив переводчицу, они оттеснили Семена от гордого гида с перекинутым за спину шарфом. Не думая о последствиях, Семен решил пройти переулком, который в этом городе могли бы назвать и проспектом. И тут он был остановлен милой девушкой, указывающей на подвал со стриптизом и комнатками. – Я тороплюсь! – Здесь ненадолго, Вам немного времени понадобится. Как беглый от преследования каторжник, желая спрятаться от самого себя, он ворвался в первую парикмахерскую, заказал модельную стрижку, утонул в мягком кресле и закрыл глаза, пытаясь не вспоминать о заявленных ценах… А ночью его мучил кошмар: Большая белая «Я» на желтом фоне кривилась и росла, росла, хотя расти ей было уже некуда, и она была уже красная, а фон белый. Хотелось, чтобы она стала, наконец, сиреневой, но вдруг лицо у буквы расползлось в глумливой усмешке и Семен признал обкуренного типа, что искал в Колобке ботинки. Лицо обсасывало пеструю Чупа-Чупсу и нагло смотрело на Семена. Вторник Ярким морозным утром, какое бывает только в марте, в девять часов вышел из дому прилично одетый человек в новых ботинках, влился в толпу, и толпа приняла его за своего, только неровность походки секундами выдавали больного, который, однако, заблаговременно съел таблетку. У входа в метро толпа колебалась, как наполненный водой воздушный шарик, Семен пропускал всех, и проникновение в вестибюль заняло ровно десять минут. Эскалатор полз ровно две с половиной минуты, и ровно три ждали поезда. Какое счастье вдавиться в вагон последним, на секунду отстать от общего ритма, упереться носом в холод стекла и смотреть на бесконечные трубы, каналы, переходы, не обращая внимания на «Do not lean on door»! Кажется, что поезд никогда не достигнет новой станции, если ты ускоришь внимание на этих проводах, перемычках, канатах. Повелевая демонами подземелья, ты как во сне сможешь управлять зыбкой реальностью. Ниже, глубже, скорей, скорей, вперед, вверх, назад, и вдруг вспышка новой станции, как смех древнего Бога. Какими же надоедливыми могут быть клерки в банке! Все им интересно: работа настоящая, работа прошлая, работа жены, работа детей, внуков, еще не родившихся, и везде зарплата, зарплата, зарплата. «Да нет у меня ни работы, ни зарплаты, и не было, и у жены нет, и внукам не пожелаю!» «Так на что же вы живете?» Спокойно и удивленно, с сознанием полноты права на подобный вопрос. «Я заложил часть души.» Зачем сказал, откуда выдумал? Сорвалось пустое. «До свидания, Семен Родионович»… До свидания, клерки. «Что я такое сказал? Ведь ничего не закладывал, никто и не спрашивал, и не спросит… Проехал автобус с надписью «Помни о…». О чем помнить? Вспомнить. Я вчера что-то забыл. Точно, позвонить Андрюхе. Зачем звонить, он все равно в Москве? А что, вдруг поймет меня?» – Привет, Андрей, отвлекаю? Работаешь? Я позже наберу, когда у тебя обед? Да нет, не срочно, просто деньги нужны. Какие? Девятьсот тысяч на пять лет, только первые четыре по пять тысяч в месяц отдавать смогу, потому что еще одним кредитом перегружен, а потом сразу по шестьдесят, ни один банк не даст, сам понимаешь. Что? Нет денег? И зачем спрашивал, если нет, я бы не грузил лишним. Что? В Крым? Да, поеду, то есть поедем, то есть не знаю еще. У меня неделя есть? Только до субботы? Хорошо. Автобус развернулся, и Семен увидел продолжение: «Помни о будущем. Не забудь заплатить налоги!» «Кто зарабатывает, тот платит, опять не про меня» – кольнуло в груди. Мощный порыв ветра бросил на грязный слизкий асфальт пачку газет, набухшая в ватнике бабушка бросилась поднимать, Семен ей помог. Одна упала в лужу, и Семен взял себе. По размокшему краю шли объявления: продам, куплю. «Куплю, куплю, что можно у меня купить? Действительно, ничего, кроме души, банально и скучно!» Он достал из кармана список и зашел в Дикси. «Куриные грудки, салатик, оливки, Адыгейский сыр, Докторской грамм триста, Нарзанчику, Чиабаты, что-нибудь на ужин, молочка полтора процента, три сырка Александров…» – Сколько пакетов? – Один, нет, два, по карточке можно? – Можно. Паспорт. Семен клал продукты, доставал и убирал паспорт, кредитку, говорил «спасибо», «до свидания» и ясно понимал, что погружаясь в пучину житейской суеты, он ненадолго оттягивает роковой предел, когда не получится уйти в сторону, отвернуться и прикрыться насущным. Мир сожмется до точки и все дела, вмиг сойдясь, растворятся в бессмыслице перед чем-то более важным и вечным. Время последний раз подмигнет незначащим движением сухой ветки, отзовется страшной болью раскаяния за прожитое, и замрет в ожидании страшного суда. Успеет ли тогда он почувствовать эту боль, страшнее которой невозможно представить, но которая дороже всего на свете как самое последнее, что есть на земле, или встретит смерть в забытьи? Кто бы еще спросил Семена, где он достает деньги? Никто не спрашивал, даже Рита и Машенька, устали они от вопросов, молчания, намеков, упреков. Не спрашивал и он сам себя, когда раз в две недели втайне от всех отправлялся по одному и тому же маршруту в сторону монастыря. В предрассветных осенне-зимних сумерках или ярким весенним утром выходил он по изломанной бесконечными ремонтами Исполкомовской на проспект, поворачивал налево и шел до упора вдоль еще закрытых банков, магазинов, ателье и вечно гудящей и ползущей пробки. Обходил площадь и оказывался перед Лаврой. Здесь он на секунду останавливался, смотрел на деревья за кладбищенской стеной, верхи крестов, зачем-то крестился и продолжал движение. Обливаемый грязью с дороги переходил канал, еще три минуты ходу вдоль промозгло-ветреной набережной, и наконец оказывался в тепле Сбербанка. – Все снимаете? – Сколько пришло? – Тринадцать семьсот. – Все снимаю. Так «зарабатывал» Семен отцовские деньги, которые тот посылал ему раньше как алименты, теперь как подачки тридцатилетнему главе семейства от одинокого и честного труженика московского метро. Стыд Семен испытывал, но деньги брал и не работал. Когда-то он рассказывал Рите, что Стройинвестдетальпром или Металкомстройпрокатсервис заказывают технические переводы. Она наверняка сомневалась, но не спрашивала. На еду двадцати семи тысяч хватало, но никак на кредит… «Черт с ним с банком, но должно же как-то получиться со страховкой, ведь про болезнь никто больше не знает, а она вот, подкашивает сего прямо ходячего человека, которого в определенный близкий момент не станет. Разве не стоит такой контраст больших денег? Был человек и нет его. Конечно, со всеми так, но здесь же определенно дело нескольких месяцев.» И вечером, выпив очередную таблетку и проглотив ложку Альмагеля, Семен продолжал неистово искать в Интернете, как родным получить страховую выплату по неожиданной смерти застрахованного лица. Не справлялся Яндекс, Семен искал в Гугле, не справлялся Гугл, искал в Рамблере, но много найдешь в Рамблере? Когда на отчаяние нет права, ощущаешь странное счастье свободы. Ниоткуда приходят силы и дарят тупую уверенность. Не то чтобы он хотел вернуться в прошлое, которое уже было отравлено предстоящей смертельной болезнью и тем, что, как казалось Семену, закономерно намечалось сейчас, но боль предстоящего разрыва производила резкие перепады в его настроении. То сидел и просто смотрел в темный угол, то вдруг вскакивал, чтобы бежать к Рите и все ее рассказать, обняться и вместе что-то предпринять. Но что? Придушенный подступающим отчаянием, он вновь и вновь рисовал трагедию мироздания. Предчувствие большой проблемы длилось уже давно. Он будто бы рвался к обрыву, но всякий раз останавливался, замирал и как уколотый снотворным засыпал, обретая непривычный для себя оптимизм. Жестокость жизни в том и состоит, чтобы расслаблять красотой мироздания, вить долгие кольца миражей безграничных возможностей, а затем вдруг подвести к пропасти отчаяния, разом определив конечный удел: смерть. Среда Зачем ты, Семен, поселился в этом чужом для тебя городе? Зачем купил квартиру на улице Моисеенко, на этой бесконечной тоскливой улице? Не будет тебе здесь жизни, не судьба стать счастливым! Нет счастья в суете, как нет дороги обиженному. После очередного фиаско, горько раскаиваясь в сказанном и сделанном, брел Семен узкими тротуарами, постоянно поскальзываясь и задевая встречных. Стекающая с водосточных труб слизь образовала вокруг каждой подобие толстого сталактита, не упасть на котором просто невозможно, если не схватиться за трубу и не обкатиться по ней вперед. Пройдя заснеженный треугольник сквера, он был вынужден выти на мостовую, потому что впереди в здание суда заводили осужденного: автозак вплотную прижался к дверям и потом Семену казалось, что он видел мелькнувшую тень, на секунду закрывшую солнце. Возвращаясь на тротуар, он чуть было не получил по затылку камерой, которой энергичный корреспондент, отступая назад, пытался что-то снять. Солнце слепило, в правое ухо дул ветер, и все это Семен замечал, голова снова раскалывалась и он машинально щупал в кармане начатую утром пачку. Его уже подташнивало, когда в куртке зазвонил телефон. Он любил эти моменты, когда Рита вдруг звонила и нежным, казалось, свойственным только ей голосом просила купить еще лимончика, или колбаски, или просто спрашивала, скоро ли он вернется домой. – Привет! Куда? Конечно, пойдем, я скоро вернусь. Голова? Да ничего, немного. «Зачем нужны эти постоянные встречи с теми, кто тебя не понимает и понимать не собирается, кто доволен только собой и говорит о себе, делая вид, что об искусстве? Тупики, пределы, кризисы жанра. Какая разница, если это все равно есть, никому по-настоящему не мешая? Это же действительно всем нравится. Что нравится? То, что нет принципиально нового, нет великих личностей нигде и ни в чем. А разложенность прошлого по полочкам приносит достаточные дивиденды и никакого риска оказаться смешным и «не в теме». Она любит эти литературные вечера, потому что они напоминают ей о прошлом, о времени безграничных свобод и поисков, общения с самыми интересными людьми, какие только могли быть в столице, учебе в главном ВУЗе страны. И сегодня мы постоянно таскаемся туда, где нас никто не знает и никогда не узнает, где мы не нужны даже для балласта, где и мы никого не знаем. Скучными зрителями возвращаемся потом ветреным городом. И вечные ночные отчитывания: «ничего не сделал за свои годы», «никто тебя не знает» и коронное «тебе же ничего не интересно». Как мне может быть это интересно, если я из другого мира, хотя и в институте учился и даже сочинял стихи в девятом классе? А на этих лекциях (как их про себя называю) борюсь с одним, неимоверным желанием спать. Я, конечно, когда-то читал и Достоевского, и Камю, и Гессе и даже Набокова. Попробовал бы этот последний нарисовать кипящую в морских размахах воду или проваливающийся песок под тяжкими ногами, а потом ругал Айвазовского и Репина. Писать он умел, но что слишком хорошо, то плохо пахнет… Ничего, теперь я свободен. Когда время обернулось против, оно стало мне другом. Друг тот, кто с тобой до последнего. Последнее пришло, и со мной никого, кроме жены, дочки и времени. Его нельзя вернуть, и оно есть там, где его нет: в будущем, когда меня не станет. И потому «мое время» тем дороже, чем его меньше. Но где же достать денег? Не мне, но моим дорогим девочкам.» Сам не заметил Семен, как прошел под своими окнами, миновал уходящую вправо Мытнинскую, дошел до Кирилловской и даже дальше, и только там вспомнил, что направлялся домой. Могло показаться, что должно произойти нечто необычное, но не произошло и Семену так не показалось. К тому времени он уже съел вторую таблетку, ничем не запивая. Мерзкая горечь, но Семен привык. Он ждал облегчения, шагая обратно к дому. Каждый шаг стучал в мозгу, отдаваясь сотней подробностей, которые Семен примечал, но не мог высказать, потому что на следующем шагу подробности были уже новые. В ущербном дворике с двумя кривыми березками и сломанными качелями на краю скамейки сидел усталый художник с мольбертом и смотрел на город. «Что здесь можно рисовать?» Как будто желая покачаться на перекошенных качельках, Семен зашел за спину уличного творца и глянул на холст: художник наносил мазки по всей площади листа, бросал краски, как первые капли дождя на мостовую. Неужели эти несвязные, разбросанные в бессмысленном хаосе пятна могут стать цельной картиной? Семен глянул туда же, куда смотрел художник: грязные желтые облупившиеся стены с переполненной помойкой внизу, в которой кто-то рылся. Семена чуть не стошнило, и он быстрее зашагал к дому. Ветер дул теперь в левое ухо и солнце пекло в спину. Потный, тяжко поднимался он по выщербленным ступенькам на свой третий этаж, как будто на восьмой или даже десятый. Слова точно вываливались изо рта, хотелось их выплюнуть на грязные ступени лестницы, неважно какие, только бы все и сразу. Но при Рите Семен как будто все проглотил, как Штирлиц. – Сегодня кого обсуждают? – Прозу побега. Разные авторы. Ты опять без шапки, на голову жалуешься? – Сбежать легче, чем жить там, где ты есть. – Я тебе котлетки на пару приготовила, Машенька недавно проснулась. Вроде получше. Ты не голоден? – Кофе с мармеладками выпью. Семен уже забыл, что дочка приболела и он не водил ее сегодня в школу. Одно вдруг закрутилось в голове, «побег». «Нет, я должен здесь что-то сделать, чтобы им было, но…» – Ты куда? Я кофе налила. – Сейчас, без меня кушайте. И помчался к вокзалу, сжимая в кармане паспорт с кредиткой, еще не совсем пустой. Привычка всегда носить с собой паспорт и кредитную карту выработался у Семена с начала осени, как переехав, он окунулся в омут постоянных заемов, кредитов, денежных обязательств, будучи уверенным, что вынырнет, но проваливался все глубже, прося даже в «однокомнатных» Продуктах оплатить «по карточке». Давно уже андеррайтинговые службы плели вокруг него сети, давно уже он обещал вернуть. Конечно, не девятьсот тысяч задолжал Семен, но эта сумма, однажды приснившись, вобрала в себя как долг, так и те траты, которые необходимы на семью, чтобы можно было спокойно вздохнуть тройку месяцев и потом уже со свежими силами рвануться к окончательному достатку. За сорок минут в очереди изучил все объявления. – До Симферополя самый дешевый плацкарт. На когда? На пятницу, – не думая ответил Семен, – И, пожалуйста, со страховкой от компании – бегло проскочил глазами рекламный текст и назвал неизвестную сибирскую компанию, предлагающую самые высокие тарифы, – не назвал, а выпалил, подталкиваемый в спину восточной компанией с тремя детьми, спешащей купить билеты до перерыва в кассе. – поезд ноль ноль семь, отправление в двадцать ноль семь, вагон девятый, место третье. «Ну и пусть только несчастный случай, как говорится «не было – будут», а с болезнью Бог с ней. Только как она узнает, если я ничего не скажу? … Как ни в чем ни бывало вернулся Семен домой, разве что нарочито веселый. Поцеловал Риту, поиграл с дочкой в парочки. Машенька, конечно, выиграла, ее семь против Семеновых пяти, и второй раз выиграла: девять против трех. И совершенно честно, не шла игра у Семена, не клеилось на душе равновесия, плакать хотелось. Как ни странно, он забыл о своей головной боли. Конечно, утром он выпил таблетку, но всего одну, перед походом на литературный вечер, который даже Рите показался небывало скучным, а к вечеру уже не вспоминал, да и до того ли было? Ночью сон – не сон. В тяжкой дреме мерещился себе Семен параноиком с двумя параллельными реальностями, и все казалось, что та, болезненная, заставившая пойти по пути обмана, есть сон, фантазия из далекого прошлого, не его, Семена, а его неведомого предка, ставшего жестоким двойником. Он не мог молиться, потому что перегруженная голова требовала о чем-то просить, но Семен не знал, о чем просить Бога, благополучия ли семьи, доченьки, достатка, чудесного ли выздоровления. И под занавес мытарств Семен вспомнил литературный вечер, где заявленная тема побега метастазировала в панический страх нашествия графоманов: в первой части на сцену выбегали прозаики и что-то с пеной у рта доказывали. Один ерошился, что грядет-де время любителей, другой с ним спорил: благодаря интернету стерлась грань между профессионалом и графоманом и некуда идти, если не возродится. Что должно возродиться, Семен так и не успел понять, потому что выбежал молодой автор в шортах с перебинтованной ногой – укусила-де злая собака – и начал вещать нечто нечленораздельное про свое гордое одиночество, на него шикали, он огрызался, потом все вместе спорили и все боялись, что может прийти Лимонов. Первая часть закончилась буфетом. На второй приветствовали поэтов. Дамы с шляпах, опирающиеся на трость герои с расстегнутым воротом. Легче было на них смотреть, чем слушать стихи. Гвоздем программы стал прибывший из ниоткуда гений Дмитрий В., задумчивый герой неокрепших женских сердец, затребовавший стул, чтобы на нем скрестить ноги и разогнаться в словесном порыве до невероятных для зрителей горизонтов. Ему хлопали, он не реагировал, потом поклонился и пропал. Затем настало время молодых по самостоятельным заявкам. Тут очень боялись настоящих графоманов, но вышла пара стесняющихся дам в кофточках с милыми стихами о несбывшейся любви, один старичок с темой про войну и девушка, которая сначала не хотела выходить, но уже встала, когда ведущий объявил ее имя. Она быстро вышла и начала читать замечательное, как сразу показалось Семену, стихотворение про сказки Андерсена. Семен заслушался ее вкрадчивым и одновременно пронзительным голосом, но она читала очень тихо, слышали не все, и под конец кто-то с грохотом вышел сзади, так что впечатление окончательно смазалось, публика не среагировала, а девушка посмотрела исподлобья в зал, развернулась и ушла со сцены. Кто похлопал, кто пошипел, как обычно. Четверг. С утра, проводив дочь и выпив таблетку, Семен в том же Дикси закупился двадцатью семью разводимыми супами, семью банками тушенки Главпродукт, тремя килограммами гречки, килограммом сахара и полкило риса. Добавил триста грамм сухофруктов, буханку черного хлеба, и полторушку «Святого источника». Два тяжелых пакета принес домой и поставил между входными дверями, где обычно они складывали мусор. Как будто невзначай проверил наличие на антресолях рюкзака, коврика, спальника и палатки. Тут оказалось, что кончилось масло и на обед недостает рыбки. Думала пойти Рита, но Семен вызвался и снова отправился в Дикси. Вдобавок купил Фанты и полкило «Мишек на Севере» и почему-то удивил кассиршу. Потом вспомнил, что полчаса назад уже совал ей кредитку. Очень хотелось, чтобы день поскорей кончился, чтобы кончилось все, что когда-то началось и начиналось, чтобы весь мир вдруг взял и взорвался, разом перейдя конечную точку, за которой ждет безусловно новое. Не то чтобы Семен постоянно перечитывал Апокалипсис и отчаянно верил в Воскресение из мертвых, но у него не оставалось выбора, о чем думать и во что верить. Ему катастрофически не хватало воздуху жить. Пятница Ночью почти не спал, три раза ходил к Машеньке, поправлял ей одеяльце. Она обнимала во сне Мишку. Возвращался, смотрел на Риту. Все, даже мишки, спали. Один Семен не спал. Ложился, дремал, мучаясь сомнениями и проезжающими под окнами машинами. Непомерное испытание взвалил на себя герой большого города, чуждый этому месту, ставший чужим своей семье и себе самому. Семен даже не мог понять масштаба испытания, как никто не может знать будущего, потому что возможности человека ограничены. Тупым отголоском прошлого мерещился он себе уткнувшимся в стену со старыми зелеными обоями, безумно уставший от скандалов родителей, уверенный в себе пятилетка, знающий все на свете. Но все на свете было одним: мир трагичен. Истина, в которой он никогда не сомневался. Хотя с годами масштаб трагедии съеживался, как съеживается кора взрослого дерева. Душа каменеет, боль тупеет… Проснулся от будильника как от толчка. Вскочил, пошел ставить чайник. Вспомнил, как долго на ночь его обнимала Машенька, не отпускала, пока Рита мылась, просила почитать книжку про Восемь детей и Грузовик. Чтобы не расплакаться, решил раньше разбудить Машеньку в школу. Она никак не вставала и Семен включил в «Пещере горного Короля» Грига. Но в проигрывателе что-то перепуталось и вместо Грига заиграло Болеро Равеля. Семен быстро выключил. Он посчитал удачей, что Рите вдруг понадобилось к врачу и оставшийся на пару часов в одиночестве сел писать. Когда из-под компьютера был вынут последний чистый лист, а горка мятых бумажек в нервной ходьбе была разнесена по всей комнате, Семен быстро оделся и побежал к метро. Вернувшись с двумя пакетами, он продолжил. Но сначала написал по е-мэйлу Андрюхе: «Я не прошу тебя помогать моим дорогим девочкам, но если они попросят, не оставь их без внимания. Я должен пропасть. Должен по двум причинам, кто-то скажет по трем, но их всего две. Если что, не спрашивай их ни о чем, и я тебе плакаться не собираюсь. Сам не понимаю, каким толчком для меня оказалась твое предложение поехать в Крым. Когда мы с Ритой и Машенькой там в горах три года назад были в последний раз, Крым мне показался местом, где бы я хотел умереть. Но не подумай, что я сейчас туда еду для своей блажи. То есть думай себе что хочешь. В общем, за прошлое спасибо, ты был другом, но время ускорилось для меня и стало непосильным испытанием для нашей дружбы.» Выключив ненавистный компьютер, Семен взял последний лист бумаги, зачем-то перекрестился в окно, где в радиусе не было ни одной православной церкви, и стал писать: «Милые мои девочки! Дорогая Рита! Я много раз тебе говорил о свободе, которой не хватает любому человеку, чтобы стать самим собой. Ты можешь теперь думать, что мой поступок есть следствие тех слов и мое желание вас бросить было первым и последним, а отговорки о болезни и деньгах суть жалкие потуги черствой души казаться доброй. Я потерял всякое равновесие в жизни и не могу больше скрывать ту боль, которую давно уже прячу в себе. Я неизлечимо болен, и это не фантазия: мне осталось не более полугода и вряд ли эти последние дни могут достойно украсить те девять лет, что мы были вместе. Я боюсь за Машеньку, скоро я потеряю контроль над собой и буду опасен. Отвратно зрелище умирающего. Долг, о котором я пытаюсь тебе не говорить, снится мне уже вторую неделю, и нет никого, кто бы мог нам помочь. Ты думаешь, что я честно зарабатываю, Машенька гордится папой, а я ем чужой хлеб, кормлю вас и себя чужими подачками. Не говори Машеньке. Я решился на крайнее, чтобы помочь вам и как-то сгладить собственную бесполезность. Через два дня восьмое марта, я приготовил вам маленькие подарочки. Ты найдешь их в шкафчике с одеждой. Достань их утром в праздник. Они хорошие. Цветные карандашики и красочки для Машеньки, тебе карту в бассейн на полгода. Акция была, мы с тобой часто гуляли мимо. Там еще коечто… Деньги придут на твою карту, береги ее… Крым… Простите, я люблю вас.» Синяя веточка мимозы, нарисованная той же ручкой было последнее, на что кинул взгляд Семен, выходя из квартиры. Уже закрыв дверь, он вдруг вспомнил, что ключи, которые он на той неделе сделал для растущей Машеньки, у него в кармане. И он вернулся, положил их рядом с письмом, и едва сдерживая слезы, бросился прочь из квартиры. Часть вторая 1. Суббота Вагон раскачивало и трясло, как на кочках. – Амортизаторы пора менять. – не отворачиваясь от окна, бросил сосед напротив, как будто прочитавший мысль больного странника. Глаза слипались, но сон не шел, расслабление не наступало. Сквозь неровный стук колес Семену постоянно мерещилось, что кто-то над ним стоит. Он открывал глаза, поднимался, но никого не было, только свисающая с верхней полки простыня болталась в такт, опережая ритм поезда. Семен снова закрывал глаза, пытался ни о чем не думать, не вспоминать. Но как трудно, оказывается, перестать думать. Точно материя души, воспоминания рулят человеком, сонного возят носом по оставленному грязному столу, где крошка кажется камнем преткновения, а капля болотом. Уже рассвело, когда Семен, наконец, задремал и даже провалился в сон. Сон унес его дальше, чем можно было предположить. «Голубой шарик на палочке, какие дарят в выходные детям в Му-Му или Граблях, катится по проезжей части, машины объезжают, а он, брошенный, ждет своей минуты, потому что шарики на дороге долго не живут. Ветер пригнал его к бордюру. Пошел дождик. Девочка в розовом платьице с мамой возвращаются домой. Под маленьким полосатым зонтиком им обоим не хватает места. Мокрые, жмутся они друг к другу, торопятся. Девочка увидела шарик. Мама тянет вперед руку с зонтиком, пытаясь накрыть девочку, но платьице уже промокло. Радостная девочка держит на палочке голубой шарик. Не страшно, что он испачкался. Улыбаются добрые мама с дочкой, мило и легко смотреть на них. И вот идут они вместе с шариком, как будто с праздника.» В слезах проснулся Семен. «Му-Му, Грабли, это же из той еще жизни!» За окном шел весенний украинский дождь. Поезд стоял. Остатки снега темными недоеденными бисквитами грудились под кустиками за платформой. Семен подумал, что это тот самый последний уходящий снег, который их объединял, в котором они вместе играли в снежки, строили Бабы, одну большую с носом-веточкой, и одну маленькую со шляпой-тазиком, а еще доброго ежика, который встречал машины, один раз ходили на лыжах, заблудились, когда спряталось солнышко, пошли по пересеченке через елочки, потом смотрели на выглянувшее солнышко и улыбались. Теперь все. Ужасно хотелось в туалет, но он был закрыт. По вагону шли пограничники, спрашивали документы, смотрели вещи. Семен не хотел говорить слово «туризм» о цели поездки, но сказал. «Они уже прочли записку и ненавидят меня. Я сам себя ненавижу». Во рту горело. Сосед предложил яблоко. Уже впоследствии, когда все так странно мчалось к концу, воспоминание о поезде собрались вокруг вкуса этого яблока. Леденящая кисловатая широта как озеро, в которое боишься ступить, а потом вдруг разом окунаешься, содрогнувшись и заново родившись. Она точно ускорила и унесла мысли Семена туда, где он никогда не был, где не было воспоминаний и боли. Он хотел раствориться в том райском небытии, но вдруг поперхнулся. «Имел ли я право? Я, человек прямоходящий, потомок художников из древней пещеры, что обводили свои ладошки с пальчиками. Могло же быть, чтобы они рисовали просто так, не имея никакой конкретной цели. Те, что рисовали бизонов, наверняка хотели одного такого на следующий день поймать и съесть. Но ладошки. Почему-то Семена грела мысль о людях, кто творит просто так, для красоты. Показалось, что в этой мысли кроется спасение для него. Брошенные жена с дочкой представились ангелами, которых можно нарисовать и которые сейчас летают где-то в недосягаемых прекрасных высях. Не заметил Семен, как поезд двинулся и мир за окном поплыл. Мокрый город уступил место кустам, перелеску, засохшим с осени камышам, покосившимся избам. И везде прожилки снега как слезный рефрен. Семен отвернулся от окна и запил Святым источником таблетку. Мир двигался в стороне от его мыслей, поезд плыл к Крыму. Семен твердо решился на последнее, но не определил, когда, и эта дилемма теперь предательски его отвлекала, подставляя все новые и новые поводы для отсрочки. «Главное, чтобы не приняли за самоубийство, потому нужно ближе к конечной станции» Еще Семену очень хотелось увидеть Крым, хотя бы самое его начало, когда поезд пересекает узкий перешеек и по сторонам открывается пахнущий Лиман. Бескрайность воды переходит в сушу, отделенную от всего того, что было прежде, и кажущуюся свободной с иными, честными законами жизни. И первое имя станции «Джанкой» тому подтверждение. Мелодия песни крутилась в мозгу, про пилигрима, который ничего не хотел видеть кроме Крыма. Семен долго рассматривал в тамбуре расписание, пока понял, что в Джанкой поезд прибывает в одиннадцать вечера. «Так и должно было в наказание случиться, прошлые разы встреча с Крымом происходила утром. Ну и ладно, во тьме легче прощаться с миром и Крымом.» Семен решил совершить последнее между Джанкоем и Симферополем на стыке суток ровно в полночь, чтобы как ему представилось подчеркнуть странность момента. Он несколько раз выходил в туалет, тамбур, ища острые углы. «Главное, правдоподобно. Умер же Скрябин, стукнувшись губой о полку в поезде.» И он снова возвращался, садился и думал, не имея ни одной мысли. Последние лучи уходящего солнца скользили по стенам, создавая хитрые витиеватые тени. Темнота по углам выдавала приближение сумерек. В вагоне запахло маслом чайного дерева. Все было как и прежде. Проводница шла по вагону, несла чай, сосед напротив смотрел в окно, теребя игральные карты, в конце вагона что-то отмечали. Кто-то включил музыку. Знакомой показалась она Семену. – Вам бы не хотелось оправдываться за поступок, автор которого не вы? Я имею в виду, что поступок и ответственность за него две совершенно не связанные вещи. Они конечно связаны, но произвольно, лишь согласно той или иной культурологической традиции, – не отрываясь от окна, ни с того ни с сего начал сосед. – Я должен сегодня совершить самоубийство, – как будто опережая встречные возражения, продолжал он. – Перед самым Симферополем я должен на полной скорости спрыгнуть с поезда, – и он продолжал смотреть на мелькающий за окном пейзаж. – До чего забавны некоторые Интернет-технологии, мало кто знает, как опасны эти штучки. Скорость и оборот вопроса была такой, что можно было его посчитать несуществующей шумовой погрешностью, случайной мнимостью, второпях невпопад оброненной, бормотанием не в тему. – Почему вы должны? – Не успев подумать, спросил Семен. – Я проигрался в одну крайне жестокую игру, ставкой которой было вы сами понимаете что. – и он показал колоду карт, – Сегодня ровно в полночь жизнь моя оборвется. – И как будто увидев что-то интересное за окном, он стал туда всматриваться. – Да, но – Но ваша-то продолжится, не правда ли? – Конечно. – По христианским законам самоубийство ведь грех, как вы, наверное, знаете. Отведенное мне время подходит к концу, и в завершение моего пути я не хочу еще раз запачкаться. Выдумайте сами, как мне лучше выразиться. « Незамеченным» – померещилось Семену. Он ободрялся, но связь с прошлым постепенно улетучивалась. – Вы, кстати, знаете ту музыку? – наверное, для отвлечения спросил сосед и не дожидаясь ответа, продолжил: «Из Пиковой Дамы Чайковского, тема рока, помните?» И тут Семен вспомнил, что именно эта мелодия почти неделю назад отдавалась в его шагах, когда он бежал из клиники: Там, Там, Там – Тра-Та-Та, Там, Там. «Точно, но к чему?» Он не хотел думать. Странно легкой показалась ему жизнь, как будто летит он на санках по ледяной горке, и горка не кончается. Просто движение и никакого смысла. – Я вижу, вы отвлеклись, стоит ли продолжать или забудем о сказанном? – Нет, мне все равно. вы хотите, чтобы я вас столкнул с поезда. Но это же будет убийство. Меня схватят и посадят в тюрьму. Сухой мрачный смех был ответом. – Друг вы мой – позвольте фамильярность, как бы время ни ускорялось, всегда есть место для дружбы, той или иной, не правда ли? Много вы видели в тамбуре народу? Раз в пятнадцать минут туда выходят покурить, но кто пойдет курить в глухой тамбур за десять, то есть двадцать минут до прибытия? Внешние двери во всех тамбурах открываются одинаково и мы с вами не на том поезде, где установлено видеонаблюдение. Меня никто – совершенно никто не станет искать, и вам незачем будет изображать пропажу человека. Поверьте, только совесть, да и то не вся, а только часть, всегото. Ведь ответственность мы поделим пополам. Более того, я предлагаю вам – вы только не сомневайтесь – немалые деньги, поверьте, немалые! Я одиночка, наследников у меня нет. Вы же путешествуете, как я слышал? – И сосед первый раз исподлобья глянул в упор на Семена. Что-то показалось в нем знакомого, Семен опять не мог вспомнить. – Да, я турист. – Я вижу, жажда странствий в вас главное, и надеюсь, она будет сполна удовлетворена, ведь кто не любит быстрой езды? – могло показаться, что он усмехнулся, но это пьяный мужик захохотал в конце вагона. – Так вот, в середине Крымских гор, на границе так называемого Крымского заповедника. – Гурзуфское Седло – почему-то выпалил ошарашенный Семен. – Особая энергетика места, повышенная степень контакта, съезды экстрасенсов, если слышали. А смекалка делает вам честь, как бы сказали во времена Достоевского. Семен уже заметил, что сосед напротив выражается подчеркнуто литературно. – Возраст, образование, Литературный институт, и ничего ведь не написал, а бумаги извел как никто, – и он подмигнул Семену, – Совершенно ничего не создал, понимаете? Только о вечном беседовать умею. Но это уже ни к чему. И тут Семен опять вспомнил, что видел этого человека на последней литературной встрече, куда они с Ритой несколько дней назад ходили. Он сидел в темном углу, так что принять его можно было за тень или скульптуру. Еще тогда, оглянувшись, Семен задумался, сидит ли там кто-то, и какое-то время это занимало его больше, чем словесные перипетии в зале. Но когда ранимая поэтесса читала стих про Андерсена, сзади что-то поднялось и с грохотом выволоклось из зала, почему многие ее не услышали. Семен тогда даже показал кулак уходящему пальто. Теперь он узнал лицо и точно вспомнил, что именно его видел. – Вы не подумайте, я не тот, за кого вы могли бы меня принять. Я человек, как все мы люди, просто очень умен и внимателен, простите за наглость. Шерлок Холмс в вечных вопросах. Сейчас таких, как я, много. Последние времена, знаете ли, все наружу, и путаница во всем, интернет технологии. Вы же тоже считаете себя не дураком, только молчите даже перед зеркалом? – Зеркало… – Конечно, зеркало врет, здесь совсем не то, что вы там видите. Мы часто перестаем быть собой прежде, чем так называемая смерть поглотит нас. А правда, что смерть так называемая? Случайные наброски, разбросанные по земле, обретают смысл во времени независимо от того, в одну эпоху они живут или разную. И какая тогда смерть, о чем вы говорите? Условность. Умер человек или уехал, никакой разницы, – и он нагло поглядел на Семена знакомым взглядом из какого-то сна, но Семен уже ничему не удивлялся. – Все страшное, – продолжал он, – происходит вокруг, – И нечего на город пенять – кольнув взглядом, ни к чему вставил собеседник, – мы сами выдумываем себе коридоры и тупики, которых в действительности нет, как нет ничего совершенно свободного. Все без исключения относительно: моя жизнь, Ваша, наша с вами ответственность. – И воскресенье из мертвых? – Семен сам не ожидал от себя подобного вопроса, но как утопающий, ни о чем не думая, он хватался за любую соломинку. – Вы шутите? – и он мельком глянул на Семена. – Поверьте, мне все равно, я не единственный среди себе подобных, и вы, я полагаю, тоже. В той всепоглощающей бесконечности, что на самом деле представляет из себя жизнь, я знаю всего один принцип: закон причины, – ведь правда, что нет ничего без причины? Серьезность, болезненная искренность, все это игры. – Вы их не любите. – Зачем усложнять? Будьте проще, легче, веселее, и не только к вам потянутся, но и вы сами почувствуете свою жизнь осмысленной. Вы не зарегистрированы в контакте? В живом журнале заведите блог, подберите фотку пооригинальней, Ник выдумайте, чтобы всех позабавить. Сейчас столько возможностей: Твиттер, Мой круг, Фэйсбук,– смысла хоть отбавляй, на любой вкус. Просто, легко, весело. – Вы же про опасности говорили – Это я так, в шутку. А вы вообще уверены, что именно я перед вами вчера вечером сидел? И тот, кого вы столкнете с поезда, буду, возможно, совсем не я, так что ни вам, ни мне бояться нечего. За окном совсем стемнело и только редкие оранжевые всполохи где-то там, где хотелось предположить край неба, выдавали недавний закат. Семену захотелось его вернуть. – Наше время кончается, но принимайте это за шутку: у несерьезного конца несерьезное начало. Так вы мне поможете? Я укажу вам точку, где закопаны деньги, искать которые больше вам никогда не понадобится. Я вижу у вас рюкзак с палаткой, вы можете для виду и собственного успокоения пожить рядом в сосенках, иногда спускаясь и кладя деньги в банк. Вам понравится. Поверьте, деньги свежие, и клад никем не раскопан… Извините, я начал рассказывать, не услышав вашего решения. – Я согласен, – не своим голосом прогудел Семен. – Значит, договорились. – И сосед разом сгреб со стола рассыпавшиеся карты. – А то кто знает, что у другого внутри, я имею в виду на уме, везде такая путаница? Поезд точно плыл, мягко и беззвучно, словно амортизаторы поменяли на ходу. Две фигуры одновременно встали, и взяв вещи, направились к заднему тамбуру. По дороге один из них обронил несколько карт. Пьяный в последнем купе поднял и узнал тройку червей, бубновую семерку и даму пик, слипшуюся с крестовым тузом. Он бросил их обратно. 2. Прошло три года. В преддверие непривычно жаркого для начала марта заката, на Невский проспект, самое его начало у Лавры, где спят Достоевский и Чайковский, с проспекта Обуховской обороны вырулил черный Ленд Круйзер. Уверенный водитель легко обгонял, не подрезая и не вызывая злости других. Он знал себе цену. Миновал пробку, свернув на Исполкомовскую, перескочил несколько остатков былой стройки, и наконец резко повернул на Восьмую Советскую, затем резкий поворот на Кирилловскую и наконец еще более резкий на Моисеенко. Два раза черный Ленд Круйзер проехал по этой улице, как будто каждый раз ошибался или искал неизвестный или даже несуществующий адрес, каждый раз разворачиваясь то на Девятой Советской, то через проспект и Восьмую Советскую. На третий раз он остановился. На подкашивающихся, будто не своих, ногах, человек в мятой куртке спустился с подножки и, не замечая других машин, перешел дорогу, достал из кармана ключи, вошел в дом, поднялся на третий этаж. Все было как прежде. Ключ гулко повернулся, дверь открылась, как бы ни хотелось обратного. Пыль висела в воздухе, мебели не было, кроме пустого стола и забытого на стене автопортрета Ван Гога. С края стола свисал исписанный тетрадный листок. «Я пишу в никуда, потому что должна понимать, что ты никогда это письмо не прочитаешь. Но три ночи подряд мне снится странный сон, где мы с тобой в Крыму и рука об руку спускаемся с твоей когда-то любимой Бабуган Яйлы на Ай-Петринскую и ты мне указываешь пальцем на темную точку вдали. Я ничего не вижу и просыпаюсь. Два дня я ничего не видела, а сегодня во сне ясно увидела беседку, и проснувшись, вспомнила, как ты сказал: «Там Беседка ветров, оттуда я вернусь.» Мы ведь с Машенькой и Ванечкой искали тебя несколько раз в Крыму, насколько знаю, и Андрей со своими ходил по тем местам, что мы с тобой любили, и как раз там: ни следа твоего присутствия. В конце концов, мне все равно, жив ли ты, вернешься ли, но почему-то я уверена, что болезнь та была ненастоящей и мир должен вернуться на круги своя. Хотя круг не получится: нас теперь трое. В ту пятницу я торопилась тебе сказать и не успела. В тот день мне подтвердили беременность. Потом позвонил Андрей и сказал, что ты всех разыграл и скоро вернешься. Это меня ненадолго спасло. Вечером я набрала твой номер, и когда услышала в шкафу знакомого Пер Гюнта, мне стало плохо. Я много плакала, думала, в чем сама была не права, просила у тебя прощения. Тогда я была на грани, но Бог спас, хотя нам никто не помогал. У нас родился сыночек Ванечка, и он теперь единственный мужчина в нашей семье. Нам очень не хватало денег, я вынуждена была продать квартиру. Когда я передавала ключи новому хозяину, он заявил, что приобрел по недоразумению и квартира ему не нужна, предложил нам за полцены ее же снимать, но мы отказались. Уже расставшись, я вдруг вспомнила, что оставленные тобой ключи я не отдала, с ними все время играла Машенька. Мы купили домик на Урале и уехали, как отправляются в ссылку или эвакуацию, и живем теперь одной ногой в Европе, а одной в Азии. Я устроилась дворником и подрабатываю уроками, ходим в лес за грибами, горы близко. Сюда часто экстрасенсы приезжают, говорят, в нашем районе из Земли идут особенные токи. Когда мне пришла большая сумма денег на карточку, мне нужно было ехать их снимать по месту выдачи карты. Не знаю, зачем я взяла те ключи и прошла под темными пыльными окнами некогда нашей с тобой квартиры, и уже дошла до суда, как что-то во мне стукнуло, и я вернулась. Замки он не сменил, внутри все осталось точно таким, как мы с Машенькой оставили. Как будто время вернулось. Я не собиралась, но вот сижу и пишу на листочке, вырванном из Машенькиной тетрадки по истории. Я не верила в твою болезнь, ты всегда ходил без шапки под этим вечным ветром…Так же, как я никогда не переставала тебя любить, Машенька тем более. Ванечка… Каким бы ты ни был, как бы смешно и глупо ни складывались твои обстоятельства, я никогда не понимала, как можно думать о других. Я не люблю чужих мужчин, а после тебя все чужие. Ты это знай! Я включила Шопена и прослушала все вальсы на кассете, тобой подаренной, последний концерт какого-то Венгерского пианиста. Зря ты пошел на такое, жаль. Если нет выхода, то он есть, я не думала об этом, но всегда знала, также как никогда не переставала и не перестаю верить в чудо.» Человек хотел плакать, но не мог, только тупая боль давила грудь и отдавалась в висках. «Да, болезнь прошла, как будто приснилась. Но была же! И что я должен был делать, какой выбор был у меня? Вернуться. Вернуться? Да, да, конечно, я вернусь, стану искать и найду их, на краю света между Востоком и Западом, в маленькой деревеньке. А что если это город, и там мы найдем театр, кино, цирк? Я накуплю гостинцев, увижу сына, узнаю подросшую Машеньку, попрошу прощения у Риты. Рита, как же я люблю ее, их, всех-всех-всех на земле!» Как умирающему последний укол морфия, жалкая уверенность придала ему сил, но отсрочка чего-то тяжкого и неизбежного, как бы улыбающийся в эти несколько секунд ни пытался о ней не думать, змеей подползла и ужалила страшным подозрением. «Почему они не видели меня? Я ведь там жил среди кривых сосенок. Туристы проходили и смотрели на меня, по крайней мере, в мою сторону, когда я на них смотрел и даже махал им рукой. Я спускался, открывал счет в банке, клал деньги, отправлял по карте, возвращался, поднимаясь сквозь сумрачный шумящий лес… Что со мной, черт побери?» – и не думая о пугающем ответе, он решил искупить тяжким трудом то, чего не мог назвать и о чем лучше было не думать, – «Нет ничего, что невозможно искупить! Сначала помучаюсь, потом вернусь». Темнело, жалкий закат откуда-то пробившимся лучом скользнул по потолку, и на смену ему пришла мрачная синева сумерек. Холод старого дома обдал ноги. Почему-то боясь притронуться к выключателю, человек хотел подойти к окну, но вдруг почудилось, что в щель незакрытой двери ктото за ним наблюдает. На ватных ногах он подскочил к двери и судорожно ее открыл: пустота неосвещенной лестницы ахнула мраком и холодом. Держась за пыльную стену, он вернулся, облокотился на стол и уставился в угол. Тут он заметил оставленный под столом проигрыватель, нагнулся, машинально нажал, и Фортиссимо финала Болеро Равеля обрушилось в пустой комнате. Распад навязчивого ритма и вслед за гибельным каскадом тишина скрипящей кассеты. Мельком глянул на забытого Ван Гога и в отблеске пролетевших фар показалось, что на него смотрят глаза живого человека. «Нет, нет, он не мог мне подмигнуть», – отпрянув к окну, человек вновь обернулся на стену: «конечно, все те же неподвижно испуганные глаза, как стражи безумия мира». За окном дул ветер, пролетали машины, мелькая причудливыми отсветами. Одинокий фонарь загорелся над улицей. Словно в гамаке он качал по стене крест окна, занавески, шторы, стол с ножками. Человек, не отрываясь, смотрел на стену, несколько раз шевельнулся, посмотрел вокруг себя, в окно, снова на стену, и вдруг ужас тонкими змейками побежал по его спине. То, от чего у всякого читателя перехватывает дыхание в девятой главе последнего романа Булгакова, представилось ему также ясно, как совершенная ошибка. Тянущая боль раскаяния и страх ползли вместе с ним к двери, и он не бежал вниз по лестнице, она сама плыла навстречу, как горка, по которой несутся санки. 3. По ночному шоссе летела машина. В свете полной луны она казалась тенью, легко обгоняющей редкие фуры. По куполу неба скользили звезды, неподвижный лес медленно смещался назад. Мрачный водитель гнал, как будто хотел обогнать время, но время неотступно следовало за ним, над лесом, над звездами, и лишь Луна, как что-то безусловно неземное, казалась единственным спасением. Но она бездушно освещала пустую трассу и синий снег. Чуден мир под Луной, все под ним обманчиво, все кажется не собой, дерево-не дерево, куст-не куст. На краю Тверской области есть Село Хотилово. Издалека виден Храм на изгибе трассы. Всякого проезжающего мимо встречает объявление о помощи, которая требуется в восстановлении. Именно туда устремил задумчивый водитель своего коня, то есть автомобиль. Летит машина, но что-то не стелется дорога. Давно уж минула полночь, а никак и до середины Новгородской области не доедет. Уж кажется водителю, что он незаметно свернул в сторону, но нет других трасс в округе, не летают нигде безумные ночные фуры. Слипаются глаза, искрится в них, кажется, что не бирюзовый снег лежит по краям дороги, а в безумном хаосе как капли краски на холсте разбросаны изумруды. Вон холм, на нем корона с огромным искрящимся камнем. Но нет, то реклама мотеля. Протер лоб, почесал голову, едет дальше. Едет как будто стоит, посмотрит на неподвижное небо, жмет на педаль газа, и кажется все бесполезным. Тщетно торопится, фур все больше, жестокие, не пропускают, встают на линии обгона вторым рядом, приходится возвращаться. Вылетает машина на встречку, рискуя перевернуться, обгоняет, ускоряется, но нет дороги, нет спокойствия на душе. Далеко еще Хотилово, хотя могло быть ближе. Деревня, другая, третья, не замечает названий упорный человек, мчится, теряя надежду. О чем думает, что скоблит сердце? Все выбросил точно выплюнул на синий снег по обочине, только прямая как боль трасса и невидимая точка в конце, которой нет. Въехал в Едрово, скоро уже конец Новгородской области, немного осталось. Точка вдали горит красным, приближается, растет. Как будто два глаза смотрят с укоризной, – но нет, то фура тормозит перед пробкой. Уж это слишком! Нет сил стоять, терпеть, оставаться наедине с собой. В тупом бешенстве рванул вбок несчастный, едва не опрокинув машину. Выехал на обочину, помчался по снегу… В трех километрах за Едрово деревня Выползово. Сидит полиция в засаде, стережет нарушителей, смотрит на камеру. Немного машин в эту ночь, все больше фуры. Всех запоминает дальнозоркий глаз, но нет среди них черного Ленд Круйзера, не проезжал он по трассе. Через три десятка километров за Хотилово, на полпути между не договорившимися, кто из них настоящая, столицами стоит гордый город Вышний Волочек. Все знают, как трудна в нем дорога, как много жестоких поворотов, один аж на девяносто градусов. Нередки там страшные аварии. Сами не зная как, сталкиваются лоб-в-лоб огромные фуры, гибнут люди. В ту ночь уже под утро в Скорой пытались откачать бедолагу-дальнобойщика. Удалось ли его спасти, остается тайной, но в бреду, вместе с врачами борясь со смертью, он все твердил про черный джип на переезде, который, обгоняя других, вырвался из пробки, но вдруг повернул вправо и резко ускорившись, помчался по рельсам, как будто был вовсе не машиной, а поездом. Нырнул в лес и пропал.