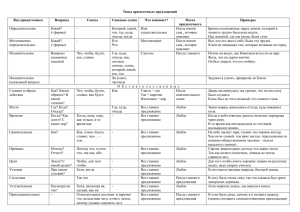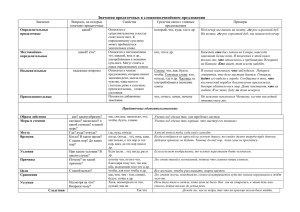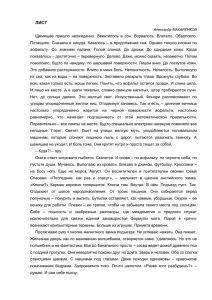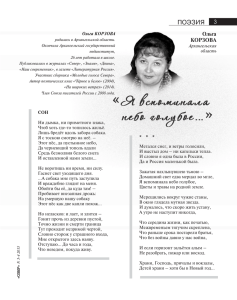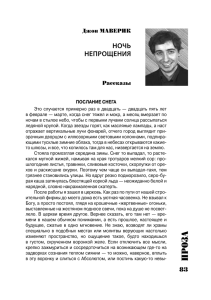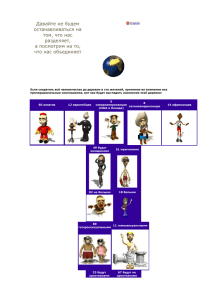Дышит холодом неба омут
реклама
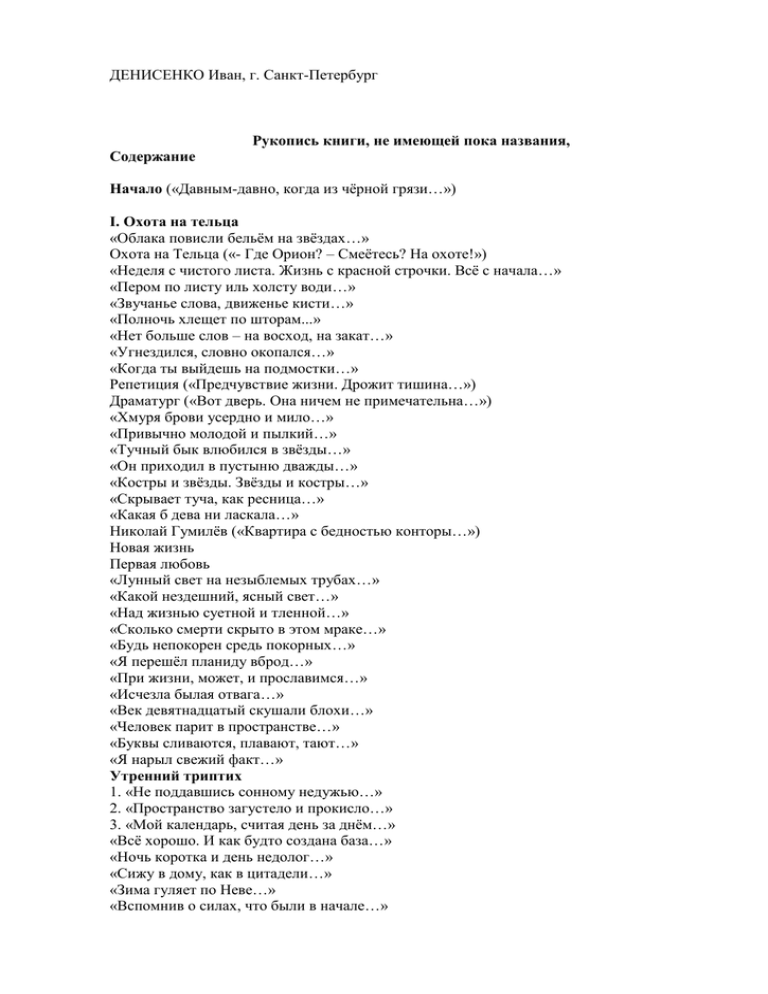
ДЕНИСЕНКО Иван, г. Санкт-Петербург Рукопись книги, не имеющей пока названия, Содержание Начало («Давным-давно, когда из чёрной грязи…») I. Охота на тельца «Облака повисли бельём на звёздах…» Охота на Тельца («- Где Орион? – Смеётесь? На охоте!») «Неделя с чистого листа. Жизнь с красной строчки. Всё с начала…» «Пером по листу иль холсту води…» «Звучанье слова, движенье кисти…» «Полночь хлещет по шторам...» «Нет больше слов – на восход, на закат…» «Угнездился, словно окопался…» «Когда ты выйдешь на подмостки…» Репетиция («Предчувствие жизни. Дрожит тишина…») Драматург («Вот дверь. Она ничем не примечательна…») «Хмуря брови усердно и мило…» «Привычно молодой и пылкий…» «Тучный бык влюбился в звёзды…» «Он приходил в пустыню дважды…» «Костры и звёзды. Звёзды и костры…» «Скрывает туча, как ресница…» «Какая б дева ни ласкала…» Николай Гумилёв («Квартира с бедностью конторы…») Новая жизнь Первая любовь «Лунный свет на незыблемых трубах…» «Какой нездешний, ясный свет…» «Над жизнью суетной и тленной…» «Сколько смерти скрыто в этом мраке…» «Будь непокорен средь покорных…» «Я перешёл планиду вброд…» «При жизни, может, и прославимся…» «Исчезла былая отвага…» «Век девятнадцатый скушали блохи…» «Человек парит в пространстве…» «Буквы сливаются, плавают, тают…» «Я нарыл свежий факт…» Утренний триптих 1. «Не поддавшись сонному недужью…» 2. «Пространство загустело и прокисло…» 3. «Мой календарь, считая день за днём…» «Всё хорошо. И как будто создана база…» «Ночь коротка и день недолог…» «Сижу в дому, как в цитадели…» «Зима гуляет по Неве…» «Вспомнив о силах, что были в начале…» «Всё хорошо, но в меру…» «Диоген просыпается зá полдень…» II. Старая легенда Старая легенда («Хмурой ночью правитель гордый…») Ополченцы («Мы вышли из леса…») «Всё стало странно и не так…» «Тишина… Темнота… Даже звёзды потухли!..» «В любви, науках, деле ратном…» Дорожная песенка («Я – весёлый старик Дон Кихот…») «Я не люблю ночные тайны…» «Коридоры пусты. Ни домашних ни слуг…» «Темны дороги, а песни долги…» «Я видел ночью свет в твоём окне высоком…» «Лежу во тьме. Зелёный холод…» «А у князя резны терема…» «Когда прохладой дышат степи…» «Могучие, пышные кроны…» «Я слышал, что тебя постиг…» Сон («Ужас, которым был полон сон…») «Не может быть другого варианта…» Демон («Как будто пробудился улей…») «Я верну дары и отвергну дань…» «Безумно и яростно ветер свистал…» Пророк («Сквозь город, тонущий в вине…») Мексиканская фантазия («Мария, Мария, не надо, не бойся…») Восточные мотивы 1. Ветхозаветное ««Арабы, струнами бренча…») 2. Крестоносцы («Неумолимо и жестоко…») 3. Правитель («Восток в дыму, душа в огне…») 4. Философическое («Мудрец уходил в пустыню…») 5. Армения («Южных дорог я не ведал ранее…») III. «Укажи мне дорогу к дому…» «Дышит холодом неба омут…» «Я – кулик, отыскавший другое болото…» «Познаешь и проклятье, и прощенье…» «Неважно, мало или много…» «Я не рыцарь. Но если порыться…» «Беспощадный февраль – роковое наследие…» Высокое давление («Что меня ждёт, непогоды кроме?») Омский мотив «Это Омск 90-х…» «Устало дремлет каземат…» «На город надвигалась тьма…» «Мы были, мы некогда были поленьями…» «Буду видеть вполглаза…» «Говорил мне Город: «Повинись!»…» Отцу («А в Петербурге выпал первый снег…») «Восседая небрежно в глубоком седле…» Петербург Белая ночь («Какая милость – видеть сны наяву…») Петропавловка («Солнцу сюда не попасть, не пробиться…») «Над Невою – мачты кораблей…» «Сопрано чаек, смытое волной…» «Эта осень взошла из замёрзшей земли…» «Мы сидим в этой осени – точно в осаде…» «Мир замер, как будто примёрз…» «Грусть переплавлена в слова…» «Весь мир – в плену осенних чар…» 16-я линия, 49 («Моё окно выходит на Восток…») «Смеётся Весна, зажигая звезду…» Урбанистическое видение («Проспект разволновался…») Новороссийск («Какая тесная страна!..») «Леса готовятся к зиме…» «Воют волки: «Дойти до норы бы…» «Чернеют пыльные овины…» «Поднимаю свой весёлый кубок…» IV. ПРОЛИСТАЙ СТРАНИЦЫ МОЕЙ БЕССОННИЦЫ… «Любовь – это холод ночного двора…» «Не шепчи торжественно и напыщенно…» «Мысли мои бьются с дождём…» «Стынет стенка, за которой…» «Плачет душа – тяжела, грешна…» «Ты живёшь и не знаешь…» «Ночь без тебя. День без тебя…» «Мы породнились с белою Луной…» «Ты мне снилась, ты мне снова снилась…» «Целый мир, как волной, октябрём накрыло…» «Пробудилось сердце, запело, кровью умылось…» «Дождь по стеклу всё ползёт, струится…» «В халате, важный, словно дож…» «Я сделал шаг – и оступился…» «Ограды на брегах осенней Леты…» «Вакуум. День пролетает на «рáз-два»…» «Как буйволы или волы…» «О, я познал, что нету смысла…» «Ты не спросила, что со мной творится…» «Когда, жестоко занедужив…» «И снова – снег. Глазницы окон…» «Колотится сердце, как нерпа…» «Жили-были два мальчика – два поэта…» «Приедешь рано, поутру…» «Ты уходишь, как сон, – оставляя отчаянье…» «Снег на асфальте таял воском…» «Я не вижу финала. Да будет ли он?..» V. ЦЕЗАРЬ И КЛЕОПАТРА (Поэма из фрагментов) Послесловие («Ну вот и всё. К концу идёт тетрадь…») Начало Давным-давно, когда из чёрной грязи Господь ещё не создал человека, А человек из дерева и камня Не вырезал безжалостных богов, Был мир иным. И в воздухе прозрачном, Над водной гладью, над грядою горной, Над жёлтою пустыней, над лесами, Кипя волною, облака взрывая, Струя барханы и качая кроны, Носился Дух, Предчувствием томясь… I. ОХОТА НА ТЕЛЬЦА *** Облака повисли бельём на звёздах. Впереди – погружение в чёрную муть. Во все свои лёгкие набираю воздух, чтобы как можно глубже нырнуть – до пещер, где морские клубятся змеи, до подлодок, которые съела ржа, но при этом – силы свои соразмерить и под контролем сознанье держать. Здесь неважно, какой ты – бесстрашный, скорый, давно научившийся всё уметь: слова – такая стихия, в которой достижение дна означает смерть. *** - …Где Орион? - Смеётесь? На Охоте! Что передать? Постойте, вы куда?.. …Он осознал, что Время – на исходе И побежал сквозь дни и города. Его друзья, одетые по моде, Кричали вслед: «Хоть изредка пиши!» Но он узнал, что Время – на исходе И потому отчаянно спешил. Нахмурив брови и набычив шею, Он на себе отчаянье таскал. Он не желал бездарно стать мишенью – И потому Охотника искал. Смеялись люди: «Ищет – не находит!», Неспешностью, как розгами, секли… Он понимал: их век – не на исходе, Его ж часы почти что истекли. …И, звёздного исполненная звона, Настала ночь, с небес низвергнув тьму. Он в высоте увидел Ориона – И устремился радостно к нему. Упал на землю лунный луч, как сходни, Взметнулись ветры, трубами звуча, И положил ладонь свою Охотник На рукоять короткого меча… …Гуляя, вдруг увидел я: над домом, Там, где гундосит ветер, как труба, В огромном небе, чёрном и бездонном, Велась такая страшная борьба, Что гул ударов шёл по всей природе. И я стоял, в мерцании светил… Прохожий хмыкнул: «Эй, чудак, не в моде Романтика!» - и я вдруг ощутил: Его часы ещё не на исходе… *** Неделя с чистого листа. Жизнь с красной строчки. Всё с начала. Мир снова полон страшных тайн… Я вижу: по ночной земле крадётся призрачный туман, как заклинание, как чары колдуньи, спрятанной навек в сырой тюремной горькой мгле. Я вижу алые уста. Зрачки – как точки. Брови – стрелы. Ты, верно, брошена в тюрьму за дело – не за баловство! Я вижу стражников во тьме. Они забавны и несмелы. Их угнетает твой азарт, твоё шальное волшебство! Они, конечно же, уснут, а ты на ветер набормочешь, а тот все речи отнесёт дракону о шести крылах – и он мгновенно прилетит, и ты ему на спину вскочишь, и унесёшься в темноту, о тёмных думая делах… Такой вот простенький сюжет мне эта полночь намычала, коровой звёздною склонясь под вьючной тяжестью планет… Передо мной – чистый лист. Я начинаю всё сначала. Я наблюдаю, как в окно струится нежный звёздный свет. И каждый день, и каждый век, повиснув на кресте оконном, какой-нибудь смешной чудак следит, уставясь в небеса, как ведьма с хохотом летит, изящно оседлав дракона, над миром, где уже почти никто не верит в чудеса. Опять забота королю… опять в опасности принцесса… и снова требуется принц, желательно с большим мечом… Но предсказуемость ничуть не портит таинство процесса, в котором нет для нас дилемм: кто за кого и что почём. А потому – да будет так: нас не покинет вдохновенье, не перестанет волновать, чужим насмешкам вопреки – и ощущенье новизны на нас сойдёт, как откровенье. Неделя – с чистого листа. А лист – с пылающей строки. *** Пером по листу иль холсту води, Но помни, что в этот дом В любую секунду может войти Тот-Кого-Все-Мы-Ждём! И пусть ты известен и здесь, и там, Пусть вся твоя жизнь – успех; Но с мерой другою приходит к нам Тот-Кто-Мудрее-Всех! Пускай гениальны твои дела, Картины, стихи, статьи – Уже на плечи твои легла Чёрная тень Судьи. Столы, за которыми ты сидел Кружат, как десятки плах. Громады твоих повседневных дел – Пò ветру мчащий прах. Считаешь, что жизнь протекла не зря, Что страстью пьянила ночь?.. …Тебе подфартило – кипя, горя, Над серым районом взошла заря – Тень отступила прочь… *** Звучанье слова, движенье кисти — сродни камланью: идём ко дну, пытаясь выбрать из многих истин, из разных истин – одну. Грозит пространство клыками, жалом, во мраке – рокот, движенье, страх. То леденит, то охватит жаром, свирепым жаром костра. А путь всё ýже – змеится, вьётся… Так просто в липкий ступить обман, упасть во тьму, где уже смеётся, уже хохочет туман! Взлетают искры, бушуют ветры, и вдруг привидится вдалеке чудесный терем – узорный, светлый, подобный чьей-то руке: пять башен гордо взлетели к звёздам – пожатья ищущая рука… Огонь… Виденье оплыло воском… Рассвет пронзил облака… *** Вот человек. Он замер у стола. В его груди, как птица, бьётся Слово, и ручка, как острога иль стрела, взметнулась в предвкушении улова. Туман и мрак. Всё только в чертежах. Мир не рождён, не выдуман, не назван, и ангелы в беспечных кутежах ещё смеются: «Ну куда до нас вам!» А человек уже услышал ритм, и, претворяя в жизнь чертёж-рисунок, он о любви пространству говорит – и луч звезды рапирой входит в сумрак. Творцу Вселенной многое дано – заряды звуков, контуров и линий; он говорит: «январское окно» – в ответ звенит стекло, искрится иней. Он произносит: «августовский сад» – и слышен запах яблоневой дали, и мечется бенгальский звездопад, как искорки шампанского в бокале. Он шепчет: «одиночество» – и вот пространство, на границы раскошелясь, атлантом подпирает небосвод и стелет, как ковёр, прибрежный шелест. «Звезда!» – и ярко вспыхивает прах, в небесный холод накрепко врастая: всё сущее скрывается в словах, которые – фундамент мирозданья. Всё под рукой, как карты в рукаве. Начав исход очередного цикла, клубок событий залетает в дверь, которая минуту как возникла. И человек, светлеет, словно свят: он может всё, он целый мир поднимет одним лишь Словом… Ветры не галдят, и ангелы, опомнившись, глядят на мир, возникший там, внизу, под ними… *** Полночь хлещет по шторам, Городами звуча. Я – подсвечник, в котором Догорела свеча. Не затем ли во мраке Всё сильней и сильней Манят жаркие маки Полуночных огней? Да не в них-то и дело! Фонарём не помочь: Коль душа охладела, В ней рождается Ночь. Эта немощь известна – Не впервые со мной… Это чёрная бездна Пустоты ледяной. Но из лучиков звёздных, Из раздумий и чувств Я леплю, как из воска, Золотую свечу. И без умысла злого, Без желанья чудес Я прошу только Слова У холодных небес… *** Ревели драконы, визжали химеры. Охотник все звуки улавливал чутко, Исполнен дремучей языческой веры… Мне не хватает этого чувства. Корабль отправлялся к неведомым странам, В простор, где всё было и ново, и чуждо. Сам воздух дышал и надеждой, и страхом… Мне не хватает этого чувства. С седой бородою, в хламиде узорной, Дрожал астроном в ожидании чуда, Взбираясь на башню с трубою подзорной… Мне не хватает этого чувства. *** Нет больше слов – на восход, на закат… Нет больше образов, мыслей и песен… Отче! Я – колокол без языка. Я несловесен. То ли излишне старался звонарь, То ль у бечёвки прогнила основа… Рухнет цепочка, коль нету звена. Нет во мне Слова. Синь поднебесная так высока… Ранние звёзды… Далёкие веси… Отче! Я – колокол без языка. Я несловесен. *** Угнездился, словно окопался, над клавиатурой взглядом рея, и небрежно разминаю в пальцах странно осязаемое Время. Сквозняком космическим овеян, мну в ладонях судорожно-страстно пластилин мелькающих мгновений, глину загустевшего пространства. Чувствую: схватилось, затвердело Время, что сжимаю в кулаке я, и небрежно сбрасываю тело, как шубейку нá руки лакея… Подтвердилась жизни теорема! И со стороны смотрю тревожно на себя, сжимающего Время, словно перерезанные вожжи… *** Когда ты выйдешь на подмостки, И от волненья бросит в жар, Забудь и думать о подмоге, Ты сам, приятель, выбрал жанр – Труднейший жанр моноспектакля. Во мраке тонет эхо фраз, И человек горит, как пакля, Под наблюденьем тысяч глаз. Но не ищи глаза глазами, Не поступись своей судьбой, Когда потянутся из зала Все несогласные с тобой. Увы, увы! Их будет много. Кто благосклонен был вчера, Сегодня осуждает строго Бровями мудрого чела. - Его дела! Его сужденья! – - Не так ступил! Не то сказал! – И зал струится чёрной тенью На выход. Тихо тает зал. И не могло здесь быть иначе, Ведь монологи не в чести. Не жди поддержки и отдачи, Непонимание – прости. Пройди отчаянья экзамен, Сумей бессилье побороть, И, может быть, в пустынном зале Зааплодирует Господь. Репетиция Предчувствие жизни. Дрожит тишина. Негромкий звонок – начинается действо. Пред нами стоит молодое семейство – друг друга нашедшие Он и Она. А в зале пустынном – один Режиссёр. Как видим, он верный сторонник традиций: три сцены – и должен ребёнок родиться (добавим для точности: третий актёр). Родился – и вырос. Что дальше? Луна, цветы, соловьи, невозможные чары… И смотрят на жизнь, что вершится с начала, слегка постаревшие Он и Она. Два акта вместили кипение лет. Кому-то пора раствориться в кулисах, читая печаль и смятенье на лицах людей, что остались и смотрят вослед. Ещё не растаяло эхо шагов, ещё об ушедшем напомнят предметы… И делает Мастер на пьесе пометы, меняя сюжет и звучание слов. И снова движенье, и снова Луна. И люди на сцене меняются часто, а с ними приходят и горе, и счастье, И странное чувство тягучего сна. Идёт к завершенью спектакль вековой, финального действа слова зазвучали; из тех же актёров, что были в начале, теперь не осталось уже никого. Но вот и финал! И торжественный свет – такой нестерпимый, что мучает, ранит… Выходят актёры, ушедшие ране, склоняясь под грузом сценических лет. Как дивно молчание зала звучит – над сценой – далёким, невидимым хором!.. И старенький Мастер поднялся к актёрам, и каждому смотрит в глаза. И молчит… Драматург (Вольфганг Борхерт. «Там, за дверью», 1947 г.) Вот дверь. Она ничем не примечательна – ни грозной стражей, ни семью печатями, никто в ней необычного не видит. А автор бледен, словно rasa tabula, предчувствуя, как в сердце зреет фабула: дверь вздрогнет – и из дома кто-то выйдет. Но только от предчувствия до выхода (как иногда от вдоха и до выдоха) проходит вечность, полная наитий. Сосульки, рифмы – всё грозит обрушиться, и голова уже немного кружится, как от излишне частых чаепитий. И столько за мгновенье это прожито, что автору уже неважно, кто же там: «Герой, злодей, монах, король… – да ну вас!» Картинка в голове сложилась, вызрела, до мелочей, до реплики, до выстрела – и наплевать, что дверь не шелохнулась! *** «Елена Пинскер, уч. IV класса ст. ступени» Надпись, сделанная карандашом на учебном пособии «Древний Восток и первобытная Греция», изданном в Казани в 1916 году. Хмуря брови усердно и мило, От закатного света красна, Над историей древнего мира Молодая зевает весна. Тянет в сон от Ахилла и Красса. За окошком – шестнадцатый год. Гимназистка четвёртого класса Переходит историю вброд – То по щиколку, то по колено, Размышляя совсем о другом. Я тебя представляю, Елена, Так, как будто с тобою знаком – В отшумевшем столетии издан, Через годы распада и мук, Тонкий томик, потёрт и залистан, Сохраняет тепло твоих рук. И, касаясь страниц пожелтевших, Карандашные метки следя, Я одни различаю и те же Силуэты под рокот дождя: Небольшая уютная лампа И с кукушкой часы на стене В окружении пары эстампов – Небольших и приличных вполне. Книжный шкаф и, с накидкой атласной, Кресло возле большого стола. Ты сидишь, молода и прекрасна, Гимназистка четвёртого класса, И Судьба, глядя грустно и ясно, Над тобой распростёрла крыла… *** Привычно молодой и пылкий, Он так внезапно осознал, Что вся планета – место ссылки, Тупик, загашник, терминал. И в том ужасном пониманье Он вспомнил всё, за срезом срез – И чувство странного вниманья Со стороны ночных небес; И непонятное волненье При виде звёздной пустоты; И раздраженье, раздраженье От повседневной суеты; И невозможность спать спокойно, Когда, вселенским льдом пыля, Летят кометы, будто кони, И топчут звёздные поля! Он осознал свои границы – И это оказался круг. И даже дальние зарницы Стеною обернулись вдруг. Друзья – носители советов. Пути Судьбы – набор траншей. А осязаемость предметов – Что может быть её страшней? И он от жизни отрешился В тоске бескрайней и слепой, Как человек, что вдруг лишился Всех связей с миром и судьбой. Взорвались мысли, убежденья, Как от снаряда – ветхий щит, усталый, деревянный щит… ……………………………… Досрочного освобожденья Отныне ждёт он – и молчит. *** Тучный бык влюбился в звёзды, Одичал, затосковал, Стал сидеть всё время возле Равнодушных чёрных скал. На спине его брусникой Наливались комары. Он не двигался, как в книгу, Глядя в вышние миры. И в глазах его печальных, Влажно-чёрных, как вода, Серебристым перстнем в чане Стыла ясная звезда. Метеоры, словно росчерк, Мчались, ярче светлячков, По орбитам оболочек Гладко-выпуклых зрачков. Был он сильный и нестарый, Но его, растя бока, Так легко забыло стадо, Словно не было быка! Он об этом и не ведал, Жадно впитывая тьму, Опьянённый дивным светом, Вдруг открывшимся ему. «Как приблизиться к планетам Хоть на четверть, хоть на треть, Не обжечься и при этом Звёзды ближе рассмотреть?» И однажды бык по скалам Стал взбираться не спеша И в густом тумане канул, Паром яростно дыша. Но хитёр туман белёсый, А скала острей меча… Шумно рухнул бык с утёса, В смертном ужасе мыча… Там, где в небо рвутся скалы И рождаются стихи, Бычью тушу отыскали Заспанные пастухи. Перед ней застыли немо, Стиснув плётку в кулаке – Глядя, как мерцает небо В мёртвом выпуклом зрачке. Ночью астроном унылый Изменился вдруг в лице: «Нынче новое светило Ярко вспыхнуло в Тельце…» *** Он приходил в пустыню дважды, И каждый раз, в немой тоске, Боролся с демонами жажды, На жёлтом скорчившись песке. В ночи пустыня холодела, И равнодушная гюрза, Теплом влекомая, глядела В его глубокие глаза – В них полыхал нездешний пламень, Пророчивший недолгий Путь. И небо, точно чёрный камень, Скитальцу падало на грудь. Но груду звёздного обвала, Взрывал рассвет, смешлив и груб. И снова жажда целовала Все трещинки иссохших губ. Он приходил в пустыню дважды, И каждый раз бежал назад, Неся в себе страданья жажды, Небесный гул, змеиный взгляд. И каждый раз ему казалось, Что он постиг нездешний свет, И что души его касалось То, для чего названья нет. Но обращались звёзды медью, В чьём тусклом свете гасла власть Покоя, смежного со смертью, И страха, выросшего в страсть. Ни озарение, ни мета Не озаряли тех глубин, Где безымянная планета Во тьме кровила, как рубин. А дым костра земного – гадок, Беседы мудрых – крик невежд. В закатах больше нет загадок, В рассветах больше нет надежд. И вот, когда земля остыла, Безумной радостью согрет, Он в третий раз пошёл в пустыню – За тем, чему названья нет. Кометы пели и роились Над дикой пляскою веков, И змеи в стороны струились Пред шёпотом его шагов. Он долго шёл и обессилел, И на холодный лёг песок. И купол неба чёрно-синий Был упоительно высок. Всё пламенело и дышало В мелькании болидных стрел, И он смотрел – безумно, шало, Так жадно и светло смотрел! Постигнув жизни скоротечность, Свободен, лёгок, невесом, Вдруг ощутил он бесконечность В себе, а стало быть – во всём. И где-то ангелы трубили, Покой Земли сводя на нет. Мерцали дивные рубины Ещё не названных планет, Переливаясь белым, алым В лохмотьях ветра-бунтаря… Ползла пустыня одеялом, Приютом странника даря. Он засыпал спокойно, словно Судьбы распутан был клубок. А в небесах звучало Слово. И это Слово было – Бог. *** Костры и звёзды. Звёзды и костры. Пронзительно-холодный шёпот ночи, напитанные дымом облака… Всё это было в рамках той игры, где стая истребляла одиночек, чья мысль была от стаи далека. Туманный луг, и месяц молодой, из шерсти облаков торчащий бивнем, наполненные звуками леса… Всё это было. Тёплый, как надой, дождь обернулся первобытным ливнем, в котором утонули голоса, лишь на мгновенье разорвав покров покоя, что окутал человека, сказавшего, что племена – тесны. С дождём смешавшись, заструилась кровь, и небо задрожало, точно веко, когда тревожны и недужны сны… Столы и стены. Стены и столы. Ритм жизни – совокупность разных точек, взгляд на толпу немного свысока… Но, строя закоулки и углы, всё так же стая душит одиночек и жадно ждёт ошибки вожака. *** Il pleut – идёт дождь (франц.), дословно: Он плачет Скрывает туча, как ресница, Далёкий проблеск огневой. Бог спит. Ему, быть может, снится Мир – от начала своего. Скульптуры, казни, книги, бунты, Вечеря хлеба и вина – Всё умещается в секунды Господнего дурного сна. Грехи, искупленные кровью, Дремучей ереси недуг… Но безграничною любовью Так безнадежно полон Дух! Застонет Бог, зубами скрипнет, Проснётся утром весь в слезах… И дождь пойдёт. И ветер всхлипнет, Скрываясь в сумрачных лесах. Над городом потянет серым, И вздрогну, вглядываясь в даль, Вдруг уловив озябшим сердцем Его далёкую печаль… *** Какая б дева ни ласкала, Какая б нега ни влекла, В полях пустынных, в голых скалах Моя дорога пролегла. И там, где лес молчит дремучий, Иль море стонет и ревёт, Я слышу гул иных созвучий, Нездешних птиц слежу полёт. И в скирдах сена, и в овинах, И в городах, пожравших лес, Мне снятся волны и лавины, Кипенье лавы и небес. Я знаю – там, в конце скитанья Луч звёздный упадёт на дно. Проступят в небе очертанья Того, что видеть не дано. Душа, в сомненьях и вопросах, Свободна станет и чиста, И тихо лягут меч и посох К ногам спокойного Христа. *** Николаю Гумилёву Квартира с бедностью конторы. Заварка. Рукопись. Зима. Замёрзшее окно, в котором белеют сонные дома. Вдоль Мойки тянется позёмка. И небеса, бросаясь ниц, разбрасывают, словно зёрна, комки нахохлившихся птиц. Простор утоптан и укатан. Надев оконное пенсне, пылает зарево заката, кривясь, как в тяжком полусне. Холодный чай. Впитает свечи лепнина в пятнах позолот. На огонёк заглянет Вечность – и за собою позовёт. «Любезный гость в плаще гусарском и в маске, как на карнавал, тебя я ждал в Кронштадте, в Царском, тебя я каждой строчкой звал…» Замрёт в тоске необъяснимой, свечные очи закатив, квартира, мёртвая, как снимок, двухцветная, как негатив… Пройдёт столетье. И прохожий вдруг вздрогнет, словно в этот миг внезапно ощутит всей кожей дыханье здесь рождённых книг. И окна, и карнизы дома по-новому увидит он – и станет всё ему знакомо, как с детства мучающий сон. Шепнут ветра: «Смотрите, кто к нам!» и, словно в тяжком полусне, закатной грустью вспыхнут окна, как элегантное пенсне. Новая жизнь …Уж так легли шары планет, Так загорелись звёзд костры: У нас для встречи шансов нет, Мы – параллельные миры. То в ночь шагая, то на свет, Сквозь бури, песни и пиры, Я находил порой Твой след, Но звёзды пели: «Шансов нет, Вы – параллельные миры!» Я повернул столетья вспять, Размазав дни, как акварель; Я прошагал за пядью пядь Свою земную параллель. Рубя отчаянье сплеча, Заботам головы рубя, Я столько раз Тебя встречал, Я столько раз терял Тебя… Глупец сочувствовал: «Оставь!», Мудрец напутствовал: «Забудь!», Но, Книгу Жизни пролистав, Я отправлялся в долгий путь. И, вновь проснувшись на Земле, Мечтал нарушить ход Игры… А звёзды улыбались мне: «Вы – параллельные миры!» Первая любовь Мерцая, словно бабочка в окне, нимало не тускнея, не старея, сверкает колокольчиком во мне любовь из позапрошлого столетья. Тем автор и силён: герой теперь не одинок, и вместе мы заплатим за радость с горьким привкусом потерь, за тёмный сад с мелькнувшим белым платьем. За сладость губ, вспорхнувших над щекой, за лунный луч, тяжёлый, словно слиток, и полусонный перестук щеколд прощающихся утренних калиток. Спустя почти что полтораста лет я предан твоему, герой, недугу, как пёс, давно уж потерявший след – и обречённый двигаться по кругу. Я точно знаю: здесь она была. Усадьба, сад, река – маршрут известен… Но на моём пути – одна лишь мгла, лишённая простора и созвездий. Всё кажется: сейчас раздастся смех – немного грустный, звонко-серебристый, и в зыбкой пелене эпох и вех проступит мир, спасительный, как пристань. Но – тишина. Вернувшись к ноябрю две тысячи восьмого, вспомню только услышанное там «Я Вас люблю…» огромной жизни маленькая долька. Сюжет прочитан-прожит. В тишине, нимало не тускнея, не старея, живёт воспоминанием во мне любовь из позапрошлого столетья… *** Лунный свет на незыблемых трубах. Двор чернеет, как высохший ров. Стонет Время в объятиях грубых Неземных, леденящих ветров. Календарь облетает, как тополь, Истекает отпущенный срок. Ждать огня нам? мороза? потопа ль? Как обычно, всё будет не впрок. А хотя… неплохая затея – Мир начать, как неделю, с нуля! Это будет земля Прометея, И Христа, и Колумба земля! Будут битвы, походы, набеги, Будет время стрелы и меча, И в волнении выйдет на берег Кто-то в белом, слова бормоча… На сутулых фигурах фонарных, Словно всадники – призраки Тьмы. Тихий шорох листов календарных, Лёгкий вздох наступившей зимы. Перед сменою цивилизаций Дремлет войско заснеженных труб, И далёкие звёзды слезятся – Как глаза на холодном ветру. *** Какой нездешний, ясный свет там – над землёй, над облаками, где небо, в яблоках планет, поводит круглыми боками, роняя звёзды в чёрный ров, в непостижимые просторы, хвостом космических ветров отбрасывая метеоры. И этой мощью опьянён, Я брежу духом вышней воли, Как старый и усталый воин, К которому крадётся Сон. *** Над жизнью суетной и тленной, В смятенье ввергнув города, На синем бархате Вселенной Зажглась священная звезда. По всей земле затихли звуки, И в наступившей тишине Деревьев трепетные руки Взметнулись к звонкой вышине. Ещё закат клубился ало, И день прощался навсегда – На тёмном бархате мерцала Горела вечная звезда. И столько было в ней надежды, Что трепетали храбрецы, И тихо плакали невежды, И замолкали мудрецы. И каждый луч пронзал, как жало, Людские чёрствые сердца, И небо холодом дышало Из чрева звёздного ларца. Так ночь прошла – оставив рану, Которой безнадёжней нет… И над озябшим миром грянул Студёный мартовский рассвет. *** Сколько смерти скрыто в этом мраке… В свете фар, как вечности буйки, На дороге – кошки и собаки, А повдоль – надгробья и венки… Только миг – и пройдены все грани. Сделай шаг – войдёшь в иной альков. Жизнь людей – в несложном этом плане – Не сложнее жизни мотыльков. Оттого по жизни многоокой, Разминувшись с шумною толпой, Не людскою я хожу дорогой – Одинокой волчьею тропой… *** Будь непокорен средь покорных, Среди ораторов – молчи. Крепи свой дух, покуда в горнах Куются острые мечи. И умудрись не ошибиться, Судьбы невольный паладин, Не оступиться и не сбиться С того пути, где ты один. А коль допустишь в жизни промах – На плечи ляжет мощью всей Непонимание знакомых И отчуждение друзей. Пройдёшь спокойно между ними, Как царь средь оробевших свит – И ветер дружески обнимет, И луч звезды благословит. *** Я перешёл планиду вброд, прозрев грядущие года. Мои глаза темнее льда на дне замёрзшего пруда. Но ты не веришь в мой уход… Раскрыв, как книгу, небосвод, я прочитал пути планет вперёд – на сотни тысяч лет, я в них живу, меня здесь нет… Но ты не веришь в мой уход… Я пролистал за годом год всю жизнь, до месяца, до дня – и встал, как Феникс из огня. Другие звёзды ждут меня. Но ты не веришь в мой уход… *** При жизни, может, и прославимся, Но в славе, право, смысла нет. Мы ускоряемся. Мы плавимся. Мы слышим песнь иных планет. Она звучит по нарастающей, Круша заслоны облаков – И воды Антарктиды тающей Гоня до наших берегов. Жизнь, упакованная в хроники, К нам не вернётся никогда. И просыпаются покойники В преддверье Страшного Суда. Тошнит вулканы алой лавою, Но, из чумы бросаясь в пир, Болваны гонятся за славою, Как за билетом в новый мир. *** Век девятнадцатый скушали блохи, Двадцатый раздавлен наплывом тем, А я в двадцать первом и дела мои плохи – Меня угнетает в системном блоке Пульсация микросхем И не в том беда, что я спутал эпохи И что был ничем, ну а стал никем, Но я встретил друга в забытом доке И на дне его глаз увидал со вздохом Пульсацию микросхем. В мониторах плоских, словно в лопатах, Пустошь релизов, мой кабинет. Напишу тебе: горести заколебали, А ты измеришь мой стон в килобайтах И решишь, достоин я или нет. *** Исчезла былая отвага на радость седому врагу. Ни слова, ни дела, ни шага позволить себе не могу. А враг в зеркалах искривился, взирает, усмешку тая: «Ты звал меня? Я появился. Но что ж ты печалишься, Я?..» Эпоха спрессована в строчки сюжета, вместившего жизнь – а жизнь докатилась до точки, до самовнушенья: «Держись!» Контакты, дела, отношенья, с утра сочинённая цель… и кто-то, сжимая ошейник, всё дёргает, дёргает цепь, и город, как фартук, засален, и тянется, тянется нить, и я уже так социален, что впору по-волчьи завыть… *** Человек парит в пространстве, Забывая о делах, И смеётся ветер странствий В воском смазанных крылах. Человек парит, как фея. Вылетают в снежный мрак Из открытого портфеля Стайки писем и бумаг, Из карманов – пачки денег, Телефоны, портмоне; Галстук, словно банный веник, Резко хлещет по спине. А навстречу – небо, звёзды, Снегопад в бездонной мгле – Всё, что вечностью зовётся, Всё, что снится на Земле. *** Буквы сливаются, плавают, тают… Через бумагу струится свет. Я только делаю вид, что читаю На самом деле меня здесь нет. Проходят люди, роняют звуки, клокочет речь, как весной вода. Я всем улыбаюсь, пожимаю руки, но меня здесь не было никогда Здесь всё известно и неизменно, и слова мертвы, и глаза пусты, и по кругу движется Время, как змеи, друг другу кусающие хвосты. Ах, какая тоска – хоть топись, хоть вешайся… Над самим собой потешаясь всласть, я симулирую креативное бешенство и огромную трудовую страсть! Мысли лезут по Истине, как по лезвию, но устало падают средь столов… В моих жилах бродит вирус поэзии, а коллеги думают, что я здоров: и систему понял, и в процесс включился, основателен, важен и деловит… За свои двадцать девять я научился создавать видимость и делать вид. *** Я нарыл свежий факт – незаезженный, жареный… Но хором воскликнули редактора: «Нам нужны материалы, написанные в жанре, условно именуемом «гип-гип ура»!» Я хотел рассказать, что гниют урожаи и что вся наша область – просто дыра… Но услышал мягкое: «Давайте-ка в жанре, условно именуемом «гип-гип ура»!» Я хотел донести, что в Сибири – пожары, что в народе – смута и что нам пора… Но меня перебили: «Ну, пожалуйста, в жанре, условно именуемом «гип-гип ура»!» А главный редактор, с лицом повесы, сказал отечески: «Пылкость – стара! На дворе давно уже – Эпоха Прессы, написанной в жанре «гип-гип ура»!» Утренний триптих I. Не поддавшись сонному недужью, выбежав из сновиденья прочь, я проснулся. Жирной чёрной тушью в комнату, как в трюм, втекала ночь. Был тяжёл холодно-звёздный запад, воздух был тяжёл – и потому я проснулся. И шагнул, как за борт, в зыбкую и ладанную тьму. Чёрный куб оконного проёма серебрился, и фонарь-циклоп акварелью мокрого района украшал оконное стекло. Напитавшись ясным звёздным светом, зеркало мерцало на стене… И в полночном натюрморте этом было больше жизни, чем во мне. II. Пространство загустело и прокисло. Луна декоративна и слаба. Несу балласт навязанного смысла И бремя атмосферного столба. А там, где воздух жёлто-фиолетов И сыростью сквозит из глубины, Прожорливые щели турникетов Берут из рук жетонные блины. И в полутьме, бездушной и прогорклой, Подобно расхитителю гробниц, Ползу в ребристо-сводчатое горло Тоннеля, убегающего вниз. Во встречных взглядах – тусклый отсвет жизни, Привычный, как сюжет семейных драм, Как труд, как общепринятые джинсы, Как растворимый кофе по утрам. В моей душе – немые вспышки молний, Угрюмые, как тучи, валуны В пощёчинах прибоя – и лимонный Холодный проблеск вызревшей Луны. Но, к месту в жизни намертво привинчен И в социум впечатан заодно, Спускаюсь обречённо и привычно По лестнице, сползающей на дно. III. Мой календарь, считая день за днём, провидит наперёд все повороты, как жизнь за покосившимся плетнём или в октаве замершие ноты. Всё неизменно. Так из года в год начальница, в печали сероглазой, мой, в общем, предсказуемый приход встречает предсказуемою фразой. Вот человек мелькнул передо мной, он беспокоен, словно, жизнь итожа, внезапно повторил свой путь земной, где видел день за днём одно и то же: метро, где были сны погребены, работу, где мечты пришлось отбросить, раздумья с недостатком глубины и страсти, перекованные в проседь. И в этой круговерти серодней, в метели кофеинового пепла душа себя растратила, и в ней привычка к повторению окрепла. Но это неизбежный приговор, какие ни придумывай уловки: вся жизнь, по существу, один повтор – за вычетом вступленья и концовки. *** Всё хорошо. И как будто создана база для жизни, то есть для размножения и труда, но мне, мне, который всё время обязан, не хватает смелости иногда – а точнее: почти что всегда. Как видимо, орган, выделяющий храбрость, усох, а то и вовсе не был выдан мне – другому достался лишний кусок. Не хватает смелости – средь тиранов и лохов – Петропавловку в пальцах, как пешку, сжав и, по мёрзлой земле многократно прогрохав, объявить удивлённому городу шах. Не хватает смелости – среди важных умниц – потянуться, протяжно и сладко зевнув, и обрушить на липкие ленты улиц стены дома, который построил Нуф-Нуф. И ведь каждый помнит о смерти: «memento!», но не каждый слушает рокот орбит, действуя со сладострастием инструмента, точно знающего, куда надо бить. А моя душа, идущая к свету наощупь – без попутчиков, лезущих в душу и на рожон, как роща осенняя, тихо ропщет, но покорна, словно Телец под ножом. Не хватает смелости… но хочется до озноба распрямиться, с треском порвав страну, в которой дрожжево бродит злоба и подолгу, по-сучьи кричит на Луну, вкрученную, как лампочка, в потолок. И я тоскую, взглядом по тучам скользя. Эта жизнь естественна, как патология, вылечить которую, увы, нельзя. *** Ночь коротка и день недолог, петардами разорван двор, как будто несколько двустволок ведут горячий разговор. Покой не предусмотрен в смете эпохи, пущенной в галоп, лишь Всадник, вылитый из меди, глядит, не морща медный лоб. Ему-то что? Построил город – и всё, и никаких гвоздей, пусть даже время ход ускорит (как пишут в топе новостей). Я и примерить не посмею всё новостийное меню к Петру, к растоптанному змею и к величавому коню. Для них эпоха дышит мерно, несуетно… а в наши лбы бьёт интернетовская скверна, как дрянь из прорванной трубы. Возможно, некий археолог мои отыщет письмена: «Ночь коротка и день недолог…», и грустно скажет: «Вот те на! Неблагодарны человеки – не ценят воду, сон, еду… А в нашем двадцать пятом веке спать можно только раз в году!» *** Сижу в дому, как в цитадели, А за окном шагает гордо Сорок четвёртая неделя Две тысячи шестого года. Она и ливни, и метели Несёт в корзине необъятной – Сорок четвёртая неделя, Предшественница сорок пятой. Её удел, увы, забвенье, А мой – движенье без свободы Через недели и мгновенья, Сквозь разогнавшиеся годы. Но и другое вижу ясно: Быть может, у последней Цели, Так сумасшедше, так ужасно Не хватит мне одной недели! *** Зима гуляет по Неве, И вот, рукою твёрдой, Я подвожу итог главе Две тысячи четвёртой. Очумевая от возни И двигаясь помалу, Я в этой повести возник, Надеюсь, не к финалу… …Но что за век, какая прыть – Хоть прямо стой, хоть падай: Настало время подводить Итог две тыщи пятой… Года проносятся стремглав – Планиду не стреножить, Но я ещё немало глав Надеюсь подытожить, И наломать немало дров, И брод найти у Леты На стыке яростных ветров Со всех концов планеты! Покуда подбирал слова, Черновики листая, Открылась новая глава – Две тысячи шестая. Мне Время не догнать (увы!), Читаю по природе: Две тысячи седьмой главы Начало на подходе… И летопись не завершить – Плетусь, как вол обозный… Пойду, считая рубежи, И постараюсь просто жить – Пока ещё не поздно. 2004-2006 *** Вспомнив о силах, что были в начале, и проклиная привычный покой, всё, что несложно, и всё, что случайно, я отсекаю звенящей строкой. Годы кипят в вековой круговерти, трётся пространство о рёбра клинка. Я прочитаю предчувствие смерти в синих глазах молодого быка. Душу, как цепи, обвили привычки – сколько условностей в этой судьбе! Сквозь многоточия, скобки, кавычки – Отче! Стараюсь пробиться к Тебе. Ветры умолкнут над полем душистым, воздух сгустится, внезапно тяжёл… Я прочитаю предчувствие Жизни в сомкнутых веках того, кто ушёл. *** Всё хорошо, но в меру… Парафраз учений из Эллады и Сиона. Являлась, верно, каждому из нас бесхитростная эта аксиома. Всё хорошо, но в меру… Суета речей, очей, идей, телодвижений ведёт к черте, за коей – ни черта, как ни крути натруженною шеей. Так мудрено ль, что, сделав резкий шаг и осознав себя в иных условьях, я вдруг застыл на месте, не дыша, как будто над Судьбой, у изголовья? Я замер в непроглядной тишине, вдруг натолкнувшись (и обмякнув сразу) на кем-то адресованную мне холодную и горестную фразу. Как будто вдруг сгустилась темнота, раскинувшая липкие тенёта, как будто, жаркой кровью налита, во тьме метнулась рифма или нота; как будто, по-тоннельному дыша, открылась первозданная основа – и содрогнулась робкая душа, и в чёрной тишине родилось Слово… *** Диоген просыпается зá полдень и, зевая, трясёт бородой, наблюдая, как тают на западе паруса над зелёной водой. Диоген наблюдает за чайками, что над морем и миром кричат; за аллеей, где греки с гречанками каждодневно проводят гречат. Греет солнышко старца приморского, но приносит холодную тьму горделивая тень Македонского, помешавшая греться ему. Ни в царе нет величья, ни в идоле, и философ, затеплив свечу, говорит: «Человека не видели? Покажите – увидеть хочу!» …И когда догорает на западе день – близнец предыдущего дня, мысли, словно в пути указатели, к побережью выводят меня. Там и Солнце – иное, нездешнее: им другие согреты века, там и чайки кричат безутешнее, отражаясь в глазах старика. Сквозь закат, расплескавшийся розово над прохладной зелёной волной, я несмело смотрю на философа, что ко мне повернулся спиной. Я боюсь, что, в печали, в обиде ли сам в себя заключённый навек, он шепнёт: «Человека не видели?» и простонет: «Ну где ж человек?..» II. СТАРАЯ ЛЕГЕНДА Старая легенда Хмурой ночью правитель гордый Наблюдал за плывущим воском. Три гонца оставили город, Осаждённый огромным войском. Три гонца оставили город, И один стал держать к востоку, А другой повернул на север Ну а третий пошел на запад. В белой башне седой правитель Беспокойно бродил по залам. Он сегодня во сне увидел, Что город объят пожаром. Три послания, три надежды На коней, на ночь, на дорогу, На то, что придут, как прежде, Союзники на подмогу. Может, вспомнят в каком-нибудь эпосе, В старых песнях на новый лад: Три посланника вышли из крепости – Ни один не вернулся назад. Ополченцы Мы вышли из леса – в репейниках, в росах. Рассвет наливался, как свежая рана. И каждый подумал, сжимая свой посох: «Не слишком ли рано?» В туманную даль уходили дороги. Три облачка шли караваном обозным. И каждый подумал, очнувшись в тревоге: «Не слишком ли поздно?» Такой тишиной отовсюду дохнуло, как будто тут всё уничтожили, выжгли… И каждый подумал устало и хмуро: «А там ли мы вышли?» *** Всё стало странно и не так, Едва декабрь настал: Все дни висел унылый мрак И ветер завывал. И слухи чёрные ползли Пьяня сердца, умы – Об армии иной земли, О порожденьях Тьмы. Покинув тёплый кров домов И бросившись в метель, Мы шли от Западных Холмов До Северных Земель – По берегам замёрзших рек Под сводами лесов. Нас было сорок человек – Испытанных бойцов. Смеялась вьюга: «Поспеши! Не дай врагу уйти!» Мы ни одной живой души Не встретили в пути. Когда ж казалось: цель близка – Вдруг проросли в сердцах И невозможная тоска, И бесконечный страх… …Дурманит, как тяжёлый хмель, Густой костровый чад; В болотах Северных Земель Остался мой отряд. *** Тишина… Темнота… Даже звёзды потухли! Ни квартирных огней, ни багровой Луны… Лишь в глазницах моих – раскалённые угли Замерцали, огнём беспощадным полны. И в смертельной тоске я касаюсь рукою Воспалённых глазниц, опалённых бровей… Мне дано, мне позволено видеть такое, Что иссушит быстрей, чем любой суховей! По пустынным проспектам ползут колесницы, Громыхает броня, всё сильней, всё страшней, И у каждого воина угли в глазницах – Раскалённые угли в глазницах коней! Неподвижны дома, неизменны просторы… Тени смотрят – боясь? почитая? грозя? Словно крепкую дверь, рву багровые шторы И валюсь на постель, и держусь за глаза. В чём загадка? Прапамять? Обычный недуг ли? Я же светел – уйди, расступись, темнота! Но в глазницах моих – раскалённые угли, А в душе у меня – пустота… пустота… *** В любви, науках, деле ратном Он всё познал, но вот беда: Его часы пошли обратно, И обратили вспять года. Через него текли столетья – Не удержать, не овладеть… И он, не ведавший старенья, Вдруг начал резко молодеть. О, как нести доспехи эти, Коль сила канула в веках… Уж конь не слушается плети, Уж меч не держится в руках! А рядом – плавится пространство, Летят видения гурьбой: Воспоминанья дальних странствий, Сражений, ярости слепой, Любви, покоя, вдохновенья… И между ними – звёздный мрак. Струятся долгой жизни звенья, И не закончатся никак… …У взрослых голос глуп и громок. И смотрит, как на дураков, Всё понимающий ребёнок, Проживший тысячу веков. Дорожная песенка Я – весёлый старик Дон Кихот. Я – подвижнее юных пажей! Отправляюсь в последний поход, Посвящённый моей Госпоже. Я ходил бы в поход каждый год, По деревням и замкам кружа, Чтобы ведал и помнил народ, Как прекрасна моя Госпожа! Только силы мои – на нуле, Меч не держится в старых руках… Может, речи мои на Земле Не затихнут в далёких веках? Может, светом своей Госпожи Сможет мир озарить Дон Кихот? О, прошу тебя, Время, скажи! Мне немного осталось пожить – Я иду в свой последний поход… *** Я не люблю ночные тайны, И до рассвета свечи жгу, А тени, чёрные сутаны, Молчат, готовые к прыжку. И скачет, скачет чёрный всадник, Струится-вьётся звёздный плащ, И кто-то кашляет надсадно Иль это чей-то бьётся плач? Мне не уснуть, пока румянцем Не озарится небосвод И ветерок небрежным танцем Не тронет гладь холодных вод. Мне не забыть сухие стуки Двух крыльев в старое окно И эти трепетные руки, И взгляд, пьянящий, как вино; Иконы – молчаливы, хмуры, Пожар нательного креста, Лица точёные контýры И ярко-красные уста. За дверью – музыка и ужин, И коммунальные дела, А здесь – сочится тёмный ужас Сквозь щит оконного стекла. Господь, несносна пытка эта – Следя за пляской тонких рук, Бессонно слушать до рассвета В окно сухой и страшный стук… *** Коридоры пусты. Ни домашних, ни слуг. В гулкой зале, на двух чародеев похожи, Мы с тобою читаем – торжественно, вслух – Фолиант в переплёте из выцветшей кожи. Мы тревожим иные слои бытия – Как в болоте, слова в тихом воздухе вязнут… Мы не знаем, какую опасность таят Эти строчки, ползущие мелкою вязью. В анфиладах пустых – бормотание тайн, Прилетевших на зов, словно гости на праздник. Всё яснее настойчивый шёпот: «Читай!» И закрыть эту книгу мы тщимся напрасно. Быстрый шелест страниц отвратительно сух, Шепчет ночь обещание страшной награды… Мы читаем безвольно, торжественно, вслух, И сгущается тьма, и сквозят анфилады. И услышав шаги – во дворе, а потом По ступеням – всё ближе, отчётливо, строго, – Мы поймём, что в безлюдный полуночный дом Из далёкой страны протянулась дорога. Кто ты, странник? Покоя не знающий дух? Душит страх – не взорваться, не вырваться крику. Мы читаем, не в силах опомниться, вслух Очень старую, очень опасную книгу… *** Темны дороги, а песни долги, Неясны знаки, опасны речи… На Сером Волке, могучем Волке Куда ты мчишься, Иван-Царевич? Наветы, сплетни да кривотолки Страшней Кащея да Чуды-Юды. Иван-Царевич на Сером Волке, Не жди пощады, не жажди чуда. Бессилен меч, и стрела не к месту, Пробьёшься словом, когда не сдрейфишь. Исполни волю – добудь невесту. Доверься Волку, Иван-Царевич! *** Я видел ночью свет в твоём окне высоком и слышал, как жужжит твоё веретено, и, тенью по стене метнувшись, гордый сокол бесшумно, словно сон, влетел в твоё окно. А следом темнота скользнула, и погасла лампадка, что в углу мерцала, чуть дрожа, и, стоя под окном, я слышал запах масла, сжимая рукоять широкого ножа. Струились голоса под сводами ночными, мою мутили кровь, терзали сердце мне – я выцарапал крест под ставнями твоими на залитой луной бревенчатой стене. А после долго ждал, хмелея горьким соком тумана… На заре, когда бледнела мгла, из твоего окна метнулся чёрный сокол, прорвавшись под дождём разбитого стекла – в дымящийся простор, к чернеющему лесу, как будто ослеплён или задет стрелой, и там, где он упал в туманную завесу, покрылась вся земля блестящею золой. А под стеною, где трава в крови поблёкла, осколки я собрал, и ближе к ним приник, и мне дарили свет безжалостные стёкла, впитавшие, как кровь, предсмертный птичий крик. *** «Алёнушка» Васнецова Лежу во тьме. Зелёный холод. Мельканье рыб среди камней. И ясно вижу: дева ходит По брегу, плача обо мне. Она пришла сюда случайно, Дрожа, браслетами звеня: Любви таинственные чары Ей указуют на меня. И вот сидит, уйти не в силах, На мшистом камне у воды, И чувствует душою сирой Тяжёлый, чёрный дух беды. Над нею радостно кружатся Лесные птицы, щебеча: «Родная, надо ль сокрушаться? Ты так жива и горяча! Не замочи прекрасных ножек, Уйди от мертвенной воды!» И в светлом щебете пичужек Бледнеет, тает дух беды. Но в тёмной пустоши глубинной Сквозь тяжесть илистой грезы Мне слышен вздох моей любимой И тихий звон её слезы. *** А у князя резны терема, А у князя дубовы палаты. Выйдя нá двор, он смотрит с холма, Как в лесах, что закатом объяты, Тихо бродит седая зима. Промелькнёт припозднившийся клёст, Вдалеке, обжигая осины, Красной лентой мелькнёт лисий хвост, И на небе, морозном и синем, Обозначатся точечки звёзд. В окнах тéрема – тёплый уют. На дворе у костра – часовые Сели крýгом и песни поют, Озирая леса вековые. Видят князя – и дружно встают. А у князя характер не мёд. Даже взглядом – недобрым, тяжёлым – Он собьёт, словно утицу, влёт, И раздавит, как высохший жёлудь, И до самого сердца проймёт. Он обходит посты не спеша, Он как будто подавлен… потерян… Невесёлость свою в каждый шаг Влив, как ртуть, возвращается в терем, Тяжело и устало дыша. Всё страшнее сердечная тьма, Всё душнее бессонные ночи… А за окнами бродит зима, Смотрит в окна, как в тёмные очи, И безжалостно сводит с ума… Кочевники Когда прохладой дышат степи, А небеса дождём щедры, Мы песней разбиваем цепи Своей отчаянной хандры. Пускай славяне спят спокойно – Покуда не сойдут снега, Не потревожат наши кони Их перелески и луга, Их продымлённые селенья, Где чёрным зверем бродит страх И умирают поколенья На страшных княжеских кострах. Пускай горланы вечевые Крикливые захлопнут рты – Уже уходят кочевые Отряды Золотой Орды. *** Могучие, пышные кроны… Волнуется лес-чародей. Когда-то здесь жили драконы И в страхе держали людей. Лежали на солнечных склонах, Упругие ветки жуя, И таяла в листьях зелёных Зелёная их чешуя. Гуляли – толсты, неуклюжи, Пугая неумолчных птах, И дождь образовывал лужи В оставленных ими следах… …Блестят изумрудные склоны, И ямки водою полны. Когда-то здесь жили драконы – Преданья гласят старины. Всё силой своей упивались, Воруя коров и девчат… Куда же драконы девались? Об этом преданья молчат: Неважно, когда они жили, Какой им достался удел – Они оказались чужими На этой планете людей… …Вздымаются холмы, как скулы, Деревня лежит у реки. Когда-то здесь жили Микулы, А ныне – одни старики… *** Я слышал, что тебя постиг Ужаснейший удел И что Герой тебя спасти, К несчастью, не успел. Ещё я слышал – верь не верь, Представить лишь посмей! – Что съел тебя ужасный зверь – Морской свирепый змей! А про Героя – не солгу – Такое говорят: Пришёл, нашёл на берегу Браслет – и принял яд! Смеёшься? Ну а я сдержусь – В ушах шумит прибой… Ещё немного отлежусь – И посмеюсь с тобой. У сплетен не найти концы, У кривды нет путей… О, затянулись бы рубцы От змеевых когтей! Сон Ужас, которым был полон сон, в рифму не облеку я, но попытаюсь: летел дракон, в лунных лучах бликуя. В тучи вперяя свирепый взор, был он угрюмо-весел. А за драконом – клонило в сон и города, и веси. Где та рука, что держала меч – меч, изрубивший бестий? Где та рука, что свершила месть – месть за немало бедствий? Где богатырь, что метёт, как сор, самую злую нечисть? Нет мне ответа. И клонит в сон – тот, что продлится вечность… *** Не может быть другого варианта легенды, где, печален и глубок, сквозит тоннель, в который Ариадна с героем отправляет свой клубок. Всё решено – и скучно до безумья… Тоскует автор в домике своём, гекзаметром в ночи живописуя простой сюжет, заверенный царём. Прописаны шаги и диалоги, и, темнотою лабиринта скрыт, герой зевает, слушая далёкий гул моря, омывающего Крит. Все на виду – и каждый свыкся с ролью: угрюмый демон с бычьей головой сползёт по стенке, истекая кровью, герой уйдёт – красивый, деловой, уйдёт к невесте, что стоит у входа, озябнув за размоткою клубка, уже готова к продолженью рода на шкуре побеждённого быка. уважен, сложена легенда (и невозможно что-то изменить) – из тьмы веков протянутая кем-то, дорогу указующая нить. Но разве можно обезглавить память? …Сочувствием и жалостью горя, безлунной ночью прибегает плакать в глухие катакомбы дочь царя, тоскует о несчастном, одиноком, держа в ладонях, как волна – ладью, лобастую, с блестящим чёрным оком, уродливую голову мою… Демон Как будто пробудился улей – И заискрилась злая мгла: Жужжа, серебряные пули Пробили чёрные крыла. Он не взлетит; огня, скорее! Идём за ним! Не дать уйти! Луна огромной птицей реет Над лентой нашего пути. Мы шли за ним по бурелому, Средь кáмней, погружённых в сон, И древний лес, как чёрный омут, Дышал на нас со всех сторон. Ну что глядишь, свиреп и желчен, Что скалишь зубы, адский зверь? За всех, за всех детей и женщин – Мы посчитаемся теперь! Ты дух, как видим, не бесплотный – Как утку, подстрелили влёт! Тебя облает пёс безродный, Тебя ребёнок проклянёт! Мы шли за ним на расстоянье, Сквозь чащи, ямы, без дорог; Слабело лунное сиянье; Всё ярче пламенел восток. У края пропасти ужасной Вдруг замер бес, чему-то рад… Проси пощады, унижайся! Но он надменный бросил взгляд: «Что мне до ночи? Лик открыл я, Презрев несносную зарю! Свои изломанные крылья Я никому не подарю! Ступайте прочь, в свои болота, В свои убогие дома; Восторг последнего полёта Куда приятней, чем тюрьма!» *** Я верну дары и отвергну дань, Не нужны сокровища мне – Я тебя увезу в голубую даль На своём боевом слоне. Просвистит стрела, и в плечо лизнёт – Что поделать, не в этот раз! Молодой охотник во тьме блеснёт Жемчугами свирепых глаз. Твоё племя нам запоёт вослед, Призывая беду и мор… Хоть в проклятьях, но всё ж я теперь воспет – Белый дьявол, проклятый вор! Позабудь и племя, и мать с отцом, Этот лес, что душней тюрьмы, Где шаманы пляшут над мертвецом, Возвращая его из тьмы. Здешний воздух вязок, ветра тихи, Пробуждается страх в лесах… Я к твоим ногам положу стихи, Африканка с луной в глазах! *** Безумно и яростно ветер свистал, И молнии прятались в тучах стальных. Присяду на камень – нет, я не устал, А просто решил подождать остальных. Я просто забыл выражение лиц Идущих за мною подобно орде, Идущих со мною под своды зарниц К неведомой цели, к далёкой звезде. Я просто забыл вдохновение глаз, Ладоней тепло и звучанье имён – И бросил котомку, и сел – в первый раз С начала пути, с сотворенья времён. Сто раз перелески меняли свой цвет, Сто раз облетали соцветья с куста. Я ждал. Так растаяли тысячи лет – Дорога была неизменно пуста. Давно уж мои растворились следы В дорожной пыли нескончаемых дней, И свет путеводной далёкой звезды С течением лет становился бледней. Когда же пришли в этот край наконец Остатки могучей, отважной орды, – Их встретил бесчувственный, каменный жрец В недели пути от угасшей звезды. Пророк Сквозь город, тонущий в вине, Слабеющий в осаде, Несите память обо мне, Несите, не бросайте! В суме, в карманах, на спине, Цепляясь за коренья, Несите память обо мне В другие поколенья. Укажет вам Луны овал Дорогу в звёздной пыли – За то, что знаете Слова, За то, что не забыли. Когда застонет мир в огне, Моля о смерти небо, Храните память обо мне – Упорно и нелепо. Когда планета затрещит И прахом станут тверди – Держите память, точно щит, И, может быть, вас пощадит Свирепый Ангел Смерти! Мексиканская фантазия - Мария, Мария, не надо, не бойся, Я жив, я вернулся из самого ада. Мария, Мария! Я снова с тобою! Но что это, ты мне как будто не рада? Село укрывает ночная прохлада, Полуночи диск в облака закатился… Мария, Мария! Не бойся, не надо, Я с доброю вестью к тебе возвратился. - Альберто, Альберто! Убитый молвою, Ты вышел, как призрак, из душного мрака, Но встреча горька, мой хозяин, мой воин – Над трупами львов торжествует собака. Зачем ты вернулся? Закончилась драка. Всё кончено. Завтра, с ухмылкой кривою, За мною придёт негодяев ватага… Альберто! Я стану чужою женою… - Мария, Мария! Все слухи обманны, Собака ослепла от лёгкой наживы. Из леса, из ночи струятся туманы, А с ними – отряды. Мария, мы живы! Мы тихо прошли через рощи и нивы, Враги наши были беспечны и пьяны… Мария, Мария! Все слухи так лживы; И так перед смертью нелепы буяны! Восточные мотивы 1. Ветхозаветное Арабы, струнами бренча, Ещё не слышали про Око… …Влекома запахом порока, Уже летела саранча. И кровь, таинственно журча, Клубясь, проникла в водоёмы. А люд, во власти сытой дрёмы, Хвалил работу палача. И тигры, яростно рыча, Кровавый пир вершили в яме, Но над безбожными краями Уже летела саранча. Луна, желта, как алыча, Ещё пыталась зваться Оком, И люди, проклятые Богом, Пьянели от её луча, Но, страшной музыкой звуча, Над закипающим Востоком Уже летела саранча… 2. Крестоносцы Неумолимо и жестоко Пустынный ветер сушит плоть. Но роскошь знойного Востока – Заветный и запретный плод. И потому на жёлтых дюнах Из века в век – следы, следы Воителей седых и юных, Рабов неведомой звезды. Колючий куст, колодец редкий, Простор в безжалостных лучах… И солнце – птицею на ветке – Сидит на шлемах и плечах. Песчаные бушуют волны, И ясно видятся в бреду Дворцы, ковры, глаза невольниц – И каждый шепчет: «Я иду», Так тяжело шагая, словно Путь затянулся на века… И бедуин с усмешкой злобной Глядит на них издалека. 3. Правитель Восток в дыму, душа в огне, Смеётся ветер дикий. И все мечи покорны мне – Великому Владыке! Меня пьянит слепой восторг, Пожаров сладкий запах. Передо мной лежит Восток, А завтра – ляжет Запад! Во мне живёт такая мощь, Подаренная адом, Что словом вызываю ночь, Взрываю замки взглядом! Горят чужие корабли, Шатаются колонны, И мне седые короли Несут свои короны. Проклятье? Честь? Презренье? Стыд? Внимаю – и не внемлю… Сумей Понять, Сумей Простить – Но я сумею опустить Твой рай на эту землю! 4. Философическое Мудрец уходил в пустыню И взял он с собой тетрадку, Гитару, изящный чайник – Любимая с ним пошла. В пустыне найдя оазис, Под пальмою сел отшельник, Стихи он слагал и песни – Любимая пила чай. Им звёзды о вечном пели, И ветер твердил о вечном; Их слушал мудрец спокойный – Любимая вместе с ним. Но как-то она сказала: "Не дело сидеть под пальмой, И думать всю жизнь о вечном. Нам надо построить дом". Отбросил мудрец гитару, И веток нарвал упругих, И хижину меж деревьев Он за день соорудил. И снова он сел под пальму, На самом пороге дома, Внимая, как дышит небо И как облака плывут. Два дня пролетели птицей, И мимо влюблённых наших Прошёл караван богатый, Бредущий издалека. И девушка увидала Различные украшенья И взор её стал печален, Как солнце в дождливый день… Мудрец говорил с купцами, И отдал свою гитару И чайник – за ожерелье Из ярких цветных камней. Любимая улыбнулась, А он взял свою тетрадку И песни слепого ветра Записывать стал в неё. Промчалась неделя ланью – Мечтательной, быстроногой, Изящной, как стих поэта, Стремительной, словно жизнь… И девушка вновь печальна: "О, многое знает ветер! Но если б моря и страны Увидеть тебе и мне!.." Оставил мудрец оазис, И пальму свою оставил, Тетрадку порвал – и ветру Вручил он обрывки слов… И вместе с попутным ветром, С нечаянным караваном, Отправился к дальним странам… Любимая – вместе с ним. Мудрец, не бери в пустыню Красавицу с томным взором! Развеет горячий ветер Любовь её, как песок. Да, очи её прекрасны, Но страсти её – бездонны, Утонут стихи о вечном На дне невозможных глаз… 5. Армения Южных дорог я не ведал ранее (Знаю свои маршруты более-менее), Но теперь – теперь сердце моё ранено, И я всё чаще думаю о тебе, Армения – О тебе, роза в краю божественном, Где из моря зелени – горы ковчегами, По которым бродят задумчивые кочевники И греют чай в котелке из жести. Гордые горы водопадами источены, Стоят деревья, как часовые; Стройная девушка с кувшином идёт к источнику, Имя её – София. …Ночь обложилась тучами косматыми, Струится дым и течёт елей… Армения, я помогу тебе справиться с османами, А ты мне отдашь прекраснейшую из своих дочерей! III. «УКАЖИ МНЕ ДОРОГУ К ДОМУ…» *** Дышит холодом неба омут, В чёрной бездне горят огни. Укажи мне дорогу к дому, Ну хотя бы чуть намекни. Словно свечку, звезду затепли Над священной водой Ковша, Чтобы крылья мои окрепли И прозрела моя душа, Чтобы с сердца сошла короста… О, прошу – не прими всерьёз! Это было бы слишком просто – Жить на свете без бед и слёз. Я земные моря освою, Я земные поля вспашу, По лесам прошуршу листвою, А Тебя – об одном прошу: В час, когда я увижу Омут, Где не будут гореть огни, Укажи мне дорогу к Дому, Или просто – чуть намекни. *** Я – кулик, отыскавший другое болото И решивший с Судьбою сразиться в лото. Здесь зимою – снега, в сентябре – позолота, Вроде всё, как у нас… но – не то всё, не то! Здесь и сладкую радость, и горькое горе можно встретить… да только не наше, другое! Не такое, как там, где живёт моя память! И, распаренный в ванне, от пара слепой, Вдруг терять начинаю сознанье – и падать На далёкий, почти что не видимый пол. И в нахлынувшем мраке, сквозь хохот и говор, Я увижу оставленный некогда город И закашляюсь – горько, устало, гриппозно. И назад захочу. Но окажется поздно. *** Познаешь и проклятье, и прощенье, Но в самый трудный час молись о том, Чтобы хватило сил на возвращенье В оставленный и выстуженный дом. Когда ж вернёшься – прилагай старанья, Обхаживая свой последний скит, Чтоб не свели с ума воспоминанья, Не разорвало сердце от тоски. И берегись за шкафом иль кроватью Найти давно потерянный дневник; Найдёшь – раскроет прошлое объятья, Прошли года, покажется, что миг. Но не вернуть его и не исправить. Сядь на пороге и молись о том, Чтоб сил хватило заново оставить Твой безнадёжно опустевший дом. *** Неважно, мало или много Я жил: передо мной по-прежнему Струится тёмная дорога По полю снежному, безбрежному. Здесь даже чёрные вороны В пустых полях не появляются, И лишь деревьев редких кроны То ли грозят, то ли кривляются. Бросаясь под ноги беззвучно Позёмка мечется и кружится. И небесам, нависшим тучно, Так тяжко, так темно недужится! Ветра целуют прямо в губы И лезут – бесенята, лешие! – Под плащ, поношенный и грубый, И засыпают, разомлевшие. А я иду, взирая строго, И не даю себе отчаяться. Струится вдаль моя дорога… Моя дорога не кончается… *** Я не рыцарь. Но если порыться Любопытства непраздного ради В документах, то может открыться, Что какой-нибудь десять раз прадед Был отважным и мудрым, как рыцарь, И сонетами пачкал тетради. Брал он замки, и выскочил в дамки Из рядов одинаковых пешек, Шёл на приступ, величьем осанки Восхищая и конных, и пеших. И стонали графини, как самки, На ручищах его огрубевших. С точки зренья такого прозренья Ощущаю свою родовитость, И лицо своё храброе брея, Узнаю гордый профиль Давида. Звучной поступью в мир этот бренный Выхожу – наглецы, удавитесь! *** Беспощадный февраль – роковое наследие декабря – малоснежного, тёплого, дряблого… Моё сердце горит, как на ветке – последнее, озарившее ночь переспелое яблоко. Облетели мечты, и взошли опасения, в том, что вьюга нагрянет, плясунья заядлая, и завьюжит моё золотое, осеннее, озарившее ночь переспелое яблоко. Сердце борется с тьмой в ожиданье Спасителя, сквозь кипящую кровь – наподобье кораблика. Не упасть, не пропасть – это дело посильное для согревшего ночь одинокого яблока. Высокое давление Что меня ждёт, непогоды кроме? Чувствую, лёжа во тьме промозглой: всё сильней омывают гольфстримы крови материки моего мозга. И очки бессонно ища-нашаривая на тумбе, кубической, как строфа, чувствую, как движутся полушария и тонут маленькие острова. Сколько осталось? Того не ведаю, но хочу, чтоб сходили вы и покаялись: я не могу бесконечно стражу нести над планетою, на которой готовится Апокалипсис. ИЗ ПОЭМЫ «ОМСК 90-Х» Вступление Помню белые зимы, зелёные вёсны, помню космос – бескрайний, внимательный, звёздный. Помню жаркий асфальт и расплавленный воздух… Это Омск девяностых. Это над Иртышом предрассветное зарево, это школа – и мир, открываемый заново, и степной ветерок, раздувающий угли новых дней, новых тем, новых песен и рубрик. Это тихий кораблик, волнами качаемый… Это мир Волочаевских. Всё слышнее была века нового поступь, всё тревожней на Любинском били часы… Над ночным Иртышом первозданно и просто, глухо пели о чём-то бессонные псы. Прибавлялось знакомых имён на погостах… Это Омск девяностых. Это дни, это ночи, что втиснуты в память, поспеши их понять и сумей не изранить: в них – основа, начало, священный исток, озаряющий пòлночи криками строк. Проплывают ветра с колокольными звонами над ночами – речными, свечными, бессонными, в тополином пуху и в победных салютах, в лютых вьюгах – и ливнях не менее лютых, над ночами в ярчайших бесчисленных звёздах… Это Омск девяностых. …Одинокая свечка плясала на лоджии, и ночной мотылёк ударялся в стекло. Всё мне кажется: были намного моложе мы, а всего ничего – десять лет утекло… Небо чёрное – в ветках, как в нитках венозных… Это Омск девяностых. 1. Устало дремлет каземат. Молчат Тобольские ворота. Лишь хрипло каркает ворона: «По Иртышу идёт зима!» Готовь пижаму и колпак – уже одолевает дрёма… Далёкий гул аэродрома и еле слышный лай собак… Растаял берег в темноте. Безмолвен домик коменданта. И я шепчу сонеты Данта, шагая в снежной пустоте. Мелькают улицы, дома. Дворы пусты и неприветны. А в небесах ликуют ветры: «По Иртышу идёт зима!» 2. На город надвигалась тьма. Ночь, как всеядная реторта, мешала вьюгу, и дома, и тяжкий гул аэропорта. Хорал левобережных псов метался в тополях и елях, склонившихся, как будто сон гнетёт – или треножит хмель их. Стремясь два берега сплести, мосты, рывком проделав брешь в них, стянули белые листы дворов – заснеженных, прибрежных. Казалось, крыша, как корма, слегка качалась под ногами… На город надвигалась тьма, как чёрный дым, как запах гари, как хлопья стынущей золы со снегопадом – как в кастрюле черника с сахаром – зимы задел, намеченный в июле. Мороз был сладок, словно морс, и фонарями жёлто-дымчат там, где речной вокзал примёрз к воде – и спит, и тихо дышит. А реки, в ножнах декабря, судьбой скрещённые, как сабли, застыли, сумрак серебря, как будто сшиблись – и ослабли. На город надвигалась тьма, и в ней – на крыльях, на метле ли – кружилась радостно зима, и звёзды, догорая, тлели. Глоток из Звёздного Ковша – и вниз, где фонари, как прутья, натыканы вдоль Иртыша, и где замрёт моя душа у камня Млечного распутья… 3. Одноклассникам Мы были, мы некогда были поленьями – теперь становимся дымом, золой. за нами другие идут поколения, портреты прошлого – с глаз долой! Потомки планируют покорение того, на что не хватило трудов нашего шумного поколения урожая семидесятых годов! А мы – молодые, но уже не юные – смотрим, взор обратив назад, без всякой иронии, хотя и с юмором на их кипящий-бурлящий азарт. И мы пробивались – локтями, коленями – во тьме условностей и преград, мы тоже были тем поколением, которое пело на новый лад. Мы тоже впивались в Землю кореньями, смеясь глазами, с огнём в груди. мы тоже были тем поколением, у которого было всё – впереди. 4. Буду видеть вполглаза, Буду слышать вполуха – Начинается фаза Тополиного пуха. Растеряю все силы, Как завязнувший в дюне, Ибо чувство трясины Настигает в июне. Всё-то тянется, длится, Бесконечное «ныне»… Багровеет на лицах Отпечаток унынья. К дальним далям для духа Нет ни хода, ни лаза… Буду слушать вполуха… Буду видеть вполглаза… Даже знойные ветры Стали жертвой трясины. Буду верить в полверы, Буду делать в полсилы… Говорить буду глухо, Как от сильного сглаза – Тополиного пуха Начинается фаза… 5. Говорил мне Город: «Повинись! Повинись, приятель, и вернись!» Как в прицел, смотрел слегка вприщур: «Повинись, вернись – и я прощу. Здесь твоя Отчизна, твой причал, Здесь начало всех твоих начал. Небеса от птичьих верениц – Словно черновик в обрывках строк. Но вернутся птицы в нужный срок. Время есть – одумайся, вернись!» Я бы, может, плюнул на пути, Паровозу крикнул: «Не копти!»; «Не зови! - сказал бы я волне. – Чувствую, пора вернуться мне». Всё возможно! Только город мой От рожденья, видимо, немой: Он молчал. А речи о Судьбе Говорил я просто сам себе. Как бы ни швыряло вверх и вниз, но в моей груди, в моей душе бьётся, точно колокол: «Вернись к старым тополям на Иртыше! Здесь твоя Отчизна, твой причал, Здесь начало всех твоих начал…» Отцу …А в Петербурге выпал первый снег – и поутру мерцал сквозь занавеску, искристо-переливчатый, как смех, обильный, словно выкуп за невесту. Был белый свет, и криками ворон гудел квартал, и небо, тяжелея, над миром, что ещё не сотворён, снежинок рассыпáло ожерелье. А я успел привыкнуть и к листве, и к мокрому свечению асфальта дороги, разлетевшейся на две, как пианистом вскинутые фалды. К тому успел привыкнуть, что рассвет, косматый и угрюмый, как германец, разбрасывает лиственный вельвет и ржавчины застенчивый румянец. Нет времени привычки поменять, глаза от удивленья чуть навыкат: год незаметно минул для меня… Но поделитесь чувствами: а Вы как? Готов примерно предсказать ответ: "И время, и пространство – всё условно, а истина, как говорит Завет, в том, что всего реальнее лишь Слово". Я нынче от пространностей далёк. Чтоб критики потом не сатанели, дерзну немного сузить диалог привычной фразой: "Есть ли свет в тоннеле?" Спросить душевней мог бы я вполне, но от заглавной буквы и до точки стеснительность нашёптывает мне нордические, сдержанные строчки. Так повелось: общенье – ритуал, и в этом Ваш подход, и в этом весь я, и в сдержанности каждый обретал незыблемое чувство равновесья. Простите, если где перемудрил, мои стихи, быть может, и громоздки – я наскоро, без лестниц и перил, для поздравленья выстроил подмостки. Вскарабкался – и слышу: гул затих, и, полстраны пронизывая взглядом, читаю Вам свой деньрожденный стих, написанный под первым снегопадом. Так было – так останется у нас: в блокнотике за "птичкой" ставя "птичку", пусть мчится над планетой, как Пегас, планида, не вошедшая в привычку. Пусть многое, как тайна и обряд, ворвётся в сердце – и проступит в Слове, и первый снег на ветках ноября нам будет до пронзительности внове… *** Восседая небрежно в глубоком седле Или в устье залива подставясь под бриз, Я люблю вспоминать о далёкой земле, О чудесной стране под названьем Тевриз. Ты на картах глобальных её не найдёшь И в надменных посольствах не выпросишь виз, Ты пройдёшь снегопад, и жарищу, и дождь, Прежде чем пробормочешь: "Ну здравствуй, Тевриз!..". К Лукоморью земляк и предшественник звал, И фрегаты воздушные плыли вдали, Я ж зову вас туда, где никто не бывал Из туристов, гордящихся знаньем Земли. Я зову вас туда, где бормочет тайга, Где река лижет корни раскидистых ив; Я зову вас в дожди, я зову вас в снега, И в осенний пожар, и в весенний разлив. Только раз побывав в этой дивной стране, Её образы крепко в душе берегу, И скользя по годам, как по бурной волне, Я никак про Тевриз позабыть не могу. Златолюб в Эльдорадо стремится попасть, К Атлантиде плывёт почитатель глубин, Ну а мне от рождения выпала масть Упиваться величьем лесов и долин. Оторвись суета; злая дверь, отворись! С непокоем в душе и с мечтою в глазах Я люблю вспоминать про волшебный Тевриз, Потерявшийся в синих туманных лесах… ПИСЬМА ИЗ ПЕТЕРБУРГА *** Белая ночь Какая милость – видеть сны наяву, Какое чудо – чувствовать ход времён. Потоки Леты плавно впадают в Неву, И мокрый город вечно закрыт на ремонт. Озябший город полон великих грёз, Здесь невозможно не заболеть мечтой. Но важно помнить: всё это – не всерьёз, Приняв тумана серый густой настой. Постой, прохожий! Сколько тебе веков? Ты император или простолюдин? Но дунет ветер – и призрак твой был таков, лишь шелест листьев: «Ты здесь совсем один». ………………………… А по ночам, вдалеке от рассветов розовых, Слышен гул – словно мчится лавиной конница. Это корпус всадников – медных и бронзовых – С гулким звоном за новой жертвою гонится. Петропавловка Солнцу сюда не попасть, не пробиться, Не заиграть на зелёной волне… Бледные лица, грустные лица В невском тумане видятся мне. Небо – в пронзительных криках вороньих, Вздохами все переулки полны. Лица повстанцев приговорённых Вдруг проступают из пелены. Странные лица – не нашего века! – В тяжком молчанье плывут над Невой, Глядя бесстрастно сквозь человека – Он ещё просто слишком живой. *** Над Невою – мачты кораблей и закат – пленителен и розов… Пляшет грифель липовых аллей по страницам питерских морозов. В полчаса сгустилась темнота, и Луна нахохлилась по-птичьи… Петербург, ты апокалиптичен, город-призрак, город-маета! Околдует ветер, как Петра, и не сразу скажет о расплате – прежде строчки выдавит в тетради остриём гусиного пера. Станет прочь отталкивать друзей да швырять в окошко птичьи крики… Лишь тетради (будущие книги) Да клетушка (будущий музей)… Не смотри, приятель, на Луну – не поймёшь, орёл там или решка. Ночь темна. Верней, черна – как речка, И у этой ночи ты в плену. *** Сопрано чаек, смытое волной, шаги людей под шелестом акаций… Вокруг меня творится мир иной. Ищу следы игры и провокаций… Всё это происходит не со мной. Всё это, сочинённое, как стих, в той темноте, где свет ещё не брезжил, меня стремится резво приплести к какой-нибудь сквозящей чёрной бреши – и тем хоть ненадолго мир спасти. Мой ум нелюбопытен, непытлив. Я слабо резонирую на выпад пространства, как слабеющий отлив, что был песком наполовину выпит, колени чёрных камней оголив. Я миру отвечаю невпопад и, сонно поднимаясь из пучины сознанья, окунаюсь в листопад, и в сладко-пенный омут «Капуччино», и в холод петербургских анфилад. Прозрачен воздух, ясен небосвод, аквариум вселенной звёздно-светел, и Слово, переспелое, как плод, повисло на губах, и лёгкий ветер проносит жёлтый лист, как робкий плот. И синий плащ, приколотый Луной к сквозящему и чёрному простору, сквозит прохладой и скользит волной над жизнью – странной, быстрой, непростою… Всё это происходит не со мной. *** Эта осень взошла из замёрзшей земли золотым колоском, воплощённою верой в то, что Время ответит на просьбу «замри», над Невою скользя, как над вздувшейся веной, острым шпилем творенья эпохи Петра, беспокойной, как сон, догоревшей, как лето, и уснувшей в подвалах, где тлеет петля на истаявшей, сломанной шее скелета, что когда-то был князем, зевал на балах, презирал карьеристов, ходил на дуэли, и, взирая на дам, что шептались в углах, бормотал: «До чего же вы мне надоели…», размышляя о рыжих оттенках зари в отрешённости странной, глухой, сокровенной, словно Время услышало просьбу «замри», над Невою скользя, как над вздувшейся веной… *** Мы сидим в этой осени – точно в осаде. Вся Россия под снегом, белы города, И деревни, и степи, и горы с лесами… Ну а с наших небес – всё вода да вода. Воздух мутен и сер. Над Невою – туманы, Равнодушные сгустки сырого тепла. И задумчивый лебедь, погодой обманут, Не стремится на юг, не вздымает крыла. Всё не то, всё неправда, должно быть иначе! Но, признаться, я понял – и понял давно – Ничего ни слова, ни приметы не значат В этом городе, мутном, как сон, как вино; В этой старой столице извилистых улиц, Где дома-старики, доживая свой век, С любопытством глядят, наклоняясь, сутулясь, Чуть заслышат шаги: «Человек! Человек!» Мы в осаде и скоро сдадимся без боя. Рухнут стены. Костры побелеют, остыв. Но Суворов в обличии древнего бога И Правитель, глядящий серьёзно и строго, Не покинут свои вековые посты. *** Мир замер, как будто примёрз к пространству. И азбукой Морзе мелькают полоски берёз, как чайки над пеной приморской. Мир замер, но вестью свобод летят листопады листовок… Рябины вскипают, как пот кровавый на лике Христовом. Бросаясь в объятия книг, маршрутку, как шхуну, качая, под сердцем колотится крик впечатанных в облако чаек. Под сердцем вздымается плач – от счастья, от муки, от песни, как будто твой добрый палач, целует тебя поднебесье. Мир замер, не смотрит в глаза и даже вниманья не просит… Небрежно слепя небеса, по кронам бежит полоса, как первая проседь… *** Грусть переплавлена в слова. Когда всё сыро, голо, блёкло, Горячим лбом вжимаюсь в стёкла. Бормочут ветры и листва, И чёрная земля промокла. Я постигаю мир с нуля, Забыв про всё, чему научен. Мой взгляд скользит по серым тучам, В густой туманности снуя, И день становится тягучим. Листы и листья. Тихий стук Души, очнувшейся в скворешне… Пишу тоскливее, поспешней. И женщина, прильнув к холсту, Глядит пространно и нездешне. До капли выжатый октябрь Срывает ветхие покровы, И листья клёна так багровы, Как капли крови на ногтях, Что, проступив, упасть готовы. И в этой хмури, в этой мгле Я стану тенью, очертаньем, В одной из точек мирозданья Застыв, как бабочка в смоле – За месяц до похолоданья. *** Весь мир – в плену осенних чар, и листья, дивные художники, так просто, словно невзначай, опять берут меня в заложники. Круженье – и покой вослед: лежит листва кровавым золотом, наброшена, как яркий плед, на землю, скованную холодом. Впитав морозный аромат, искрятся ветви в лёгком инее, и гладит ветер-хиромант их прорисованные линии. Дворы, проспекты, города вдруг небо наводнит осеннее, как кофе, убежав, когда хозяйка от любви рассеянна. На Васильевском Моё окно выходит на Восток, чей небосклон ночами полон света, здесь воздух чист, а ветер не жесток, и я ценю соотношенье это. Но всё ж склоняюсь к северным просторам, к седому ветру, что гудит, пьяня, к пространству, растекается в котором неяркий свет безрадостного дня. И я легко сменил бы вид на небо (ну а точней – на сторону Земли), когда бы так печально и нелепо не высился над крышами, вдали, дом, что разрублен надвое войною и оттого – похожий (как в кино) на башню, что взлетела над страною, и смотрит в небо, мирное давно. Два глаза – два окна – буравят тучи: в блокаде город иль освобождён? Не слышно ль рёва гибели летучей? Взорвётся ль небо огненным дождём? Всё тихо. День, теперь уже вчерашний, уходит в память, в лету, в небеса. и строгие глаза усталой башни доверчиво глядят в мои глаза. *** (подражание Блоку) Смеётся Весна, зажигая звезду Над чёрною башней, И мне обещает: приду, уведу От скуки вчерашней. От зимней хандры, бесконечного льда Над спящей волною… Скажи, говорит, хороша ли звезда, Зажжённая мною? А я бы ответил, да только в груди Волненье такое, Что только и молвлю: «Родная, приди, Спаси от покоя». Она улыбнётся, она всё поймёт, Она не осудит, Нальёт мне языческий мартовский мёд: «Пей, хуже не будет!» И станет с усмешкой смотреть на меня То грустно, то гневно – Великая Вестница нового дня, Богиня, Царевна… Урбанистическое видение …Проспект разволновался. Асфальтовой волной он яростно погнался цунами вслед за мной, вскипая каждой "зеброй", безжалостен и лют… И кеглями на землю валился встречный люд, и падали рядами в кипение толпы с корнями-проводами тяжёлые столбы. Блистала вышней плетью (не скрыться, не уйти!) серебряная лента трамвайного пути. И в городе свирепом кривился каждый дом, покрытый, словно крепом, ремонтным полотном. Я мчался, задыхаясь, спасаясь от беды, и техногенный хаос стирал мои следы. Сгустилась злость слепая, ползёт со всех сторон… Как сладко, погибая, понять, что это сон! Новороссийск Какая тесная страна! Какая странная планида… Ещё тепла была струна, ещё не сдвинулась Луна, а я уже рассказам гида внимал: «Вот здесь была Колхида, страна чудесного руна!..» И всё смешалось – явь и сон. То горячась, то холодея, я думал: «Здесь жила Медея, которую увёз Ясон. Богов следил за ними сонм…» Какая странная идея! Кавказ, Колхида… Хватит! Где я? Я – в море. Ветр берёт разгон, и гул его подобен мессе. С таким же гулом падал «мессер» и гас с шипеньем, как дракон (куда там байкам о Лох-Нессе!), а там, на берегу другом, в далёкой солнечной Одессе я жил в столетии ином… Но здесь слова – всего лишь чад; в ответ гора не скажет: «Ух ты!» и окольцованные бухты так равнодушно промолчат; и с берега не промычат бурёнушки с глазами Будды. Всё безответно здесь – как будто слова бессмысленно звучат… Ещё не брезжила заря, Ещё метель боролась с ливнем, И стёкла, вспышками горя, Сливались в паутину линий; Проулки, улицы булинем Сплетались, словно говоря: «Какая тесная страна! Какая странная планида…» *** Леса готовятся к зиме, Неспешно сбрасывают листья. Медвежий взгляд, улыбка лисья Мелькают в жёлтой кутерьме. Свирель души поёт разлад. Тепло исходит от ладоней. Летят в пространство крик вороний И долгий-долгий волчий взгляд. Идут, корней вздымая клуб, К деревням – вязы, клёны, буки, И греют ветви, словно руки, В дыхании вечерних труб. Смущённо топчутся во тьме, В осеннем сумраке морозном, Во мраке царственном и звёздном – Леса готовятся к зиме. Всё близко сделалось теперь В осеннем Космосе глубоком. И ночь проходит мимо окон, Неслышно крадучись, как зверь… *** Воют волки: «Дойти до норы бы!» Страшный холод под шкуру залез. Чьи-то души резвятся, как рыбы, В чёрной бездне полночных небес. Не пробьётся ни конный, ни пеший Через лес, неподвластный векам, Где бессонно шатается леший По искрящимся синим снегам. Льются сказки в уютных домишках, Пьются хмели и песни звучат. В чёрных трубах на сгорбленных крышах Собирается, копится чад. Небылицы, преданья, гаданья… Из лесов долетающий вой… У калитки ночные свиданья… Шебуршащий во тьме домовой… А над крышей, где снежные глыбы Набирают критический вес, Чьи-то души резвятся, как рыбы, В чёрной бездне полночных небес. *** Чернеют пыльные овины. Белеет мёрзлое окно. И выпито до половины Зимы холодное вино. Заборы скрючились под снегом. Бугрятся спящие стога. И мы живём под тёмным небом От пустяка до пустяка. Любое дело – просто праздник: Дрова коли, ведро таскай – Насочиняй делишек разных, Ну а иначе – съест тоска!.. Темнеет. Сонная беседа. Мурчанье кошек и котов. Визит небритого соседа. Поля нетронутых листов. А в чаще, что во мраке тонет, Угрюмо грезит о тепле И зябко дышит на ладони Лешак в налёжанном дупле. Посвящение Жизни Поднимаю свой весёлый кубок За твои усердные труды: Столько в сердце сделано зарубок! Не стереть из памяти следы. Ты моё пылающее сердце Привязала лентою реки К берегам, где скучно всё и серо, Всем твоим законам вопреки. А потом – как цепью, приковала Градусом, ушедшим за полста, К Северу, что застолбил коварно В моём сердце лучшие места. Я свернул, пошёл путём окольным. Ты, изящно закусив губу, Прострочила звоном колокольным Всю мою дорожную судьбу. Ну а ныне к невскому граниту Так легко, как будто бы шутя, Пришиваешь накрепко планиду Серебристой ниткою дождя. Поднимаю свой весёлый кубок За твои усердные труды: Жизнь моя! Спасибо, что нескупо Оставляешь по судьбе следы! IV. ПРОЛИСТАЙ СТРАНИЦЫ МОЕЙ БЕССОННИЦЫ… *** Любовь – это холод ночного двора, в котором гуляет ноябрь, обрывая последние листья, и шепчет «пора» под старческий грохот пустого трамвая… *** Не шепчи торжественно и напыщенно, что все книги на свете хочешь прочесть – Ты хотя бы то прочти, что написано в твою честь! В твою честь – совершают герои подвиги. В твою честь – осаждаются города. В твою честь – пролетают кометы по небу и с Землёй прощаются навсегда. Пролистай страницы моей бессонницы, Прошагай тропинкой моей тоски – в те края, где ветер со снегом борется, занося лесной одинокий скит. Над тобою небо зашепчет птицами, промелькнёт охота вдали, трубя… Этот вешний мир, что крылат страницами, Для тебя был выдуман, для тебя… *** Мысли мои бьются с дождём, Стены разбрасывая, как листы, И вот уже вижу далёкий дом – Дом, в котором живёшь ты. Пишу, небрежно ломая такт – Сейчас до формальностей дела нет. Я рад, что вышло именно так, Я рад, что увидел в тебе свет. И когда чифирно густеет тьма И с земли за тучи не заглянуть, Мне не пропасть, не сойти с ума – Моя любовь освещает путь. Мир, как подлодка, нырнул во тьму. Судьба спотыкается при ходьбе. Знай: в своём бессонном дому Я всё чаще думаю о тебе. *** Стынет стенка, за которой Ночь зияет, как обрыв. Ангел, спрятавшись за шторой, Курит, форточку открыв. Силы тьмы сжимают фланги, Но, в мечтах своих далёк, Раздувает Светлый Ангел Сигаретный уголёк. Ночь сидит нездешней птицей На рябиновом огне, И страницу за страницей Надиктовывает мне. Пальцев сложены фаланги, Строчки тянутся волной: "Что ты вьёшься, Светлый Ангел, Над моею головой?.." Тишиною мир накрыло, Сумрак давит и томит. В кухне Ангел Белокрылый Молча в форточку дымит – Друг эдемам и олимпам, Приобщённый вышних грёз, Озарённый рыжим нимбом Полыхающих волос… *** Плачет душа – тяжела, грешна – Болен хозяин, болен… Не о тебе ли поют, Княжна, Звонницы колоколен? Камень и дуб – вековой редут, Дальше не ходит робкий. Уж не к тебе ли, Княжна, ведут Узкие эти тропки? Вспыхнет заря – смущена, нежна – Терем покажет светлый… Не о тебе ли поют, княжна, В поле далёком ветры? Не о тебе ли шумит Восток, Ветром давясь лохматым? Тянется, вьётся тропинка строк К светлым твоим палатам… *** Ты живёшь и не знаешь, что во славу твою я живу, изучаю, сочиняю, творю. Огнедышащим солнцам, беспокойной Судьбе неустанно, бессонно говорю о тебе. Причастившись багровой предрассветной тиши, я срываю покровы с обгоревшей души – приготовившись к новой беспощадной борьбе, постоянно готовый говорить о тебе. Ты живёшь и не знаешь, что во славу твою рифм и образов залежь, отыскав, познаю, проникаю в глубины катакомбами снов, извлекаю рубины самых искренних слов. В опьяненье крылатом обращаясь к векам, я подвалы со златом отворю беднякам. Пусть словами моими захмелеют в гульбе, пусть звучит твоё имя, пусть поют о тебе! И тогда ты узнаешь… *** Ночь без тебя. День без тебя. Ветер свистит в снежных степях, в призрачной мгле серых морей, в горькой глуши жизни моей. Можно – вдвоём: через разрыв, всех обманув, всё преступив. Прыгаю в речь, беды топя. Ночь без тебя. День без тебя. Жизнь без тебя. *** Мы породнились с белою Луной, Испив настой на смеси наших взглядов. И мне теперь доступны тайны кладов, А ей – извечный непокой земной. В моей крови – холодный лунный свет, Сквозящий сквозь опущенное веко. В её крови – смятенье человека, Способное сместить круги планет. И в бесприютном омуте ночей, Когда в игре теней родятся руны, Я наблюдаю, как плывёт по струнам Чуть видимое золото лучей. Посланию небесному в ответ Моя душа сочится непокоем, И струны оживают под рукою, И плещется в зрачках туманный свет. Всё исчезает в вязкой тишине, И остаются в полуночном мире Лишь я в пустой и сумрачной квартире, Луна, как набалдашник на шарнире, И дева, что не плачет обо мне. *** Ты мне снилась, ты мне снова снилась – Прилетела и не объяснилась, Посидела молча и растаяла… И проснулся я в тоске, в отчаянье, Вышел к морю – и следил за чайками, И звенела высота хрустальная. …Мы встречались только в сновидениях, Не в кафе, не в прочих заведениях, Где людей спасают неприкаянных. Только сон… Но мы с тобой не сетуем, И порой молчим, порой беседуем – То в садах, то в залах белокаменных. Попросила ты однажды жалобно, И из сна, как будто из пожара, я Вынес речь – и замер, словно связанный: «О любви отверженной, покинутой Подобрать слова сумей такие ты, Что нигде никем ещё не сказаны». О, зачем, зачем своею просьбою Ты меня в отчаяние бросила, В глубину черновиков залистанных? Я гордился мелкой, жалкой силою – Всё не то, не то, о чём просила ты, Не найти мне слов – тех самых, истинных… И с тех пор приходишь – молчаливая, И не пьёшь со мной вино чилийское, Ждёшь стихов – печальная, усталая. Просыпаюсь в муке и отчаянье, Выйду к морю – и слежу за чайками, И звенит Вселенная хрустальная… *** Целый мир, как волной, октябрём накрыло. Увязая в горечи непролазной, Я ношу в себе человека, чьи крылья Хранятся у женщины зеленоглазой. Я прочёл об этом в старинной книге, Ну а книгу эту увидел во сне. И с тех пор беспечные птичьи крики Отражаются горьким эхом во мне. Я прошёл моря, я леса облазил, Мёрз во тьме пещер, уходил под лёд… Но не встретил женщины зеленоглазой, От которой зависел весь мой полёт. Я искал – в печали, в тоске кромешной… И Судьба к тебе меня привела! Я спросил о крыльях – и ты с усмешкой Протянула мне два моих крыла. И свело все мышцы, взметнулись плечи… Но исчезло небо, обмякли крылья… Я не мог взлететь. И застыли речи, Как во льду, в тоске моего бессилья. Я стоял в беспамятстве, околдован. Крылья висли, словно на них вериги. Я нашёл ту женщину, о которой Прочитал в приснившейся старой книге… *** Пробудилось сердце, запело, кровью умылось, Встрепенулись мысли, снова готовые в бой. О, спасибо тебе за эту великую милость, За великую малость – быть иногда с тобой. Я разрушу миры – и другие создам в одночасье, О грядущем не зная, память храня о былом. О, спасибо тебе за это великое счастье, За причастье ясным взглядом твоим и теплом. Для меня темны предсказания, знаки, приметы, Но я знаю, я верую, слушая звёздную высь: Неслучайно сошлись в одной точке немые планеты, Неслучайно и звёзды в небе октябрьском зажглись И своими лучами отметили нас – неслучайно, Срикошетив к Марсу, зябкий согрев Плутон. О, спасибо за то, что рука твоя белою чайкой Так тепло, так просто впорхнула в мою ладонь… *** Дождь по стеклу до утра струится. Триптих томится в оконной раме. Каждая ночь – это страница Судьбы, поделенной между нами. Каждая ночь оглушает гулом, Который приходит издалека – Из стран, где песни поют акулам И хмелеют от козьего молока; Из сёл, окружённых монастырями, Что тянутся ввысь, купола подняв; Из чёрных чащ, где томятся в яме Волки, поющие: «Западня!» Ночь опьяняет подобно зелью, Ветрами и совами голося, Звёздным плащом облетев всю Землю И каждому заглянув в глаза. Спи – и пусть тебе счастье снится. А мне – бродить, ожидая Весть. Каждая ночь – это страница, Которую надо суметь прочесть. *** В халате, важный, словно дож, Гляжу на улицу спросонок – Там тихо всхлипывает дождь, Как напроказивший ребёнок. Сидит под рамою окна, Бормочет грустно и невнятно, И в чём же, собственно, вина – Ему, похоже, непонятно. Он что-то шепчет про мечту, Но у меня – свои картины. Я отступаю в темноту Пустой необжитой квартиры. Там – ожидают на столе Бумаг безжалостные кипы… Но проступают на стекле, В душе аукаются всхлипы! Куда тоска меня зовёт? Не пересилив притяженье Дневного сумрака, своё Вдруг различаю отраженье. Откуда эта жажда грёз? Какой туман меня приветил? Моё лицо мокро от слёз, Которых я и не заметил. *** Я сделал шаг – и оступился (а шёл во тьме и наугад, как не добравшийся до пирса смертельно раненный фрегат). Прошитый рифмами и снами, шепчу, предав себя волнам: «Всё то, что было между нами, уже аукается нам». От разговоров-приговоров, от рокировок и обид меня знобит. Смиряю норов, как парусник, чей борт пробит. Вдали от грохота и гама сплю в ожидании суда, как не увидевшие гавань, на дне лежащие суда. Моя напористость воловья сюда вела меня. Теперь колеблется у изголовья насмешливая тень потерь. Лежу ничком во тьме кромешной, кромешной тьмой едва дыша, и всё мне кажется, что меньше становится моя душа. *** Ограды на брегах осенней Леты, Ещё струясь накопленным теплом, Как ногти в плоть, врастают в парапеты, Идущие в тумане на излом. Всё странно, всё неясно и фатально – И облако, и чайка на трубе, И старая знакомая Фонтанка, Ведущая, конечно же, к тебе. Во всём – загадки, тайны и приметы. Октябрь шагает рядом, словно друг, Его слегка волнуют перемены, Во мне залихорадившие вдруг. Его моя рассеянность тревожит, Он говорит взволнованно: «Постой! И сам ты знаешь: ничего не может Произойти у вас по той простой причине…» - речи сыплются, как просо, Почти бегу, наращивая шаг, Но отвязаться от него непросто – Догнал. И тускло объявляет «шах»: «По той простой причине, что в цепочке, Где все – друзья, и места нет врагу…» Копьё одышки задрожало в почке, Но – стискиваю зубы – и бегу. Топчу мосты, подобные фалангам Усталых пальцев на краю стола, Почти задетый лёгким бумерангом Изогнутого птичьего крыла. Пересекаю площади, врезаясь В людей – весёлых, правильных, слепых, Затравленный и жалкий, словно заяц, Безумный, как почти убитый бык. Холодной тьмой восток налился. Скоро Взойдёт звезда, гранёная, как штоф, и, заражённый грустью моей, город всплеснёт в ночи ладонями мостов. *** Вакуум. День пролетает на «рáз-два». Словно вина, причастившись дождя, Я наблюдаю, как дышит Пространство, То сокращаясь, то вширь уходя. Бог с ним, со временем и с суетою! В рот подворотни скользнувши ужом, Грустно любуюсь твоей красотою, Странно родной, безнадежно чужой. Как же условны и взлёт, и паденье… Выпито Время – лишь капли по дну… Я об одном умоляю в смятенье «Дай мне минуту… минуту одну!..» Я не могу, не могу оторваться, Хоть прокляни, хоть презреньем убей!.. (Выпито Времечко. Горькую пей…) Выйду – и кану во взрыве оваций Спугнутой стаи шальных голубей. *** Как буйволы или волы, закончившие труд свой тяжкий, врастают в сонные дворы осенние пятиэтажки. И мы, выписывая вязь следов под впадинами окон, идём в молчании, боясь их потревожить ненароком. О, сколько предстоит нам слов – надменных, горьких, эпатажных; о, сколько беспокойных снов – осенних снов пятиэтажных! Мы заблудились в пляске дней, в руинах контуров и линий, где и безумство всё сильней, и жажда всё неутолимей. Уже шалеют декабрём планиды вздувшиеся вены. Целуемся под фонарём. Обречены. Благословенны. *** О, я познал, что нету смысла в судьбе без горечи и мук – когда нечаянно умылся теплом твоих красивых рук! И неслучайно город замер, зарывшись в жёлтый ворох дат: мы угодили на экзамен, который невозможно сдать. Скажи, ты помнишь то мгновенье, когда качнулся небосвод – и с треском разорвались звенья перебродивших несвобод? Мир, неожиданно упругий, Из старой вышел колеи… Прости – целую твои руки, Целую волосы твои. А говорить о чём-то – тошно, ведь в этот миг, словами скуп, я существую только в точке прикосновенья наших губ, во мне пылает каждый атом, горят границы и мосты… И наливаются закатом тумана серые бинты. *** Ты не спросила, что со мной творится, а я молчал – схватило, повело… Душа моя, как раненная птица, взлетела, припадая на крыло. Проспектами, проулками, дворами помчалась, незаметная, как стон, домой, чтобы припав к оконной раме, давиться ночью, горькой и густой. Не осуждай! Любовь не знает правил, не признаёт условий и границ, а я, вполне возможно, хоть и ранен, но ранен легче многих прочих птиц. Запутался в словах, как в сетке улиц, сам для себя тягчайшую из нош определив – и, может быть, нахмурясь, ты завтра же мой мир перевернёшь. Так женщины умеют. Им не нужен рычаг для изменения орбит: один лишь взгляд – и ты уже недужен; простое слово – наповал убит! Ты вся во мне – и я тобою полон, как море – небом: тяжко и светло… Душа моя летит над снежным полем, всё больше припадая на крыло. *** Когда, жестоко занедужив, как сонный сом, уйду на дно, зима узоры белых кружев надышит на моё окно и, затянув потуже пояс, затянет песенку всё ту ж: «Жизнь продолжается – опомнись! Переболей… перенедужь!» В автомобильном паре едком слова проносятся, как всхлип, по равнодушным чёрным веткам так скоро облетевших лип и, взрезав сумерки рябые, вдруг падают, ослабнув, ниц к ногам торжественной рябины, согретой солнцами синиц. Для ветра – воля и раздолье, и он рокочет, пряча лик, как двинувший на богомолье суровый праведный старик. И резонирует пространство, поймав монашеский распев, пока, вдыхая запах странствий, устало горбится проспект, пока, в косяк дверной угрюмо врастая холмиками скул, я слушаю трезвоны рюмок, поймавших заоконный гул. Но затихает он, разрушив ростки отчаянья во мне, так схожие с игрою кружев на незашторенном окне, в котором мир, покрытый снегом, согрет дыханием твоим – твоим теплом, улыбкой, смехом он созидаем и творим! И я себя уже не мыслю вне этой славной мастерской, что дарит сумраком, и высью, и страшной творческой тоской… *** И снова – снег. Глазницы окон озарены зрачками бра, и потемневшей тучи кокон свисает с неба ноября. Душа наполнена стихами, как кроны – стайкой снегирей; она царит над пустяками и громким хлопаньем дверей, над телефоном, что долдонит о суете, злорадно груб, когда ладонь лежит в ладони и губы чуть коснулись губ. Скрипя, ворота отворятся, коллег-друзей впуская рать, и снова надо притворяться, и кем-то быть, и что-то знать. Нас ждут кафе и кабинеты: они – в условиях игры. А в небе плавают планеты, как новогодние шары, но вот, остановив круженье, как будто перекручен жгут, поймают наше отраженье и, словно фото, сберегут. Ноябрь опустошит обойму снегов, раскрошенных, как хлеб, и свистнет ветер над Судьбою, на перекрёстке двух Судеб. *** Колотится сердце, как нерпа, что в бок получила копьё. На кончике каждого нерва пульсирует имя твоё. Судьбу озаряет закатом, над разумом стелется дым, и полночь, бесстрастный анатом, колдует над телом моим. Постель дышит холодом, словно последний приют, эшафот, но хмыкает полночь: «Не сломан, а значит, ещё поживёт!». А значит – продолжится действо, в котором на долю мою прописано кем-то злодейство: пришёл, отыграл – и адью! Пытаюсь не броситься в небо, как в прорубь, в кромешной тоске, а сердце колотится нерпой на мокром холодном песке. И всё-таки, что характерно – сквозь панику, страх, вороньё на кончике каждого нерва пульсирует имя твоё. *** Жили-были два мальчика – два поэта, Звёздам, ветру сердца свои отворив, И не знали о том они, что планета Не способна вынести их двоих. Жили-были два мальчика. И любили Ту девчонку, чьи волосы – как река… Жили-были два мальчика. Жили-были, И не годы, не месяцы, а века. (Для поэтов и время течёт иначе, И пространство плавится оттого… Для поэтов очень многое значит Что не значит для других ничего). Говорили в «лесенках» и сонетах О глазах, любимая, о твоих… И не знали мальчики, что планета, Не способна вынести их двоих! *** Приедешь рано, поутру. Полна сомненьями? Едва ли. Но – бледная, как будто труп зарыла в сумрачном подвале. Поднимешь строгие глаза, вся – бесконечная решимость, в которой бесится азарт, перерастая в одержимость. Ты так решила. И теперь не сыщется, в пылу крушенья, причины, что велит тебе переменить своё решенье. Моя любовь пронзает тьму, вся на виду, как в сумке шило, но я здесь только потому, что ты, подумав, так решила. Ты всё придумала. В твоих фантазиях, приняв условья и наблюдая нас двоих, зима сидит у изголовья. Она не раскрывает рта, поскольку видит неизбежность, где волнами через борта захлёстывают боль и нежность; поскольку шторой, как плитой, укрыв покой своих владений, твоей пьянею наготой, как древний скульптор – Галатеей. *** Ты уходишь, как сон, – оставляя отчаянье оттого, что опять растворилась мечта, где позёмка вилась, и турецкая чайная многоцветьем гирлянды была залита. Этот странный мирок – где ни страха, ни паники не нашлось, не смущали ни эти, ни те – как свеча на воде, тихо плавает в памяти, освещая дорогу тебе в темноте. Ты уходишь, как жизнь, – неуклонно, уверенно, от безмолвной тоски, от печали слепой, подарив пониманье, что и за мгновение не любовью придётся платить, а судьбой. Слишком всё неспроста. Не поётся, не верится… Брызнут фары луной, грянет звонкий клаксон. Молча слушаю ночь, что под сердцем шевелится. Ты условна, как жизнь. Ты реальна, как сон. *** Снег на асфальте таял воском, пушист, как шёлк. Я шёл по улочкам московским – бесцельно шёл. На оживлённом перекрёстке сносили дом, и, полон пыли, ветер хлёсткий дышал с трудом. Машина в гулком переулке на гололёд холодных фар швыряла угли, дав задний ход. Однообразные, как «птички» (прочёл – забыл), вещали гордые таблички: «Здесь жил да был». То праздно радужный, то серый, был день тяжёл. Я шёл. Последний день осенний за мною шёл. Я шёл по Сретенке – туда, где из берегов рвалось Кольцо, ломаясь в такте моих шагов. Хрипел проспект «Мне сдохнуть впору б», как Боливар, и я упал с него, как в прорубь, в Цветной бульвар. Дома молчали и косились. Вороны в снег воронками врастали, силясь увидеть снедь. И, в память врезавшись полоской огней и фар, ползли в глаза бульвар Петровский, Страстной бульвар. Но сквозь огни, движенье, вести, как в полусне: «мы эту ночь встречали вместе» – зажглось во мне. Такие близкие, как будто так быть должно – без слёз, без горечи, без бунта, без всяких «но». А за окном кричали птицы и поезда, бессонно маялись столицы и города. Я щупал пульс. Внезапно резок, он шёл в аллюр, как конь в холодном мраке фресок или гравюр. Я уходил в твой тёплый запах, но, словно круг спасательный, ловил внезапно упругость рук. И ночь никак не завершалась, полна, как речь, и жизнь как будто не решалась её пресечь. Наш поезд отправлялся в полдень (метель, темно…). Декабрь, предчувствиями полон, дышал в окно. Мы спали, слипшись, точно свечи в плену тепла, и ночь, бескрайняя, как вечность, нас берегла. *** Я не вижу финала. Да будет ли он? Хоть плохой, хоть хороший – он должен случиться, от смертельной стрелы не спасёт медальон: вздрогнет грудь – и бескрылая всхлипнет ключица. Да не в том ли и смысл, содержание, суть всей судьбы, упакованной в скучные даты – чтобы стукнуться в рай, игнорируя Суд, и услышать раскатистое: «Не туда ты!»? Да, мне стыдно за то, что я грешен и лжив, но намного стыднее мне было бы, если, как зарплату, все годы бездарно прожив, о любви не оставил ни рифмы, ни песни. Я узнал, что границы придуманы мной, и постиг, что покой постоянный несносен на Земле, где, своей опьянив глубиной, в глубине наших глаз отражается осень. Я не вижу дороги, но в тёмном окне изогнулась тоска, голодна, как волчица, значит, близок финал, и спокойнее мне: хоть плохой, хоть хороший – он должен случиться. ЦЕЗАРЬ И КЛЕОПАТРА Поэма из фрагментов Первое авторское вступление События древности напоминают мне античный кувшин: кое-где проступают яркие краски, местами можно различить отдельные изображения, но по большей части роспись полностью стёрлась – и восстановлению не подлежит. Нельзя полностью восстановить цепь событий, произошедших сотни и тысячи лет назад, но можно, опираясь на известные факты, постараться найти в личности жившего давнымдавно человека нечто общечеловеческое, вневременное, вечное. Скорее намеренно оставленные пробелы подчеркнут естественность, живость голосов древних героев, нежели эпитеты, метафоры и полузабытые имена, принесённые на алтарь стилизации… Второе авторское вступление Равнодушно и ровно гудит процессор. Свеча желта, как глаз леопарда. И всё кажется мне: где-то рядом – Цезарь и, конечно же, эллинка Клеопатра. Минул год с той ненастной, осенней, мокрой невской ночи, когда, сквозь игру видений, я почувствовал вдруг, что в моей каморке появились две тени. Засочились шёпотом стены, своды, словно сеть, тяжёлая от улова – и тоска веков повернула годы вспять – единственно силою Слова. И пускай проклянёт меня червь музейный, Пусть меня опровергнет учёный цензор; В мой эфир – сквозь эпохи, народы, земли – Вдруг ворвались в ночи Клеопатра и Цезарь. Из обрывков слов, из осколков реплик Я слагал поэму – в тоске, в смятенье, А виденья молча смотрели, крепли… В полуночной тьме проступали тени… Фрагмент №1 (10 января 49 г. до н.э., Рубикон) Цезарь: Удел наместника – скучен, тошен, Хоть и трудно на прошлом поставить крест… Но, как бы то ни было, жребий брошен – Alea jacta est! Две трети жизни прошли в сражениях, Не поздно ль взошёл я на этот мост? Война – давно выношенное решение, Но первый шаг – до чего ж непрост! Январская ночь. Тишина, покой… Рубикон, как пиво, шипит и пенится. Странно думать, что там, за рекой Жизнь моя бесповоротно изменится. Представляю, как будет Помпей огорошен! Юпитер не выдаст? Химера не съест? Да о чём это я: жребий-то брошен – Alea jacta est! Фрагмент №2 (февраль 49 г., Рим) 1-й бродяга: Говорят, что Цезарь, ещё не будучи императором, попал нечаянно в плен к пиратам. Рабов за выкупом направив в разные города, он читал разбойникам стихи и речи, которые сочинял без труда, и, под шум волны укладываясь спать, он как бы в шутку обещал их всех распять. А те смеялись – добродушно, без зла: никто из них ничего о Цезаре не знал. И так – больше месяца… Волны стучали в борта… 2-й бродяга: Цезарь – это не только бесстрашие, но и великая доброта! Прибыл выкуп, Цезаря отпустили, он поднял свой флот, схватил пиратов и тут же, без лишних хлопот, распял негодяев, о чём им сто раз говорил, но чтобы не мучались – прежде он всех умертвил… Фрагмент №3 (начало лета 48 г. до н.э., Александрия) Клеопатра: Боги стреляют метко, но редко… Брать Урожай – иль дождаться Жнецов? Ночь говорит голосами предков, Но мне слышнее шёпот жрецов. Хладные стены полны бормотанья, Носятся взгляды в сводах дворца. Умыслы, сплетни, интриги, тайны – И каждый день ожиданье конца. Брат мой от жажды власти хмелеет. Жрецы говорят ему: «Господин, Ты – последний из Птолемеев! Зарежь сестрёнку – и правь один!» И он, правителя сан примерив, Почти безумен – сопляк, юнец! Я, последняя из Птолемеев, Так же упорна, как мой отец, дед, прадед, да сам Македонский, от которого тянется весь наш род… Брат ставит точку, я – многоточие: Ещё не поздно нащупать брод! Фрагмент №4 (август 48 г. до н.э., Александрия) 1-й бродяга: У этих царей голова не на месте: Клеопатру, по воле брата, чуть не зарезали! Но она бежала – и, желая мести, Стала искать покровителя в Цезаре. 2-й бродяга: Но как их свиданье могло состояться? Ей до него не пройти – прорубиться! Сам подумай: повсюду таятся Шпионы, доносчики и убийцы… 1-й бродяга: Говорят, царица прибегла к хитрости: Пришли гонцы, ковёр положили у ног Цезаря. Он велел его развернуть да вытрясти; Развернули, а там – царица! 2-й бродяга: Умнò! Фрагмент №5 (15 января 47 г. до н.э., Мареотийское озеро) Цезарь – Клеопатре: Ни тебе и ни мне не отведать покоя. В этой жизни лишь крепкие зубы в цене. Флот готов и давно уже взнузданы кони. О покое забудь: ни тебе и ни мне. В легионах мятеж, а в Сенате измена – Негодяи нуждаются в новой войне! Факелами времён освещается сцена; Выхожу, бормоча: «Ни тебе и ни мне». Среди льстивых лжецов, средь подонков бесчестных, Чьим дыханьем отравлены все города, Как заманчиво думать, что можно исчезнуть, Раствориться, уйти – далеко, навсегда – И не помнить интриги, измены, напасти, Из оставленной жизни своей – ничего… Но куда нам уйти от проклятия власти? Разве можно куда-то уйти от него? Предсказуем финал сумасшедшего бега: Или яд, или меч, или мука в огне… Но, быть может, вдали от планеты и века И тебе тишиною воздастся, и мне? Фрагмент №6 (январь 47 г. до н.э., путешествие по Нилу) Клеопатра Сколько было бедствий и войн жестоких! Сберегла Судьба тебя, сохранила… О Египет! Дивный цветок Востока, гордый лотос в нежных объятьях Нила! Горячо тебя целовало Солнце, сладкий мёд побед был тобою выпит. Ты – цветок, что не был ни разу сорван. Где же мощь, где слава твоя, Египет? Ты знавал и засухи, и потопы, Изгонял войска, что ползли заразой… Для того ли было всё это, чтобы стать однажды римской военной базой? Тяжело, закатно пылает Запад. Свет Востока – чист, невесом, прозрачен. Что споём сейчас – отзовётся завтра; так зачем мы головы в память прячем?.. Фрагмент №7-1 (46 г. до н.э., Рим) Цезарь – Клеопатре: Мне снился Египет. С пустынями споря, Он щёлкал бичом полноводного Нила На том берегу Средиземного моря, На той стороне беспокойного мира. Мне снился дворец – в ослепительной дали… Беззвучно входили рабыни в чертоги, И розовым маслом они натирали Твои загорелые руки и ноги. Да хранят тебя боги, любимая! Фрагмент №7-2 (46 г. до н.э., Александрия) Клеопатра – Цезарю: Мне снился твой город – холодный, надменный, Он жаждою власти безмерно пропитан. Огнями ночными он спорит с Вселенной, А днём – торжествует, бушует, кипит он! Приди – я усталые ноги омою, Забудь хоть на месяц объятия Рима На том берегу Средиземного моря, На той стороне беспокойного мира… Да хранят тебя боги, любимый! Фрагмент №8 (лето 46 г. до н.э., Рим) Цезарь: Что не так? То ли Рим потерял свою силу, То ли мир перерос тесноту наших карт, Ночь приморская дышит тоской и трясиной И куда-то бесследно уходит азарт. Старый мир невелик и изрядно поношен. Где же суть? Ни в вине, ни во сне, ни в бреду… То, что милостью было, – становится ношей; Далеко ли с такою обузой уйду? Вся империя кажется душной тюрьмою… Долгим взглядом, улыбкой – да просто огнём! – Разгони темноту, что густеет над морем, И над миром, и в сердце усталом моём. Что в грядущем? Виденья темны и туманны, Словно Время поставило некий фронтир, На котором споткнутся и судьбы, и страны, За которым так резко изменится мир… Фрагмент №9 (14 марта 44 г. до н.э., Рим, за день до гибели) Цезарь: Сторонников кружок не поредел, И «Ave Caesar» – все рокочут дружно. Но, кажется, у жизни есть предел – Предел походов, славы, песен, дел; Ну а иначе – отчего так душно? Сплотил войска. Народы покорил. Отправил к предкам всех непокорённых. Но если раньше думал: «Воспарил!», Теперь, в объятьях мраморных перил, Смешно сказать, блуждаю в трёх колоннах! Привычный холод каменных богов, Пустые, раздражающие лики! Ответа нет. Жрецы – для дураков. Тону во тьме, не видя берегов, Я, Цезарь Одинокий и Великий! Фрагмент №10 (март 44 г. до н.э., Рим) Клеопатра: Жизнь, ты подобна амфоре пустой: в тебе гудит и воет лживый ветер, поющий о богатстве и любви, о милости богов, о поклоненье простых людей, правителей надменных и воинов, готовых умереть по первому лишь слову моему… Жизнь, ты подобна амфоре пустой: тебя толкнёшь, случайно иль с досады – рассыплешься на тысячи частей, на тысячи осколков разноцветных, что вместе были росписью, а ныне – вдруг обратились в груду черепков на равнодушном мраморном полу… Мой Цезарь мёртв. Сестра моя в изгнанье. Брат утонул – спасаясь от мечей, что к власти привели меня. Тоска холодным камнем в сердце закатилась… Всё меньше света в этих гулких залах, Всё больше здесь сочувственных теней… О, Клеопатра, как ты одинока!.. Фрагмент №11 (весна 41 г. до н.э., Киликия, г. Тарс) Антоний: Да, я помню царицу. Ей было четырнадцать лет в нашу первую встречу… теперь ей без малого тридцать. Говорят, у неё покровителей в Риме нет, несмотря на то, что богата и хороша царица. А мне сорок лет, я иду в поход, чтобы властью Рима обуздать парфян, потрясти Восток, взять с царей ответ… Я иду и думаю: а будут ли знать моё имя через десять лет, через сотню лет, через тыщу лет? Говорят, Клеопатра богата, моя же казна пуста, а можно ль без денег с противником биться? Я скажу царице, что недавно с грустью узнал о её пособничестве цезаревым убийцам! Она оскорбится: мол, все обвинения мимо, а я, взяв деньги, пойду, гарнизоны круша… Интересно, будут ли потомки знать моё имя? Кстати: говорят, царица до крайности хороша! Фрагмент №12 (32 г. до н.э., западное побережье Греции) Клеопатра: Мне всё чаще, мне всё яснее снится, когда просторы полны Луной: взрывая тучи, летит колесница, посланная богами за мной. От убийства к убийству, от сраженья к сраженью… Но ведь кто-то же всё это сочинил? Я не верю собственному отраженью, хоть его дарует священный Нил. Время тянется, как с мертвецом процессия, но едва задремлешь – толкнёт: «Пора!». Вот уж двенадцать лет, как нет Цезаря, а кажется, он был убит лишь вчера. Может, жизнь – только сон, может, всё это снится – снится, что Рим пригрозил нам войной? Я смеюсь, я ведь знаю, что в пути колесница, посланная богами за мной. Фрагмент №13 (32 г. до н.э., битва при Акции) Антоний: Клеопатра! Я видел твои корабли, Уходящие прочь, в неспокойное море… Никакое вино эту горечь не смоет, никакое забвение не утолит этот страшный огонь бесконечной тоски, это предощущение скорой развязки… Мы казались богами – но сорваны маски; Власть казалась безмерной – но что за тиски? То, что рядом – не вижу. А где-то вдали Сладко грезятся статуи, лавром обвиты… Но очнусь – и среди закипающей битвы Всё смотрю, как уходят твои корабли. Прорываемся следом, ценою потерь: Неприятель, как челюсти, фланги сжимает, И седой Посейдон урожай пожинает; Неужели финал? Неужели теперь? …Нет, прорвались, полфлота оставив в плену… Флагман тонет, в борту – безнадежная рана. О, проклятье на голову Октавиана! Бой проигран, но я продолжаю войну! …Сколько память больную ни три, ни скобли, В ней останется день, почерневший от горя, день, когда на просторах кипящего моря – Клеопатра! – я видел твои корабли… Фрагмент №14-1 (12 августа 30 г. до н.э., Александрия) Клеопатра: Перед глазами – тьма. И всё в ней тонет… Сначала – Цезарь, а теперь – Антоний. Через мгновенье, ядом опьяня, Она навеки поглотит меня. Оно и лучше – сердце опустело, А без него мертво любое тело. Всё кончено. И смысла лишены Утехи страсти, власти и войны. Ну, что ж поделать, ни в одной стране – Я помню Цезарь! – ни тебе, ни мне… Своей тоской финал не затяну: Всё кончено. Уходим в тишину… Фрагмент №14-2 (12 августа 30 г. до н.э., Александрия) Хармиона, придворная дама: Клеопатра, путь твой да озарится животворящими лучами восхода! Произошло то, что подобает царице из такого древнего рода. Кружи над Египтом, подобно птице, тысячелетьями, год от года – храня державу, как подобает царице из такого древнего рода. Твоё имя легло на папирус века. Да подарят боги дивные сны тебе, просиявшей, как нежная Вега на вечернем небе своей страны! Да не тронет ветер твои волосы и ресницы, благоговейно застыв у входа… Произошло то, что подобает царице из такого древнего рода. Авторский постскриптум Закончены раскопки. И в палатке разложены мечи и статуэтки, пергаменты, монеты, черепки… Разложены по полкам инструменты. Друг к другу прислонились фолианты, По-старчески внезапно задремав… Поблекшие и выцветшие краски на черепках разбитого кувшина в единую картину не слились, но всё же рассказали, хоть и кратко, о том, что для науки недоступно и что в густой полуночной тиши, пробив заслоны двух тысячелетий, наполнив ночь негромким бормотаньем и смехом, шелестящим, точно крылья летящего на пламя мотылька, и музыкой – тягучей, незнакомой, похожей на дыхание Вселенной, и грустью – открывается поэту… …И Время вдруг лишается границ… Послесловие Ну вот и всё. К концу идёт тетрадь, Не просто черновик моих бессонниц, Но некий неожиданный рубеж, Такой желанный и такой внезапный. Как будто с шумом распахнулась дверь Иль оборвался лес – и видно море Среди деревьев – чёрных и немых; И вот стою растерянно на бреге… Предчувствую: за этим рубежом Останется немало из того, что Пока ещё храню и берегу. Друзья, любовь – что ты сочтёшь балластом Спокойная и мудрая Судьба? Я не желаю будущее ведать… ……………………………… Ну вот и всё. Закончилась тетрадь. И я сказал – что должен был сказать.