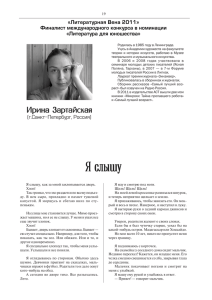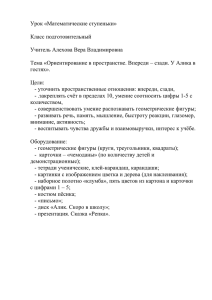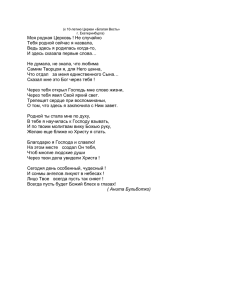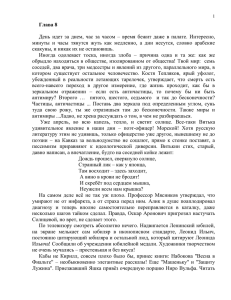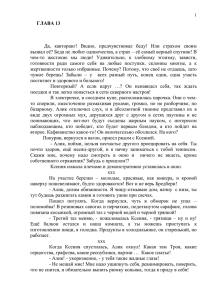12 В контексте насилия следует упомянуть еще одну важную
реклама
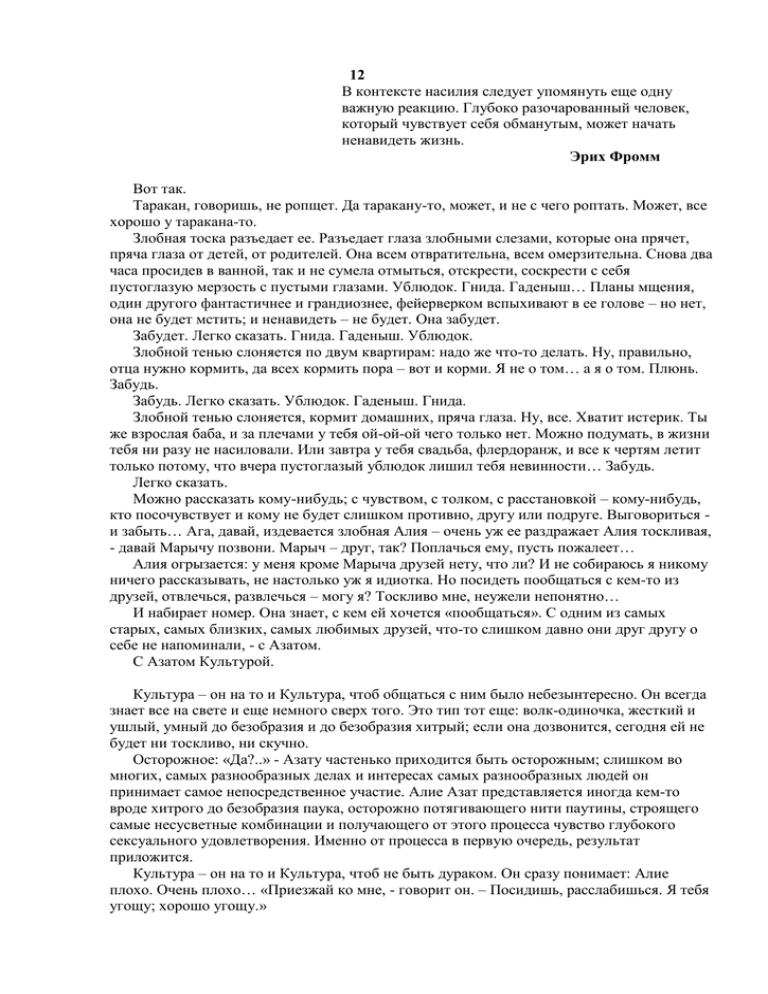
12 В контексте насилия следует упомянуть еще одну важную реакцию. Глубоко разочарованный человек, который чувствует себя обманутым, может начать ненавидеть жизнь. Эрих Фромм Вот так. Таракан, говоришь, не ропщет. Да таракану-то, может, и не с чего роптать. Может, все хорошо у таракана-то. Злобная тоска разъедает ее. Разъедает глаза злобными слезами, которые она прячет, пряча глаза от детей, от родителей. Она всем отвратительна, всем омерзительна. Снова два часа просидев в ванной, так и не сумела отмыться, отскрести, соскрести с себя пустоглазую мерзость с пустыми глазами. Ублюдок. Гнида. Гаденыш… Планы мщения, один другого фантастичнее и грандиознее, фейерверком вспыхивают в ее голове – но нет, она не будет мстить; и ненавидеть – не будет. Она забудет. Забудет. Легко сказать. Гнида. Гаденыш. Ублюдок. Злобной тенью слоняется по двум квартирам: надо же что-то делать. Ну, правильно, отца нужно кормить, да всех кормить пора – вот и корми. Я не о том… а я о том. Плюнь. Забудь. Забудь. Легко сказать. Ублюдок. Гаденыш. Гнида. Злобной тенью слоняется, кормит домашних, пряча глаза. Ну, все. Хватит истерик. Ты же взрослая баба, и за плечами у тебя ой-ой-ой чего только нет. Можно подумать, в жизни тебя ни разу не насиловали. Или завтра у тебя свадьба, флердоранж, и все к чертям летит только потому, что вчера пустоглазый ублюдок лишил тебя невинности… Забудь. Легко сказать. Можно рассказать кому-нибудь; с чувством, с толком, с расстановкой – кому-нибудь, кто посочувствует и кому не будет слишком противно, другу или подруге. Выговориться и забыть… Ага, давай, издевается злобная Алия – очень уж ее раздражает Алия тоскливая, - давай Марычу позвони. Марыч – друг, так? Поплачься ему, пусть пожалеет… Алия огрызается: у меня кроме Марыча друзей нету, что ли? И не собираюсь я никому ничего рассказывать, не настолько уж я идиотка. Но посидеть пообщаться с кем-то из друзей, отвлечься, развлечься – могу я? Тоскливо мне, неужели непонятно… И набирает номер. Она знает, с кем ей хочется «пообщаться». С одним из самых старых, самых близких, самых любимых друзей, что-то слишком давно они друг другу о себе не напоминали, - с Азатом. С Азатом Культурой. Культура – он на то и Культура, чтоб общаться с ним было небезынтересно. Он всегда знает все на свете и еще немного сверх того. Это тип тот еще: волк-одиночка, жесткий и ушлый, умный до безобразия и до безобразия хитрый; если она дозвонится, сегодня ей не будет ни тоскливо, ни скучно. Осторожное: «Да?..» - Азату частенько приходится быть осторожным; слишком во многих, самых разнообразных делах и интересах самых разнообразных людей он принимает самое непосредственное участие. Алие Азат представляется иногда кем-то вроде хитрого до безобразия паука, осторожно потягивающего нити паутины, строящего самые несусветные комбинации и получающего от этого процесса чувство глубокого сексуального удовлетворения. Именно от процесса в первую очередь, результат приложится. Культура – он на то и Культура, чтоб не быть дураком. Он сразу понимает: Алие плохо. Очень плохо… «Приезжай ко мне, - говорит он. – Посидишь, расслабишься. Я тебя угощу; хорошо угощу.» - Нет, это не нужно. Я не колюсь, ты же знаешь. - Один-то раз не страшно. Успокоишься. - Нет, нет, не надо. – Она уже испугалась: а вдруг он решит сейчас, что со слишком правильной Алией, нос воротящей от его щедрого угощения, ему общаться необязательно, слишком скучно? Но Азат не настаивает: смотри сама, просто приезжай. И ждет она на остановке автобуса. Долго ждет, очень долго нет автобуса, ну почему же так долго автобуса-то нет. Невыносимо уже ждать, вот это внутреннее невыносимое напряжение – невыносимо больше его выносить. Да, что-то слишком долго они с Азатом не напоминали о себе друг другу. Семь месяцев, если точно; точно; она знает точно, потому что … Ну, конечно. Потому что именно с Азатом она провела ту ночь, о которой писала потом в diary: ночь перед поездкой на кладбище, когда она пообещала Алику не пить и не колоться четырнадцать лет – столько, сколько они были вместе… Четырнадцать лет, о Боже. Где были ее мозги? Тихая паника поднимается откуда-то снизу, как рвотный комок. В ту-то ночь он как раз очень, очень щедро ее угостил. Но это было не страшно: это была ее последняя вмазка. Семь месяцев назад. Тихая дрожь начинается откуда-то сверху, из района макушки. «Один-то раз не страшно», сказал он. «Успокоишься», сказал он. «Приезжай», сказал он. «Хорошо угощу», сказал он. Четырнадцать лет, о Боже – и какие-то жалкие семь месяцев. Где, где, где, в какой Караганде были ее мозги!!! – Что-то соленое течет по ее лицу; автобуса все нет. Горло стиснуло железным обручем: где, где, где, где, где мозги-то ее были, о Боже!!! Всего лишь несколько минут назад такая ерунда ее волновала. Какой-то пустоглазый ублюдок, да хоть бы вовсе он безглазый был. Или, например: как они поведут себя сегодня друг с другом – она и Азат, ведь та ночь случилась так случайно, однаединственная за долгие годы теплой дружбы… сейчас даже смешно: разве стоят внимания подобные мелочи? Азат мужчина ласковый, они всегда были друг к другу неравнодушны, если он ее захочет – он ее получит, только и всего. Не захочет – не получит, только и всего. Все равно. Потому что … Потому что всë равно. Всë всë равно. Потому что никогда уже она не увидит Алика. Неизвестно где были ее мозги, когда она писала: никаких особых клятв я, Алик, не давала, Алик, просто пообещала тебе, Алик, а про себя загадала: если, Алик, я продержусь, Алик, мы еще встретимся, Алик. Хрен с ним, Алик, пусть в аду, Алик, но я тебя еще увижу, А-а-а-аалик… Алик и Алия. Ты и я. Ты – половинка моя. Четырнадцать лет – и какие-то семь месяцев жалкие, мой Бог. Никогда, Алик, я тебя уже не увижу, А-а-а-аа… Автобус пришел наконец; автобус, который так долго она ждала. Семь месяцев она ждала этот автобус, и теперь он увозит ее в мир, где она никогда больше не увидит Алика. Слишком быстро она нашла свою постель слишком холодной и одинокой. Если бы сексуально озабоченная обезьяна не взяла над ней верх, она не ехала бы сейчас в этом автобусе… Весь автобус косится на нее: рожа красная, мокрая, плечи трясутся. Плевать. Плевать она хотела на весь автобус, на весь мир. Между нею и миром, между ней и остальными людьми снова встала стена – невидимая и такая прочная… такая знакомая, почти родная. Алик. Я знаю, ты тоже плачешь сейчас. Тебя тоже рвет и ломает. Ты любил меня, ты меня ждал, ты надеялся. Прощай, Алик. Я знаю, ты простишь меня. Я знаю, ты меня поймешь. Ты единственный, кто способен понять меня и простить. Ты же тоже много чего обещал мне. Ты обещал мне не грубить с дозой; ты обещал мне не умирать. Ни пуха, Алик; скажи мне «к черту», Алик, и скажи мне «ни пуха», пожалуйста, А-а-а-алик… Я знаю, ты знаешь: я тоже люблю тебя, я тоже ждала и надеялась… прощай, Алик. Но подожди же!!! – взмолилась она. – Ничего непоправимого ты еще не сделала. Ты же жила без наркотиков семь месяцев, ты можешь без них жить. Ну поезжай, пообщайся, да затрахайтесь вы, хрен бы с вами, но зачем же колоться?!! Да, не получится так, я знаю, но ты же можешь сейчас просто взять и выйти из автобуса?.. Пустоглазый этот – не слишком ли много чести ему!.. И она вышла из автобуса. Потому что она уже приехала. Еще минут пять, и она будет у Азата. Ну, малыш, плачет она, ну делай что хочешь, только не торопись. Просто дай себе еще пять минут подумать. Просто иди помедленней, ну пожалуйста, малыш, есть еще время! Вспомни: дома тебя ждут Юля и Стас, мама и папа, они верят тебе, малыш… ну зачем же так-то?!! Ведь ты же все же мать и дочь, вспомни. Какая из меня дочь и мать, не смеши; наркоманкой была – наркоманкой и сдохну, какая из меня мать и дочь. Но, малыш… Иди на хуй, сказала она и вошла в подъезд. … И вены вдохнут благодарно Горький коричневый яд. И дни, что текли так бездарно, В коричневый Космос взлетят.