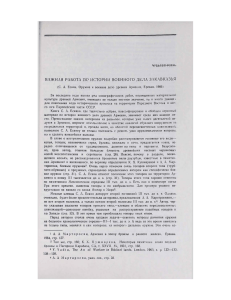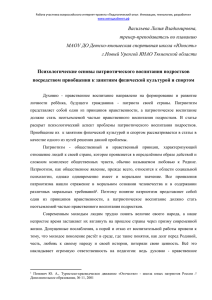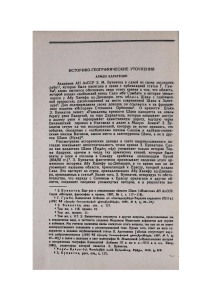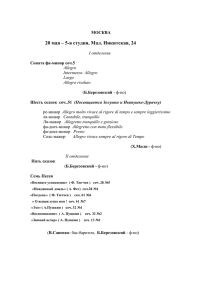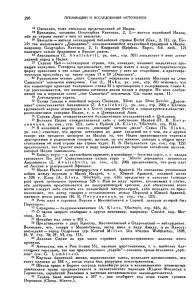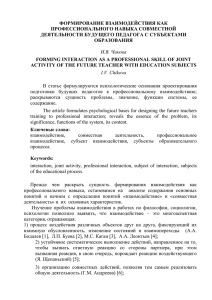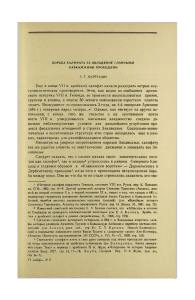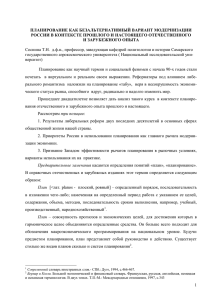I. Онтологиия
реклама

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ И КУЛЬТУРЫ им. В. А. ШТОФФА (ЦЕНТР «СОФИК») РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПАРАДИГМА Очерки философии и теории культуры Под редакцией М. С. Уварова ВЫПУСК 3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2005 УДК ББК СОДЕРЖАНИЕ Рецензенты: докт. филос. наук проф. Ю. М. Романенко (С.Петерб. гос. ун-т), докт. филос. наук проф. С. Т. Махлина (С.-Петерб. гос. ун-т культуры и искусств) Печатается по постановлению Редакционно-издательского совета Республиканского гуманитарного института Санкт-Петербургского государственного университета Редакционный совет: докт. филос. наук, проф. М. С. Уваров; докт. филос. наук, проф. В. Н. Сагатовский; докт. филос. наук, проф. И. И. Евлампиев, канд. филос. наук, доц. Н. Х. Орлова канд. филос. наук П. М. Колычев Парадигма: Очерки философии и теории культуры. Под редакцией проф. М. С. Уварова – СПб.:Изд-во «Барс», 2005. Вып. 3. — 159 с. В книге представлены статьи, посвящённые актуальным проблемам философии и теории культуры. В сборник включены статьи учёных Республиканского гуманитарного института Санкт-Петербургского государственного университета. Для научных работников высшей школы, аспирантов, студентов. © Авторский коллектив, 2005 I. О нт о л о гиия Косыхин В. Г. О влиянии хайдеггеровской философии на формирование онтологического дискурса постмодерна…………………... Долгополов И. А. Ситуации бытия и структура экзистенции……… II. Теория познания Косыхин В. Г. Терминология разрыва: Хайдеггер и вопрос об историчности истины в метафизике…………………………………… Малкина С. М. Философия в ситуации риска: возможности мышления…………………………………………………………………… Колычев П. М. Критика Э. В. Ильенковым концепции идеального, предложенной Д. И. Дубровским……………………………………. Козловская Н. Н. Архетип и символ………………………………… III. Философская антропология Дмитриев И. «Бытийная структура» и человек…………………….. Абдина А.К. Философская антропология об «эксцентричности» человека……………………………………………………………….. Михаленко А. В. Тема еды и питья в современном кинематографе VI. Теория культуры Романовская Е. В. Язык и традиция…………………………………. Эрхитуева Л. И. К вопросу о понятии и структуре межкультурной коммуникации………………………………………………………… Афанасьева Л. В. Русская составляющая в японской культуре…… Курмилев П. В. Этические идеалы в китайском и японском «героическом романе»…………………………………………………… Михаленко А. В. «О человеческом в человеке»…………………….. Колычев П. М. Дерево в шумерской культуре……………………… V. Специальный раздел Ненашев А. И., Манькова С. В. Сравнительный анализ ценностных ориентаций студентов разных специальностей……………….. I. ОНТОЛОГИЯ В. Г. Косыхин О влиянии хайдеггеровской философии на формирование онтологического дискурса постмодерна Предпринятая постмодернистской философией попытка создания нового пространства онтологического анализа, пространства смысловой множественности, в котором даже онтология стремится к самоумножению, во многом отражает приоритеты постмодернистского сознания в целом: плюральности над единством, различия над тождеством, сопровождаемых тотальной подозрительностью к любым универсалиям. Но, безусловно, здесь мы также имеем дело с распадом традиционного онтологического пространства на фрагментные «онто-повествования», в которых бытие, термин классической онтологии, уже трудно изымаем из той причудливой палитры «красок времени»1, в которые его окрасила эпоха Postmodernité. Онтологические проблемы, которые ставятся в постсовременной философии, во многом малоприемлемы с точки зрения классического философствования, которое не узнает привычных онтологических тематизаций в искривленных зеркалах постмодернистской терминологичности. Вывод Хайдеггера о событии (Ereignis) как пределе всякой онтологии, событии, противополагаемом бытию (пусть даже это всегда событие самого бытия, ведь бытие только как бытие события, — не совсем то, что метафизическая традиция видела в бытии), вывел на свет еще одно противопоставление: уникальности и повторяемости. Именно уникальность события, несводимая к повторяемости бытия, послужила им- пульсом для последующих постмодернистских онтологических импровизаций. В онтологиях постмодерна мы уже можем говорить о событии Письма/Текста и псевдо-событиях Différance (Различения), Supplement (Дополнения) — у Деррида, Branchement (Ответвления) — у Бодрийара, как предмете онтологической рефлексии. Само событие, даже в радикально-хайдеггеровском смысле Ereignis, трансформируется в постмодернистской «псевдо-событийности», лишаясь своих черт бытийности, еще сохранявшихся в поздне-хайдеггеровской онтологии. Псевдособытия постмодернистских онтологий — это события под знаком вычеркивания, события, обладающие гибридно-понятийной структурой, события — гибриды, вернее — прививки невозможной событийной структуры, сама невозможность любого «чистого» события. Превосходную характеристику так понимаемых событий приводит Жиль Делёз в своей «Логике Смысла»: «События, оставаясь всегда только эффектами, исполняют между собой функции квази-причин и вступают в квази-причинные отношения, причем последние всегда обратимы»2. Для такого события характерны возможности тотальной заместимости «прошлого и будущего, активного и пассивного, причины и эффекта, большего и меньшего, избытка и недостатка, уже есть и еще нет»3. Следует отметить, что Делёз вполне четко осознает несовместимость такой событийности с традиционным онтологическим дискурсом, поскольку, страницей ранее, утверждает, что высшим онтологическим понятием должно выступать не бытие, но нечто, совмещающее в себе черты бытия и небытия, нечто равновпринадлежащее и равнонепринадлежащее им обоим4. Излишне добавлять, что этим нечто оказывается у Делёза именно событие. Одной из первых «жертв» постмодернистской атаки на традиционную онтологию станет понятие «причинности». Событие исключает причинность и принципиальное переосмысление классически или метафизически понимаемой причинности является непременным условием онтологических размышлений и Делёза, и Бодрийара, и Деррида. Подобное неприятие причинно-каузальных связей, характерное для «событийных онтологий» постмодерна (каждая из которых сама претендует на статус события в современном бытии и мышлении), с одной стороны, выявляет и подчеркивает роль учения о причинах в традиционной онтологии, тесную связь причинности и бытия, а с другой — ста- Делёз Ж. Логика смысла. М., 1995. С. 21 – 22. Там же. С. 21. 4 См.: Делёз Ж. Указ. соч. С. 20. 2 См.: Лиотар Ж.-Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодерн //Ad Marginem’93. Ежегодник. М., 1994. С. 307. 1 3 вит вопрос о тех причинах или истоках, которые позволяют, могут позволить нам говорить о качественном своеобразии онтологии постмодерна как таковой, поскольку речь идет о тех причинах или основаниях, опираясь на которые современная или постсовременная философия смогла трансформировать ставшее уже почти привычными понятие бытия. Нельзя не отметить, что в онтологии постмодерна под причинами следует иметь в виду (если здесь вообще может идти речь о причинности) скорее некие «точки отталкивания», поскольку, к примеру, и в гиперреальном универсуме Жана Бодрийара, и в деконструктивистском универсуме Жака Деррида радикальной трансформации подвергалось уже само понятие причины. Я осмелюсь предположить, что такой точкой онтологического отталкивания, своеобразным прологом к последующей трансформации понятия бытия в текстах философов Postmodernité, стал тот смысл, который придала этому понятию онто-герменевтика Мартина Хайдеггера. Российский исследователь постмодернизма И. П. Ильин весьма четко фиксирует эту связь между Хайдеггером и постмодернизмом в кратком и недвусмысленном резюме: «Наиболее значительную роль в формировании основ постмодернистского мышления сыграл М. Хайдеггер»1, отмечая, что хотя самого Хайдеггера вряд ли можно причислить к философии постмодерна, но именно в результате реинтерпретации некоторых элементов его учения постмодернизм смог оформить себя как философское движение. Сама необходимость Хайдеггера для любой современной онтологии (неважно, является ли это предметом допущения или оспаривания) наводит на следующий вопрос: в чем, собственно, состоит эта необходимость в двух смыслах этого слова: как требование к мышлению, некий вид долженствования или философского долга и как то, что мышление, связанное с современностью, не в состоянии обойти, как бы оно к этому ни стремилось?2 Или иначе: какие аспекты онто-геменевтического проекта Хайдеггера оказались востребованными в философии постмодерна? Какие общие черты этих двух трансформативных онтологий (хайдеггеровской и постмодернистской) связали их чем-то наподобие 1 Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996. С. 208. 2 Ср. о двух значениях необходимости как necessitas и utilitas у Боэция в «Комментарии к Порфирию» (Боэций. Утешение философией и другие трактаты. М., 1990. С. 15 – 16), как чего-то и должного, и неизбежного. двойной вязи, double bande, употребляя расхожий термин Деррида, противопоставив их остальной онтологической традиции? Я бы остановил свое внимание на четырех позициях или тезисах/следствиях хайдеггеровского мышления, которые весьма органично вписались в контекст постмодернистского философствования, окрашивая философию Хайдеггера в постмодернистские тона и, наоборот, придавая всем онтологиям постсовременности неискоренимо хайдеггеровские черты: 1) Термино-логия есть поле философии. Т. е. та предметная сфера, в которой вращается, обречено вращаться мышление, претендующее на статус философии. Философия вообще возможна только как терминологическое мышление. Отсюда — внимание Хайдеггера к языку, отсюда — терминологическая изобретательность и даже изысканность, свойственная языку философов postmodernité, тексты которых являются, по сути дела, ничем иным как путешествием по термино-логическим простраствам. 2) Термино-логичность мышления означает, помимо прочего, погруженность в традицию. Современная философия никогда не начинает(ся) сначала, она продолжает себя. В этом плане философское развитие понимается не как герметичное (т. е. всегда первичное, независимое и самостоятельное, в том числе и само-стоятельное-в-истине) осмысление феноменов, но как герменевтическое переосмысливание или возобновление мысли. Герменевтика как «мышление-не-против», как «мышление-вместе-с», что формирует цель: понимание того, что уже было сказано, что всегда уже было сказано. Не начинать заново, но продолжать осмысление понимающей мыслью – вот исходная трансформировано-онтологическая установка Хайдеггера. Сравним близость этой установки с позицией Жака Деррида: «Этот текст … ткется из чистых следов различий, в которых значение и деятельность [по его интерпретации] всегда соединены; текст никогда не присутствует сам по себе, он состоит из архивов, которые всегда уже являются транскрипциями. Изначальными отпечатками (Des estampes originaires). Все начинается с воспроизведения. Всегда уже: хранилища значения, которое никогда не присутствовало в настоящем, чье означаемое присутствие всегда вос-создается в последующем (a retardement)»3. Философия как вечное воспроизведение, продолжение? Продолжение герменевтической игры на уже герметически замкнутом (и, следовательно, недоступном простому расширению) поле традиционной философии, подобно шахматной доске расчерченном на клетки определен- 3 Derrida J. L’ecriture et la difference. P.: Ed. Du seuil, 1979. P. 314. ных метафизических систем? Вполне допустимо, если исключить, хотя бы в рамках философски-приемлемого, два еще иногда встречающихся занятных мнения. Первое — что в эту игру можно играть вообще без доски, т. е. без всякого обращения к традиции (этой крайне любопытной точки зрения придерживаются в основном две категории людей — около-живописные, около-литературные и около-прочие «постмодернисты» и вечные маргиналы от философии, люди, как правило с исключительно естественнонаучным образованием, почему-то считающие, что понимание некоторых физических процессов уже наделяет их правом рассуждать о философии, игнорируя философскую традицию). Второе мнение — что для игры необходима только доска, а фигуры являются странным излишеством. Клеточки-системы доски выступают как нечто уже, на сегодняшний момент или когда-то, понятое (здесь понимание толкуется как герметичный результат, а не герменевтический процесс философствования) и суть философского дискурса сводится к простым оппозициям утверждения/опровержения, согласия/несогласия, — наивная вера, что, допустим, такого философа как Кант или Ницше уже поняли и/или опровергли и т. д. Такова точка зрения людей, представляющих себе философию как историю опровергаемых взглядов или решенных/решаемых проблем, — т. е. опять-таки попытка трактовать философию, опираясь на модели естественнонаучного мышления. Этой позиции онто-герменевтика вкупе с постсовременной философией противопоставляют свое представление о философии как истории (в том числе, но не исключительно истории) незавершенных и принципиально неразрешаемых проблем, — словом, о философии как о взглядах и проблемах, не подлежащих списанию в архив под рубрикой «пройденное» (варианты: «понятое», «решенное»). Философия должна продолжаться, и поступающие со многих сторон сведения о ее завершении всегда уже преждевременны. 3) Третьей позицией, сближающей мышление Хайдеггера с мыслью Postmodernité, является убежденность в том, что современная философия должна трансформировать традиционное, веками складывающееся понятие/представление об истине. В первую очередь это касается преодоления метафизических предрассудков об историчности истины. Более конкретно: если философия хочет вернуться к самой себе, ожить заново, распространить и возобновить свое жизненное пространство, она не должна превращать себя в историю философии. Современность открывает для себя новое понимание истины как не сводящейся к «истории воззрений» или «истории истинствований/само-стояний-вистине». Пребывание в герменевтическом «диалоге с истиной» вовсе не означает знания истинных ответов и не характеризуется соответствую- щим решением проблем. Здесь — смена ориентиров: в отличие от герметического, герменевтическое (или даже постсовременное по преимуществу) мышление стремиться не столько дать однозначный и ясный ответ, столько, в первую очередь, правильно поставить вопрос, делая его, тем самым, своей задачей. Причем такая постановка вопроса означает не только и не столько шаг на пути решения этого вопроса (ведь ответ на вопрос может и не разрешать проблему по-существу), но именно уже-решенность вопроса в самом акте вопрошания, где в терминологически-выверенном пространстве уже скрыт (дарующийся самим языком, — и в этом еще одно сходство позиций Хайдеггера и Деррида) ответ. Но даже такой ответ вовсе не является конечным словом, он – лишь предлог для нового вопрошания. По сути дела, эта новая герменевтика есть бесконечная пролонгация вопрошания, и главная новизна проекта постсовременности состоит в том, что философия, понимаемая с герменевтической точки зрения, вообще принципиально не дает привычных окончательных ответов. Кстати, в этом ее сходство с критической позицией Гегеля в отношении односторонних и конечных определений метафизического мышления, правда, философия постмодерна лишает эту позицию всякого намёка даже на саму возможность прогрессивного развития, т.к. это возвращало бы нас вновь к метафизическому воззрению на историчность истины, в которую каждый, с течением времени, говоря словами Аристотеля, мог бы добавлять что-то свое. Итак, герменевтика и философия постмодерна имеют дело с новой фундаментальной настроенностью мышления, четко впервые условленной Хайдеггером в понятии Fraglichkeit — вопросительностью, стоянием под вопросом, проблематичностью. Современное мышление вообще по своей сути является не проблемным, но проблематизирующим. Его цель, как бы парадоксально это ни звучало, не решение, но … создание проблемы. И многие тексты философии постмодерна (вот, кстати, еще один пример постмодернистского умножения смыслов) являются своеобразными фабриками по производству проблем, — не в последнюю очередь и для самих читателей этих текстов. 4) Четвертая, возможно, наиболее бросающаяся в глаза позиция– связка двух трансформативных онтологий, направлена на коренной пересмотр классического новоевропейского понимания субъекта (берущего начало в рационализме Декарта и так или иначе продолжающегося вплоть до знаменитого онто-герменевтического прорыва Хайдеггера, естественно, за исключением некоего промежутка, лакуны в философской истории, связанной с именем Ницше). Выбор теперь осознанно делается в пользу деперсонализации этого субъекта, неважно, отрицает- ся ли субъект как таковой в аналитике Dasein или же он отрицается как некое единое целое в онтологиях постмодерна. Можно задаться вполне естественным вопросом: существует ли нечто общее для всех вышеуказанных позиций, общее, затрагивающее как новое терминологическое пространство, так и герменевтичность установки, отношение к истине и субъекту (т. е., соответственно, позиции с первой по четвертую)? Все эти четыре позиции находятся в определенном отношении к языку и исходят из особой значимости языка для онтологии и философского мышления вообще. Хайдеггеровский «лингвоцентризм» вкупе с постмодернистской «лингводецентрацией» лишний раз подчеркивает этот сдвиг или движение в современной философии, которая, говоря словами Хайдеггера, обнаруживает себя «на пути к языку». Как отмечает И. П. Ильин, «Если классическая философия в основном занималась проблемой познания, т. е. отношения между мышлением и вещественным миром, то практически вся западная новейшая философия переживает своеобразный “поворот к языку” (a linguistic turn), поставив в центр внимания проблему языка, и потому вопросы познания и смысла приобретают в ней чисто языковой характер»1. Ричард Рорти, один из ведущих мыслителей постсовременного типа, пытаясь ответить на вопрос, почему язык представляет такой интерес для философии, считает, что «лингвистический поворот» (die linguistische Wende — Рорти возводит этот термин к Густаву Бергману) был «отчаянной попыткой удержать какое-то свободное пространство для философии. Философы старались отгородить некое пространство априорного знания, куда не смогли бы вторгнуться ни социология, ни история, ни естествознание»2. Онтологический характер этого «лингвистического поворота» философии весьма четко обозначен в опубликованном в 1959 году докладе Мартина Хайдеггера, озаглавленном «Путь к языку». Позиция Хайдеггера, вкратце, сводится в нем к следующему: неотъемлемой характеристикой человеческого существа является обладание даром речи, являющимся не просто одной из многих человеческих способностей, но, собственно, очерчивающим существо человека как такового. Онтологическая проблематика, концентрирующаяся в высказывании «это есть то», уже как бы обеспечена самим наличием или предданностью языка. «Поскольку обеспечивает все подобное язык, сущность человека покоится в языке. Мы существуем, выходит, прежде всего в языке и при языке»3. Это «мы существуем в языке» указывает на онтологический характер связи человека и языка; словом «прежде всего» Хайдеггер характеризует особый бытийственный статус языкового сущего. Что означает онтологическое понимание языка и нашей в него вовлеченности? Что означает эта неизбежность языка для онтологии? Хайдеггер считает, что эти вопросы надлежит осмыслять из существа самого языка, что достижимо лишь «неотступным следованием тому, что указано формулой: дать слово языку как языку»4. Собственно, данная формула, обязывающая давать слово самому вопрошаемому, вполне логично вытекает из герменевтической позиции исследователя, однако Хайдеггера прежде всего интересует язык в его онтологическом измерении, каковое и обнаруживается в следующем выводе: «Поскольку язык есть, он, т. е. так или иначе совершающаяся речь, принадлежит к налично существующему»5. Руководствуясь этим ориентиром, Хайдеггер предлагает пойти по следам того, в качестве чего являет себя язык, т. е. обнаружить «чтойность» языка, каковая и будет являться его искомой сущностью. Говорение на языке — наиболее первично схватываемый феномен — подразумевает уже-услышанность языка, уже-включенность в досубъективные структуры ( в конце концов, когда мы говорим, язык уже есть как преданный любому говорению, ведь, говоря, мы не изобретаем язык всякий раз заново), т. е. язык предшествующих говорящему на нем субъекту. «Говорение само по себе есть уже слушание. Это — слушание языка, которым мы говорим. Говорение есть таким образом даже не одновременно, но прежде всего слушание. Это слушание языка незаметнейшем образом предшествует всякому другому слушанию, какое еще имеет место. Мы говорим не только на языке, мы говорим от него. Говорить мы можем единственно благодаря тому, что всякий раз уже услышали язык. Что мы тут слышали? Мы слышим, как язык — говорит»6. Это «говорение самого языка» носит, согласно Хайдеггеру, неискоренимо онтологический характер, поскольку, достигая в таком говорении показа всех областей возможного присутствия, возможного бытия, язык дает проявиться или скрыться в своем высказывании всему, что есть. Это высказывание языка «приводит присутствие и отсутствующее всякий раз к его собственному, откуда последнее кажет себя Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. М., 1993, С. 259 Хайдеггер М. Указ. соч. С. 260. 5 Там же. С. 261. 6 Там же. С. 266. 3 Ильин И. П. Указ. соч. С. 14. 2 Рорти Р. Витгенштейн, Хайдеггер и гипостазирование языка // Философия Мартина Хайдеггера и современность. М., 1991. С. 121. 1 4 в самом и своим способом пребывает»1. Такое «осуществляющее обособление» Хайдеггер называет событием (Ereignis), вовлекая тем самым онтологию события в уже не бытие, но событие языка. Этот шаг Хайдеггера открывает дорогу столь же тесно сплетенной с языком онтологии постмодерна, в которой любое онтологическое высказывание переплетается с рефлексией по поводу, как самого акта языкового высказывания, так и значения высказывания в языке. И. А. Долгополов Ситуация бытия и структура экзистенции Н. Аббаньяно в своей работе «Введение в экзистенциализм» связывает структуру экзистенции с движением выбора, происходящим в экзистенциальном акте. Это движение должно оправдывать ситуацию, которая была, и связывать её с будущей ситуацией посредством решения, принимаемого в настоящем. Первоначальная ситуация поэтому должна быть возможностью другой возможности или трансцендентальной возможности. Трансцендентальную возможность Аббаньяно понимает как единство изначальной возможности, реализуемое в настоящем и будущем2. По отношению к решению человека трансцендентальная возможность выступает как должное, норма и, в этом смысле, определяет субстанциальный аспект структуры. Такое понимание структуры позволяет заново поставить вопрос о бытии человека в его отношении к миру. Это отношение к миру зависит не только от индивидуальной экзистенции, но и от коэкзистирующего сообщества, которое гарантирует человеку реализацию его трансцендентальной возможности. Принадлежность человека к коэкзистирующему сообществу, или его отношение с другими является определящим моментом для понимания самой экзистенции. Это момент проблематичности индивидуальной экзистенции. Человек не может трансцендировать к своему бытию, если это трансцендирование не идёт к бытию другого. Значит, экзистенция, может быть, реализована только в сообществе. Поэтому возникает вопрос, каков онтологический статус коэкзистенции? Ответ Аббаньяно — свобода — требует в свою очередь прояснения. 1 2 Там же. С. 268. Аббаньяно Н. Введение в экзистенциализм. СПб., 1998. С. 99. Отношение экзистенции с бытием должно быть позитивным. Это значит, что для признания факта отношения с бытием необходимо признание нормы как конститутивного момента для осуществления бытия свободным. Отношение с миром, таким образом, упорядочивается в соответствии со свободой как единством Я, а «Единство Я, которое освобождается от разнобоя своих поведенческих установок, определяет единство мира, потому что ведёт мир к формированию в соответствии с порядком действительной возможности использования средств и инструментов реализации Я»3. Иными словами, отношение с миром должно соответствовать определённому порядку, и только таким образом человек может реализовать своё бытие свободным. Таким образом, ответ на поставленный вопрос должен быть: онтологический статус коэкзистенции — рациональный аспект отношения человека к бытию. Этот аспект существует независимо от человека, но человек должен самостоятельно выбрать его, что Аббаньяно называет «выбором свободы». Действительно, для того, чтобы реализовать свои возможности в мире, надо сначала их открыть в себе, а затем определиться по поводу того, в какой сфере жизнедеятельности их возможно реализовать. Для этого в свою очередь необходимо определиться со своими поведенческими установками, средствами и инструментами. Поэтому выбор свободы должен быть и выбором социального окружения (социальной группы), т. е. коэкзистирующего сообщества, а также признанием ценностей и установок данного сообщества и права каждого члена этого сообщества на свободный выбор. Однако для того, чтобы выявить свои скрытые возможности, необходимо выявить свою субстанцию, т. е. сформировать себя. Изначально она есть как проблематичность и неопределённость, но вместе с тем должное, которое обретается в индивидуализации и самоограничении, в постоянном возобновлении задачи решать относительно самого себя. Так осуществляется выбор судьбы. Чем больше человек индивидуализируется субстанциально, тем последовательнее он реализует своё предназначение. Полное завершение субстанция приобретает лишь в коэкзистенции, поскольку решение относительно себя является решением и относительно других, относительно своего окружения, ибо задача, которую решает человек, своим необходимым условием имеет сосуществование с другими. Итак, проблема свободы связывается Аббаньяно с рациональным аспектом бытия-в-мире. Из этого следует, что должна существовать онтологическая возможность такого аспекта. Следует предположить, что 3 Аббаньяно Н. Указ. соч. С. 197 – 198. существует и онтологическая возможность иррационального аспекта. В повседневной жизни человека он выражается в непоследовательности, уклонении от выбора, рассеивании возможностей. Человек избегает своей судьбы и не решается взять на себя задачу выявления своей субстанции. Обе эти возможности вполне реальны. Вопрос заключается лишь в том, принадлежат ли эти возможности единому порядку, или они существуют раздельно? На наш взгляд, эти возможности принадлежат единому порядку, и этот порядок открывает трансцендентальное сознание. Трансцендентальное сознание — это открытость рациональному порядку, организующему возможности. Этот порядок возникает исторически и объективируется метафизикой в Новое время. Метафизика — это концептуализация рационального мышления. Концептуализация затрагивает проблему основания, т. е. субъекта мышления. Декарт впервые выводит этого субъекта под названием мыслящего Я. Немецкая классическая философия подводит его под рубрику «трансценденталий». Так, Кант отождествляет «я мыслю» с возможностью априорного познания, что сразу же ставит трансцендентального субъекта в роль связующего центра представлений (единство многообразного в созерцании). Сказать о чём-либо, что оно имеет цвет, вкус, запах или включает в себя те или иные определения можно только на основании того, что имеется субъект, который объединяет в простоте своей формы «я мыслю» определения объектов. Одновременно Кант истолковывает «я мыслю» как условие восприятия объектов в опыте. Трансцендентальный субъект становится онтологической возможностью образования понятий. Такое понимание трансцендентального субъекта, правда, имеет силу, если само бытие истолковано в качестве мышления и если это мышление вошло в горизонт опыта индивида как решающее отношение к бытию. Эти условия и были исполнены Декартом и Кантом. Следует принимать во внимание и различия между позициями Декарта и Канта. А. Г. Черняков указывает на них следующим образом: Кант воспроизводит определение первой сущности Аристотелем (субстанции) как абсолютного подлежащего и одновременно картезианский тезис о том, что «cogitation есть единственный атрибут мыслящего Я». Различия же заключаются в том, что «Из посылки: трансцендентальный субъект мыслим лишь как субстанция, нельзя сделать вывод, что он существует как субстанция»1. Иными словами, трансцендентальный субъект не может быть объектом. 1 Черняков А. Г. Онтология времени. Бытие и время в философии Аристотеля, Гуссерля и Хайдеггера. СПб., 2001. С. 282. Из этого следует, что дальнейшая интерпретация бытия трансцендентального субъекта зависит от углубления понимания бытия как мышления. Такое углубление прокладывает путь через Фихте и Шеллинга к Гегелю. У Гегеля можно наблюдать два следствия из этого понимания: с одной стороны трансцендентальный субъект толкуется как понятие, а с другой, он принадлежит рациональному порядку, охватываемому Абсолютной идеей. Значит, реально именно Абсолютная идея организует онтологическую возможность понятия. Если она и не является трансцендентальным сознанием в терминологии Гегеля, то явно выполняет его функцию. Попытку заново поставить проблему трансцендентального субъекта предпринимает Э. Гуссерль. Эта попытка вновь обнаруживает проблему, с которой столкнулся Кант и от решения которой он отказался, констатировав невозможность существования трансцендентального субъекта как субстанции. На первый взгляд, Гуссерль вполне чётко и недвусмыссленно в своих поздних работах говорит о трансцендентальном субъекте как субстанции. Так, в «Картезианских размышлениях», в «Кризисе европейских наук и трансцендентальной феноменологии» он вполне определённо высказывается о трансцендентальном субъекте как индивиде и личности, что, на первый взгляд, и является его ответом на вопрос. Однако в более ранних работах, «Логических исследованиях» и «Идеях», где он занят непосредственно феноменологической работой по очищению сознания, его тон сдержан. Ситуация с трансцендентальным субъектом или чистым Я у Гуссерля действительно не проста. По мнению В. И. Молчанова, «”Чистое Я” вводится как методологический принцип, его и следовало бы назвать “методологическим Я”…»2. Методологическую значимость трансцендентального ego подчёркивает и Н. В. Мотрошилова, предлагая различать модель чистой субъективности и модель чистого сознания как два ряда феноменологических постулатов3. Противоречивость гуссерлевской позиции по поводу трансцендентального субъекта отмечает А. Г. Черняков4. Вместе с тем все авторы едины в том, что понятие «чистого Я» Гуссерлю совершенно необходимо. О чём свидетельствует эта необходимость? 2 Молчанов В. И. Различение и опыт: феноменология неагрессивного сознания. М., 2004. С. 214. 3 Мотрошилова Н. В. «Идеи I» Эдмунда Гуссерля как введение в феноменологию. М., 2003. С. 565. 4 Черняков А. Г. Указ. соч. С. 172 – 182. На наш взгляд, о том, что стало уже реальностью в немецкой классической философии: трансцендентальное сознание существует и его существование объективно. Это факт рационального мышления, его присутствия для самого себя в качестве основания. Справедливо замечание В. И. Молчанова о том, что мы должны обратить внимание у Гуссерля «не на интервенцию чистого Я в область эмпирического, но, напротив, на вторжение дескрипции в «область» чистого Я, которое … “в себе и для себя описать невозможно”»1. Прав и А. Г. Черняков, говоря о трансцендентальном Я: «Но это абсолютное покоящееся тождество с самим собой не может называться сознанием в феноменологическом смысле, ведь всякое сознание предполагает дифференцию сознавания сознаваемого, которая в феноменологии называется интенциональностью»2. В «Кризисе» Гуссерль, по сути, признаёт факт того, что трансцендентальное ego «дано как немая конкретность»3. Но что это значит для Гуссерля? Только то, что его необходимо заставить заговорить и истолковать себя. Здесь же он констатирует, что трансцендентальная субъективность объективирована в человечестве. Когда Сартр в «Трансценденции Ego» предпринимает критику трансцендентального субъекта у Гуссерля, он обращает внимание, прежде всего, на тенденцию к субстанциализации трансцендентального субъекта. В результате он «устраняет» субъекта, оставляя лишь трансцендентальное поле без субъекта. Для Сартра это поле представляется своеобразной гарантией сохранения свободы для человеческой реальности. Вместе с тем он открывает структуру трансцендентального сознания как порядка — расстояние. Концептуализация этого понятия у Сартра только намечена, однако довольно отчётливо вырисовывается понимание того, что сознание в своём отношении к миру сталкивается со структурой, присутствующей в мире объективно, и эта структура неустранима из этого отношения: «В самом деле, через отношение к сознанию мир даётся вплотную, без всякого расстояния, поскольку сознание — это уничтожение расстояния»4. Если бы не было расстояния, то сознание исчезло бы в мире, но в то же время не уничтожая расстояния, сознание не могло бы выделить себя из мира. Таким образом, Сартр со- Молчанов В. И. Указ. соч. С. 222. Черняков А. Г. Указ. соч. С. 181. 3 Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. СПб., 2004. С. 251. 4 Сартр Ж.-П. Дневники странной войны. Сентябрь 1939 – март 1940. СПб., 2002. С. 453. 1 2 вершенно четко формулирует необходимость трансцендентальной структуры. В описании отношений с другими и возможности другого как отношения к себе Сартр признаётся: «…Хотя я остаюсь убеждённым, что гипотеза трансцендентального субъекта является бесполезной и пагубной, её устранение не продвигает ни на шаг вопрос о существовании другого»5. Существование других является очевидным фактом для индивида, если оно конституировано до всякого опыта отношений с другими. Итак, Гуссерль и Сартр, каждый по-своему, констатируют фактичность бытия трансцендентального субъекта в традиции западноевропейской метафизики. Критика Хайдеггером этой традиции лишь обнажает суть самой этой критики. Она является самокритикой рационального мышления, способом его самоутверждения. В «Преодолении метафизики», в «Вопросе о технике» и других поздних работах Хайдеггер рассматривает это самоутверждение в аспекте абсолютного воления (воли к воле) и расширяющегося господства техники. Складывается новый рациональный порядок, но этот порядок становится возможным потому, что метафизика в эпоху Нового времени продумывает и реализует онтологический проект такого порядка. По Хайдеггеру, его реализация стала возможной потому, что бытие было истолковано как мышление, а мышление стало экспериментальным полем для представляющего субъекта. Если говорить о рациональном порядке как об осуществлённом проекте, то местом его осуществления является традиция. Именно традиция, говоря языком Сартра, «трансцендентальное поле», где царит рациональный порядок. Но традиция метафизики — это не только мышление, передаваемое от одного мыслителя к другому, но и действительность этого мышления, воплощающаяся в истории в социальных и политических институтах, технических изобретениях, образе жизни. Порядок в действительности вполне материален. Тезис Гегеля о разумности действительности вполне оправдан. Иррациональный аспект мира тоже имеет место, но это место не определяется «хитростью разума», а является необходимым элементом порядка, без чего порядок не может быть организован. Появление философии экзистенциализма в 40–е годы XIX века — факт, тоже далеко не случайный. Открытие Кьеркегором экзистенциального отношения к бытию могло современникам показаться малозначительным событием, но уже в начале следующего столетия в нём видится начало нового направления в философии. Поэтому необходимо 5 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. М., 2000. С. 259. спросить: почему отношение человека к своему бытию (экзистенция) становится предметом повышенного интереса? Если следовать версии Хайдеггера, то обращение к вопросу о бытии должно быть поворотом в самом мышлении к своему основанию. Иначе, вопрос о бытии подготавливается ситуацией философствования, когда самопонятность бытия требует нового прояснения в виду того, что теряет свою очевидность. Человек спрашивает о том, что определяет его присутствие в ряду других сущих, т. е. спрашивает об экзистенции. На поставленный вопрос можно ответить и по-другому: человек осознаёт себя другим существом в мире, не субстанцией, состоящей из души и тела, а телесным индивидом, наделённым способностью представления. Начиная с Аристотеля, определяющим способом человеческого бытия являлась душа1. Определение души Аристотелем можно считать классическим определением экзистенции. Но поскольку это определение отступает на задний план в виду самого вопроса о бытии, то и экзистенцию надлежит понимать, исходя из новых реалий, а именно из способа бытия вот-бытия, т. е. из бытия в мире. Таким образом, мир становится онтическим условием разработки онтологического вопроса о бытии. Следуя этой онтологической разработке вопроса Хайдеггером, экзистенцию уже нельзя понимать как душу, но исходить надо из органицации человеческого присутствия в мире. Эту организацию Хайдеггер рассматривает как орудийную деятельность человека в мире. При этом определяющую роль в этой деятельности играет, по Хайдеггеру, структура заботы. По мнению А. Г. Чернякова, в философии Хайдеггера она выполняет функцию трансцендентального субъекта. Её назначение в том, чтобы, опережая человеческую деятельность, раскрывать перед ней её собственные возможности и, таким образом, подготавливать способы обращения человека с тем или иным сущим. Известно стремление Хайдеггера избегать метафизической терминологии. Возможно, в его ситуации это было оправданным. Однако мы не думаем, что такое стремление должно служить самоцелью. Если трансцендентальный субъект и трансцендентальное сознание являются реальностью не только традиции, но и человеческого бытия в мире, то надо исходить из того, что они определяют это бытие. Если трансцендентальное сознание рациональный порядок, организующий возможности бытия-в-мире, то этот порядок должен быть также онтологической возможностью бытия-в-мире, т. е. предпосылать человеку его деятельность через упорядочивающую эту деятельность струк- 1 Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997. С. 14. туру. Такой структурой является расстояние. Это не протяжение, а пропозициональное отношение, реальность которого определяется тем, что оно производит субъекцию. Вхождение человека в позицию субъекта есть дистанцирование, отстранение. Когда человек осознаёт себя мыслящим, читающим, испытывающим интерес к себе, как определённому индивиду, то он уже имеет дистанцию по отношению к себе. Рефлексия лишь размыкает эту дистанцию, указывая на позицию Я. Вероятно, Гуссерль имел полное право называть личность трансцендентальным субъектом, ибо наличие этой позиции действительно даёт такую возможность. Феноменологическая редукция не устраняет эту возможность, а заново открывает её, достигая после осуществления всех эпох позиции Я. Однако вопрос о том, как возникает эта позиция, Гуссерлем не ставился. Между тем она входит в опыт индивида таким образом, что открывает его для себя. Этот способ является игровым движением: развёртыванием поля рефлексии (трансценденцией) и его свёртыванием (рефлексией). Это движение усматривается самонаблюдением: стремление Я достичь полного самосознания достигает границы, дальше которой оно идти не может и вынуждено констатировать лишь свою позицию. Однако это движение исходит не от Я, а от трансцендентального сознания, которое располагает структурой этого движения — расстоянием. Движение трансценденции и рефлексии имитирует это расстояние. Поэтому оно является игрой-дистанцированием. Именно в дистанцировании определяется человеческое бытие как отношение к трансцендентальному сознанию. Поэтому и экзистенция получает смысл не в отношении к бытию, а в отношении к бытию как трансцендентальному сознанию. Хайдеггер определял экзистенцию следующим образом: «Само бытие, к которому присутствие может так или так относиться и всегда как-то отнеслось, мы именуем экзистенцией»2. Из этого определения видно, что экзистенцией Хайдеггер называет бытие, к которому относится присутствие (Dasein). Отношение, о котором идёт речь, имеет экзистентный характер, т. е. человек понимает своё бытие, экзистируя на экзистенциальной основе. Это значит, что отношение к экзистенции имеет своё основание не в себе самом, а в мире, как бытийном устройстве сущего. Мир для Хайдеггера имеет смысл структуры бытия-в-мире, а значит, предполагает порядок отношений Dasein к бытию. Нельзя забывать при этом, что основной чертой этого отношения является понимание. Мы полагаем, что бытийное устройство сущего, называемого «человек», является Дистанцией, поскольку только из отношения к транс- 2 Хайдеггер М. Указ. соч. С. 12. цендентальному сознанию возможно определение позиции Я. Во владение этой позицией, прежде всего, и входит человек, осуществляя своё бытие-в-мире. Отсюда следует, что бытие-в-мире имеет в качестве своей основополагающей структуры расположение позиции. Это расположение и есть структура экзистенции. Иначе структуру экзистенции можно определить как связь Дистанции с трансцендентальным сознанием. Эта связь не имела бы никакой силы, если бы не поддерживалась динамикой экзистенциального отношения. Игровое движение трансценденции и рефлексии было бы одномоментным актом, производящим субъекцию и оставалось бы схематическим образованием, не имеющим никакой силы. Однако это движение осуществляется постоянно и в его постоянстве формируется структура экзистенции, а значит, более устойчивые и прочные связи Дистанции с трансцендентальным сознанием. Понятие игры предполагает, не просто движение, а возобновление этого движения, некое колебание, ответные ходы, движения туда и обратно. Но цель игры, как говорит Гадамер, «порядок и структура самого игрового движения»1. Поэтому и субъекта игры Гадамер определяет как саму игру. Структурная упорядоченность игры, продолжает он, «даёт игроку возможность как бы раствориться в ней и тем самым лишает его задачи быть инициативным, каким он должен быть при напряжениях, свойственных бытию»2. Однако мы считаем субъектом игры трансцендентальное сознание, которое создаёт также «напряжения» в бытии, ставя, таким образом, человека перед выбором. Напряжения возникают как результа,т произведённой субъекции. Осознание позиции — это уже ответный ход рефлексии: я осознаю себя мыслящим — значит, совершающим действие, значит, трансцендирующим это действие той реальности, которая мне предстоит. Реальность возвращает мне это действие в движении трансценденции, в требовании подтвердить его значимость для меня. И когда я спрашиваю сам себя об этой значимости и пытаюсь определиться по поводу того, насколько это соответствует моим потребностям, я снова совершаю ответный ход рефлексии. Но этот ход является по сути экзистенциальным. Это движение рефлексии — экзистенциальное движение к тому, что я собираюсь подтвердить или опровергнуть. Это отношение к бытию, которое есть я сам, которое я соглашаюсь или не соглашаюсь взять на себя. Проблема здесь заключается в том, что экзистенциальное отношение осознаётся только тогда, когда оно уже вошло в круг Дистанции, стало достоянием Дистанции, а значит, и структуры экзистенции. Иначе же это не экзистенциальное, а позициональное отношение. Экзистенциальное отношение — это выбор движения трансценденции, выбор действия, полагание границы движению трансценденции. В этом выборе происходит объективация экзистенции. Как выбор он свободен и в этом качестве является конституированием структуры экзистенции. Таким образом, если экзистенция — отношение к бытию, то такое отношение, которое связывает его с рациональным основанием – структурой экзистенции. Именно здесь могут возникнуть недоразумения по поводу человеческого бытия: почему оно должно иметь рациональное основание? Прежде всего, потому, что позиция Я определяется трансцендентальным сознанием и, во-вторых, закрепление этой позиции происходит в отношении трансцендентального сознания, а не в отношении мира. Порядок и устойчивость миру может дать только трансцендентальное сознание. Это не значит, что весь мир сводится к трансцендентальному сознанию, т. е. к рациональному аспекту. Мир имеет и иррациональный аспект — ситуацию бытия. Ситуация бытия, на первый взгляд, напоминает пограничную ситуацию. О пограничных ситуациях Ясперс говорит, что «это ситуации, из которых мы не можем выйти, которые не можем изменить»3. Он называет их также ситуациями провала и крушения. Это такие ситуации, как смерть, случай, вина, ненадёжность мира. Вообще человеческое бытие ситуативно, человек всегда находится в ситуациях, и справляется с ними так, или иначе. Однако с пограничными ситуациями дело обстоит иначе: «В пограничных ситуациях или обнаруживается ничто, или становится ощутимым то, что подлинно, несмотря на всю мимолётность мирового бытия»4. Иными словами, пограничные ситуации обнаруживают ненадежность человеческого бытия-в-мире. И обрести эту надёжность человеку может помочь только он сам. Спасение из ненадёжности состоит лишь в том, как он испытывает своё крушение: бежит он от него, или приходит в отчаяние, ищет путь утешения в религии или же ищет выход из ситуации в себе самом. По мнению О. Больнова, (в чём с ним следует согласиться) решающим для понимания пограничной ситуации является понятие «границы». А поэтому их можно определить как «такие ситуации, в которых человек подведён к границе своего существования»5. К этой границе его Ясперс К. Введение в философию. Мн., 2000. С. 22. Там же. С. 25. 5 Больнов О. Ф. Философия экзистенциализма. СПб., 1999. С. 86. 3 Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М., 1988. С. 153. 2 Там же. С. 150. 1 4 подводит само бытие, которое таким образом требует возвышения до экзистенциального существования. Ситуация бытия в отличие от пограничной ситуации, хотя и требует принятия решения и опоры человека на собственные силы, но при этом никак не разрешается. Выбор, который совершается в ситуации бытия, никуда не ведёт, выбор бытия оказывается требованием нового выбора. По сути ситуация бытия всегда оказывается тупиком, из которого нет выхода. В ситуацию бытия можно только падать, и это падение может быть бесконечным ожиданием. Если существует такой аспект мира как ситуация бытия, и он является полной противоположностью структуре экзистенции, то возникает вопрос, организуется ли ситуация бытия трансцендентальным сознанием или пока является неосвоенной им сферой, существующей вполне самостоятельно? Трансцендентальное сознание как открытость рациональному порядку допускает только те возможности, которые могут быть организованы соответствующим образом, т. е. сами по себе являются открытыми. Ситуация бытия как возможность бытия-в-мире не является открытой. Но между тем человек постоянно соскальзывает в ситуацию бытия и теряет себя в ней. Иными словами, он не находит себе места в жизни, опускается на дно, попусту тратит свою жизнь. Если так, то трансцендентальное сознание должно исключать ситуацию бытия. И оно действительно её исключает, однако это исключение не исключение в буквальном смысле этого слова, а просто иной вид организации. Через исключение осуществляется открытость. Исключение закрытого открывает рациональному порядку структуру экзистенции. Вместе с тем падение человека в ситуацию бытия не фатально. Человек может выбраться из ситуации бытия. Он свободен. Он может выбирать между ситуацией бытия и структурой экзистенции, между потерянностью в дистанции и бытием Дистанцией. Решиться же на такой выбор он может тогда, когда открывает в себе те возможности, которые уже вошли в горизонт его опыта, а, следовательно, он может опереться на них. Для этого, правда, они должны быть ещё открытыми. В противном случае выбор ничего не решает, а является имитацией выбора, попыткой ответить экзистенциально на движение трансценденции, хотя это движение может исходить не от трансцендентального сознания, а быть пожеланием самого субъекта. В связи с этим возникает вопрос, насколько человек свободен? И второй вопрос: можно ли назвать его бытие Дистанцией свободным? Начнём со второго вопроса. Бытие Дистанцией — это определённое отношение к бытию (аспекту) мира, которым является трансценденталь- ное сознание. Это отношение закрепляется в структуре экзистенции и требует постоянного подтверждения в решимости быть открытым. Человек может меняться, изменять свои мнения, потребности, интересы, но самого главного (если он хочет избежать падения в ситуацию бытия) он изменить не может — своего отношения с бытием. Он может относиться к своему бытию — Дистанции только на основе структуры экзистенции, т. е., укрепляя свои связи с рациональным аспектом мира. Если же он пытается найти иное основание для отношений со своим бытием, он теряет дистанцию, а теряя дистанцию, он подвергает себя риску падения в ситуацию бытия. Отсюда ответ и на первый вопрос: бытие Дистанцией свободно только в той мере, в какой оно может воздействовать на структуру экзистенции, а это значит, оно свободно до тех пор, пока открыто. А условием открытости является предсказуемость, т. е. рациональность связей. Разумеется, свободе нельзя ставить условий и сводить открытость только к рациональности. Однако условия современной социальной действительности таковы, что это постоянно происходит. Само понимание социального пространства таково, что предполагает открытость на основе закрытости, противопоставление ситуации бытия структуре экзистенции. Социальное пространство имеет вес и значимость, если есть социальные статусы, социальные роли, вертикальная и горизонтальная мобильность. Если существуют движения, не подпадающие под эти категории, следовательно, их не существует. Чем больше открытость рациональным порядкам, чем выше мобильность, тем более радикальным является исключение. Сами по себе рациональные порядки являются закрытыми системами и трансцендентальное сознание, как открытость рациональному порядку, относится к пониманию должного, нормы. В этом смысле Аббаньяно говорит о трансцендентальной возможности. Трансцендентальное сознание продумывается западноевропейской метафизикой в Новое время также в аспекте нормы. Объективация этой нормы происходит по пути выявления структуры, обеспечивающей её функционирование. Этой структурой мы назвали расстояние. Идеальность этой структуры заключается в пропозициональном отношении, которое не сводится к протяжению и измерению. Расстояние является структурой закрытого рационального порядка. Идея такого порядка имеется уже у Аристотеля, но подлинное её осмысление удаётся завершить только в Новое время. В частности, она продумывается Лейбницем в его теории «малых восприятий» и Бергсоном в его теории памяти. У Сартра расстояние рассматривается уже как возможность сознания. Как структура порядка расстояние создаёт необходимую для экзистенциального отношения к трансцендентальному сознанию связность в бытии человека через его субъекцию. Его вступление в роль субъекта формирует структуру экзистенции. Таким образом, формируется основание для нормирования его деятельности. Структура экзистенции не является изначально рациональным порядком и таковым она не может быть, поскольку должна быть открыта норме, как своей трансцендентальной возможности. Другое дело, что она постоянно подвергается воздействию нормы, а значит, всё больше её связность с Дистанцией напоминает отношение нормирования и упорядочения. Однако это приближение к норме является чистой иллюзией, потому что Дистанция никогда не может соответствовать идеальности пропозиционального отношения (расстоянию). Дистанция всегда выходит за пределы тех порядков, которые ей предстоят. Это значит, что человек обречён на падение в ситуации бытия. И это падение выражается не в том, что он падает на дно жизни, а в том, что он постоянно отходит от нормы, даже там, где он на это не рассчитывает. Эти отклонения всё-таки подрасчётны и контролируются нормой. Как исключения они составляют необходимый компонент открытости. Чем больше исключений, тем больше пространство для нормирования. Поэтому в современном обществе уже не стоит вопрос о том, разрешить или нет, согласуется поведение людей с нормой или нет, а о том, как открыть новые области исключения. Анализу этой проблемы, как известно, уделял большое внимание Фуко. Его понимание власти и отношений господства и подчинения может служить иллюстрацией того, каким образом объективация трансцендентального сознания входит в круг проблем открытости и закрытости рациональных порядков. Различение ситуации бытия и структуры экзистенции — это лишь попытка вычленить один из аспектов проблемы рациональности и рассмотреть ситуацию бытия человека в этом аспекте. Поэтому здесь нельзя говорить о каких-то однозначных выводах. Можно лишь подвести итог данному исследованию. Он заключается в том, что свободу человека нельзя измерять лишь традиционной экзистенциальной проблематикой. Эта проблематика во многом определяется тенденцией метафизики к объективации трансцендентального сознания как рациональной нормы. Очевидно, что свобода человека не измеряется только отношением к трансцендентальному сознанию. II. ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ В. Г. Косыхин Терминология разрыва: Хайдеггер и вопрос об историчности истины в метафизике То, что мыслительная ориентация древнегреческих философов не формировалась абстрактной научной культурой Нового времени, и что бесперспективно пытаться реинтерпретировать философские термины античности в духе их аналогов, принятых в европейской традиции последних столетий и исходящих из уже другого мышления, — сегодня представляется очевидным. Этой очевидностью, однако, мы практически всецело обязаны Мартину Хайдеггеру, философия которого, можно сказать, взорвала те привычно-успокаивающие пейзажи древнегреческого мышления, которые рисовала себе рационально-позитивистская мысль девятнадцатого и начала двадцатого века. Как отмечает ХансГеорг Гадамер в своей статье «Хайдеггер и греки»: «В этом пункте Хайдеггер и стал для нас первопроходцем. Он наделил слова нашего языка функциями понятий и возобновил жизнь языка мыслей»1. Это «возобновление жизни», между прочим, подразумевающее период некой безжизненности мышления, было связано с хайдеггеровской попыткой наведения своего рода герменевтического моста между контекстом современной и античной мысли, контекстом, лишь отчасти затрагивающим собственно термино-логию. Впрочем, вопрос о Хайдеггере — терминологе, о самой терминологии хайдеггеровского мышления (в исконном значении латинского termin’а как ограничения, завершения, но, одновременно, указателя пути) может наводить на мысль об определенной детерминированности места 1 Гадамер Х.-Г. Хайдеггер и греки // Логос № 2. М., 1991. С. 63. Хайдеггера в современной философии. Я имею в виду ту долгожданную определенность и обязательность внимательной мысли, которая только одна и может возобновлять жизнь называющегося философским мышления. Именно в том, что Хайдеггер сумел услышать в древних словах их тайное происхождение и скрытое настоящее, можно, вслед за Гадамером, видеть непревзойденное величие этого философа. Гадамер вспоминает, что для него стало откровением то, что греческим термином, выражающим «бытие» является слово ousia , которое использовали и Платон, и Аристотель, и которое, собственно говоря, означало имущество крестьянина, его усадьбу, земельный участок. Гадамер говорит, что такое значение ousia было зафиксировано еще Аристотелем. «Но то, что для Аристотеля было еще само собой разумеющимся, впервые постиг, осмыслил Хайдеггер»1. Это гадамеровское «впервые» со всей ясностью указывает на разрыв в традиции (и с традицией), в самой истории мышления бытия: то, что было очевидным для Аристотеля или Парменида, ухитрилось пройти незамеченным перед взором известнейших мыслителей Нового времени, рассматривающих бытие как «самое бедное понятие» или как «просто полагание» не только в рамках собственных мыслительных схем (что вполне допустимо и вполне оправдано), но и предписывающих такое же свое понимание древнегреческим мыслителям. Такое освоение лишь маскировало, отчуждало инаковость, саму свойственность (если воспользоваться термином Деррида) чужой мысли, что приводило в лучшем случае к казусу Парменида как предшественника Декарта, а в худшем и вовсе игнорировало само содержание мысли. И дело здесь не только и не столько в своеобразном «романтизме мысли» (хотя, видимо, не случайно именно эпоха романтизма стала для современной западной философии классической: — бессмысленно отрицать факт принадлежности Гегеля, Фихте, Шеллинга к поколению романтиков2) — отказывающейся мыслить себя в контексте собственной истории, чтобы не ставить тем самым под вопрос свои исторические предпосылки, сколько в принципиально новой постановке вопроса о значении самой историчности, в том числе о ее значении в истории философии и в истории бытия (почему бы в этой связи не поставить вопрос о истории терминологии?). Гадамер Х.-Г. Указ. соч. С. 63. Ницше Ф. Воля к власти, афоризм 419: «Немецкая философия как целое – Лейбниц, Кант, Гегель, Шопенгауэр, чтобы назвать великих, – представляет собой наиболее основательный вид романтики». 1 2 В конце концов, онто-герменевтика означала открытие нового измерения историчности3, когда понятие историчности было распространено и на историчность самого понятия. Это открытие «двойного дна» историчности неизбежно должно было означать определенный разрыв, разрыв с предшествовавшим как недостаточным и неудовлетворительным. Здесь любопытный вопрос: а не была ли история философии всегда, начиная с Аристотеля, с первых глав его «Метафизики»4 своего рода «историей пред-шествований»? В этом случае хайдеггеровское онтогерменевтическое вопрошание историзма, сама постановка вопроса о истории бытия имела целью пересмотр такой «постоянно предшествующей» истории и ее замену на «историю со-участвующую», которая уже не «отталкивается от», но «вслушивается» в «голос бытия», сказывающийся в мысли того или иного философа5. Что касается понимания предшествующего (и в истории, и в мысли) как недостаточного, то в истории философии преодолеваемое таким образом мышление обычно было принято именовать метафизическим, может быть больше для очистки совести, т.к. мне, откровенно говоря, немного непонятно, почему то, что подвергалось философской атаке, непременно должно было быть наряжено в одежды этого псевдоаристотелевского термина. То, с каким достойным лучшего применения упорством каждый мыслитель, начиная с Канта, обрушивался на метафизичность предшественников, чтобы затем самому быть уличенным в той же метафизичности. И даже Ницше, питавший большую нелюбовь к метафизике во всех ее проявлениях, считая ее «отвратительной, педантичной возней с понятиями» (Ницше Ф. «Воля к власти», афоризм № 427), в глазах Хайдеггера был последним мыслителем этой самой метафизики, что наводит на мысль даже не о сизифовом труде ниспровергателей метафизики, но, скорее, о неверном выборе терминологической мишени: когда под маской критики метафизики критикуют совсем другое, приписывая ему пугающие (интересно, почему?) метафизические контуры. Итак, речь зашла об определенном разрыве внутри традиции. Как отмечает В. А. Подорога, «начиная с работ 30–х годов и вплоть до 3 Хайдеггер в § 77 «Бытия и времени» констатирует: «Вопрос об историчности есть онтологический вопрос о бытийном устройстве исторического сущего» (Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997. С. 403). 4 См.: Аристотель. Метафизика. I, 3, 983в и далее. 5 Подобное недоверие к метафизической истории свойственно и Жаку Деррида, который вслед за Хайдеггером утверждает: «Чему, повторяю, не следует доверять, так это метафизическому концепту истории. Имеется в виду концепт истории смысла, который зарождается, развивается, осуществляется» (Деррида Ж. Позиции. Киев, 1996. С. 102). позднейших мысль Хайдеггера определяется стратегией разрыва (Riss)»1. Предшествующая традиция метафизики, по мнению Хайдеггера, игнорируя проблему онтологической разницы бытия и сущего, упускала из виду необходимость различия в способах вопрошания, в результате чего вопрошаемым в этой традиции европейской философии всегда выступало бытие сущего, но никогда бытие таковое. В своей «Метафизике» Аристотель четко фиксирует это положение: «Бытие самой вещи, обозначаемой как первичное и само по себе сущее, и сама эта вещь тождественны и составляют одно»2. В качестве альтернативы подобному метафизическому подходу Хайдеггер предлагает мышление, озабоченное истиной бытия, т. е. собственно и в первую очередь бытием как противополагаемым сущему. Такая мысль, согласно Хайдеггеру, не довольствуется больше метафизикой, но она мыслит и не против метафизики, ибо мыслить подобным образом было бы равнозначно отречению от собственных корней. В таком мышлении-не-против, очевидно, наличествует стремление к наведению своего рода герменевтического моста-диалога с традицией. И одновременно здесь — место разрыва, поскольку сама метафизическая традиция всегда «мыслила против», т. е. пыталась не столько понять, сколько преодолеть своих предшественников-философов, оттолкнуться от них. Т. е. метафизическая традиция принципиально а-герменевтична. То, что это так, очень легко показать на следующем примере: представим себе, что Аристотель поставил бы себе задачей не опровержение Платона, естественно, «ради истины», но только лишь, и исключительно, понимание того, что хотел сказать Платон, понимание не «против», но «вместе с». Тогда мы могли бы говорить об Аристотеле-герменевтике и онто-герменевтике самого Аристотеля. Однако в этом труднопредставимом случае метафизическая традиция тут же указала бы Аристотелю его «место», причислив его «всего лишь» к комментаторам, пусть даже весьма талантливым, но находящихся всегда уже в тени метафизического солнца истины. А это влекло бы за собой констатацию, с некоторой долей сожаления, разумеется, отсутствия самостоятельного метафизического мышления, а тем самым и лишение места в самой традиции метафизики, что придало бы мышлению Стагирита привкус неуместности, когда речь ведется о таких серьезных вещах как истина или место вблизи от истины. История метафизики, понимаемая, начиная с Аристотеля, как история поисков истины, как история поэтапного накопления истины, с герменевтической точки зрения является историей [взаимных] опровержений. Каждый метафизический мыслитель стремится отстоять свое место в традиции через указание собственных предшественников, каждый из которых вносил свой вклад в копилку истины, заблуждаясь лишь в полноте своего охвата и в степени близости к ней, этой истине. Аристотель говорит в «Метафизике» (II, 1, 933в): «Никто не в состоянии достичь ее [истину] надлежащим образом, но и не терпит полную неудачу, а каждый говорит что-то о природе и поодиночке, правда, ничего или мало добавляет к истине, но, когда все это складывается, получается заметная величина»3. Фактически, этими словами Аристотель закладывает основу для потенциально всякого метафизического взгляда на истину: ведь даже те, кто всячески дистанциирует себя от метафизики не могут от нее уйти, не преодолев метафизического понимания истины. Это видно хотя бы на примере Бертрана Рассела, считавшего себя противником метафизики, и тем не менее вновь, спустя две с половиной тысячи лет, повторяющего аристотелевский тезис об истине в контексте своих рассуждений о методах в решении философских проблем «с помощью которых мы можем последовательно приближаться к истине, причем каждая новая стадия возникает в результате усовершенствования, а не отвергания предыдущей»4. Близость позиций «метафизика» Аристотеля и «анти-метафизика» Рассела очевидна, ибо они разделяют со всей традицией метафизики то, как эта традиция трактует истину. К числу парадоксов метафизики относится тот ее главный парадокс, что метафизика, объявляющая, с одной стороны, себя наукой о истине сущего, считает, с другой стороны, эту истину принципиально недостижимой, т.к. «никто не в состоянии ее достичь». Иными словами, эту мысль Аристотеля можно выразить так: к истине всегда лишь приближаются, и всегда не до конца; вопрос о значении подобного соприкосновения с истиной остается открытым5. Уже у Аристотеля истина исторична, ведь каждый момент к ней можно чего-то добавить, а сам факт возможности добавления указывает на принципиальную неполноту любого метафизического суждения о истине. Подобное преимущество метафизических мыслителей, привилегия, состоящая в возможности добавить, приписать (к) истине что-то свое, под своим именем, войдя Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т. 1. С. 94. Рассел Б. История западной философии. В 3 кн. Новосибирск, 1997. С. 756. 5 В «Позициях» Деррида (с. 86-87) ясно говорит о подозрительности подобной ценности «развития» «во всех презумпциях, которые в ней кроются» (Деррида Ж. Позиции. Киев, 1996. С. 87). 3 4 1 Подорога В. А. Erectio. Гео-логия языка и философствование М. Хайдеггера // Философия Мартина Хайдеггера и современность. М., 1991. С. 102. 2 Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т. 1. М., 1976. С. 197. тем самым в «историю истины» (как будто истина имеет или вправе иметь свою историю! — но чем же иным как не историей истины является история метафизики?), несет в себе принципиальный упадок значения истины в глазах самой метафизики: ведь всегда можно, говоря словами Аристотеля, удовлетвориться какой-то «заметной величиной» в коллективных усилиях. Можно выразиться резче: когда истина понимается как история истины, когда в понятие истины закладывается предположение, что у истины может быть своя (вечно незавершенная!) история, тогда истина как все-присутствие Логоса и всеобязательность `Ai уже просто не интересует метафизику. О какой же истине говорит тогда Метафизика? Что означает уже метафизическая истина?1 Быть может, в своей глубинной сущности метафизика вообще не претендует на истину? Это достаточно странное предположение исходит из следующего: если истина исторична (т. е. недостижима, говоря словами Аристотеля), то любой проект истины в рамках метафизики оказывается уже заранее вписанным в историю, историю поиска истины и предполагает, в силу своей принципиальной неокончательности, другой, «более полный» проект, которому также суждено стать, естественно, не истиной, но лишь фрагментом ее истории. Собственно истина, вызвавшая к жизни саму метафизику, оказывается для нее … необязательной. Хотя бы просто потому, что истина не может быть неокончательной (в метафизике же дело обстоит прямо наоборот, см. вышеприведенные высказывания Аристотеля). Введение понятия «относительной истины» здесь ничего не меняет; можно вспомнить еще Платона, для которого так называемая относительная истина была всего лишь правильным мнением, пусть даже приближенным к истине, но мнением. Спустя две с лишним тысячи лет после Платона последует знаменитое открытие Фридриха Ницше: метафизика не ставит своей задачей познание истины, — парадоксальное открытие, которое, по своей сути, вовсе не было парадоксальным, т.к. такое отношение метафизики и истины легко выводимо из трудов самого основателя метафизики, Аристотеля. Под влиянием своего открытия о необязательности истины для метафизики Ницше пишет свой знаменитый фрагмент «Как «истинный мир» наконец стал басней. История одного заблуждения», где мы читаем: «Истинный мир — недостижимый! Во всяком случае недостигнутый. И как недостигнутый, также неведомый. Следовательно, также Об изменении существа истины, «каковое изменение становится историей метафизики», см.: Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. М., 1993. С. 360. 1 не утешающий, не спасающий, не обязывающий: к чему может обязывать нас нечто неведомое?»2. Данное открытие Ницше будет «возвращено к жизни» Мартином Хайдеггером: метафизику интересует истина, только истина, все что угодно, кроме истины. Истина в метафизике, как и бытие, находятся под знаком вычеркивания. Это означает: метафизика должна быть преодолена. Все вышесказанное не снимает вопроса: о какой же истине тогда говорит метафизика? Вслед за Хайдеггером и Деррида можно предположить, что метафизика всегда мыслит истину в аспекте [само]отдаления. В этом контексте понятно следующее рассуждение Деррида: «Здесь следовало бы прибегнуть к хайдеггеровскому употреблению слова Entfernung: это отстранение, отдаление и, одновременно, отдаление отдаления, отдаление дали, от-даление, где истребительное (Ent) есть составляющее далекого как такового … Отстраненное раскрытие этого Entfernung пропускает истину, дает ей место … Бесконечным безосновным основанием поглощает и искажает оно всякую сущность, всякое тождество, всякую свойственность … это бездонное отстранение истины, эта не-истина есть «истина»»3. Обобщая мысль Деррида, можно сказать, что метафизика [само-] отдалена по своей сути от претензии на истину в последней инстанции (что, кстати, отмечал и чем возмущался еще Гегель). Это всегда давало метафизике прекрасную возможность дистанцироваться от теологии, но, вместе с тем, через постоянную апелляцию к истине как «своей свойственности», метафизика самой своей близостью к истине маскировала, т. е. отдаляла свое отдаление от нее. Здесь уместно задать один очень простой вопрос: если метафизика понимает свою историю как историю поисков истины, то не будет ли находиться в странном противоречии с этим метафизическое требование самостоятельности мышления? Что означает подобное само-стояние в истине? Метафизическая истина (и это усмотрел еще Ницше) в своем историческом пространстве распадается на серии само-стояний, где каждый мыслитель считает себя особым образом стоящим ближе к истине, чем предшественники, подлежащие, как следствие тщательному опровержению. В этом, конечно, вслед за Ницше, можно видеть своеобразную волю-к-власти, власти над метафизической истиной, но я бы хотел обратить внимание на другой, на присваивающий аспект такого мышления: в 2 Ницше Ф. Сумерки идолов или как философствуют молотом // Ницше Ф. Сочинения в 2 томах. Т. 2. М., 1990. С. 572. 3 Деррида Ж. Шпоры-стили Ницше // Философские науки. 1991, № 2. С. 124. истории метафизики истина всегда присваивается. Она присваивает (в качестве causa finalis мышления), но она же и присваивается. Хайдеггер правильно установил это отличие метафизического мышления истины бытия от дометафизического, т. е. до-сократического в глазах Хайдеггера, понимавшего, в противоположность метафизике, истину и логос как «присущие всему», а значит, принципиально не присваиваемые никем. Такая истина, `Аi , не только несокрытость, но и неприсваиваемость, обладала чертой анонимности, не требуя под собой метафизической подписи. Она присутствовала в самом бытии, а не в месте самостояния-вблизи присвоившей ее мысли, как это было в метафизической бытийной истории, — нетрудно заметить, что данное место самостояния-вблизи находится внутри самой истории метафизики как истории истины. А именно, `Аi , анонимная истина до-сократиков (истина безымянная, а стало быть, никому не нужная в блестящей истории метафизики, истории блестящих имен) и оказалась в забвении. Но именно к этой анонимной истине обратился Хайдеггер в своих попытках вернуть из забвения утрачиваемый все более (все более с каждым новым метафизическим именем тускнеющий) смысл бытия. Это возвращение к анонимности, собственно, и будет проходить сквозной нитью через все мышление Хайдеггера, достигая апогея, даже, если можно так выразиться, двух апогеев в проектах анонимности Dasein и Ereignis. Здесь следует обратить внимание еще вот на что: если истина и логос присущи всему, а не только тому-одному-кто к ним в наибольшей степени приблизился, если истина в первую очередь присваивает (себе) и только затем присваивается (сама), то та самостоятельность нахождения вблизи истины, на которую претендует история метафизики, оказывается принципиально агерменевтической, не способной к «мышлению вместе с», к со-мышлению. Противоположное герменевтическому мышление является герметичным по своей сути, т. е. закрытым (в своем само-стоянии) от других. Эта герметичность метафизической традиции обнаруживается также в стремлении занять свое место-вблизи истины, не позволить ей ускользнуть к другим, присвоить ее, и даже не просто присвоить, — это было бы еще не вполне герметично, — но вот как: присвоить ее себе, а себя ей, создав тем самым двойное кольцо герметичности. Поэтому, вполне понятно, что в рамках онто-герменевтики Хайдеггера, в мышлении об истине бытия как противоположном любой герметичности, в мышлении, размыкающем двойное кольцо метафизической ограниченности, метафизика должна была быть не отброшена (т. к. это означало бы по-прежнему оставаться внутри самой метафизической стратегии), но преодолена. С. М. Малкина Философия в ситуации риска: возможности мышления Великая система, созданная Гегелем еще в XIX веке, поставила философию перед вопросом о ее сущности, ее о-пределении, подведя ее к грани существования. В своей «Истории философии» Гегель рассматривает движение философской мысли как «интимнейшее движение в шествии духа, т. е. абсолютного субъекта, к самому себе»1. Это шествие духа у Гегеля разворачивается двумя последовательными линиями: греческой и христианско-германской. Окончательное же осознание духом самого себя осуществляется в его собственной философии, которую он выносит за рамки истории философии, указывая тем самым на ее заключительный характер: «Последняя философия содержит поэтому в себе предыдущие, включает в себя все предшествующие ступени, есть продукт и результат всех прежних философий; нельзя уже больше быть теперь, например, платоником»2. Таким образом, Гегель сам подчеркивает, что дух его времени должен выражаться именно в самоосознании абсолютным духом самого себя, как это представлено в его философии, и только это будет подлинной философией, говорящей об истине. История философии, таким образом, обречена на свое завершение в философии Гегеля. Гегель недвусмысленно, без обиняков говорит о конце истории философии: «Борьба конечного самосознания с абсолютным самосознанием, которое казалось первому находящимся вне его, теперь прекращается»3. Что же происходит в этой ситуации конца истории с философией? «Результатом истории философии является мысль, которая находится у себя и вместе с тем охватывает универсум, превращает его в интеллектуальный мир»4. Хайдеггер М. Хайдеггер и греки // Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 384. Гегель Г .В. Ф. Лекции по истории философии. Кн. 3. СПб., 2001. С. 571. 3 Там же. С. 570. 4 Там же. С. 566. 1 2 Таким образом, мы вот уже почти два века находимся в ситуации конца философии, мир отныне — это только текст1. Что могут означать для нас эти слова: конец философии — тем более, что все это время существуют люди, называющие себя философами, которые пишут книги, относимые читателями к философским? Действительно, что бы ни говорили постгегелевские философии, они все составляют пеструю мозаику того, что Гегель назвал «интеллектуальным миром». Дух в своей завершающей стадии осознал тождественность бытия и мышления, и с тех пор мир неуклонно превращается в текст (=«интеллектуальный мир») (может быть, иррациональный, противоречивый, материалистичный, но текст, дискурс, который мы можем или не можем понять). Кроме того, из тотальности гегелевской системы все антигегелевские системы являются максимум ее отрицанием, негацией, т. е. моментом диалектического развития, тем самым парадоксальным образом подчиняясь ее же логике развития, они своим отрицанием лишь подтверждают ее правоту и завершающий тотальный характер. Они, полагая, что «балласт гегелевской очевидности сброшен, на самом деле, не зная этого, не видя ее, остаются в ее власти»2. Но тогда имеет ли еще смысл философия в современной ситуации? Ответ кроется в самой философии Гегеля: история философии, по Гегелю, есть история работы мысли, поэтому именно мысль надо исследовать на предмет дальнейшей возможности философии. К этому обращается и Хайдеггер, считая, что «издалека обусловленный и неудержимый распад философии вовсе еще не обязательно конец мышления… Необходимо, чтобы мы оказались в виду дела мысли и подготовили себя к тому, чтобы дать мысли как обусловленной своим делом изменяться» 3. Требуется какой-то решительный шаг, чтобы не идти на поводу гегелевской системы, а творчески, мысляще подойти к проблеме истории философии и тем самым позволить осуществиться «делу мысли». Иначе мы оказываемся лишенными любой философской мысли, будь то гегелевская (так как она требует от нас собственной работы мысли), так и негегелевская (так как мы находимся в плену гегелевского дискурса). Ж. Батай, «невоздержанный гегельянец», по выражению Ж. Деррида, сравнивает эту ситуацию с очевидностью, которую тяжело перенести. И эта непереносимая очевидность требует от нас какого-то решительного шага. 1 Например, у Ж. Деррида: «Внетекстовой реальности вообще не существует» – «Il n’y a pas de hors-texte» (Деррида Ж. О грамматологии. М., 2000. С. 313). 2 Деррида Ж. Невоздержанное гегельянство // Танатография эроса. СПб., 1994. С. 135. 3 Хайдеггер М. Хайдеггер и греки. С. 381. Если извне нельзя преодолеть гегелевскую философию и тем самым вернуть смысл философии вообще, то надо попытаться это сделать, пересмотрев основания гегелевского дискурса. Залогом же обретения смысла в философии Гегеля является момент негации, риска опосредования антитезисом, когда тезис сталкивается с собственной противоположностью, рискует собственным существованием ради обретения своей истины в моменте синтеза. «…Только риском жизнью подтверждается свобода, подтверждается, что для самосознания не бытие, не то, как оно непосредственно выступает, не его погруженность в простор жизни есть сущность, а то, что в нем не имеется ничего, чтó не было бы для него исчезающим моментом, — то, что оно есть только чистое для-себябытие»4. Проблема, однако, в том, что момент негации для Гегеля — это только переходный момент к бытию-в-себе-и-для-себя, которое, в свою очередь, станет новым тезисом. Таким образом, философия Гегеля, постулируя необходимость риска, негативности, на деле имеет в виду новую идентичность. Гегель противопоставлял чистую и простую смерть, абсолютное отрицание, которое он называл абстрактной негативностью, негации сознания, которое упраздняет таким образом, что сохраняет и удерживает то, что упразднено, и которое тем самым выживает в деле становления-упразднения. Для диалектика-Гегеля ценно то отрицание, которое, отрицая, тем не менее, сохраняет, что и производит снятие (aufheben). Именно такое отрицание является условием возможности развития, самосознания, смысла. Гегель слишком дорожит смыслом дискурса и общим ходом развития духа, чтобы полноценно рискнуть ими, не надеясь ни на что. Но будет ли это риском, если нам гарантирован результат, что происходит в ситуации снятия противоречия в диалектическом синтезе? Не будет ли это потерей духовной составляющей, объективированием, омертвлением духа, переходом в свое механизированное иное, когда мы ожидаем выполнения заранее известной схемы? По большому счету в таком смысле риск существовал только до системы Гегеля. Негативность, становясь понятием, опосредуется, снимает свою остроту. Гегель своей диалектической системой гарантировал результат, чем … уничтожил возможность риска и тем самым и смысла. Именно это и подводит современную философию на грань смерти, которая заключается в невозможности более смысла, в бессмысленности. Эта бессмысленность складывается в ситуации гарантированности, избыточности смысла. Ничто не уничтожается абсолютным образом, все 4 Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. СПб., 1999. С. 102. обладает хоть каким-то смыслом, и эта избыточность смысла приводит к исчезновению смысловых различий, что и есть бессмысленность. Гегель по большому счету бежит от реального, актуального, непримиримого противоречия, абсолютного риска. Гарантированный диалектикой результат, заключенный в систему, уничтожил возможность риска, и это приводит к необходимости преодолеть гегельянство, выйти изпод его влияния, подвергнуть его негации. Получается, что мы находимся в ситуации, когда философия требует обретения утраченного смысла, но для этого требуется выйти из-под власти гегелевского дискурса. Если простым отрицанием извне это сделать нельзя, то нужно это сделать изнутри самой философии Гегеля. Мы должны обратить ресурсы гегелевских логоцентризма и рациоцентризма против них же, разрушить «сон разума», по выражению Ж. Деррида, причем разрушить изнутри, «проведя ночь с разумом». Иначе простое пробуждение может оказаться новой уловкой разума, когда нам снится, что мы проснулись — как это происходит с попытками отрицать философию Гегеля, не выходящими за ее границы. Философия должна подвергнуть себя риску — риску собственного несуществования – чтобы обрести смысл. «Дух есть эта сила не в качестве того положительного, которое отвращает взоры от негативного, подобно тому как мы, называя что-нибудь ничтожным или ложным, тут же кончаем с ним, отворачиваемся и переходим к чему-нибудь другому; но он является этой силой только тогда, когда он смотрит в лицо негативному, пребывает в нем»1. Эта рискованная негация для философии состоит в том, что является ее иным. Если философию еще Пифагор сравнивал с теоретической, т. е. созерцательной жизнью, то ее Иным является опыт. Не понятие опыта, каким он выступает в целом спектре философий, а сам опыт, причем он должен не противопоставляться философии, а изнутри высвечивать ее смысл. Симптоматично в этом плане создание Ж. Деррида, Ж.-Л. Нанси и др. в 1974 году философской коллекции «Философия в действии». В. В. Бибихин фиксирует рискованную сущность мысли в следующих словах: «…она то, что может выйти из себя, всегда стать другим, — не смениться другим, а сама мысль станет другим. Мысль это то, что опасно вдруг, внезапно открывается другому»2. Поскольку мышление является главным моментом в философии, сама философия всегда есть риск, маргинальность — стояние на краю. Философия маргинальна потому, что не может быть измерена мерилом всех остальных наук. Она 1 2 Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. С. 17. Бибихин В. В. Узнай себя. СПб., 1998. С. 12. говорит не сущем, а о наших онтологических основаниях, о сущностных основаниях привычного нам мира. Философ ставит под вопрос обыденность, выявляя проблему там, где все вроде было надежно и привычно. Таким образом, в философии мы всегда рискуем очевидностью, самособой понятностью ради смысла и истины. Рискуем здравым смыслом — как заметил Б. Рассел, если кто хочет быть философом, должен научиться не пугаться абсурдного. Поэтому, рискнув сущностью философии, поставив ее на кон, мы тем самым лишь будем соответствовать ее внутренней сущности. Итак, каким образом вернуть философию в ситуацию риска из положения гарантированной бессмысленности? Первый вариант – через внутренний опыт, где мы рискуем нашим повседневным бытием. Это тот вариант ситуации риска, в которую попадает человек, решив радикально поставить себя под вопрос, не останавливаясь ни на каких бы то ни было истине, интересах или результатах действия, — это опытпредел, выражением которого являются работы А. Арто, Ж. Батая и М. Бланшо. Это радикально иной вариант негативности — в противовес работе негативности у Гегеля, когда производится смысл. В ситуации, когда человек оказывается перед лицом конца истории, в том числе и философии, когда всеобщее реализовало все возможности, опыт-предел представляет собой не новое отрицание, которое бы ни к чему новому не привело бы — это опыт той «пустоты, что на краю всякой исполненности, опыт того, что имеет место вовне всего, когда все устраняет всякое вовне, того, чего остается достичь, когда все достигнуто, что остается узнать, когда все познано: самого недоступного самого неизвестного»3. Но как человек, добравшийся в своем действии до вершины, все время совершающий себя и все время совершенный, и все время повторяющий себя в Дискурсе, мог бы не остановиться на достигнутом, не задержаться на этой достаточности и опять поставить себя под вопрос? Собственно говоря, он этого и не может. Батай делает странное с точки зрения привычной рациональности открытие: измерение возможности не есть единственное измерение человека. Этот опыт-предел не есть новая возможность, которую изыскивает человек. «Человеку — каков он есть, каким он будет — принадлежит сущностный недостаток, изъян, откуда приходит к нему это право ставить себя всегда под вопрос»,4 — т. е. сущностная черта человека как 3 4 Бланшо М. Опыт-предел // Танатография эроса. С. 69. Там же. С. 69. раз и заключается в рискованности его бытия, когда он должен лицом к лицу столкнуться с невозможностью. Если Гегель говорит о риске смерти, который перерабатывается в диалектическом движении посредством труда в смысл обретения самосознания, то Батай и Бланшо1 говорят об избыточности отрицания в человеке, которая не может быть опосредована трудом. Внутренний опыт — это способ утверждения радикального отрицания, которому уже нечего отрицать, так как все уже прошло опосредование диалектическим смыслообразованием. Даже в этой ситуации человек может отрицать, противопоставив гарантированному дискурсу парадокс внутреннего опыта. Мы не всегда замечаем эту неприручаемую негативность человека, загипнотизированные повседневностью, но именно она является источником того, что Батай назвал «внутренним опытом». Эта невозможность, которая неподконтрольна человеку, в отличие от возможности — это и составляет сущность радикального риска – «этот излишек пустоты, излишек «негативности», то излишествование, которое пребывает в нас как бесконечное сердце страсти мысли»2. Опыт-предел, таким образом, дает мысли новое начало, являясь недиалектическим утверждением, включающим в себя избыточность отрицания. «Опыт-предел, стало быть, есть опыт сам по себе: мысль, которая мыслит то, что не дается мысли! Мысль мыслит больше, чем может осмыслить, — в утверждении, которое утверждает больше того, что может утвердиться! Это больше есть опыт, утверждающий лишь избытком утверждения, утверждающий так, что ничего не утверждается, в конечном счете, ничего не утверждающий. Это утверждение, в котором все уклоняется и которое само уклоняется, уклоняется от единства»3. Поэтому следует «не только попробовать вверить мысль случаю (что уже является редким даром), но самому ввериться единственной мысли, которая в принципиально едином мире, сместившем всякую случайность, опять решается выбросить кости в игре, мысля единственно утверждающим образом на уровне чистого утверждения: утверждения внутреннего опыта»4. Внутреннего опыта, когда человек мышлением ставит под вопрос основы собственного существования без гарантии, что он найдет успокоительную истину. 1 Впрочем, мысль эта идет еще от Кожева, когда он говорит о негативности как сущности человеческого. 2 Бланшо М. Указ. соч. С. 72. 3 Там же. С. 74. 4 Там же. С. 75. Второй вариант — поставить на кон, рискнуть сущностью философии — выявление с помощью деконструкции внутренних границ мышления. Ж. Деррида сравнивает завершение истории философии в гегелевском дискурсе с ситуацией, когда «философия, завершая себя, включает в себя, предваряет, чтобы удержать их возле себя, все фигуры своего иного, все формы и все ресурсы своего вовне… Кроме, может быть, некоего смеха»5. Гегелевская философия завершает «сон разума» тем, что вписывает в свою систему свое иное, свое отрицание, но не смех над собой. Смех внедискурсивен, он разрывает ткань гегелевского дискурса. Таким образом, смех — это и есть риск, возможность абсолютного отрицания философии. Точнее, одновременно отрицания и неотрицания, выводя нас за пределы гегелевской диалектики. Это не значит, что смех здесь подразумевает несерьезное отношение к философии. Напротив, «рассмеяться над философией (над гегельянством) — такова на самом деле форма пробуждения — значит апеллировать к определенной «дисциплине», к определенному «методу медитации», признающему тропы философа, принимающему его игру, лукавящему с его уловками, мешающему его карты, позволяющему ему разворачивать его стратегию, усваивающему его тексты»6. Смех действенен, он разрушает статичность, гарантированность смысла, создавая возможность для его рождения, а это возможно, лишь хорошо прицелясь, хорошо зная, над чем смеешься. Смех — это улавливание принципиальной двойственности смысла, содержащийся в нем непримиримый раскол, сущностно, однако, связанный с самим дискурсом. Это экспликация тех точек дискурса, которые выявят его самоотрицание. Смех – это когда в противоречии нет логики, когда его нельзя опосредовать, это противоречие и непротиворечие одновременно. Эта иррациональная в каком-то смысле сторона смеха выражается в том, что мы никогда до конца не можем сказать, почему смеемся: все, что мы можем объяснить рационально, не смешно. Такую стратегию отношения к философским текстам, реально могущую позволить освободиться от их власти, представляет собой деконструкция, сущностной чертой которой, по де Ману, как стратегии философского анализа является ирония: «Ирония появляется именно тогда, когда самосознание теряет над собой контроль… ирония — не фигура самосознания. Она — слом, вторжение, разрыв. Этот тот миг, когда те- 5 6 Деррида Ж. Невоздержанное гегельянство. С. 136. Деррида Ж. Невоздержанное гегельянство. С. 136. ряет контроль не только автор, но вместе с ним и читатель» 1. Это подлинная ситуация риска, когда рискуют все и всем, и прежде всего самим смыслом. Избегая подвергать риску системность, момент снятия (Aufhebung) делает из нее раба из диалектики раба и господина, обреченного на труд. Таким образом, самосознание духа – рабское самосознание. «…Лишь дух есть движение вперед, — пишет Гегель. Часто кажется, что он забыл и потерял себя; но внутренно противоположный самому себе, он есть внутренняя беспрерывная работа. О нем можно сказать так, как Гамлет говорит о духе своего отца: «Хорошо работаешь, честный крот»»2. Работа, труд — вот что заменяет у Гегеля ситуацию подлинного риска. Ж. Деррида отмечает, что даже господин здесь по сути дела не рискует, а торгуется, когда он в результате своего риска обретает господство. Его риск имеет смысл. Но этот серьезный смысл и это отрицание оборачиваются комедией, когда независимость самосознания освобождается, закабаляя себя, когда она вступает в работу, оборачиваясь самосознанием раба: «Рабство, стало быть, есть не что иное, как вожделение смысла: это положение, с которым сливается история философии; положение, определяющее работу смыслом смысла, а technè – развертыванием истины»3. Такой работе, работе мысли требуется противопоставить абсолютный риск, который не является вместе с тем абстрактной негацией (это бы нас вернуло в гегелевский дискурс). Гегелевскому понятию господства Ж. Деррида противопоставляет суверенность, понятие Ж. Батая, которое отличается от первого преимущественно тем, что суверенность должна пожертвовать именно господством, т. е. представлением о каком-либо смысле риска смерти. Это риск без надежды, абсолютная растрата жизни без ожидания выгоды. Ж. Деррида уточняет: следует говорить о риске не только жизни, но и серьезности смысла, ради чего стоило бы рисковать. Необходимо «как бы симулировать абсолютный риск и смеяться над этим симулякром»4. С его точки зрения понятие Aufhebung смешно именно тем, что оно означает «делячество дискурса, который, запыхаясь, пытается присвоить себе всю негативность, представить ставку на игру инвестицией, погасить абсолютную растрату, придать смысл смерти и в то же время закрывает глаза на бездну бессмыслия, в которой черпаются и исчерпываются запасы смысла»5. Таким образом, смех может вернуть философию в ситуацию риска, который только и делает ее возможной, помещая в ситуацию невозможности. Еще Ф. Ницше объявил философию «веселой наукой», добавляя: «И — мне все еще смешон каждый Мастер, Кто сам себя не осмеял»6. Тема смеха как адекватного измерения истины, можно найти в совершенно различных традициях, например, в чань-буддизме или в творчестве Г. Майнринка, когда он замечает, что «торжественно говорят лишь тупицы. Тот, кто не способен в юморе видеть серьезное, тот также не способен юмористически воспринимать ложную серьезность, которую ханжа почитает за основу мужественности; такой обязательно станет жертвой фальшивой восторженности так называемых «жизненных идеалов». Высшая мудрость кутается в шутовские одежды!»7 Ситуацию конца философии можно другими словами назвать так: это потеря смысла в ситуации его избытка. «Приходит время, – восклицает еще один представитель этого движения, ставящего философию в ситуацию принципиального риска, — Ж.-Л. Нанси, — когда уже не испытываешь ничего кроме гнева, кроме совершенной ярости против обилия речей, обилия текстов, чья забота лишь в том, чтобы привнести чуть больше смысла, запустить заново или усовершенствовать утонченную работу сигнификации. Вот почему, если я говорю здесь о рождении, то не стремлюсь придать ему вид очередного приращения смысла. Я, скорее, оставлю его, если такое возможно, как нехватку «смысла», оно и «есть» нехватка»8. Отсутствие гарантированных решений, незыблемых сущностей, задающих координаты для всего сущего, предзаданность смысла — таковы характеристики этого рискованного «рождения в присутствие», которое никогда не является совершенным, но всегда только под знаком вопроса, самовычеркивающим: «Опыт, вот он: пребывать рожденным в зарождающееся присутствие смысла, только зарождающееся. Такова нужда, такова свобода опыта»9. Таким образом, мы оказываемся на границе философии, рискуем ее существованием вообще. Граница, на которой оказывается философия, — это научная эпистема, «функционирующая внутри системы осново- Там же. С. 143 – 144. Ницше Ф. Сочинения в 2 т. Т. 1. М., 1990. С. 491. 7 Майнринк Г. Избранное: В 2 т. Т. 2. К., 1994. С. 304 – 305. 8 Нанси Ж.-Л. Рождение в присутствие // Комментарии. 1996. № 9. С. 210. 9 Там же. С. 209. 5 Moynihan R. Interview with Paul de Man // Yale Review. 1984. Vol. 73. № 4. P. 580. 2 Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии. Кн. 3. С. 567. 3 Деррида Ж. Невоздержанное гегельянство. С. 150. 4 Там же. С. 143. 1 6 полагающих ограничений, концептуальных оппозиций, вне которых она становится неосуществимой»1. Таким образом, задача сводится не к тому, чтобы избавиться от этой модели, так как в таком случае философия станет невозможной, но «как можно строже соблюсти внутреннюю и упорядоченную игру этих философем или эпистемем, давая им скользить, без их искажения, вплоть до точки их иррелевантности, их исчерпания, их закрытия»2. Это значит, что философия должна постоянно оставаться в сфере абсолютного риска, игры со своим бытием, с языком, со смыслом. Проблема современной философии, таким образом, состоит в вопросе, «каким образом, исчерпав дискурс философии, вписать в лексику и синтаксис языка, нашего языка, который, впрочем, и был языком философии, то, что не укладывается в оппозиции концепций, над коими господствует эта всеобщая логика»3. Гегель с помощью истории философии дает определение самой философии, о-граничивает ее. Поэтому деконструируя гегелевский дискурс, в том числе связность и о-смысленность его историкофилософского дискурса, мы приводим философию к краю ее гибели. А не стоит ли она уже там, отворачиваясь от пропасти? Быть может это рискованное деконструирующее движение состоит только в том, чтобы, сохраняя все сущностные моменты, показать философии ее место? «Будущее можно предчувствовать лишь как некую абсолютную опасность. Ведь оно полностью порывает со сложившимися нормами, и потому оно может явить себя, показать себя лишь в чудовищном облике»4. Это то невозможное существование философии, что только и может обеспечить ее жизнь. И если Гегель рассматривает диалектику возможного и необходимого, то сейчас судьба философии состоит в том, что невозможное стало необходимым. П. М. Колычев Критика Э. В. Ильенковым концепции идеального, предложенной Д. И. Дубровским В семидесятые и восьмидесятые годы прошлого века в советской философии активно обсуждалась проблема идеального. Одним из катализаторов тому послужила статья Э. В. Ильенкова «Диалектика идеальДеррида Ж. Позиции. Киев, 1996. С. 14. 2 Там же. С. 14. 3 Деррида Ж. Невоздержанное гегельянство. С. 137. 4 Деррида Ж. О грамматологии. М., 2000. С. 118. 1 ного», в которой автор противопоставил свою концепцию идеального концепции И. С. Нарского и Д. И. Дубровского. Жаркие споры того времени уже давно остыли. И дело здесь не во времени. Двадцать лет, которые отделяют нас от этого события (а это было яркое событие), не так уж много в историко-философском процессе. Нас отделяет не время, а смена философских ориентиров. Одно из преимуществ такой отдалённости состоит в том, что она позволяет более взвешенно оценить позиции спорящих сторон. В настоящей статье мы привлекаем внимание к тому, как Э. В. Ильенков понимал и критиковал позицию И. С. Нарского и Д. И. Дубровского. Эта история оказывается поучительной во многих отношениях. В своей критике Э. В. Ильенков исходит из некоторых предпосылок. Противоречие между материализмом и идеализмом было очевидной посылкой для советской философии. Всякое философское учение должно было быть отнесено либо к материализму, либо к идеализму, или как пишет Э. В. Ильенков: «Больше некуда»5. При этом у Э. В. Ильенкова, как и у многих советских философов, существует терминологическая несогласованность между логикой и философией. В логике наряду с противоречащими понятиями присутствуют противоположные, которые существенно отличаются от первых. «Противоположные ... понятия ... — несовместимые понятия, между которыми возможно третье...»6. «Противоречащие ... понятия ... — такие несовместимые понятия, между которыми нет среднего...»7. Поскольку Э. В. Ильенков не допускает третьего между материализмом и идеализмом, постольку у него речь идёт именно о противоречивости, а не противоположности с точки зрения логики. Это замечание полезно иметь в виду, ибо Э. В. Ильенков, как мы увидим далее, призывает к знанию школьной и элементарной логики. Другая предпосылка Э. В. Ильенкова состоит в том, что сознание— частный случай идеального: «можно и нужно говорить, что сознание, например,— “идеально” ... Но если вы скажете наоборот – скажете, что “идеальное” — это и есть сознание ... то ... при таком перевёртывании понятие “идеального” превращается из продуманного теоретического обозначения известной категории явлений просто-напросто в название для некоторых из них»8. Это положение Э. В. Ильенков приводит в са- 5 Ильенков Э. В. Диалектика идеального // Ильенков Э. В. Философия и культура. М., 1991. С. 229 – 270, С. 229. См. так же С. 230. 6 Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник. М., 1975. С. 486. 7 Там же. С. 487. 8 Ильенков Э. В. Указ. соч. С. 229. мом начале «Диалектики идеального», и оно у него ни каким образом не обосновывается, по-видимому, оно для него является очевидным, поскольку он говорит об идеальном как о продуманном теоретическом обозначении известной категории явлений. Но если бы категория идеального была настолько продумана, то вряд ли Э. В. Ильенкову пришлось бы писать на эту тему. А поскольку он выбрал для себя эту тему, то следовало бы относиться к ней не как к решённой, а как к решаемой. Поскольку Э. В. Ильенков строит свою критику на противоречии между материальным и идеальным, то он, несомненно, использует некоторое понимание материального. Однако он не приводит это понимание, по-видимому, считая такое понимание очевидным. А ведь это очень важная его предпосылка, ибо основной мотив его критики в том, что идеальное сводится к материальному, т. е., к тому, о чём Э. В. Ильенков умалчивает. Без определения материального его критика, с логической точки зрения, имеет весьма неопределённый вывод. Свою критику Э. В. Ильенков начинает с положения И. С. Нарского, которое в пересказе Э. В. Ильенкова выглядит следующим образом: «…помимо и вне сознания идеальные явления существовать не могут, и все прочие явления материи материальны 1»2. (Трудно судить, на сколько точен здесь Э. В. Ильенков, ибо в приведённой им сноске не указаны страницы). «“Помимо и вне сознания,” — пишет Э. В. Ильенков — существуют, однако, такие явления, как бессознательные (“подсознательные”) мотивы сознательных действий. Оставаясь верным элементарной логике, наш автор будет вынужден отнести их в разряд материальных явлений, ибо «все прочие явления материи материальны»3. Далее Э. В. Ильенков, что называется, «отрезает» возможный 4 отход для И. С. Нарского: «И пусть И. С. Нарский не говорит, что он понимает выражение «помимо и вне сознания» «в ином смысле», нежели общепринятый»5. С точки зрения современного понимания сознания позицию И. С. Нарского можно защитить более сильным аргументом, чем это предлагает Э. В. Ильенков. Дело в том, что и сознание, и подсознание есть разные аспекты идеального у отдельного индивида, и на этом основании возможно введение такого понятия, которое включало бы в своё содержание и сознание, и подсознание. Для этого нового понятия можно либо См.: Нарский И. С. Диалектическое противоречие и логика познания. М. 1969. Ильенков Э. В. Указ. соч. С. 230. 3 Там же. 4 Допустимо так же, что это не возможное, а действительное возражение И. С. Нарского. О том, что возможное возражение мы заключили из-за отсутствия соответствующей сноски. Но возможно, что Э. В. Ильенков не привел нужную сноску. 5 Ильенков Э. В. Указ. соч. С. 230. 1 2 ввести новый термин, либо расширить старый термин. Например, в последнем случае можно расширить содержание понятия «сознание», в котором выделить три аспекта: 1 — сиюминутное (моментальное) сознание, что составляют наши мысли в данный момент времени; 2 — память, куда входит всё то, что мы можем вспомнить, находясь в нормальном состоянии сознания, 3 — подсознание, куда входит всё то, что мы забыли и вытеснили. В таком новом понимании идеального у отдельного индивида, возражение Э. В. Ильенкова не работает. Таким образом, критика Э. В. Ильенковым позиции И. С. Нарского бьёт мимо цели. Если уж и критиковать И. С. Нарского, то делать это надо более строже и по главному параметру, которым является субъективноиндивидуальный уровень идеального. Понятно, что Д. И. Дубровский написал к моменту критики его позиции Э.В. Ильенковым, не одну и не две страницы об идеальном. Поэтому при анализе его концепции возникает вопрос о том, какой именно конкретный материал выбрать для анализа или критики. Предельно честное решение этого вопроса состоит в том, чтобы отобрать тот материал, который отображал бы существенные моменты разбираемой концепции, при этом существенными они являются не с точки зрения критика, а с точки зрения автора. Вот выдержки из работы Д. И. Дубровского «Психические явления и мозг», которые отобрал Э. В. Ильенков: «Идеальное — это актуализированная мозгом для личности информация, это способ личности иметь информацию в чистом виде и оперировать ею ... Идеальное — это психическое явление (хотя далеко не всякое психическое явление может быть обозначено (! — Э.И.) как идеальное); а поскольку идеальное представлено всегда только в сознательных состояниях отдельной личности ... Идеальное есть сугубо личностное явление, реализуемое мозговым нейродинамическим процессом определенного типа (пока еще крайне слабо исследованного)»6. Сначала замечания по форме. В выделенном Э. В. Ильенковым материале содержится три фрагмента, разделённых многоточиями. Мы тоже используем такой приём цитирования. Однако этот приём имеет свои границы. Мы считаем, что разрыв в цитате с помощью многоточия не должен быть слишком значительным. У Э. В. Ильенкова, как это следует из приведённой им сноски, выделенный материал (8 строк) охватывает целых три страницы. Здесь есть основания усомниться в том, что все три фрагмента объединены одним контекстом. Именно единство 6 Дубровский Д. И. Психические явления и мозг. М., 1971. С. 187, 188, 189. контекста является другим условием, ограничивающим размер разрыва в цитате. Теперь выделим те положения, которые содержатся в приведённой цитате Д. И. Дубровского: 1 — идеальное — это информация, актуализированная мозгом для личности; 2 — идеальное — это способ личности иметь информацию в чистом виде; 3 — идеальное — это способ личности оперировать информацией; 4 — идеальное — это специфическое психологическое явление; 5 — идеальное представлено всегда только в сознательных состояниях отдельной личности; 6 — идеальное — это только личностное явление; 7 — идеальное — это явление, реализуемое специфическим мозговым нейродинамическим процессом. Если убрать в этом структурировании повторы, то получим более сжатую позицию Д. И. Дубровского: 1 — идеальное — это информация и способ оперирования ею; 2 — при этом информация актуализируется мозгом; 3 — идеальное представлено только в отдельной личности; 4 — идеальное — это специфическое психологическое явление; 5 — идеальное — это явление, реализуемое специфическим мозговым нейродинамическим процессом. Однако и это ещё не все сокращения, ибо теперь более отчётливо становится видно, второй и пятый пункты выражают одно и то же, оставим последнее, так как именно эту формулировку часто использует Э. В. Ильенков. Поэтому окончательно получаем следующую предельно сжатую позицию Д. И. Дубровского: 1 — идеальное — это информация и способ оперирования ею; 2 — идеальное — это явление, реализуемое специфическим мозговым нейродинамическим процессом; 3 — идеальное представлено только в отдельной личности; 4 — идеальное — это специфическое психологическое явление. Само собой напрашивается следующий шаг, но уже не в направлении сокращения, а в направлении последовательности изложения выделенных пунктов. Дело в том, что из четырёх пунктов три (первый, второй, четвёртый) касаются разных аспектов идеального. Первый пункт — это философский аспект идеального; второй пункт — физиологический аспект; четвёртый — это психологический аспект. Поэтому логичнее было бы изложить их в такой последовательности: сначала философский, за ним психологический и закончить физиологическим аспектом, т. е.: 1 — идеальное — это информация и способ оперирования ею; 2 — идеальное — это специфическое психологическое явление; 3 — идеальное — это явление, реализуемое специфическим мозговым нейродинамическим процессом; 4 — идеальное представлено только в отдельной личности. Однако такое представление цитаты Д. И. Дубровского будет слишком большой модернизацией, хотя в такой форме замечательно представлены все три аспекта одного единого феномена. После структурного представления цитаты Д. И. Дубровского следует выяснить соподчинение выделенных положений. Два положения имеют форму определения: 1 — идеальное — это информация и способ оперирования ею; 4 — идеальное — это специфическое психологическое явление. При этом совершенно ясно, что последнее положение это не содержательное определение идеального, а либо указание на ту науку, которая должна изучать идеальное, т. е. в данном случае психологию, либо указание другого аспекта в изучении единого реального феномена, т. е. психологического аспекта. Стало быть, из двух форм определения идеального главным является первый, т. е.: 1 — идеальное — это информация и способ оперирования ею. Два других положения раскрывают не то, чем является идеальное, а то, как оно реализуется, а точнее на какой основе оно реализуется. Второе положение говорит нам, что идеальное реализуется на базе специфических мозговых нейродинамических процессов. Третье положение свидетельствует, что идеальное реализуемо только на базе отдельной личности. Вышеизложенное — это наше прочтение цитаты Д. И. Дубровского. Теперь обратимся к тому, как с ней работает Э. В. Ильенков. Первое, на что обращает внимание Э. В. Ильенков, — это положение о том, что идеальное — это специфическое психологическое явление. И здесь, прежде всего, подвергается критике именно специфичность психологических явлений. Откуда Э. В. Ильенков делает вывод ««все прочие» психологические явления неизбежно попадают (как и у И. С. Нарского) в разряд явлений материальных»1. Первое. Здесь опять Э. В. Ильенковым используется какое-то понимание материального, из которого для него следует, что материальным не могут быть психологические явления. Однако для читателя опять остаётся не ясным, почему именно психологические явления нематериальны. Второе. Следуя строгой логике, нельзя сделать того вывода, который делает Э. В. Ильенков, ибо у Д. И. Дубровского отсутствует (или не приведена Э. В. Ильенковым, но для строгой логики это не аргумент) основная посылка: всё, что неидеально есть материальное. Эта посылка имеется у И. С. Нарского, но ведь речьто идёт о позиции именно Д. И. Дубровского, поэтому для его критики недопустимо использование положений другого автора, пусть даже занимающих близкие позиции к позициям Д. И. Дубровского. Поэтому критика Э. В. Ильенкова здесь не совсем корректна. 1 Ильенков Э. В. Указ. соч. С. 230. На наш взгляд, в этом положении Д. И. Дубровского следовало бы подвергнуть критике за то, что идеальное у него представлено именно как психологическое явление. Но при таком прочтении этого положения следует, что Д. И. Дубровский считает, что идеальное — предмет рассмотрения психологии, а не философии. Но это — не так, что следует из многочисленных его философских работ по проблеме идеального. Из этого мы делаем вывод, что это не удавшаяся фраза Д. И. Дубровского, в которой он указывает либо на присутствие психологического аспекта в изучении некоего явления, которое изучает так же и философия через категорию идеального, либо о том, что идеальное базируется (а не является) на психологических процессах. По-видимому, Э. В. Ильенков пропустил эту критику не случайно. Критикуя Д. И. Дубровского в том, что он уводит проблему идеального из философии, Э. В. Ильенков увидел более выгодный материал. А именно, не уход в область психологии, что еще можно было бы как-то простить, ибо психологическое, по мнению Э. В. Ильенкова, все же идеально, а уход идеального дальше в область физиологии, т. е. в область материального. То, что у Д. И. Дубровского является лишь базовой основой для идеального, Э. В. Ильенковым было понято как само идеальное, т. е. идеальное есть мозговой нейрофизиологический процесс: «само “идеальное” тут уже исподволь истолковано как сугубо материальный — “мозговой нейродинамический” — процесс, только, в отличии от “всех прочих”, “пока ещё крайне слабо исследованный”»1. Если идеальное у Д. И. Дубровского действительно сведено к психологическому, по крайней мере, формально-текстуально, то о сведении у него идеального к физиологическому нет ни прямо, ни даже исподволь. Ведь не станем же мы делать вывод о тождестве идеального и человека, взятого во всей его физической, химической, биологической, психологической, социальной полноте, на том основании, что идеальное реализуется (актуализируется) человеком. Поэтому все обвинения Э. В. Ильенкова о физиологическом понимании идеального Д. И. Дубровским несостоятельны, и мы не будем их больше рассматривать. Если уж Э. В. Ильенков не понял этого, то следует ещё с большей осторожностью отнестись к следующему его пересказу положений Д. И. Дубровского. По мнению Э. В. Ильенкова Д. И. Дубровский под фактами сознания «понимает исключительно субъективно переживаемые (хотя бы в течение нескольких секунд) индивидом материальные состояния его собствен- 1 Ильенков Э. В. Указ. соч. С. 230 – 231. ного мозга»2. (К тому же здесь отсутствует необходимая, с нашей точки зрения, сноска на текст Д. И. Дубровского.) Следующее критическое замечание Э.В. Ильенкова в адрес концепции Д. И. Дубровского опять состоит в отсутствии у последнего философского аспекта идеального: «Для Д. И. Дубровского ... совершенно безразлично, что именно представляют собой эти “текущие психические состояния отдельной личности” (т. е. факты сознания — П. К.) с точки зрения философии ...»3. И чуть далее: «Философию как науку никогда особенно не интересовала “личная обращенность мозговых нейрофизиологических процессов”...»4. Но через одну страницу мы находим у Э. В. Ильенкова очень примечательный фрагмент: «Правда, позднее (после Платона — П. К.) – и именно в русле однобокого эмпиризма (Локк, Беркли, Юм и их наследники) — словечко «идея» и производное от него прилагательное «идеальное» опять превратились в простое собирательное название для любого психического феномена, для любого, хотя бы и мимолётного, психического состояния отдельной «души», и это словоупотребление тоже приобрело силу достаточно устойчивой традиции, доживший, как мы видим, и до наших дней»5. Как же тогда можно говорить, что Д. И. Дубровскому нет дела до философии, коль скоро он оказался выразителем и продолжателем целой философской традиции, к тому же устойчивой философской традиции. И здесь совершенно уже неважно, что существование этой традиции «было связано 6 как раз с тем, что узкоэмпирическая традиция в философии просто-напросто устраняет реальную проблему, выставленную Платоном, не понимая её действительной сути...»7. Локк, Беркли, Юм и их наследники – это персонажи истории философии, как бы мы их не оценивали, это такие же историко-философские персонажи как Платон и Гегель. Собственно, последними и исчерпываются союзники Э. В. Ильенкова. Здесь мы ни в коей мере не хотим придавать этому выражению характер оценки, весомой значимости одной и другой традиции. Просто констатируем, что как у Э. В. Ильенкова, так и Там же. С. 231. Там же. 4 Ильенков Э. В. Указ. соч. С. 231. 5 Там же. С. 233. 6 Обратите внимание на прошедшее время. Э. В. Ильенков уже забыл, что современным продолжателем этой традиции как раз и является Д. И. Дубровский. Э.В. Ильенков уже на подсознательном уровне отказывает ему в существовании историко-философских корнях. 7 Ильенков Э. В. Указ. соч. С. 233. 2 3 у Д. И. Дубровского имеются свои историко-философские корни. Эти корни у них не совпадают, как и не совпадают их концепции. Интересно отметить, что речь здесь идёт, так сказать, о дальних историкофилософских корнях. Что же касается ближайших историкофилософских корней, то они у обоих авторов одни и те же — это К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин. В критике Э. В. Ильенковым в отсутствии исторических корней у Д. И. Дубровского имеется любопытное продолжение, состоящее в том, что для Д. И. Дубровского совершенно безразлично «отражают они («текущие психические состояния отдельной личности», т. е. факты сознания — П. К.) нечто объективно реальное, нечто вне головы человека существующее, или же они суть всего-навсего субъективно переживаемые мозгом его собственные имманентные «состояния», то есть физиологически обусловленные его специфическим устройством события, по наивности, принимаемые за события, вне этого мозга совершающиеся? Для Д. И. Дубровского и то, и другое одинаково «идеально» по той причине, что и то, и другое есть «субъективное проявление, личная обращенность мозговых нейродинамических процессов (цит. Соч., с. 189), и ничего другого собой представлять не может. ...» (там же. С. 188)»1. Понять критику Э. В. Ильенкова в этом месте с теми пересказами и цитатами, которые он приводит из Д. И. Дубровского, не просто. Попробуем разобраться пока без обращения к цитируемому тексту Д. И. Дубровского. Итак, недостатком Д. И. Дубровского считается то, что он посчитал одинаково идеальным нечто одно («и то») и нечто другое («и другое»). Теперь выясним, что собой представляют эти «и то» и «и другое». По-видимому, «и то» характеризуется следующей фразой Э. В. Ильенкова: «отражают они («текущие психические состояния отдельной личности», т. е. факты сознания – П. К.) нечто объективно реальное, нечто вне головы человека существующее». В более краткой форме эта мысль может быть выражена следующим образом: «отражают ли мысли нечто объективно реальное». Далее, «и другое», по-видимому, характеризуется такой фразой Э. В. Ильенкова: «они суть всего-навсего субъективно переживаемые мозгом его собственные имманентные «состояния», т. е. физиологически обусловленные его специфическим устройством события, по наивности принимаемые за события, вне этого мозга совершающиеся?». Эта мысль 1 Ильенков Э. В. Указ. соч. С. 231. так же может быть выражена более кратко: «мысли есть переживаемые 2 мозгом процессы3». Теперь критика Э. В. Ильенкова в краткой форме выглядит следующим образом: для Д. И. Дубровского безразлично отражают ли мысли нечто объективно реальное или же они есть переживаемые мозгом процессы. Для него и то, и другое одинаково идеально. Стала ли эта критика более понятной? Нет. Неясность эта происходит из того, что непонятно, в каком аспекте Э. В. Ильенков рассматривает мысль в процессе отражения. Одно дело, когда мысль здесь рассмотрена со стороны своего содержания, т. е. насколько она адекватно отражает объективную реальность, И тогда равнодушие Д. И. Дубровского выглядит совершенно непозволительно с позиции советской философии. Дело усугубляется для него ещё и тем, что эти мысли есть результат чистого субъективного переживания. По существу Д. И. Дубровский здесь может быть понят как последовательный солипсист. Интересно, что до этого Э. В. Ильенков свел его концепцию к вульгарному материализму. Если бы концепция Д. И. Дубровского действительно легко сводилась бы к солипсизму, то вряд ли он смог бы опубликовать свою концепцию и заниматься философией вообще. Ясно, что это не так. Стало быть, либо наше понимание критики Э. В. Ильенкова не правильно, либо он неправильно понял Д. И. Дубровского. Ясно одно, что мысль в процессе отражения должна быть рассмотрена не со стороны своего содержания, а со стороны своего качества, т. е. то, что она именно есть мысль. И это другое понимание мысли в рассматриваемой критике. Но тогда для мысли, как мысли, действительно, всё равно, что отражать, и насколько адекватно это отражение, в любом случае она останется мыслью. Что же тогда не устраивает Э. В. Ильенкова? По-видимому, то, что мысль, как результат процесса отражения и мысль, как результат процесса мозга, — одно и то же, т. е. идеальное. И это равенство приписывается Д. И. Дубровскому. Но так ли это? Выше мы показали, что, если строго следовать приведённой Э. В. Ильенковым цитате Д. И. Дубровского, последний понимает соответствующие процессы мозга не как собственно само идеальное, а как то, на базе чего это идеальное реализовано. Стало быть, и здесь Э. В. Ильенков критикует не концепцию Д. И. Дубровского, а собственное неправильное понимание его концепции. 2 Здесь мы опустили то, что речь идет именно об субъективных переживаниях, поскольку считаем, что к разбираемому вопросу это не относится. 3 Здесь мы опустили то, что это специфические процессы. Так же мы посчитали несущественным в данном случае и конец фразы. О правильности того, что мысль в процессе отражения в рассматриваемом фрагменте концепции Д. И. Дубровского должна быть понята со своей качественной, а не содержательной, стороны, свидетельствует вывод, который делает Д. И. Дубровский (или Э. В. Ильенков): «Поэтому «определение идеального не зависит от категории истинности, так как ложная мысль тоже есть не материальное, а идеальное явление» (там же. С. 188)»1. Действительно, мысль истинная и мысль ложная есть, прежде всего, мысли, а значит, у них есть нечто общее, этим общим и выступает некое качество, которое и есть идеальное. Нам совершенно не понятно возмущение Э. В. Ильенкова по этому поводу: «Что нашему автору (Д. И. Дубровскому — П. К.) до того, что философия2, как особая наука, разрабатывала и разработала3 категорию «идеального» именно в связи с проблемой истинности и что только в этой связи ее определения идеального и материального вообще имели и имеют смысл?»4. Но ведь в круг решения проблемы истинности включается и вопрос о ложности, поэтому более точная формулировка Э. В. Ильенкова должна была бы быть такой: проблема идеального связана с проблемой истинности и ложности. Это, во-первых. Во-вторых, связь проблемы идеального и проблемы истинности ещё не означает, что идеальное должно быть тождественно с истиной. В противном случае тогда не понятно, чем является ложь, материальным что ли? Поскольку проблема идеального и проблема истинности —это разные проблемы, то следовало бы рассмотреть различные варианты их сочетания. Концепцию Д. И. Дубровского и можно рассматривать как один из таких вариантов. Таким образом, и в этом пункте своей критики Э. В. Ильенков опять «бьёт мимо цели», т. е. мимо цели конструктивной критики, и, как мы покажем в дальнейшем, имеется ещё и другая цель, куда вся критика Э. В. Ильенкова попадает в «десятку». Критикует Э. В. Ильенков Д. И. Дубровского и за то, что ему нет дела «что эти определения (определения в связи с проблемой истинности — П. К.) философия разработала в качестве теоретического выраИльенков Э. В. Указ. соч. С. 231. Как мы уже показали, т. е. как это показывает сам Э. В. Ильенков, далеко не вся философия. 3 Обращает на себя внимание завершенность проблемы идеального. Если бы это было так, то Э. В. Ильенкову не было бы необходимости писать по этому поводу. Думаем, что в этом он как бы «проговаривается», что выдвигаемая им концепция, — это вовсе не его собственная конструкция, не его собственное решение, а он лишь приводит давно уже известное, по-видимому, кроме И. С. Нарского и Д. И. Дубровского решение проблемы идеального. Думаем, что это еще один приём Э. В. Ильенкова отвести или хотя бы смягчить критику в свой адрес. 4 Ильенков Э. В. Указ. соч. С. 231. 1 2 жения совсем других фактов, нежели тех, которые персонально интересуют Д. И. Дубровского ...»5. Разграничение предметов исследования вообще находится вне сферы критики, ибо оно постулируется: один выбирает одно, другой исследователь — другое. Что же касается используемой терминологии, то вопрос о правомочности использования того или иного термина решается в историческом аспекте, где должны быть приведены примеры использования исследуемого термина в истории философии, из чего и будет следовать вывод о правомочности или неправомочности современным автором использовать данный термин в таком-то его конкретном значении. Поскольку ниже Э. В. Ильенков причисляет Д. И. Дубровского к традиции Локка, Беркли, Юма и их наследников, то, по-видимому, Д. И. Дубровский берет своим исследованием тот предмет, который свойственен именно этой философской традиции. Э. В. Ильенков берёт предметом своего исследования то, что было свойственно Платону и Гегелю в их рассмотрении идеального. О чём здесь спорить? Не о чем. Однако эти простые и очевидные рассуждения редко принимаются во внимания. Думаю, основное количество философских споров, как в прошлом, так и в настоящем, связанно именно со смешиванием предметов исследования при использовании одной и той же терминологии. Если стоять на позициях классического детерминизма, то борьба за термины — это пустая проблема. Но если за образом, частным случаем которого и является термин, признать некоторую «мистическую» силу, то эта борьба становится значимой. Предложив своё понимание идеального 6, мы нисколько не собираемся доказывать, что правильно именно наше понимание идеального. Своим специфическим пониманием идеального, мы лишь очерчиваем круг предмета своего исследования, ни более. Собственно, на этом и заканчивается критика Э. В. Ильенковым концепции идеального, выдвинутой Д. И. Дубровским. Ранее, с подачи Э. В. Ильенкова, мы выделили четыре положения концепции Д. И. Дубровского. Как видим, Э. В. Ильенков в своей критике совершенно не реагирует на главное положение (идеальное — это информация и способ оперирования ею), определяющее идеальное с содержательной стороны. Фактически не критикуется четвёртое положение (идеальное – это специфическое психологическое явление). Основной акцент своей критики Э. В. Ильенков сосредотачивает на втором положении (идеальное Там же. Колычев П. М. Понимание идеального // Философия и проблемы современности Саратов, 2003, С. 84 – 93. 5 6 — это явление, реализуемое специфическим мозговым нейродинамическим процессом). Однако, на наш взгляд, это положение было неправильно понято Э. В. Ильенковым, а поэтому его критика не имеет отношения к концепции Д. И. Дубровского. Что же касается критики третьего положения (идеальное представлено только в отдельной личности), то, чем собственно и различаются их концепции, то это не предмет спора, а выбор предмета исследования. Учитывая этот итог, становится непонятно, почему критика Э. В. Ильенкова концепции Д. И. Дубровского столь слаба с точки зрения философского содержания, т. е. эта критика не достойна того высокого положения, не административного, а интеллектуального положения, которое занимал Э. В. Ильенков в советской философии. Ведь он один из выдающихся советских философов. Думаем, что это понимали не только в философской среде, но и осознавал это он сам. Частично ответ на этот вопрос дал Лисин: «Отчего же Ильенков столь непримирим к тем, кто пытается доказать, что именно феномен сознания и есть подлинная идеальность? Со всей достоверностью на эти вопросы мог бы ответить сам автор. Но сегодня, когда его уже нет с нами, вчитываясь в его работы, можно лишь предположить более или менее правдоподобное объяснение его поразительной непримиримости к иначе мыслящим философам (доходившее подчас до настоящего абсурда — до отрицания очевидных фактов, которым не находилось места в его социологической концепции идеальности). Невозможно абстрагироваться от того факта, что, обращаясь к истокам идеализма, Э. В. Ильенков выступил инициатором возрождения, по существу, «классической», но давно уже табуированной проблематике в диалектическом материализме. Ибо в те годы даже простая симпатия к идеализму могла стоить учёному отлучения от профессионального занятия философией (и это несмотря на известные одобрительные оценки объективного идеализма классиками марксизма-ленинизма!). То время совпало в общественной жизнью страны, именовавшей себя Союзом ССР, с некоторой идеологической “оттепелью”, которая, впрочем, довольно быстро сменилась очередными “заморозками”. Новые факты, новые идеи, противоречащие ортодоксальной (громко объявлявшей себя диалектической, а по сути — спекулятивносубъективной, догматической) философией, стали робко пробиваться в научную парадигму, но плата за это была высока: учёные вынуждены были отказываться от своего авторства, приписывая его «классикам», и при этом многократно декларировать свою идейную лояльность господствующему философскому мышлению. В этих условиях выступать в защиту объективного идеализма означало выступать против идеологии субъективизма и вульгарного материализма (т. е. против того, что и представлял собой “ленинизм”). Но именно так и поступил Э. В. Ильенков, выдвинув философскую концепцию, в которой доказывался объективный характер идеальности материи. Правда, речь у него шла только о социальной материи (хотя уже с самого начала было непонятно, что же мешает остальной материи проявлять себя аналогичным образом?)»1. В этом же контексте можно предложить следующее объяснение методов и мотивов критики Э. В. Ильенкова. Если учесть собственную позицию Э. В. Ильенкова в понимании идеального, то становится понятным, и, в общем-то, оправданным, метод его критики своих оппонентов. Здесь имеется в виду то, что он критикует не конструктивные положения, а лишь то, что и И. С. Нарский, и Д. И. Дубровский все идеальное, в конечном итоге, сводят к материальному, а по сему собственно идеального то у них и нет. Стало быть, придерживаясь их позиции, в советской философии нет и категории идеального. А ведь в философии эта категория очень важная, и важная она именно для советской философии, которая противопоставляет себя идеализму как материалистическая. Для того чтобы провести это противопоставление, необходимо знать, что такое идеальное, иначе непонятно, чему себя противопоставлять. Таким образом, Э. В. Ильенков расчистил место в советской философии для своей концепции идеального. А ведь концепция его восходит (по его мнению) к Платону и Гегелю, а они оба занимали в вопросе идеального позицию объективного идеализма. Э. В. Ильенков, по-видимому, понимал, что на этом основании его будут упрекать именно в идеализме. Так «все его наиболее яркие философские работы, едва попадая в орбиту философских споров и научных дискуссий, становились предметом тенденциозной критики, которая переносилась им весьма болезненно. ... Некоторые работы Э. В. Ильенкова вовсе изымались из интеллектуального обращения — такова судьба цикла его статей об отчуждении при социализме, написанных ещё 25 лет назад (1966 г. — П. К.), о соотношении философии и мировоззрения и ряд других работ»2. Поэтому он сам критикует И. С. Нарского и Д. И. Дубровского именно по линии идеализм — материализм, по-видимому, в расчете на то, что его оппонентам уже будет не до его идеализма (как бы «отмыть- Лисин А. И. Идеальность. Часть I. М., 1999. С. 104 – 105. Новохатько А. Г. Феномен Ильенкова // Ильенков Э. В. Философия и культура. М., 1991. С. 5 – 16. С. 6. 1 2 ся» от его критики в натуралистическо-материальном понимании идеального). В поисках натуралистического материализма у своих оппонентов Э. В. Ильенков использует и сомнительную логику, и неточное цитирование, упрекая их в том, что они не писали вовсе. В принципе, как показало время, эта тактика принесла свои плоды, которые состоят в том, что концепция идеального, предложенная Э. В. Ильенковым, выжила, за что ему честь и хвала. Если бы он пустился в конструктивный спор с И. С. Нарским и Д. И. Дубровским, то его идеалистическое наследие (Платон и Гегель) вряд ли позволило ни то чтобы отстоять свою концепцию, но даже высказать ее. Прав ли в этом Э.В. Ильенков? С романтических позиций нет не прав. Романтизм требует жертвенного отношения к делу, которому ты служишь. Со своих практических позиций он прав. Он хотел высказать свою позицию, и он ее высказал. Но есть еще одна позиция, позиция чистой философии. Если бы Э. В. Ильенков своей критикой загубил тенденцию И. С. Нарского и Д. И. Дубровского, но высказал свою собственную, то была бы «ничья». Если бы он только загубил эту тенденцию, не предложив ничего нового, то он нанес бы вред философии. Но Э. В. Ильенков не только не загубил этой тенденции, но вряд ли даже пошатнул ее, единственно чего он добился – это право высказать свою точку зрения. Стало быть, в результате в философии вместо одной концепции появилось две концепции, т. е. философия от этого выиграла. И, соответственно, она бы проиграла, если бы Э. В. Ильенкову не дали высказать свою точку зрения. В чём же поучительность этой истории? В теоретическом плане для нас ясно, что концепция идеального Э. В. Ильенкова практически не связана с его критикой Д. И. Дубровского. К тому же Э. В. Ильенков, по-видимому, так и не понял Д. И. Дубровского. По крайней мере главное в концепции Д. И. Дубровского ускользнуло от Э. В. Ильенкова, а может он и не хотел этого замечать. То, как Э. В. Ильенков обращается с концепцией Д. И. Дубровского, настораживает нас в плане доверия к использованию им остального историко-философского материала (Платон, Г. В. Ф. Гегель, К. Маркс и другие). Для правильного понимания анализа историко-философского материала Э.В. Ильенковым необходимо учитывать следующее: «История человеческой мысли вообще, в понимании Ильенкова, и история философии прежде всего, должна быть развёрнута так, чтобы она не превращалась в рассказ о том, что когда-то, кем-то и как-то было сказано. Он всегда переводил разговор в своих работах и выступлениях в такую плоскость, чтобы обсуждение идей великих мыслителей непременно вылилось в разговор о проблемах, которые мучают людей сегодня. ... Типичная для книг и статей Э. В. Ильенкова особенность — ориентация на то, что «диалог» с любым крупным мыслителем прошлого не только может, но и должен быть развёрнут как разговор с нашим современником. Конечно, при таком подходе есть риск впасть в модернизацию взглядов Спинозы или Фихте, но, как всегда подчеркивал Эвальд Васильевич, такой риск оправдан, ибо есть одно необходимое условие такого «диалога»: освещение Платона, Спинозы или Фихте как наших современников плодотворно лишь постольку, поскольку мы сами имеем достаточно ясные и вполне определённые позиции по важнейшим сегодняшним проблемам философии...»1. Надеемся, что это писал человек, хорошо знающий Э. В. Ильенкова. Теперь по существу данного цитирования. Во-первых, если мы уже имеем собственное хорошо продуманное решение какой-то философской проблемы, то зачем нам обращаться к мнению других мыслителей. Как раз более оправдана противоположная позиция, т. е. к ним мы обращаемся в то время, когда мы находимся в состоянии поиска решения. В первом варианте риск модернизации особенно велик, ибо мы уже читаем историко-философские тексты в состоянии зашоренности собственной концепцией, поэтому будем обращать внимание только на те фрагменты, которые подтверждают наше собственное решение или резко с ним контрастируют, пропуская всё то, что не входит в это решение. Какой же смысл в таком «диалоге»? Он вреден и для истории философии, ибо эта модернизация может быть воспринята другими как подлинное изложение мыслей прошлых философов. Особенно это опасно, когда модернизацию проводит авторитетный философ, каким несомненно и является Э. В. Ильенков. Не плодотворен такой диалог и для развития философского знания, ибо он не развивает ту концепцию, которая уже решена. Во-вторых, одним из простых приемов, который позволяет избежать модернизации, является аккуратное контекстуальное цитирование. «Контекстуально» здесь означает, что выделенная мысль из какого-то текста должна быть подана в том контексте, в котором она существует в первоисточнике, и уж потом может быть вписана в наш контекст. Другой прием состоит в том, что «диалог» с мыслителем прошлого должен вестись либо на языке его терминологии, т. е. не только с использованием его терминов, но и именно в тех его значениях, которые использовались данным мыслителем, либо на языке современной терминологии, но обязательно с соответствующим смысловым «переводом» между терминами прошлого и современными терминами. Мысли- 1 Новохатько А. Г. Указ. соч. С. 12. тель прошлого в таком «диалоге» должен быть понят, прежде всего, «изнутри». Критику Э. В. Ильенковым Д. И. Дубровского и И. С. Нарского следует рассматривать не в теоретическом, а в ситуативном плане. Здесь Э. В. Ильенков показал себя как весьма опытный человек, грамотно выстраивающий свои отношения в философском мире советской действительности. Кроме сказанного об этом плане следует добавить и то, что И. С. Нарский, как объект критики, был, по-видимому, взят Э. В. Ильенковым лишь для компании с Д. И. Дубровским. Это позволило Э. В. Ильенкову вести не персональную критику Д. И. Дубровского, а критиковать определённое направление в советской философии. Однако ситуативная опытность Э. В. Ильенкова, возможно, является не действительно осознанной им, а лишь кажущейся. Частично мы об этом сказали, когда речь шла о «чистой» философии. Вот что здесь имеется в виду. Мы допускаем, что процесс развития философского знания не зависит от воли конкретных философов. У нас создаётся впечатление того, что это мы пишем философские тексты, из которых в последствии и складывается, пусть даже и не аддитивно, «чистая» философия. Но это может оказаться наивным самообманом. Возможно, в действительности дело обстоит с точностью наоборот. Это «чистая» философия пишет нами свой фундаментальный ТЕКСТ. Принятие этого положения имеет серьёзные мировоззренческие и повседневные последствия. Если что-то даётся нам с трудом, то, может быть, эта трудность есть свидетельство того, что направление нашего движения не совпадает с направлением развития «чистой» философии. Поэтому-то нам и трудно идти против ветра. Речь здесь идёт не только о трудности рождения наших философских мыслей, но речь может идти и о трудностях в повседневной жизни, которая (повседневная жизнь) выступает уже мерилом истинности высказываемых нами философских мыслей. Но есть и другое решение. Ведь «чистая» философия может писаться, только посредством нас. Поэтому её может и не устроить наша счастливая и размеренная жизнь, ибо сытость ничего не рождает. И тогда «чистая» философия ввергает нас во всякого рода конфликты, чтобы мы не заснули в своей сытости, чтобы подвигнуть нас к написанию чего-то нового. Вспоминая непростую жизнь Э. В. Ильенкова, приходишь к мысли, что он был одним из ведущих актеров в спектакле «Советская философия», разыгранном и поставленном «чистой» философией по собственному сценарию. Н. Н. Козловская Архетип и символ Исследование архетипов и образов, в которых они воплощаются, является весьма актуальным для развития культурологии. В настоящее время все большее признание получает концепция, согласно которой в основе многих явлений культуры, — таких как мифы, сказки, религиозные и философские системы, произведения искусства – лежат именно архетипы как унаследованные из прошлого способы восприятия и оценки субъективно значимых явлений и событий. В XX веке значительно возрос интерес к мифологическим формам, обращение к бессознательному пласту человеческой психологии. Возможно, в этом выразилась попытка найти ответы, на тревожащие душу вопросы, обратясь к самым глубоким истокам культуры, проследить запутанные причинно-следственные связи, соединяющие в единое целое вечные аспекты бытия. Сам XX век с его довольно быстро изменяющимся ритмом жизни, по-новому расставивший акценты, сместив и переосмыслив многие ценности, внес ощущение постоянной изменчивости, хаотичности. У человека же всегда существовала потребность видеть мир как упорядоченный, подчиняющийся объективным законам или воле Творца. Поиск некоей стабильности, определенности уводит в обращение к представлениям об истоках и основах мироздания. Впервые введенное швейцарским психоаналитиком К. Г. Юнгом понятие архетип означало первичные схемы образов, воспроизводимые бессознательно и априорно формирующие активность воображения. Архетипы восходят к универсально-постоянным началам в человеческой природе. Они присущи человеческому роду в целом, выходя за пределы личности в так называемое коллективное бессознательное. Концепция архетипов ориентирует исследование мифов на отыскание в этническом и типологическом многообразии мифологических сюжетов и мотивов инвариантного архетипического ядра, метафорически выраженного этими сюжетами и образами, но никогда не могущего быть исчерпанными ни поэтическим описанием, ни научным объяснением. Архетипы недоступны непосредственному наблюдению, они раскрываются лишь косвенно — через проекцию на внешние объекты, что проявляется в общечеловеческой символике. Явление символизации, символического представления и описания мира генетически заложено в бессознательных структурах мозга. Символ, таким образом, является продуктом символической репрезентации (структур) бессознательного. Поскольку термин «архетип» отражает содержание «коллективного бессознательного», которое в свою очередь проявляется как символ, то со- ответственно и содержание и дефиниция понятия «архетип» так же символично. То обстоятельство, что термин «архетип» сам по себе символичен, делает едва уловимым его содержание. Содержание архетипа как бы мерцает и зависит от направляемого на него света. Поэтому, говоря об архетипе, мы непременно приходим к разговору о символе, с той лишь разницей, что символ — это «отшлифованный» архетип, т. е. архетип, получивший конкретную форму. В данной работе представлена попытка проследить развитие понятий архетипа и символа в истории философии и дать им характеристику. 1. Архетип Понятие архетипа в современную науку о культуре ввел основатель аналитической психологии К. Г. Юнг. Разработке концепции архетипа и архетипического образа посвящены многие страницы его работ. Однако сам он опирался на уже сложившуюся философскую традицию размышлений об этом предмете. Воспринявшие идеи Юнга современные исследователи культуры в свою очередь уточняли это понятие. Здесь мы рассмотрим некоторые положения, касающиеся концепции архетипа и архетипического образа, а также тесно связанную с ней концепцию символа. Как известно, слово «архетип» греческого происхождения — άρχέτυπος, от άρχέ — начало и τυπος — образ. Смысл его связан с концепцией мироустройства, в соответствии с которой предметы и события реальной земной жизни являются воплощением первообразов, существующих в мире идеальном. В былые времена, несмотря на уводящее в сторону мнение и влияние Аристотеля, платоновская идея понималась как сверхпорядковая и предшествующая по отношению ко всем явлениям, и это не вызывало никаких трудностей. И понятие архетипа употреблялось еще до св. Августина и было синонимом классического понятия «Идеи». Эти первообразы обозначались по-разному, в том числе словом архетип, как у христианских апологетов и отцов церкви — Иринея, Августина Блаженного, Дионисия Ареопагита, так и в произведениях иудеев и язычников — Филона Александрийского, Цицерона, Плиния, герметических трактатах. Часто это понятие употреблялось средневековыми мистиками и алхимиками, к исследованию трудов которых Юнг приступил как раз в то время, когда он стал употреблять термин архетип (впервые — в 1919 г.). Изначальный образ определен в отношении своего содержания лишь тогда, когда он становится сознательным и таким образом обога- щается фактами сознательного опыта. Его форму Юнг сравнивал с осевой структурой кристалла, которая до известной степени предустанавливает кристаллическую структуру матричной жидкости, хотя сама по себе материальна и не существует. Это происходит согласно специфическому способу группировки ионов и молекул. Архетип как facultas praeformandi, возможность представления, данная изначально. Наследуются не представления как таковые, но их формы, главные идеи. Как и в сравнении с кристаллом показательно то, что его осевая система определяет только стереометрическую, а не конкретную форму отдельного кристалла. Он может быть большим или маленьким, он может изменяться до бесконечности в зависимости от изменения размеров его граней, или из-за сращивания двух кристаллов. Единственное, что остается неизменным, это осевая система, вернее, неизменяемые геометрические пропорции, лежащие в его основе. То же самое верно и в отношении архетипа. Он может быть назван и иметь неизменное ядро значений, но всегда в принципе, а не по отношению к его проявлениям. К. Г. Юнг полагал, что во всей человеческой деятельности есть априорный фактор, так называемая врожденная, до-сознательная и бессознательная, индивидуальная структура души. Как и любое животное, человек уже обладает душой, которая передается по наследству и при тщательном исследовании обнаруживает отличительные черты, оставшиеся от предков. Это утверждение означает, что в каждой душе присутствуют формы, которые, несмотря на свою неосознаваемость, являются активно действующими установками, идеями в платоновском смысле, предустанавливающими наши мысли, чувства и действия и постоянно оказывающими на них влияние... Сами архетипы являются нейтральными в отношении добра и зла, характеризуются амбивалентностью, имманентной закономерностью. Сам архетип не входит в сознание, он всегда соединяется с какими-то представлениями и подвергается обработке сознания. Юнг ввел понятие архетипа для описания содержания глубинного слоя психики, которое имеет не индивидуальную, а коллективную природу, и назвал его коллективным бессознательным. «Коллективное бессознательное идентично у всех людей и образует тем самым всеобщее основание душевной жизни каждого, будучи по природе сверхличным… Содержанием коллективного бессознательного являются … архетипы»1. Юнг возводит понятие архетипа к платоновскому понятию ξτςος, поскольку «говоря о содержаниях коллективного бессознательного, мы 1 Юнг. К. Г. Об архетипах коллективного бессознательного // Юнг К. Г. Архетип и символ. М., 1991. С. 95 – 128. С. 98. имеем дело с древнейшими, лучше сказать, изначальными типами, т. е. испокон веку наличными всеобщими образами».1 Также он указывает на применимость к содержанию коллективного бессознательного психики выражение representations collectives, которое употреблял Л. Леви-Брюль, изучая первобытное мышление, поскольку «примитивные родоплеменные учения имеют дело с видоизмененными архетипами»1. Коллективное бессознательное как оставляемый опытом осадок и вместе с тем как некоторое его a priori есть образ мира, который сформировался уже в незапамятные времена. В этом образе архетипы и выкристаллизовывались. Таким образом, понятие архетипа, сформированное Юнгом в контексте психологии, было расширено и стало одним из ключевых понятий в культурологической науке и других гуманитарных сферах. Архетипы структурируют понимание мира, себя и других людей и с особой отчетливостью проявляются в мифических повествованиях, сказках, снах. Они лежат в основе творчества и способствуют внутреннему единству человеческой культуры, делают возможным взаимосвязь различных эпох развития и взаимопонимание людей. Изучение мифологии посредством исследования психологии ее создателей и носителей получило большое распространение и оказалось весьма перспективным. Мифология выступала как своего рода проекция коллективного бессознательного. Очень важно для понимания юнговской концепции помнить, что архетипы непредставимы сами по себе. Архетип есть «некая диспозиция, которая в какой-то момент развития человеческого духа приходит в действие, начиная выстраивать материал сознания в определенные фигуры»2. И, несмотря на то, что основные принципы бессознательной сферы можно пытаться познать, по природе своей они непостижимы в силу присущего им бесконечного богатства взаимозависимостей. Наши взгляды самым естественным образом всегда вынуждены их ограничивать, а этим сущность архетипов ускользает от нас, так как самое характерное для их архетипической природы заключается в их многозначности, в их практически неохватной полноте взаимозависимостей, которая противостоит любой попытке односторонних формулировок. Там же. Юнг. К. Г. Указ. соч. С. 98. 2 Зелинский В. Аналитическая психология. Словарь. – СПб., 1996, С. 45. Исследователь может распознать архетип по тем образам, в котором он себя проявляет. 2. Символ и знак Выражаются архетипы посредством символов. Термин «символ» происходит от греческого слова «symbolon», что значит «знак», «примета», «признак», «пароль», «сигнал», «предзнаменование», «договор в области торговых отношений между государствами». Также можно привести греческий глагол «symballo» одного корня с предыдущим словом, означающий «сбрасываю в одно место», «сливаю», «соединяю», «сшибаю», «сталкиваю», «сравниваю», «обдумываю», «заключаю», «встречаю», «уславливаюсь». Этимология этих греческих слов указывает на совпадение двух планов действительности, а именно на то, что символ имеет значение не сам по себе, но как место встречи известных конструкций сознания с тем или другим возможным предметом этого сознания. Значение этих греческих слов в истории философии и эстетики отличается настолько большой спутанностью и неясностью, что почти каждый автор понимает их по-своему. При ближайшем рассмотрении оказывается, что символ, брать ли его именно в этой терминологической оболочке, как «символ», брать ли его как понятие, выраженное другими словами или совокупностью слов, есть одно из центральных понятий философии и эстетики и требует для себя осторожного исследования. Понятие символа и в искусстве, и в литературе является одним из туманных противоречивых понятий. Этот термин часто употребляется даже в самом обыкновенном бытовом смысле, когда вообще хотят сказать, что нечто одно указывает на другое. Чтобы лучше понять, что есть символ — проследим эволюцию данного понятия в философии. Термин «символ» применялся уже Платоном (427 – 347 гг. до н. э.), Пифагором (VI век до н. э.), и упоминание этого слова есть даже у Гомера (VII век до н .э.). Аристотель (384 – 322 гг. до н. э.) в своем представлении о символе восходил к представлениям своих предшественников. Символ, в его рациональном значении, применялся в античности в общественной и государственной жизни как договор, установленный гражданами и городами для того, чтобы «осуществить справедливость (со ссылкой на 8 Филиппику Демосфена), или судейские тессеры»1. Из 1 1 1 Тахо-Годи А. А. Термин "символ" в древнегреческой литературе / /Вопросы классической филологии. Вып. 7. М., 1980, С. 17. такого понимания термина «символ» возникает его юридическое значение как удостоверяющего знака (пропуск, герб, знак на монете). Для греческой архаики и классики характерна «чрезвычайная наивность» понимание символа. «Так даже при внешнем обзоре текстов — пишет А. А. Тахо-Годи — выясняется: во-первых, их немногочисленность, если даже не прямо единичность, и, во-вторых, повсеместное наличие исходного первичного значения»2. В сочинениях Гомера глагол symballo употребляется в значении встречи, будь то встреча людей и богов или слияние двух рек в один поток. Но все же, несмотря на это, принято считать, что слово «символ» в древнегреческом эпосе отсутствует, ибо глагол symballo это еще не есть «символ». Термин «символ» впервые, как бы случайно, был обронен Пиндаром (518 – 442 гг. до н. э.). Ему принадлежит мысль о том, что никто из живущих на земле не получил еще от богов достоверного символа о будущем. Следовательно, первое упоминание термина «символ» указывает на его божественное происхождение. Однако уже Эсхил (525 – 456 гг. до н. э.) говорит о «символе огня», т. е. о костре, возвещающем о победе. Такое же значение символа у Софокла (496 – 406 гг. до н. э.) в его «символе горя». Но у Эврипида (480 – 406 гг. до н. э.) символ — примета, понятная для посвященного в дело. В общественной жизни древней Греции VI века до н. э. слово «символ» употребляется как указание на тессеры для голосования, всевозможные договоры и свидетельства. Философское сознание досократиков также редко обращалось к понятию «символ». Но, несмотря на это, именно у философов символ начинает приобретать гносеологический характер. Так, уже Демокрит (470 – ? гг. до н. э.) говорит о слове как о символе вещи, которое глубоко и всесторонне выражает характерные свойства вещи, ее сущность. По Эмпедоклу (490 – 430 гг. до н. э.) символ, разделенный на части, должен обязательно соединиться в нечто третье, неравное механической сумме его составляющих. В этом новом, третьем, можно только угадывать бесконечность его скрытых качеств и свойств. Для пифагорейцев было характерно символическое истолкование при исследовании всего таинственного. Таким образом, в эпоху классической античности уже можно выделить три основных момента интуитивного, философского постижения понятия "символ": 2 Там же. С. 19. 1. Символ — это слово, в котором в свернутом и скрытом виде заключены свойства вещи (Демокрит); 2. Символ — это некое новое начало, образованное из его составных частей, но не равное им. Смысл этого начала можно только интуитивно угадывать (Эмпедокл); 3. Символ — это то, что всегда включает в себя некий таинственный смысл (Пифагор). Платон истолковывал термин «символ» как знак («монета-знак обмена»), либо в виде «реминисценции из Эмпедокла» (рассказы о людяхполовинках, рассеченных надвое). В аристотелевском же понимании символ содержит в себе целый ряд значений, несводимых друг к другу, но сливающихся в одном понятии, т. е. символе. Так, в символе можно узреть идею договора и соглашения, признака и приметы, соединение различных частей, в том числе и противоположных по значению, это нечто таинственное и имя, символизирующее идею вещи. Отличительной особенностью текстов классической античности является то обстоятельство, что в них символ стоит как бы сам по себе, он не связан с каким-либо объектом, символом которого он мог бы являться. С эпохой позднего эллинизма связана деятельность жреца Дельфийского храма и римского прокуратора Плутарха (45 – 127 гг.). Термин «символ» в его текстах остается в значительной мере традиционным, т. е. используется в значении знака. Вместе с тем уже у Плутарха мы встречаем попытку рационального объяснения таинственности божественных символов. В его текстах термин «символ» трактуется и в исконном значении соединения, встречи двух начал. По мнению Плутарха, символ оказывает действие на человека, колеблющегося в выборе. Вовремя возникший символ склоняет чашу весов в сторону одного из решений, в результате чего воля человека устремляется вперед, и он принимает окончательное решение. Преимущественно знаковая сторона символа сохраняется и в сознании неопифагорийцев. Так, например, в сочинении последователя Пифагора Фиага «О добродетели» мы встречаем, что «Фемида» у небесных богов, «Дика» у земных богов и «Закон» у людей — есть знаки (sameia) и символы (symbola) справедливейшей и наивысшей добродетели. Только в древней Стои, глубоко воспринявшей идеи своих предшественников Демокрита, Эмпедокла, Аристотеля и в особенности Платона, произошло новое осмысление термина «символ». С учением стоиков возникает трактовка символа как совмещение явления и его сущности, ибо судить о внутренней сущности предмета можно только по ее внешнему проявлению. Мир, трактуемый неоплатониками как сосредоточие символов, является апогеем в истории развития представлений о философской сущности символа. Природа, она же природа-художница, она же созидающее божество, творит мир символов и проецирует их в сферу созерцательной и деятельной человеческой жизни. Символы, созданные природой, это высшие, божественные символы, «прекрасные в своей целостности». Человек же познает эти символы как соответствие явлений природы с их сущностью. Неоплатоники не употребляли само слово «символ», но рассматривали миф как предмет «бесконечных умственных толкований», т. е. как символ. «Субстанционный символ — пишет А. А. Тахо-Годи, — должен появиться на склоне античности как редуцированный эквивалент мифа, лишенный всякой грубой наглядности, всякого нарочитого указания, доступного и понятного каждому, а значит, лишенного своей давнишней и непосредственной и дорефлексивной знаковой стороны»1. Не символ, а символическое постижение истины — вот что становится основой философствования неоплатоников. Плотин (205 – 270 гг.) — основоположник этого философского направления (неоплатонизма), рассматривая мифы в их символическом аспекте, ни разу не упоминает термина «символ». Ибо символ здесь ассоциируется с мифом, это всего лишь некая оболочка, поверхность мифа, а не его суть. Неоплатоники, комментаторы Платона — Оллимпиодор (VI век), Дамаский (VI век), Иоан Филопон (VI век), а так же комментатор Аристотеля Симпликий (? – 549 гг.) прибегают к понятию «символ», анализируя не только мифы, но уже и философские тексты. В философии Дамаского символу придается мифический характер, ибо он приобщается к миру таких идей, обозначить которые не в силах обычное человеческое слово. Таким образом, впервые в античности обосновывается неизбежность образования и употребления символов в их гносеологическом значении. При этом Дамаский полагал, что поскольку символы «совершенно прозрачны» и не отличаются от богов, то они и есть (являются) боги. Людям они даются как «символы богов» или «неизреченными символами неизреченных богов» в результате духовной эманации от богов интеллигибильного мира в мир сущий. Тем самым Дамаский отождествляет символ и божественный принцип. Другой знаменитый комментатор древнегреческой классики Симпликий также полагал, что мудрость древних заключалась в их симво- 1 Тахо-Годи А. А. Указ. соч. С. 35. лике. Так, комментируя работу Аристотеля «Категории», Симпликий пишет, что мудрость Аристотеля состоит в том, что он смог свести все многообразие мира к десяти логическим категориям и собрал «все сущности в одну высшую сущность». Десять категорий Аристотеля, по мнению его комментатора, и есть символ высшей сущности, которая в свою очередь и есть их субстанция или «опора при мышлении». И здесь заложена идея тождественности символа и божественного принципа (высшей сущности). Духовные искания поздних неоплатоников (V – VI век) были завершены в философии Прокла (410 – 485 гг.) Его размышления о природе и сущности символа изложены в комментарии к «Государству» Платона. Возникновение и наличие символов в осмысляемом и создаваемом человеческом мире, Прокл объясняет насущной потребностью человека рассуждать о боге, божественном. Однако этого нельзя сделать в представлениях человеческой жизни, но можно посредством символов. Именно через символы божественная потенция выявляет себя и беспрепятственно передается человеку в виде божественного духа. Символ противопоставляется образу, ибо последний есть результат подражания. Образ должен быть подобен образцу, а символ тождественен «истине сущего», что можно достигнуть не копированием предмета, а, наоборот, путем нахождения в нем противоположного начала. Совмещение противоположных начал достигается только в символе. Поэтому в символе истина выявляется постепенно путем совмещения противоположных начал. Таким образом, на примере вышеизложенного мы видим, как медленно понятие «символ» приобретает свои очертания, становление которого завершилось в неоплатонизме и в этом виде перешло в новую Европу и закрепилось в европейской традиции. Символ в его онтологическом аспекте есть субстанциональная основа сущего, ибо основа мира есть символически постигаемая субстанция, что превращает символ в гносеологическую категорию, делая его «сокровенно-сущностным» инструментом познания мира. Идти от явления к сущности — значит мыслить символически. Последующее развитие представлений о символе как о важнейшей эстетико-гносеологической категории было осуществлено в рамках классической немецкой философии. По Канту, символ — это чувственный способ представления идей разума, а постижение символа — это интуитивное постижение идеи, которая бесконечна и неисчерпаема своей неизреченностью, ибо ее невозможно изречь. Символ становится центральной категорией философской системы Шеллинга. Вслед за Шлегелем (1772 – 1829 гг.) он полагает, что субстанциональной основой символа является идея бесконечного, что, однако, у Шеллинга трактуется как абсолютное тождество идеального и реального. Главной особенностью всего того, что воспринимается как символ, есть его непостижимость, его сущностная и нерасторжимая связь и единство с идеей. Согласно Шеллингу, наиболее полное и глубокое воспроизведение сущности мира осуществляется в искусстве, для которого символ является основополагающим понятием. Но, поскольку исторически искусство произошло из мифологии, то и мифологический символ есть основа, т. е. своеобразный прообраз для символа в искусстве. В эстетической концепции Гегеля, искусство — основная задача которого изобразить абсолютную идею, т. е. объективировать её, – проходит три стадии своего развития: символическую, классическую и романтическую. Раскрывая особенности каждой из этих стадий путем соотношения их содержания и формы, Гегель характеризует символическое искусство как первую, низшую стадию развития искусства, т. е. искусство, еще связанное с мифологией, с ее символикой. Гегель раскрывает сущность символической образности, которая состоит в том, что он установил ее двусмысленность. Эта двусмысленность заключается в том — указывает Гегель, — что мы зачастую затрудняемся, как трактовать нам тот или иной образ — символически или нет. Для того, чтобы снять эту двусмысленность, Гегель считает, необходимо установить контекст, в котором данный образ выявляет свою подлинную сущность и право на такое существование. Следовательно, для того, чтобы образ стал символом, необходимо выявить из контекста его знаковую природу. Именно контекст, в котором функционирует знак, является связующим звеном между образом и символом. Изучением символа, как объекта языковой, знаковой системы, занялась семиотика. Следовательно, дальнейший анализ понятия «символ» предполагал рассмотрение его как объекта семиотики, где символ выступил в качестве «знака-символа». В XX веке произошел переход к новому мировоззрению, поменялись представления о мире и человеке. Доминирующей тенденцией стало обращение к бессознательному, что отразилось и на новом понимании природы символа. Символ больше чем рациональное понятие, потому что он уходит корнями в бессознательное, в психику. Психика — это итог эволюции всего человечества, расы, народов, племени, рода, семьи, животного мира (инстинкты). Символ укоренен в бессознательном. Для того, чтобы можно было говорить о содержании коллективного бессознательного, Юнг ввел понятие «архетип». Поскольку термин «ар- хетип» отражает содержание «коллективного бессознательного», которое в свою очередь проявляется как символ, то, соответственно, и содержание и дефиниция понятия «архетип» также символично. То обстоятельство, что термин «архетип» сам по себе символичен, делает едва уловимым его содержание. Содержание архетипа как бы мерцает и зависит от направляемого на него света. Поэтому, говоря об архетипе, мы говорим о символе, с той лишь разницей, что символ — это «отшлифованный» архетип, т. е. архетип, получивший конкретную форму. Архетип — это пучок или «выжимка» определенного рода символов. Иными словами, из одного архетипа может быть образовано бесчисленное множество символов. Но все эти символы будут восходить и объединяться в одном общем для них архетипе. Юнг разграничивал понятия символа и знака. Знак — лишь обозначение объекта, результат общего употребления или договора. Символ же возникает, когда требуется выразить нечто до конца неизвестное: «Слово или изображение символичны, если они подразумевают нечто большее, чем их очевидное и непосредственное значение. Они имеют более широкий «бессознательный» аспект, который всякий раз точно не определен или объяснить его нельзя»1. Будучи психотерапевтом, Юнг подчеркивал целительную роль символов: они помогали сознанию человека ассимилировать содержание коллективного бессознательного. Эту роль, прежде всего, выполняли божественные символы, которые благоговейно охранялись обществом. Структурализм, как философское направление, возникло в 60–е годы во Франции, и во многом обязан французской социологической школе. Следуя Кассиреру, структуралисты рассматривают миф как цельную замкнутую символическую систему, моделирующий окружающий мир посредством бинарных (категориальных, по Кассиреру) оппозиций. Леви-Стросс возражал против идеи Юнга о постоянстве архетипов и наследственном механизме их передачи. В структуализме постоянным наследуемым является не содержание «коллективного бессознательного», т. е. архетип, а «структура бессознательного». Для того, чтобы получить структуру бессознательного, структурализм предлагает рассмотреть феномены культуры, структура которых, по их мнению, и есть структура бессознательного. Так, философ Леви-Стросс, пытается это сделать путем изучения мифов; психоаналитик Жак Лакан — путем 1 Юнг. К. Г. Подход к бессознательному // Юнг К. Г. Архетип и символ, 1991, С. 25 – 26. изучения психологии бессознательного; историк культуры Мишель Фуко — путем изучения безумия и преступности; литературовед Ролан Барт — путем изучения текстов художественной литературы. Для того чтобы выявить структуру бессознательного, необходимо выявить ее бинарные оппозиции, ибо только из них складывается искомая структура. Структуралисты считают, что феномены культуры, это внешнее выражение «Я», которое проявляется в виде символов и знаков. Символы — это продукт репрезентации внутреннего «Я», структур бессознательного. Последние складываются из бинарных оппозиций, предтечи диалектики. Большое внимание изучению проблемы «символа» уделял А. Ф. Лосев, обращаясь к помощи математических теорий. Опираясь на анализ античной и раннесредневековой эстетики, у него получили развитие вопросы внешнего подобия означающего и означаемого в символе. Свою работу «Проблема символа и реалистическое искусство» А. Ф. Лосев непосредственно посвятил изучению данного вопроса. «Всякий символ, во-первых, есть живое отражение действительности, во-вторых, он подвергается той или иной мыслительной обработке, и, в-третьих, он становится острейшим орудием переделывания самой действительности»1. Автор детально и систематически рассматривает понятие символа и знака, останавливаясь более подробно на объяснении сходства и различия между этими категориями сознания. Мы постарались кратко проследить возникающие в разное время представления и взгляды на природу «символа». А теперь необходимо охарактеризовать и дать определение самому понятию. Символ вещи, данный при помощи какого-нибудь образа или без него, всегда есть нечто оформленное и упорядоченное. Он всегда содержит в себе идею, которая оказывается законом его построения. Не обязательно при этом, чтобы внешняя сторона символа была слишком красочно изображена. Это изображение может быть даже и незначительным, схематическим, но оно обязательно должно быть существенным и оригинальным, указывать на нечто совсем другое и все время подчеркивать, что внешнее здесь является еще и внутренним, существенным. Таким образом, символ вещи есть внутренне – внешне выразительная структура вещи, а также ее знак, который по своему содержанию не имеет связи с означаемым содержанием. Принципиальное отличие символа от знака заключается в том, что смысл символа не под- 1 разумевает прямого указания на денотат (означаемый объект). Знак становится символом тогда, когда его употребление предполагает общезначимую реакцию не на сам символизируемый объект, а на отвлеченное значение (или чаще целый спектр значений), конвенционально в той или иной степени связываемых с этим объектом. Но при этом предметная, знаковая форма символа может иметь и даже стремиться к сохранению внешнего подобия с символизируемым объектом (вплоть до максимальной приближенности) или быть намеренно стилизованной под него, или иметь в качестве денотата специфическую черту, свойство, примету этого объекта. Таким образом, применительно к символу можно говорить об определенном стремлении и приближении к тождеству означаемого и означающего, но это есть объектное (знаковое) тождество, за которым стоит смысловая отвлеченность. В символе смысл некоего предмета переносится на совсем другой предмет, и только в таком случае этот последний может оказаться символом первичного предмета. Интересно при этом, что смысл, перенесенный с одного предмета на другой, настолько глубоко и всесторонне сливается с этим вторым предметом, что их уже становится невозможно отделять один от другого. В этом смысле символ является полным взаимопроникновением идейной образности вещи с самой вещью. Данную общность можно разложить на отдельные «единичности», и для них она и будет служить символом. Точно так же и отдельные «единичности» являются символами породившей их общности. «Символ есть та обобщенная смысловая мощь предмета, которая, разлагаясь в бесконечный ряд, осмысливает собою и всю бесконечность частных предметов, смыслом которых она является»1. «В контексте культуры символы нам не даны как вещи, обращенные к стороне сознания и к стороне индивидуально-психического механизма (где сам символ как таковой мог бы быть принят как некоторая окончательная связь, синтетически замкнувшая всю ситуацию и поэтому позволяющая опустить всю эту ситуацию в целом и оперировать замещающими ее символами). Нам дана лишь идеологическая область их внешнего (культурного) употребления, которой мы пользуемся как наблюдаемым предметом, и через которую мы собираемся реконструировать сознательную жизнь или хотя бы что-то понять в работе нашего собственного психического Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976, С. 15. 1 Лосев А. Ф. Указ. соч. С. 54. механизма в отношении содержательности сознания, внутри которой мы находимся»1. Следует наиболее подробно остановиться на определении разницы между знаком и символом, для этого необходимо ввести и рассмотреть само понятие знака. Обращаясь к работам А. Ф. Лосева, мы можем найти следующее определение «знака»: «Знак вещи есть отражательно-смысловая и контекстуально-демонстрирующая функция вещи (или действительности вообще), данная как субъективно преломленный, предельно обощенный и обратноотобразительный инвариант текуче-вариативных показаний предметной информации»2. Хотя это определение и является довольно сложным для понимания, но оно включает в себя все основные характеристики данной категории. Знак вещи повелевает нам признать само ее существование, а уж дальше наше сознание и наша мысль могут, как угодно глубоко, анализировать эту вещь. Всякое обозначаемое и уж тем более означаемое предполагает, что есть знак, которым оно обозначено. Всякий знак предполагает для себя того или иного внезнакового, но вполне специфического носителя и имеет свое собственное, внутренне присущее только ему содержание. Всякий знак есть смысловое отражение предмета. Знак обладает разными частями и элементами, которые способны дробиться и варьироваться до бесконечности. Он есть единораздельная целостность. Знак, так же, как и символ, имеет свою структуру и модель, без которых невозможно его конструктивное понимание и получает свою полноценную значимость только в контексте других знаков, понимая под контекстом широчайший принцип. Всякий знак может иметь бесконечное количество значений, т. е. быть символом. Символ есть разновидность знака, но и знак в некотором отношении тоже является символом. Символ, таким образом, становится развернутым знаком, а знак — «зародышем» символа. Итак, и знак, и символ одинаково возможны только при условии их моделирующего функционирования. Но моделирующая структура символа гораздо значительнее, заметнее, гораздо больше бросается в глаза и гораздо больше сливается с чувственными и материальными приемами. Другими словами, различие между знаком и символом определяется степенью значимости обозначаемого и символизируемого предмета. 1 Мамардашвили M. K., Пятигорский А. М. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке. М., 1997, С. 132. 2 Лосев А. Ф. Указ. соч. С. 66. Несомненно, существует знак просто сам по себе, который только теоретически предполагает наличие соответствующего символа, но который практически имеет вполне однозначное, вполне одномерное и начальное значение, которое указывает только на факт существования чего бы то ни было другого, не входя ни в какую обрисовку этого другого и не вступая с ним ни в какие иные отношения, кроме самого акта обозначения. Однако, несомненно, и то, что знак может функционировать и более расширенно, более многопланово и неоднозначно. Символы спонтанно продуцируются человеческим бессознательным в сновидениях, и в них психолог может обнаружить множество вариаций основных архетипических образов. Такие символы Юнг называет «естественными». Также он выделяет «культурные символы — это, в сущности, те, которыми пользовались для выражения «вечных истин» и которые во многих религиях используются до сих пор. Эти символы прошли через множество преобразований, через процесс более или менее сознательного развития и таким образом стали коллективными образами, принятыми цивилизованным обществом»1. Символы обладают архетипическими качествами, что и объясняет, по меньшей мере, хотя бы частично, исходящую от них притягательность, их универсальность и их постоянное проявление. Символы открывают человеку священное и одновременно предохраняют его от непосредственного столкновения с колоссальной энергией архетипов. 3. Концепции и взгляды исследователей ХХ века на природу архетипа Архетипы недоступны непосредственному наблюдению, они раскрывается лишь косвенно — через их проекцию на внешние объекты, что проявляется в общечеловеческой символике – мифах, верованиях, сновидениях, произведениях искусства. Архетипические образы составляют основу мифов, сказок, религий, тайных учений. Мифы и ритуалы были для древнего человека способом соотнести индивидуальное сознание (собственные мысли, чувства и намерения) с общими, наследуемыми из глубины веков ориентирами. Доверие к мифу означало доверие к коллективному бессознательному. Индивидуальное сознание должно было подчиниться ему, добровольно интегрировать в себя его содержание и указания, т. е. выработать сознательную установку, соответствующую требованиям архетипа. Архетипические образы могут появляться и в художественных произведениях. Анализируя художественные произведения, Юнг выделял 1 Юнг К. Г. Архетип и символ. М., 1991. С. 84. два их типа: психологические и визионерские. Во-первых, писатель передает содержание личного человеческого опыта: мыслей и чувств, рассказывает о поступках, которые ими обусловлены. Визионерские произведения появляются благодаря контакту сознания художника с коллективным бессознательным. Творец разворачивает и пластически оформляет образы, восходящие к архетипам коллективного бессознательного, переводит их на язык современности и этим открывает для людей доступ к глубочайшим источникам жизни1. Исследование юнговского понятия архетипа с позиций синергетики осуществила В. В. Василькова. Она показала, что архетипы выступают как механизмы, которые «встраивают» человеческую психику в общий, универсальный алгоритм мироупорядочения, «в котором синхронизированы законы саморазвития Природы, Космоса, социума и человеческой души… Архетипы… выражают себя в повторяющихся символических структурах (мифологемах), в которых, благодаря их семантической многозначности, зафиксированы единые, сходные модели (способы) существования природы, Космоса и родового человека по законам общего самовоспроизводящегося порядка. Архетипические символы несут в себе определенные коды, метафизические смыслы, по которым мир и человеческая душа организуют процесс своего развития в соответствии с идеальным образом миропорядка, по законам гармонии и целостной полноты2. Синергетическая интерпретация содержания и структуры архетипического, выявляющая в них алгоритмы мироупорядочения, позволяет не только синхронизировать эти алгоритмы с естественнонаучными законами рождения и сохранения порядка, но и обнаружить их скрытую структурообразующую роль в социальной эволюции организации современного социального мира. В центре внимания Юнга, как врача и психолога, находится внутренний мир человека и процесс индивидуации, направляемый архетипом Самости. Как показывает В. В.Василькова, описанный Юнгом процесс индивидуации протекает по законам, идентичным превращению Хаоса в Космос, описанным в древних мифологиях. Глубины индивидуального бессознательного подобны Хаосу, который преодолевается в 1 Юнг К. Г. Об отношении аналитической психологии к поэтико- художественному творчеству // Юнг К. Г. Архетип и символ. М., 1991. С. 265 – 285; Юнг К. Г. Психология и поэтическое творчество // Самосознание европейской культуры ХХ в. М., 1995. С. 103 – 118 2 Василькова В. В. Порядок и хаос в развитии социальных систем: (Синергетика и теория социальной самоорганизации). Серия: «Мир культуры, истории и философии»). СПб., 1999, С. 359. процессе создания упорядоченной, гармони-чески организованной психической структуры. Роль бессознательного — этого внутреннего Хаоса — в процессе развития внутреннего мира неоднозначна, — как и роль хаоса в космогонии. С одной стороны, он противостоит упорядоченности, но, с другой стороны, является резервуаром порядка. Соответственно и отношение к бессознательному амбивалентно: человек страшится его и в то же время ценит как источник сверхличного опыта, дающий более глубокие знания о жизни и ее законах, чем личное сознание. Рассуждения Юнга об индивидуации породили большой интерес его последователей к так называемому героическому мифу. Э. Нойман, Дж. Кэмпбелл, К. Наранхо и др. анализировали его с позиций аналитической психологии, рассматривая героический миф как пример решения задачи индивидуации, которая стоит (по крайней мере, потенциально) перед любым человеком. Все деяния, осуществляемые героем, трактуются этими авторами как символы внутренних событий. В книге Э. Ноймана значительное внимание уделяется проблеме преодоления первоначальной бессознательности, появления сознания в индивидуальной жизни. Этот процесс он сравнивает с сотворением мира. «В начале существует совершенство, целостность. Это первоначальное совершенство может быть «обозначено» или описано лишь символически; его сущность не поддается никакому другому описанию, кроме мифического… Стадия начала проецируется мифологически в космической форме, проявляясь как начало мира, как стадия сотворения»1. Для обозначения того состояния первоначальной недифференцированности, т. е. Хаоса, предшествующего Космосу, Нойман использует символы тьмы, сферы, круга, яйца, гермафродита и т. п. Он подчеркивает, что это состояние совершенно, поскольку оно содержит противоположности, и самодостаточно. Оно покоится в самом себе, но при этом является местом возникновения и зачаточной клеткой созидания. Особую роль Нойман отдает такому символу как Уроборос. «Это — свернувшаяся в кольцо змея, живущая в своем собственном жизненном цикле, первобытный дракон начала, кусающий свой хвост, сам себя порождающий όυροβορος/όυροβυρος (греч.)1. Однако не все исследователи склонны рассматривать мифологию лишь как символическое выражение психологических процессов. Точки соприкосновения с упомянутыми выше исследователями в отношении мифологии существуют у М. Элиаде. 1 1 Нойман Э. Происхождение и развитие сознания. М., 1998. С. 23 – 24. Там же. С. 23 – 24, С. 27. Элиаде определяет миф как священную историю, которая происходила в начале Времени, и которая связана, таким образом, с актом творения мира в целом или отдельных его частей. «Миф, — пишет Элиаде, — сродни антологии: он повествует о реальном, о том, что реально произошло, что в полной мере проявилось. Разумеется, речь идет о священных реальностях, так как именно священное и является самой настоящей реальностью»2. Подобную особенность мифов отмечали и Юнг, и Леви-Брюль, и Б. Малиновский. Мифологический материал для народов — мифотворцев был и формой самовыражения, и формой мышления, и формой жизни. Томас Манн с основанием говорил о «цитатной жизни» людей мифологических времен и проиллюстрировал это примерами. Архаический человек, по словам Манна, перед тем как что-либо делать, делает шаг назад подобно тореадору, который ищет равновесие, чтобы вернее нанести смертельный удар. Он ищет пример в прошлом и погружается в него (в прошлое), как в водолазный колокол, чтобы затем нырнуть — защищенным и преображенным – в проблемы настоящего. Таким образом, его жизнь получала свое выражение и свой смысл. Мифология воспринималась не только убедительной, т. е. обладающей смыслом, но и объясняющей, т. е. придающей смысл всему остальному. Она дает почву, закладывает основание, дает ответ не на вопрос «почему», а на вопрос «откуда». Она не указывает в точном смысле «причины»(«αΪτІα»). Она делает это только постольку, поскольку, как об этом говорит Аристотель, αΪτІα суть αρχαІ, т. е. начала или первичные принципы. Но речь идет не просто о «причинах», а скорее о первичных состояниях, которые никогда не могут быть превзойдены и производят все и всегда. Все индивидуальное и частное восходит к ним, ибо они неподвластны времени, неисчерпаемы в первоначальном состоянии, в прошлом, которое оказывается непреходящим, ибо его рождение бесконечно повторяется. Возвращение к истокам и первоначальному состоянию является основной чертой всякой мифологической системы восприятия мира. М. Элиаде называет это чувством «тоски по раю», с возникающим у человека желанием вернуться во время, предшествующее всему сущему. Хотя Элиаде отмечал, что под «архетипами» понимает несколько иное, чем Юнг (образцы подражания), но он остается связан именно с Юнгом и использует его определение. В более метафизическом смысле, чем Элиаде, понятие «архетипа» трактуют представители традиционализма. Для Р. Генона архетипы — это трасцендентные строго метафизические принципы, сверхвременной синтез всех знаний человеческого мира — цикл составляет изначальная, первобытная традиция, являющаяся единой истиной человечества. Е. М. Мелетинский, рассматривая миф как историк культуры, приходит к выводу о том, что древние мифы повествуют, как правило, о создании мира в целом и отдельных его элементов. «Мифическая ментальность отождествляет начало (происхождение) и сущность… При этом пафос мифа довольно рано начинает сводиться к космизации первоначального хаоса, к борьбе и победе космоса над хаосом (т. е. формирование мира оказывается одновременно его упорядочиванием). И именно этот процесс творения мира является главным предметом изображения и главной темой древнейших мифов»1. Упорядочение мира относится не только к природному окружению, но к социальной структуре. Прежде всего, речь идет о создании родоплеменного общества из первобытного стада, установлении дуальной экзогамии, которая запрещает внутриродовые браки и эротические связи (крайним выражением которых является инцест), а затем и эндогамии, запрещающей слишком далекие браки. Понятие архетипа у Мелетинского также приобретает несколько иной смысл по сравнению с тем, каков он был у Юнга. Мелетинского интересуют сюжетные архетипы как первичные элементы, которые составили единицы некоего «сюжетного языка» мировой литературы. «Миф, героический эпос, легенда и волшебная сказка чрезвычайно богаты архетипическим содержанием. Некоторые архетипы в сказке и эпосе трансформируются, например, «чудовища» заменяются иноверцами, тотемическая «чудесная жена» заменяется заколдованной принцессой, а затем даже оклеветанной женой, делающей карьеру в травестированном виде, в мужском наряде и т. д. Однако и в случае трансформаций первичный архетип достаточно ясно просвечивает»1. Общей чертой приведенных выше концепций является представление о том, что мифология в ее сущности и в ее образной форме восходит к одному высшему истоку. Вообще же, как утверждает один из авторов статьи «Архетип», опубликованной в двухтомнике «Культурология, ХХ век. Энциклопедия», понятие архетипа используется авторами, не принадлежащими к юнгианской аналитической психологии в более широком смысле — как совокупность общих черт, сюжетов, образов, характерных для многих религиозных, литературных, культурных традиций 2. Мелетинский Е. М. О литературных архетипах. М., 1994, С. 13. Там же. 64. 2 Руткевич А. М. Культурология XX век.Энциклопедия.Т.1. М.,1988. С. 38. 1 1 2 Элиде М. Миф о вечном возвращении: Архетипы и повторяемость. СПб., 1998, С. 28. Заключение Конечно же, такие понятия, как архетип и символ, очень трудно поддаются описанию и определению, в силу своей многозначности. Природа этих явлений во многом определяется бессознательным началом в человеке. Символика является составной частью самой психики и бессознательное вырабатывает определенные формы или идеи, носящие схематический характер и составляющие основу представлений человека. Эти формы не имеют внутреннего содержания, а являются такими элементами, которые оформляются в конкретные представления, когда проникают на сознательный уровень психики. Именно эти элементы — архетипы — имманентно присущи всему человеческому роду. Архетипические образы всегда сопровождали человека, они являются источником мифологии, религии, искусства. В этих культурных формах происходит постепенная шлифовка образов, они превращаются в символы, прекрасные по форме и всеобщие по содержанию. Учение Юнга об архетипах и коллективном бессознательном оказало довольно большое влияние на исследования самых разных сфер человеческой деятельности: религии, мифологии, литературы, искусства. Хотя первоначально такое явление как архетип получило своё теоретическое обоснование и рассмотрение в пределах аналитической психологии, в дальнейшем этот термин получил своё развитие и использовался в других областях знания. Архетип во многом стал пониматься в более широком смысле — как совокупность общих черт, сюжетов, образов, характерных для многих религиозных, литературных, культурных традиций. Тема исследования архетипов и символов, в которых они проявляются, является столь же многогранной и неисчерпаемой, как сами эти явления, как-то бессознательное и невыразимое, что заложено в каждом человеке и человечестве в целом. III. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ И. Дмитриев «Бытийная структура» и человек Говоря об отношении человека и «бытийной структуры», в которой он пребывает, мы вспоминаем Г. Маркузе и его книгу «Одномерный человек». Почему именно бытийная структура, а не классическое понимание бытия, которое мы привыкли встречать на страницах классических философских источников? Говоря же о «бытийной структуре» мы говорим о такой реальности, которая непосредственно воздействует на человека. Это объективная реальность в её марксистском понимании. Исходя из философских взглядов Маркузе, «бытийную структуру», в которой находится человек, с начала XX века и по сей день, можно охарактеризовать как развитую цивилизацию — и это царство комфортабельной, мирной умеренной, демократической несвободы1. Технический процесс, охвативший всю систему господства и координирования, создаёт формы жизни (и власти), которые, по видимости, примиряют противостоящие системе силы, а на деле сметают или ли- 1 Маркузе Г. Одномерный человек. М., 2003, С. 17. шают почвы всякий протест во имя исторической перспективы и свободы от тягостного труда и господства. Современное общество обладает способностью сдерживать качественные социальные перемены, вследствие которых могли бы утвердиться новые институты, новое направление производственного процесса и новые формы человеческого существования. Тот факт, что подавляющее большинство населения принимает это общество и вместе с тем «бытийную структуру» не делает последнее менее достойным порицания. Различие между истинным и ложным сознанием, подлинными и ближайшими интересами ещё не утеряло своего значения, но оно нуждается в подтверждении своей значимости. Люди должны осознать его и найти собственный путь от ложного сознания к истинному. Стать не одномерными, а многогранными. Это возможно в том случае, только если ими овладеет потребность в изменении своего образа жизни, отрицании позитивного, отказе от потребности, которую существующее общество сумело подавить, постольку, поскольку оно способно «представлять блага» во всём своём большем масштабе и использовать научное покорение природы для научного порабощения человека. В самом деле, что может быть более рациональным, по мнению Маркузе, чем подавление индивидуальности в процессе, который социально не обходим, хотя и причиняет страдания через виды деятельности. Самое интересное, что в самом начале «права» и «свобода» играли жизненно важную роль на ранних этапах развития индустриального общества. Но постепенно они утрачивают своё традиционное рациональное обоснование и содержание. «Бытийная структура» в этот момент ещё не являлась подавляющим фактором. Процессы индустриализации, казалось, сделают человека свободным, он будет жить в тепле и уюте, а машины будут выполнять самую чёрную и опасную работу. Свобода мысли, слова и совести, как и свободное предпринимательство, защите и развитию которого они служили, первоначально выступали как критические по своему существу идеи. Они были предназначены для вытеснения устаревшей материальной и интеллектуальной культуры более продуктивной и рациональной — «бытийной структурой» Под мастью репрессивного целого права и свободы становятся действенным инструментом господства. Для определения степени человеческой свободы решающим фактором является не богатство выбора, предоставленного индивиду, но то, что может быть выбрано и что действительно им выбирается. Хотя критерий свободного выбора ни в коем случае не может быть абсолютным, его также нельзя признать всецело относительным. Свободные выборы господ не отменяют противоположности господ и рабов. Свободный выбор среди широкого разнообразия товаров и услуг не означает свободы, если они поддерживают формы социального контроля над жизнью, наполненной тягостным трудом и страхом, т. е. если они поддерживают отчуждение. Также спонтанное воспроизводство индивидом навязываемых ему потребностей не ведет к установлению автономии, но лишь свидетельствует о действенности форм контроля. Наше настойчивое указание на глубину и эффективность этих форм контроля может вызвать возражение вроде того, что мы в значительной степени переоцениваем силу внушения «масс-медиа» и что навязываемые людям потребности могут возникать и удовлетворяться самопроизвольно. Такое возражение упускает суть дела. Преформирование начинается вовсе не с массового распространения радио и телевидения и централизации контроля над ними. Люди вступают в эту стадию уже как металлические болванки, решающее различие заключается в стирании контраста (или конфликта) между данными и возможными, удовлетворяемыми и неудовлетворяемыми потребностями. Здесь свою идеологическую функцию обнаруживает, так называемое, уравнивание классовых различий. «Если рабочий и его босс наслаждаются одной и той же телепрограммой и посещают одни и те же курорты, если макияж секретарши не менее эффектен, чем у дочери ее начальника, если негр водит “кадиллак” и все они читают одни и те же газеты, то это уподобление указывает не на исчезновение классов, а на степень усвоения основным населением тех потребностей и способов их удовлетворения, которые служат сохранению Истеблишмента»1. Бесспорно, в наиболее высокоразвитых странах современного общества трансплантация общественных потребностей в индивидуальные настолько успешна, что различие между ними кажется чисто теоретическим. Можно ли реально провести черту между средствами массовой информации как инструментами информации и развлечения и как агентами манипулирования и воздействия на сознание? Между автомобилем как фактором опасности и как удобством? Между безобразием и удобством функциональной архитектуры? Между работой на национальную безопасность и на процветание корпорации? Между удовольствием частного индивида и коммерческой, и политической пользой от увеличения рождаемости? 1 Маркузе Г. Указ. соч. С. 26. Мы вновь сталкиваемся с одним из самых угнетающих аспектов развитой индустриальной цивилизации: рациональным характером его иррациональности. Его продуктивность, его способность совершенствовать и всё шире распространять удобства, превращать потребность в саму потребность, «рационально» использовать дух разрушения… То, в какой степени цивилизация транспортирует «бытийную структуру» в продолжении человеческого сознания и тела, — всё это ставит под сомнение само понятие отчуждения. Люди узнают себя в окружающих их предметах потребления, прирастают душой к автомобилю, телевизору, компьютеру и т. д. сам механизм, привязывающий индивида к «бытийной структуре», постоянно меняется, но только по форме, а не по содержанию. Модель остаётся такой же, структура не меняется. По мнению Маркузе, понятие отчуждения делается сомнительным, когда индивиды отождествляют себя со способом бытия, им навязываемым, и в нем находят пути своего развития и удовлетворения. И эта идентификация — не иллюзия, а действительность, которая, однако, ведет к новым ступеням отчуждения. Последнее становится всецело объективным, и отчужденный субъект поглощается формой отчужденного бытия. Теперь существует одно измерение — повсюду и во всех формах. Достижения прогресса пренебрегают как идеологическим приговором, так и оправданием, перед судом которых «ложное сознание» становится истинным. Абдина А .К. Философская антропология об «эксцентричности» человека Как известно, основоположником школы «философская антропология» считается Макс Шелер — выдающийся мыслитель начала ХХ века. В своем произведении «Положение человека в Космосе» Шелер излагает основные положения философской антропологии, которые можно рассматривать и как программу деятельности данной школы. Почти одновременно с этим трудом выходит в свет фундаментальный труд другого основоположника философской антропологии — Хельмута Плеснера «Ступени органического и человек. Введение в философскую антропологию». Именно это совпадение послужило причиной того, что «Ступени…» оказались почти незамеченными. В предисловии ко второму изданию своего сочинения Плеснер писал: «Серьез- ной критики «Ступени…» так и не дождались… Что могло быть естественнее: посчитать тяжеловесный труд какого-то неизвестного изложением мыслей Шелера, тем более что, по первому впечатлению, он следовал той же модели ступеней…»1. Признавая за Шелером его бесспорные заслуги в разработке основных положений философской антропологии и называя его гениальным ученым, Плеснер в то же время подчеркивает существенные различия в их подходе к проблемам. Главное из них то, что Шелер является изначально феноменологически ориентированным мыслителем, тогда как Плеснер выступает против использования феноменологии как основополагающей установки: «Феноменологическая работа требует, по нашему мнению, определенного руководства для философии, которое не может исходить ни от эмпирии или от какой-либо метафизики»2. Плеснер также дистанцируется от исследований Хайдеггера в области философской антропологии из-за того основного положения, которым тот руководствуется. Согласно этому положению, понять бытие можно только в процессе его раскрытия перед человеком. В противоположность этому Плеснер выдвигает тезис, «который составляет смысл нашего натурфилософского подхода и его оправдание, что человек в своем бытии отличается от всего остального бытия тем, что он ни самый близкий, ни самый далекий себе, что благодаря именно этой эксцентричности своей формы жизни он преднаходит себя в мире бытия и, тем самым, несмотря на небытийственный характер своего существования, относится к одному ряду вместе со всеми вещами этого мира»3. Таким образом, если философия Шелера, с точки зрения Плеснера, чрезмерно «феноменологична», а философия Хайдеггера — онтологична, то сам Плеснер пытается рассмотреть основные проблемы человека исключительно в рамках философской антропологии. По Плеснеру, наука, претендующая на постижение человека, не должна ограничиваться человеком как личностью, как субъектом духовного творчества, моральной ответственности, религиозной преданности, а должна расширить свои границы до понимания и самой природы, которая находится в сущностной корреляции с личной жизнью. Плеснер представляет философскую антропологию как науку о сущностных законах психофизически нейтральной личности (или, в более широком плане, как науку о Проблема человека в западной философии. М., 1988. С. 524. Плеснер Х. Ступени органического и человек: Введение в философскую антропологию // Проблема человека в западной философии. М., 1988. Полное издание книги на русском языке см.: Плеснер Х. Ступени органического и человек: Ведение в философскую антропологию. М., 2004. С. 98. 3 Там же. 1 2 сущностных формах живого существования). Он видит ее задачу в создании собственного понятийного аппарата для всей сферы, где человек оказывается психофизически индифферентной личностью. В «Ступенях…» задаются вопросы: «Случайна или сущностно необходима конкретная ситуация, в которую поставлен человек (не этот или тот, не эта раса, тот народ, но просто человек)? Находится ли жизненный горизонт, окружающий мир (Umwelt), который является для человека миром (Welt), в структурно-закономерной связи с ним? Насколько далеко простирается это сущностное существование и где начинается случай?»1. Плеснер разворачивает эти проблемы в двух направлениях: горизонтально, т. е. в направлении, которое определено поисками человеком его связи с миром, и вертикально, т. е. в направлении, возникающем изза его естественного положения в мире как организма в ряду организмов. Это позволяет, по Плеснеру, охватить человека как субъект-объект культуры и субъект-объект природы, не разделяя его в искусственных абстракциях. Мысль Плеснера предельно логична и ее претензии достаточно обоснованы. Естественное существование человека в мире как организма в ряду организмов и есть доказательство того, что именно те способы существования жизни, которые связывают человека с животным и растением, и являются носителями его особого способа существования. Таким образом, Плеснер пытается рассмотреть человека в его целостности, считая при этом, что «целостность не может осуществиться абстрактно. Осуществление означает конкретизацию. Но конкретизация целостности — и в этой формулировке можно было бы резюмировать тезис нашего исследования – возможно не прямо, а только в сущностных особенностях органической природы 2. Своеобразна точка зрения Плеснера относительно единого целого, предстающего как некоторый центр, призванный уравновешивать те отношения, которые возникают между организмом и средой. По Плеснеру, между организмом и средой возможны два вида отношений: пассивно восприемлющее и активно оформляющее. В одном случае организм восприемлет среду, среда оформляет, в другом — оформляет организм, а среда восприемлет. Вот эти отношения, антагонистические по своей сути, и призваны уравновешивать тот центр, лишь через который живой организм предстает как непосредственное единство органов. «Живое существо, примыкая своим телом к среде, обретает реальность «в» теле, «за» телом и потому больше не входит в прямой контакт со средой. Вследствие этого организм достигает более высокого уровня бытия, который находится на иной ступени, нежели уровень, занимаемый его телом3. «Замечает» и «воздействует на» бытие именно тело – тот конкретный центр, посредством которого субъект жизни связан с окружающей средой. От самого живого существа остается скрытым бытие его самого, и в этом, по Плеснеру, состоит предмет животной организации. Животное «переживает то, что содержится в окружающем мире, чужое и свое, оно способно даже научиться господствовать над собственным телом, оно образует самосоотносящуюся систему, возвратность (das Sich), но оно не переживает себя (sich)4. Возможность постигнуть собственное бытие, переживать самого себя, может быть реализована только человеком. «Если жизнь животного центрична, то жизнь человека эксцентрична, он не может порвать центрирования, но одновременно выходит из него вовне. Эксцентричность есть характерная для человека форма фронтальной поставленности по отношению к окружающей среде»5. С одной стороны, человек есть тело в том же самом смысле, как это можно сказать о любом живом организме. С другой стороны, человек имеет тело. То есть, человек воспринимает себя как существо, не идентичное своему телу, а напротив, имеющее это тело в своем распоряжении. Другими словами, восприятие человеком самого себя всегда колеблется между тем, что он является телом и обладает им, и что равновесие между ними нужно постоянно поддерживать. Эта эксцентричность восприятия человеком своего тела имеет определенные последствия для анализа человеческой деятельности как поведения в окружающей среде и для адекватного понимания любого человеческого феномена: «Одинокое человеческое существование — это существование на животном уровне (которое человек, безусловно, разделяет с другими животными). Как только наблюдаются феномены специфически человеческие, мы вступаем в сферу социального. Специфическая природа человека и его социальность переплетены необычайно сложно. Homo sapiens всегда и в той же степени Homo Sozius6. Пытаясь ответить на вопросы, как человек справляется со своей жизненной ситуацией, и как он проводит эксцентрическую позицию, Плеснер выводит следующие основные антропологические законы: 1) закон естественной искусственности; 2) закон опосредованной непо- Там же. С. 120. Плеснер Х. Указ. соч. С. 123. 5 Там же. С. 126. 6 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995. С. 187. 3 4 1 2 Плеснер Х. Указ. соч. С. 101 – 102. Там же. С. 113. средственности; 3) закон утопического местоположения. Что же представляют собой эти законы? Первый закон гласит, что человек, как эксцентрически организованное существо, должен сделать себя тем, что он уже есть. Другие живые существа существуют непосредственно, не зная о себе и вещах, обладая той инстинктивной уверенностью, которая утрачена человеком. Благодаря знанию, человек потерял непосредственность, поэтому прибегает к помощи искусственных вещей. «Как эксцентрическое существо, находящееся не в равновесии, вне места и времени, в Ничто, конститутивно безродное (heimatlos), он должен «стать чем-то» и «создать себе равновесие»1. И это равновесие создается при помощи творческой деятельности человека, искусства «искусственных вещей» таким образом, что эти вещи становятся самостоятельными и весомыми настолько, чтобы уравновесить его существование. Потребность в дополнении — это и есть эксцентрическая жизненная форма. В этой потребности или «нужде», по выражению Плеснера, «заключается движущий мотив всей специфически человеческой, т. е. направленной на ирреальное и пользующейся искусственными средствами деятельности, последнее основание для орудия и того, чему оно служит — культуры»2. Согласно опосредованной непосредственности, человек образует опосредование между ним и средой, но растворяется в нем без остатка лишь постольку, поскольку он еще и находится в нем. Таким образом, он стоит над ним. Вследствие этого он образует опосредование между собой и средой. И не только. Его стояние «над» должно обеспечить живую непосредственность между ним и средой. Закон опосредствованной непосредственности имеет два основополагающих момента: имманентность и экспрессивность. Поскольку все, что узнает человек, он узнает как содержание сознания, поэтому ситуацию человека можно охарактеризовать как имманентность сознания: «Сила нового доказательства реальности покоится на том, что оно понимает ситуацию имманентности субъекта как непременное условие его контакта с действительностью»3. Благодаря же своей экспрессивности человек творит историю. Смысл закона опосредствованной непосредственности в том, что он «не дает покоя» человеку, постоянно выталкивая его из спокойного состояния, в которое он всегда стремится вернуться. Из этого постоянного движения и создается история. «В том и состоит закон, что в конечном Плеснер Х. Указ. соч. С. 136. Там же. С. 136. 3 Там же. С. 141. итоге люди не ведают, что творят, но постигают это лишь благодаря истории»4. И, наконец, закон утопического местоположения утверждает, что человеку не дано знать, «где» находится он и соответствующая его эксцентричности действительность. По Плеснеру, ответ на этот вопрос может дать только вера. «Эксцентрическая позициональная форма и бог как абсолютное, необходимое, мироосновывающее бытие находятся в сущностной корреляции»5. Тем не менее, эксцентричность жизненной формы человека, его состояние нигде, его утопическое местоположение вынуждает его усомниться в божественном существовании, в основании этого мира, а тем самым — в его единстве: «Во вселенную можно только верить. И пока он верит, человек «всегда идет домой». Только для веры есть «хорошая» круговая бесконечность, возвращение вещей из их абсолютного инобытия. Но дух отвращает человека и вещи от себя и через себя вовне. Его знак — прямая нескончаемой бесконечности. Его элемент — будущее»6. Плеснер как, собственно, и Шелер, пытается ответить на вопросы об условиях возможности человеческого бытия и найти место человека в бытии. Поскольку человек представляет собой психофизически нейтральное жизненное единство, то философская антропология должна, по Плеснеру, основываться на философии природы, т. е. философии, которая включает в себя не только рассмотрение телесного вида, но и основанного на нем духовного мира человека. Подобного рассмотрения, конечно же, не может дать точное естествознание. Важнейшим, но не единственным методологическим средством становится феноменологическое описание. Таким образом, эксцентричность человека, выявляемая посредством феноменологического анализа ступеней жизни и есть основополагающий момент человеческого бытия, определяющий все его монопольные свойства. А. В. Михаленко Тема еды и питья в современном кинематографе Значение еды для человека в разных культурных традициях не сводится исключительно к его физиологической функции. Еда и питье Там же. С. 146. Плеснер Х. Указ. соч. С. 150. 6 Там же. С. 151. 1 4 2 5 несут в себе глубокий символический контекст, что непременно отражается во многих жанрах и видах искусства. Кинематограф не стал исключением, а, напротив, наиболее ярко и объемно он формирует картину символического отношения человека к еде, указывая на ее привилегированное положение. Многие режиссеры разворачивают свое киноповествование в ресторанах, барах, на кухнях, а порой выводят «еду и питье» главным героем своего фильма. П. Гринуэй в фильме «Повар, вор, его жена и ее любовник», в названии которого уже заложен гастрономический контекст, в качестве модели берет ритуальную культуру кухни. Он включает кулинарию в число трех, по его мнению, «фальшивых искусств»: портняжное, парикмахерское и кулинарное. На экране он воспроизводит пространство непрерывного пищеварительного акта: блоки по приему, хранению и приготовлению пищи (кухня), ее поглощению и перевариванию (обеденный зал), а так же ее выбросу. Еда здесь служит не средством утоления голода, но видом особого наслаждения. Весь этот ритуальный процесс нарушает «любовник», который заводит роман с женой «вора». Его невовлеченность в ритуал еды нарушает его сакральность. «Вор» Альберт восстанавливает ее через гастрономическую смерть «любовника» (он заставляет его съесть книгу). Месть Джорджины оказывается подстать изначально заданной теме: она уговаривает повара зажарить возлюбленного и предлагает мужу отведать это блюдо, а уже потом стреляет в убийцу. Кулинария — это религия современной цивилизации, а кухня — ее храм. Именно кухня в фильме Гринуэя напоминает церковь, а поваренок поет псалмы ангельским сопрано. Перед зрителями проходят все стадии круговорота потребления: эстетизм, вегетарианство, обжорство, каннибализм, а в качестве фона — еда и питье. В ресторане «Голландцы», где происходит подавляющая часть действия, висит картина Франса Халса «Банкет офицеров гражданской гвардии Святого Георгия». Герои фильма — гурманы, которые уподобляются фигурам этого полотна. Единственный персонаж, который покровительствует тайным любовникам и вызывает у Гринуэя наибольшую симпатию – это Повар. Режиссер признавался, что в этом герое он видит самого себя и с каждым новым фильмом он приглашает людей к столу и готовит новое блюдо. К подобной теме «общества потребления» неоднократно обращался другой не менее известный режиссер, Луис Бунюэль. В одной из лучших своих картин «Скромное обаяние буржуазии» он строит сюжет на том, как несколько аристократов объединяется в компанию с целью отобедать. Они то и дело усаживаются за стол, но им не удается приступить к самому желанному — ритуалу еды. Их планы предаться чревоугодию срываются, поскольку на пути все время возникают непреодолимые препятствия. Как в первом кадре своего дебютного фильма «Андалузский пес», в котором бритва разрезала женский глаз, Луис Бунюэль все последующие годы анатомировал тело человеческого бытия. И больше всего при этих операциях доставалось буржуазии — главному, заклятому врагу режиссера. Как и в первых своих фильмах, он регулярно нарушает здесь линейное повествование с помощью снов, которые помогают развить основную его тему — невозможность осуществить желание: утолить аппетит или же финансовые и физиологические потребности. Его буржуа лишены рефлексии: у них нет ни идеалов, ни признаков, ни даже зачатков духовности. Они совершают все свои действия, подчиняясь некоему врожденному или приобретенному инстинкту. Потому их ничто не может выбить из колеи, ведь чтобы ни происходило вокруг, они будут функционировать в заданном алгоритме. За столом как нигде может разыгрываться конфликт героев, который на самом деле есть конфликт разных темпераментов и культур: классовых, национальных, этнических. Пищевые приоритеты всегда служили индикаторами культурной идентичности или, напротив, признаками людей, принадлежащих к другой культуре. Таким образом, можно проследить развитие гастрономической темы в специфическом национальном контексте. Самая провокационная картина, связанная с едой, была снята французами Жан-Пьером Жене и Марком Каро. Она называется «Деликатесы» и разыгрывается в сюрреалистических декорациях мясной лавки, доводя тему буржуазного потребления пищи до каннибализма. Оппозиция верх/низ, добро/зло в гастрономическом контексте наглядно представлена в фильме Аугустина Диаса Яньеса «Нет вестей от Бога», где земной ад изображен в виде американского «Макдональдса», а рай уподоблен изысканному парижскому ресторану. Франция вдохновляет на кулинарно-кинематографические подвиги представителей других культур. История французского провинциального городка рассказана в фильме «Шоколад» шведом Лассе Хеллстремом. Жители города недолюбливают хозяйку кондитерского магазина, недавно переехавшую в это тихое место. Шоколадница, роль которой исполняет Жюльет Бинош, с помощью своих конфет и пирожных возвращает людям забытое ощущение счастья. Лавка с шоколадом становится механизмом преобразования человека в личность. Надо только определить ту самую конфету, которая тебе подойдет. Главной идеей фильма можно считать то, как важно подобрать ключ к человеческой индивидуальности, к наиболее сложному ее коду — вкусу. Этнический бум рубежа веков привел к экспансии китайских ресторанов и китайских фильмов. В них не только демонстрируют эффектные боевые искусства, но готовят пищу и вдохновенно ее поедают. Один из известных авторов арт-хауса Вонг Карвай в мелодраме «Любовное настроение» позволяет своим героям сближаться лишь в процессе совместного поедания лапши с соевым соусом. Другим примером может служить недавно вышедший на экраны фильм «Кровь и кости», нарочито акцентирующий внимание на пище, которую ест его главный герой, жесточайший узурпатор и тиран, в исполнении Такеши Кетано. Его тиранические характеристики подчеркиваются поеданием гнилого мяса с червями, что вызывает отвращение и страх у окружающих. Эта еда дает ему силу, иммунитет и превосходство над слабыми и униженными односельчанами. Его внутренний мир и жизненные приоритеты полностью равнозначны употребляемой им пище, и он сам фактически становится тем, что он ест. Кинематограф дает нам возможность проследить не только этническую специфику гастрономической темы, но и дает представление об интеллектуальной характеристике героев фильма, посредством их отношения к еде. Подобным ярким примером может послужить фильм Джима Джармуша «Кофе и сигареты», который строится по принципу сборника из нескольких новелл. Сюжет у них довольно схожий: герои сидят за столом, пьют кофе, курят сигареты и рассуждают на различные темы: как надо заваривать английский чай или как выглядел Париж 1920–х годов. Кофе и сигареты — это основная и главная «еда» любого уважающего себя интеллигента или, скорее всего, целого поколения актеров и музыкантов, которые играли в фильме самих себя же. Джармуш неоднократно повторял, что сигареты напоминают ему о смерти, но в фильме это противопоставление выделено именно белым цветом. Позицию черного занимает кофе в белой фарфоровой чашке. И то и другое отравляюще действует на организм и вызывает легкую зависимость от такой эстетической «пищи» и подобающего ей стиля жизни. Характерные черты современности отчетливо прослеживаются в фильме А. Коллека «Еда и женщины на скорую руку». В этом контексте «fast» фактически означает легкость отношений, безответственность и беззаботность. Возможность выбора различных блюд в «фаст-фуде» порождает мнимость этого разнообразия, ведь так или иначе на вашем столике оказывается та же самая еда, что и у соседа. Главная героиня этого фильма Белла работает официанткой в подобном заведении, и в своей личной жизни живет такими же «fast»-любовными отношениями, как и все окружающие ее люди. Оригинальная сторона работы режиссера в этом фильме – это организация художественного пространства, будь то «фаст-фуд» или такси, где люди способны быть наедине друг с другом, не отделяясь от мира. Поэтому, как живой образ счастья, Белла создает на унаследованные деньги закусочную своей мечты под названием «Fast food and fast women», где обслуживающий персонаж передвигается на роликах, подавая посетителям еду. И в качестве альтернативы, героиня позволяет себе продолжать работать в стареньком «фаст-фуде», разливая кофе и разнося пончики посетителям. Счастье современной девушки так же оказывается в стиле «fast». В подобных заведениях происходит развитие основного сюжетного плана и в фильмах известного режиссера К. Тарантино. Для его героев такие закусочные — это перманентно существующий фон жизни, где еда, подобно многим человеческим жизням в этих фильмах, служат лишь фоном, без лишних эстетических украшений: пластиковый стаканчик или гамбургер в бумажной обертке. В отличие от американских гангстеров сицилийский крестный отец зачастую обедает в дорогих ресторанах среди своих друзей или же дома в окружении близких. Таким образом, понятие большого застолья и пира непременно вплетается в кинематографическое повествование. В любой традиции пир никогда не уподоблялся простому приему пищи, и, скорее всего, выделялся как особое пространство, отграниченное от повседневности. Это — всегда праздник, предполагающий изобилие и состояние эмоционального подъема, допускающее смещение обыденных отношений и манеры поведения. В фильме «Крестный отец» большие застолья сопровождали наиболее значительные моменты жизни: рождение, свадьба, смерть. В этом смысле этот фильм является ярким примером того, как еда становится вершиной ритуала. Таким образом, современный кинематограф представляет нам все многообразие символического отношения к еде в различных культурах. И это подтверждает то, что смысл еды заключается не только в физиологической потребности человека, он носит, скорее, культовое значение, как подтверждение присутствия человека в мире и мира в человеке. Само слово «еда» определяет единство человека и мира, указывая одновременно и на поедание и на существование. Поедание, таким образом, раскрывается как существование, как присутствие в мире, а желание есть приобретает смысл «быть живым», оставаться в мире во плоти и быть воплощенным для других. IV. ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ Е. В. Романовская Язык и традиция Традиция почти всегда определяется как универсальная форма фиксации, закрепления и избирательного сохранения тех или иных элементов социокультурного опыта, а также универсальный механизм его передачи. Но временное расстояние, которое отделяет нас от прошлого — не мёртвый интервал, но передача, воспроизводящая смысл. Традиция не инертная передача, а операция диалектически понимаемого обмена между интерпретируемым прошлым и интерпретируемым настоящим. Философское измерение проблемы традиции показано в фундаментальном труде Х.-Г. Гадамера «Истина и метод». Концепция традиции была создана Гадамером при описании процедур понимания. Рассмотрение понимания как свойства человеческого бытия связано с деятельностью Э. Гуссерля, Г. Г. Шпета, М. Хайдеггера и Х.-Г. Гадамера. Хайдеггер считал необходимым перейти от разработки герменевтики как метода познания к разработке её как способа бытия. Как и для Хайдеггера для Гадамера именно понимание является определением человеческой экзистенции. «Dasein» есть понимание, которое предшествует методологической рефлексии. Основной вопрос философской герменевтики, по Гадамеру, состоит в том, что значит понимание. К бытию как к предельной смысловой возможности человек приходит через понимание. Понимание выступает не как свойство познавательной активности человека, а как способ его бытия. Описывая процедуры понимания («понимание», «опыт», «историчность», «действенная история»), Гадамер логично приходит к понятию — «традиция». Особенность процесса понимания связана с его циклическим характером – герменевтическим кругом. В герменевтике герменевтический круг разрабатывается как круг целого и части — для понимания целого необходимо понять его отдельные части, но для понимания отдельных частей уже необходимо иметь представление о смысле целого. В философии Хайдеггера герменевтический круг связывается не с формальными условиями понимания как метода познания, а с онтологическими его условиями как основного определения человеческого существования, и задача герменевтики состоит не в размыкании герменевтического круга, а в том, чтобы в него войти. Эта трактовка герменевтического круга развивается в герменевтике Гадамера путём конкретизации Хайдеггеровского учения о понимании. «Тот, кто хочет понять текст, постоянно осуществляет набрасывание смысла. Как только в тексте начинает проясняться какой-то смысл, он делает предварительный набросок смысла всего текста в целом. Но этот первый смысл проясняется в свою очередь лишь потому, что мы с самого начала читаем текст, ожидая найти в нём тот или иной определённый смысл. Понимание того, что содержится в тексте, и заключается в разработке такого предварительного наброска, который, разумеется, подвергается постоянному пересмотру при дальнейшем углублении в смысл текста»1. Хайдеггер описывал процесс постоянного набрасывания смысла, в результате которого истолкование происходит, вооружившись предварительными понятиями, предмнениями, всего того, что составляет предструктуру понимания. Гадамер, продолжавший и разрабатывавший герменевтические идеи Хайдеггера, приходит к необходимости признания существенной предрассудочности всякого понимания. По Гадамеру (вопреки идеям Просвещения), предрассудок вовсе не означает неверного суждения. В его понятии заложена возможность позитивной оценки. Обращаясь к разработанному Просвещением учению о предрассудках, мы обнаруживаем в нём основополагающее разделение на два типа предрассудков, один из которых покоится на человеческом авторитете. Общая тенденция Просвещения заключалась в том, чтобы не признавать никаких авторитетов и все решения предоставлять разуму. Разум представляет собой последний источник авторитета. Гадамер против результатов Просвещения — подчинения разуму всех авторитетов. «Установленная Просвещением противоположность между верой в авторитет и использованием собственного разума сама по себе вполне оправданна. Авторитет, если он занимает место собствен- 1 Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М., 1988. С. 318. ных суждений, и в самом деле становится источником предрассудков. Однако это не исключает для него возможности быть также источником истины; эту-то возможность и упустило из виду Просвещение, безоговорочно отвергнув все предрассудки. Чтобы убедиться в этом, достаточно сослаться на одного из величайших зачинателей европейского Просвещения Декарта. Как известно, Декарт вопреки всей радикальности своего методологизма отказался распространить на вопросы морали требование полной реконструкции всех истин на путях разума… кажется в высшей степени симптоматичным, что он так и не разработал окончательного морального учения»1. Отвержение всех авторитетов привело к искажению самого понятия авторитет. Но авторитет, принадлежа в первую очередь человеческой личности, имеет своим основанием не акт подчинения и отречения от разума, а признания того, что личность превосходит нас умом и достоинством большим, чем наши. Авторитет легко не даётся. Нужны усилия, чтобы его завоевать и заслужить. Авторитет покоится на разуме, который, осознавая свои пределы, считает других более компетентными. Реабилитируя предрассудок, Гадамер также пересматривает отношение к авторитету, который всегда есть авторитет традиции. Он считает, что следует принципиальнейшим образом восстановить в герменевтике момент традиции. С одной стороны, нравы и этические установления существуют в значительной степени благодаря обычаям и преданию. Именно основание их значимости мы называем традицией. Традиция — это сохранение того, что есть, сохранение, осуществляющееся при любых исторических переменах. С другой стороны, просвещенческая критика традиции (отвергание авторитетов) и её романтическая апологетика (традиция — это историческая данность, подобная данностям природы) не ухватывают её подлинного исторического бытия. Гадамер полагает, что основным моментом нашего отношения к прошлому является не дистанцирование от исторически переданного и не свобода от него. Мы всегда находимся внутри традиции, и это пребывание не воспринимается как нечто иное и чуждое, а является для нас чем-то своим, и для наших последующих исторических суждений важно не столько признание, сколько непредвзятое слияние с традицией. К существу исторического бытия Гадамер подходит с помощью категории «событие». Событие есть одновременность, со-временность «тогда» и «теперь». История, понятая как событие, не есть нечто, что всё ещё происходит с нами. Если для обыденного рассудка удобно помещать историю «там», а современность «здесь», то событие следует мыслить как 1 Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М., 1988. С. 332. точку, в которой «там» и «здесь» сливаются. Если без привычного членения исторического времени на «прошлое» и «настоящее» не обойтись, то событие — это способ бытия «прошлого» в «настоящем»2. Проблема традиции инициирует ещё одну проблему, напрямую связанную с традицией — это проблема языка. Поль Рикёр3 в своей статье, посвящённой герменевтике традиции, полагает, что понятие традиции означает то, что мы никогда не находимся в абсолютной позиции новатора, но, прежде всего — в относительной ситуации наследника. Это условие объясняется главным образом языковой структурой коммуникации вообще и передачей содержаний в частности. Язык — великое основание, которое каждому из нас уже предшествует. И здесь под языком надо понимать не только систему каждого естественного языка, но и уже сказанные, понятые и принятые вещи. Под традицией, соответственно, понимаем вещи уже сказанные, поскольку они нам переданы по цепи интерпретаций и реинтерпретаций. Вообще язык всегда был и остаётся предметом пристального внимания человека. Весь ХХ век проходил под знаком внимательного отношения к языку. Философская герменевтика, в лице Гадамера, процесс понимания представляет как, прежде всего и исключительно, событием языка и протекает в форме разговора, диалога людей. Язык приобретает в герменевтике онтологический статус; язык уже не только объект и средство исследования, язык тождествен миру, если под миром понимать совокупность традиций, в которые вовлечён действующий и познающий человек. Рикёр подчеркивает языковый, диалогичный характер традиции и солидаризуется с языковыми характеристиками традиции у Гадамера. «Прошлое нас спрашивает и ставит под вопрос прежде, чем мы его спрашиваем и ставим под вопрос. В этой борьбе за распознавание смысла текст и читатель, каждый поочерёдно, оказываются освоенными и неосвоенными. Следовательно, эта вторая диалектика подчёркивает логику вопроса и ответа, на которую ссылаются один за другим Коллингвуд и Гадамер. Прошлое не спрашивает в той мере, в какой мы его спрашиваем. И отвечает нам в той мере, в какой мы ему отвечаем»4. Говоря о традиции, Гадамер имеет в виду, прежде всего, языковую традицию. Гадамер отмечал, что наши рассуждения — равно как и наши предрассудки – определены языком, на котором мы мыслим. Осмысляя 2 Малахов В. С. Философская герменевтика Ганса Георга Гадамера \\ Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991. С.335. 3 Рикёр П. Бытие — определённое — прошлым \\ Топос. 2000, № 3. С. 41. 4 Там же. С. 42. труды Гадамера, В. Малахов1 пишет, что мы застаём себя в традиции — постольку, поскольку застаём себя в языке. Наша определённость традицией задана самим фактом нашей принадлежности определённому языку. Принадлежность, боле того — причастность (со всем шлейфом коннотаций) гарантирована нашим бытием в качестве Kulturwesen. Погружаясь в глубины национальной культуры, мы реализуем дремлющие потенции культурной традиции. Взаимосвязь традиции и языка на иной теоретической основе представлена в работах Н.Хомского.2 Здесь язык как некая изначальная данность, а не продукт социального развития человека. По мнению Н. Хомского, языковая компетенция усваивается ребёнком в постнатальный период его развития только благодаря тому, что в его мозгу существуют некие языковые структуры (универсальная грамматика), имеющие врождённый характер, и, следовательно, общие для носителей любых языков. Поэтому, как полагает Н. Хомский, лингвистическую теорию можно понимать как теорию биологического дара, лежащую в основе усвоения и использования языка: иначе говоря, как теорию универсальной грамматики, согласно которой назначением универсальной грамматики является выражение биологически необходимых свойств. В таком понимании она представляет собой теорию биологического дара человека. Наличие декларируемых Н. Хомским врождённых языковых структур при воздействии стимулов, получаемых ребёнком от взрослых, по его мнению, обеспечивает усвоение им соответствующего конкретного языка. Теория Н. Хомского о врождённых языковых структурах имеет в своей основе, по его мнению, учение Декарта о врождённом характере основных принципов организации познавательной деятельности человека и учение Канта об априорном характере категорий человеческого мышления. Психология детства В. В. Зеньковского по-другому, чем Н. Хомский обосновывает связь языка и традиции. Не врождённые структуры, а социальное унаследование связывают нашу личность с прошлым. И оно не только не сосредоточено в какой-либо один момент, но вообще покоится не на «передаче» свойств, а на творческом усвоении новой личностью того, что заключается в наследуемом материале. Как пример такого «социального унаследования» он указывает язык. Язык у взрослых так интимно и глубоко связан с психической жизнью, что мы готовы считать его чем-то вроде «врождённой» нами функции. Между тем раз- 1 2 Малахов В. Герменевтика и традиция. \\ Логос, 1999, №1. С.3. Хомский Н. Язык и мышление. М., 1972. витие речи связано с длительным и сложным процессом, в котором ребёнок постепенно научается владеть формами того языка, в атмосфере которого оно созревает. «Нам даётся в языке богатейшее “социальное наследство”, но мы должны им овладеть в той мере, в какой это удаётся нам, мы можем пользоваться социальным наследством… Вместе с языком мы, незаметно для себя, усваиваем формы мышления, как они запечатлелись в языке, усваиваем целую систему идей, верований, понимание мира и человека. Всё, что хранится в сокровищнице народного духа, — всё это струится в душу ребёнка с помощью языка, который является в этом смысле главным проводником сокровищ народного духа в детскую душу. В языке отпечатлевается история народа, его характер; ничто, поэтому не может так хорошо и непосредственно ввести в народную душу, как язык… Дитя, овладевая языком народа, среди которого оно живёт, входит постепенно в эту сокровенную музыку народной души; ещё не сознавая, не расчленяя того, чем овладевает, дитя становится уже способным к музыкальному “вчуствованию” в народную душу, способно к непосредственному слиянию с тем, чем живёт народ. Если мы назовём социальной традицией всё то, что хранится в народной душе, то можно было бы сказать, что язык является самым важным хранителем этой традиции»3. В заключении, можно сделать вывод о том, что такая тема как взаимосвязь традиции и языка чрезвычайно объёмна и сложна. Нами была сделана попытка наметить к ней некоторые подходы. Главным образом, мы пытались прояснить герменевтический ракурс этой проблемы — как гадамеровские конкретные формы бытия в традиции реализуются как бытие в языке. Л. И. Эрхитуева К вопросу о понятии и структуре межкультурной коммуникации. Межкультурная коммуникация представляет собой многоаспектный и многогранный процесс взаимодействия представителей разных культур. Для взаимопонимания которых необходима не только языковая компетенция участников коммуникации, общие знания об окружающем мире, но и знание культуры партнеров, а также учет социального и ситуативного контекстов межкультурного общения. В данной работе мы по- 3 Зеньковский В. В. Психология детства. Екатеринбург, 1995. С.44. пытаемся рассмотреть некоторые содержательные аспекты межкультурного взаимодействия, а точнее межкультурной коммуникации. Анализ научной литературы показал, что в настоящее время не существует единого подхода к понятию межкультурная коммуникация. Она трактуется как «двусторонний или многосторонний обмен ценностями материальной и духовной культуры, диалог культур», «совокупность специфических процессов взаимодействия людей, принадлежащих к разным культурам и языкам, … когда партнеры по взаимодействию осознают тот факт, что каждый из них является «другим» и каждый воспринимает чужеродность «партнера», как «процесс информационного обмена, содержание которого отражает этническую картину мира», т. е. культуру определенного этноса1. Несмотря на разнообразие подходов, можно однозначно сказать, что межкультурная коммуникация — это сложный и многоаспектный процесс, который отражает языковое и культурное разнообразие народов, способы их самовыражения и восприятия, а ее базовыми конструктами являются понятия культура и коммуникация. Понятия культура и коммуникация неразрывны между собой. Появление первых коммуникативных систем тесным образом связано с процессом складывания культуры как сферы упорядоченности человеческой деятельности и мышления. Изменения в поведении обязательно означают изменения в культуре, находящейся всегда в динамике. В настоящее время отсутствует единый подход к объему понятия культуры. Одни определяют культуру как комплекс, созданных людьми объективных и субъективных элементов, которые в прошлом обеспечили выживание жителей определенной экологической ниши, став общими для тех, кто говорил на одном языке и жил вместе в одно и то же время2. Другие — как совокупность установок, ценностей, верований и поведения, разделяемых группой людей, но по-разному каждым индивидом, и передаваемых от поколения к поколению3. В нашем же понимании культура — сложное понятие, относящееся как к материальным, социальным явлениям, так и к индивидуальному поведению, репродукции, организованной деятельности, кроме того, культура выступает как универсальный механизм адаптации человека к условиям существования, 1 Кузнецова О. З. О компетентности в межкультурной коммуникации. // Этнокультурное образование: совершенствование подготовки специалистов в области традиционных культур: Материалы четвертой международного научного симпозиума. Улан-Удэ, 2003. – т. II. С. 237 – 245. С. 5. 2 Лебедева Н. М. Введение в этническую и кросс-культурную психологию. М., 1999. С. 23. 3 Там же. С. 24. ведь каждая близко рассмотренная локальная культура является средством адаптации к локальным природным и социальным условиям. Во многих исследованиях отмечается, что культура, национальные культурные ценности в духовной и материальной сферах обусловлены окружающим человека миром, который может быть представлен в трех формах: реальная картина мира, культурная (или понятийная) картина мира, языковая картина мира. Реальная картина мира – объективная внечеловеческая данность, мир, окружающий человека. Культурная (понятийная) картина мира — отражение реальной картины мира через призму понятий, сформированных на основе представлений, полученных с помощью органов чувств и прошедших через сознание, как коллективное, так и индивидуальное. Культурная картина мира специфична и различается у разных народов, что обусловлено рядом факторов: экологией, историей, социальным устройством, верованиями, традициями, образом жизни и т. п. Экология предоставляет человеку некоторые ресурсы для жизни, они делают возможными определенные виды деятельности, которые закрепляются и распространяются среди обычаев. Эти виды деятельности создают особый способ видения социальной среды и формируют элементы субъективной культуры, которая включает в себя то, что подлежит категоризации и должно иметь название. Так развивается язык, возникают ассоциации между категориями, рождаются нормы, ценности, роли и особенности самоконцепций. Когда представления и нормы разделяются большинством людей в группе, они становятся элементами данной культуры и начинают определять индивидуальное и групповое поведение. Культуру формирует также история. Войны, революции, кардинальные перемены экономического и общественного строя, которые время от времени переживают все страны и культуры, изменяют взгляд людей на себя. Таким образом, можно сказать, что экология и история — одни из главных факторов, формирующих культуру, влияющих на поведение членов культуры, создающих способы социализации в данной культуре. Что касается языковой картины мира, то она отражает реальность через культурную картину мира и включает, так называемую, наивную языковую картину мира, основанную на отражении и осмыслении условий существования данного народа и, так называемую, научную языковую картину мира, учитывающую его культурные достижения. «Каждая культурная система и каждый единичный акт общественного поведения явно или скрыто подразумевает коммуникацию»4. При 4 Кузнецова О. З. Указ. соч. С. 32. этом между культурами существуют значительные различия в том, как выстраивается процесс коммуникации. В коммуникации выделяются три основных компонента: информационный (информационнокоммуникативный), перцептивный и интерактивный. Информационный компонент социальной коммуникации характеризуется тем, что это не простое «движение информации» между двумя устройствами, а отношения двух индивидов, каждый из которых является активным субъектом. Коммуникационное влияние как результат обмена информацией возможно лишь тогда, когда человек, направляющий информацию (коммуникатор), и человек, принимающий информацию (реципиент), обладают единой или сходной системой кодификации и декодификации или хотя бы понимают ее. В условиях коммуникации могут возникать специфические коммуникативные барьеры, так как распространение информации проходит через своеобразный «фильтр доверия и недоверия». Передача любой информации возможна посредством знаковых систем, которые используются в коммуникативном процессе. Социологические исследования языка позволяют установить определенные социальные закономерности, которым подчиняется язык, и выявить взаимообусловленность между языком и социальной структурой. Каждое использование языка — это своего рода поведение, которое имеет место в определенном социальном контексте и требует подчинения различным правилам, не только тем, которые относятся к компетенции языка. Эти «другие» правила — дифференцированный социальный контекст, в котором осуществляются акты коммуникации: это зависимости между формой высказывания и действием, детерминированным социальной позицией, той ситуацией, в которой находится данный индивид или данная группа, той ролью, которую играет и т. п. Перцептивный аспект социальной коммуникации характеризуется следующей структурой: 1) определяющий компонент — наделение людей определенными чертами и особенностями; 2) компонент «ожидания» или предвидения определенного поведения у тех, кого воспринимают; 3) эмоционально-оценочный компонент. В заключении следует отметить, что в современном мировом сообществе межкультурная коммуникация играет одну из ведущих ролей в самоидентификации и дифференциации каждой культурной общности. Интерпретация иного образа жизни, уклада предполагает естественным образом поиск отличительных черт в своей культуре, более глубокое понимание собственного образа жизни, действий в тех или иных ситуациях. Таким образом, межкультурная коммуникация помогает осознавать проблемы собственной культуры. Л. В. Афанасьева Русская составляющая в японской культуре Само географическое положение Японии, ее природные условия способствовали открытости японской культуры к восприятию других культур. Япония, заимствуя многие их элементы, сформировала свои представления об устройстве мира. В результате взаимодействия синтоизма, буддизма, конфуцианства появилась четкая организация сложившейся культуры. Духовное нашло отражение в развитии культа предков (связи поколений), в стремлении к обретению человеком единой связи с природой и, вместе с тем, в его обращении к своему внутреннему миру, а социальное обозначилось жесткой структурой иерархической системы, отношением человека к внешнему миру. Пришедшая из Китая чайная церемония стала составляющим элементом японской культуры, заключающей в себе символы Вселенной: «пять стихий»: дерево — земля — вода — огонь — металл и три мировых потенции: Небо — Человек — Земля. Ритуал чайной церемонии начинался с входа в сад, в котором располагался чайный павильон. Дорожка, ведущая к нему, составлялась из больших или маленьких камней, диктующих определенный ритм движению, напоминающий ритм движения ветвей деревьев. Прежде чем войти в павильон, необходимо было совершить у каменного сосуда ритуальное омовение и, таким образом, очиститься от «земной пыли». Переход из одного пространства (земного) в другое (сакральное), где все равны, означали специально низкий вход и оставленные снаружи обувь и меч. Участники церемонии рассаживались на татами и наблюдали за спокойными многозначительными действиями хозяина, которые заключались в разведении огня в очаге, очищении деревянных и глиняных предметов тканью и в процессе приготовления чая. В чайной комнате каждый предмет глубоко символичен. Делая первый глоток чая, участники ритуала передавали чашу друг другу, становясь единым целым на духовном уровне. Связь духовного, внутреннего с материальным, внешним передавалась посредством вкусовых, звуковых, цветовых, осязательных и обонятельных ощущений, поэтому чашка в ритуале являлась главным символическим предметом. По буддийским представлениям она соединяла мир сатори и мир иллюзий, прошлое, настоящее и будущее. Идея времени заключена и в икебане, которой отведена особая роль в интерьере чайной комнаты. Строгая регламентация формы, заданная принципом ассиметрии посредством трех элементов, обозначающих Небо — Человек — Земля, передает движение и явления в природе. Цветы, составляющие композицию, соответствуют тому времени года, в которое происходит чайное действо, и передают мимолетность и непостоянство мира как будто «сон внутри сна». Икебана же из одного цветка оказывается макрокосмом в «сжатом пространстве». Человек, составляющий икебану, трепетно относится к форме и постигает смысл посредством этой формы. Форма поэтическая — неотъемная часть икебаны. В токономе (нише), где и определено место икебаны, висит свиток с мудрым изречением или поэтическими строками. Знак, написанный умелой рукой мастера, сопричастен с таинством жизни, с вдохом и выдохом. Движение кисти, создающее ритм линий, «проявляет» дух мастера в материальном пространстве листа и отражает текущий момент. Участники чайной церемонии, любуясь написанным и находя определенный смысл в строках, пытались сочинять и сами, выражая свои чувства в хайку или танка.1 Азбука японского языка слоговая, поэтому в самом звучании строк сочиненного находили особую прелесть. Можем вспомнить особенность техники сценической речи в театре кабуки: фразы произносятся в форме чередования 7 и 5 слогов, этой формой пользовались различные чревовещатели и подражатели голосам известных актеров. В кабуки текст распределяется между несколькими актерами, и каждый произносит свою строфу по-разному, а когда очередную строфу подхватывает другой актер, это создает особую атмосферу. Ритм фраз похож на пение заклинателей, которые приходили в японские дома в первую ночь начала весны, чтобы отгонять злых духов. Придавая особый смысл звуку и слогу, в Японии в XVIII – XIX веках сложилась «священная наука» – учение о «душе слова» (котодама). Японские специалисты полагали, что «сущность души слова составляет исконная способность к порождению через соединение (мусуби)»2. Мистическая сила души слова пребывает в каждом слоге азбуки. Если найти правильный код, то можно произносить слова в нужном порядке, что дает возможность воздействовать на мир. «Отсюда и представление о духовной силе древних молитвословий норито, в которых нельзя изменить ни слова, иначе весь эффект пропадет или же, в худшем случае, будет вообще обратным. Приверженцы мистической филологии 1 2 Трехстрочное и пятистрочное стихотворения с чередованием 5 – 7 – 5 слогов. Накорчевский А. А. Синто. Спб., 2003. С. 390. полагали, что настоящее значение слова — это объединяющая производная тайных смыслов исходных кирпичиков, которые и образуют «большое» слово»3. И звук, и количество слогов в кратком поэтическом жанре, возможно, не случаен, но в любом случае они насыщают дух, приводя его в гармонию. В Японии наряду с буддизмом, было принято конфуцианское учение, в основе которого лежат нормы поведения, требующие особой организации взаимоотношений в личной и общественной жизни, что наиболее ярко проявилось в период Токугава, в установлении системы сословий, в кодексе чести самураев, их преданности своему господину. До сегодняшнего времени в Японии сохранились элементы прошлого, которые выражаются в вертикальных иерархических отношениях людей в обществе и отношении человека к внешнему миру, что зафиксировано в самом языке. Такие слова как корэ/сорэ, ути/сото тому пример. Корэ, сорэ — предметно-указательные местоимения в японском языке, означающие «это». Но Корэ подразумевает то, что находится в своем духовном мире, а сорэ — то, что находится в духовном мире собеседника. Из этого следует, что свое является как бы недоступным, неприкосновенным, границу которого собеседнику переступать нежелательно, кроме того, в языке есть большое количество вежливых форм, которые могут рассматриваться как в качестве связующего двух духовных миров, также и, наоборот, обозначать разделение: старший — младший, начальник – подчиненный. Существуют также отличия женской речи от речи мужской, выраженные в употреблении определенных междометий, используемых в конце предложений. Ути может переводиться как «дом», «внутри», «свое» (своя семья, фирма, в которой работаешь, своя страна, а сото — «вне», «снаружи», «чужое» (чужая семья, чужая фирма, чужая страна). Таким образом, выделяются социальные группы, а принадлежность к определенной группе ассоциируется с собственной семьей: в фирме начальник — отец, его подчиненные — дети, а проблемы на предприятии становятся своими собственными. Решая проблемы фирмы, только там можно максимально проявить свои способности. Обычай с первого момента знакомства протягивать собеседнику визитную карточку не случаен, он помогает снять напряжение и сразу дает возможность понять, какое положение занимает человек в обществе. В отношении с другими странами прослеживается та же тенденция сохранения своего пространства, тем более что Япония занимает островное положение. Иностранец — чело- 3 Там же. С. 391. век, пришедший извне, из другого мира, другой группы, он — чужой, отсюда, недоверие и подозрительность. В период 1543 – 1639 годы Япония контактировала с западными странами и, как только она почувствовала давление и опасность, самоизолировалась. Внутреннее и внешнее, находясь в постоянной взаимосвязи, имеют определенные ритмы. Внутреннее связано с космическими ритмами, а внешнее с историческими, социальными ритмами, как реакция на происходящее. Японская культура, пытаясь найти равновесие внутреннего с внешним, осмыслено приобретала недостающие звенья. Известно, что первые русско-японские контакты начались с многочисленных исследовательских и дипломатических русских экспедиций в Японию. Исторические факты нам говорят о миссиях А. К. Лаксмана (1792), Н. П. Резанова (1803), экспедициях В. Н. Головнина (1811), Е. В.Путятина (1853) и др. Посольства и экспедиции в ходе выполнения исследовательской и экономической деятельности сохраняли русские традиции и переносили их в культурное пространство Японии, используя язык культуры, как возможность для диалога. В. Н. Головнин был первый, кто познакомил японцев с русской поэзией, для японских переводчиков написал грамматику русского языка. Благодаря первому консулу в Японии И. А. Гошкевичу был выпущен «Японско-русский словарь», организована школа русского языка, заложена православная церковь, что послужило основанием для работы будущей русской православной миссии. Иеромонах Николай — священник, миссионер, глава русской Духовной Миссии, познакомил Японию с православным учением, которое явилось еще одним узором в картине японской культуры. «Православию в Японии свойственна космология, выражающаяся в архитектуре церковных зданий. Средоточием жизни верующих является Божественная литургия. Церковь, место литургического собрания, является священным миром (микрокосмом), отражающим макрокосм искупительного действия Божия во вселенной. Иконы на стенах наших храмов отражают Святую Троицу, Христа, Богоматерь и святых, а порой — солнце, луну и звезды. Все святые и все творение пребывают с верующими во время литургии, когда верующие познают радость бытия и несказанную радость Царствия Божия» 1. Святитель Николай желал, чтобы японцы сами создавали духовный мир. Благодаря этому православие приобрело реальное значение в исто- рии Японии, и в настоящее время Автономная Православная Церковь является основанием православной составляющей японской культуры. Распространяя традиции православного учения, иеромонах Николай создал школу переводчиков, познакомившую японцев не только с богословскими книгами, но и с литературными произведениями таких писателей как А. С. Пушкин, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, И. С. Тургенев. Так Слово явилось той духовной силой, которая и определила место русской литературы в культурной жизни Японии. С начала XX–го века японские писатели увлекались уже не только произведениями авторов Франции, Германии, Англии, но и России. Акутагава Рюноскэ писал в своих письмах: «…Прочел «Преступление и наказание». Все 450 страниц романа полны описания душевного состояния героев. Но развитие действия не связано с их душевным состоянием, их внутренними взаимоотношениями. Поэтому в романе отсутствует plastic. Но зато внутренний мир главного героя Раскольникова, возникает с еще более страшной силой. Сцена, когда убийца Раскольников и публичная женщина Соня под лампой, горящей желтым коптящим пламенем, читают Священное писание (Евангелие от Иоанна — главу о воскрешении Лазаря), — эта сцена огромной силы, ее невозможно забыть…»2 «…Можно ли не впасть в пессимизм оттого, что у русских писателей раньше, чем в Японии, появилось такое произведение, как «Война и мир». Да и не одна «Война и мир». Будь то «Братья Карамазовы», будь то «Преступление и наказание», будь то, наконец, «Анна Каренина» — я был бы потрясен, если бы хоть одно из них появилось в Японии»3. «…Даже молодежь, не знакомая с японской классикой, знает произведения Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова. Одного этого достаточно, чтобы стало ясно, насколько нам, японцам, близка Россия…Мы, современные японцы, благодаря произведениям великих русских реалистов в общих чертах смогли понять Россию. Постарайтесь и вы, русские, понять нас, японцев…Среди современных японских писателей я не самый крупный. Более того, я даже сомневаюсь, самая ли я подходящая фигура, с которой следовало бы познакомить Россию…»4 Также приведем слова Кэндзабуро Оэ: «…Своим первым и главным учителем я считаю великого Достоевского…По сей день я придерживаюсь правила: первые десять дней каждого года целиком посвящать чте- Гривнин В. С. Акутагава Рюноскэ. М., 1980. С. 161. Там же. С.161. 4 Акутагава Рюноскэ Соч. в 4 т. Т.4. М., 1998. С. 312. 2 Проторией Прокл Ясуо Ушимару Японское православие и культура периода «Мейдзи» // Мат-лы конф. «Тысячелетие Крещения Руси». М.,1988. С. 231. 1 3 нию Достоевского. Преклоняюсь также перед гением Льва Толстого, «Войну и мир» которого перечитал более десяти раз»1 Отношение человека с окружающим миром, а также спор человека с самим собой стали объектом внимания писателей: у Акутагава Рюноскэ появились такие новеллы как «Бататовая каша», «Вальдшнеп», «В стране водяных», «Паутинка», «Учитель Мори», «Сад»; у Нацумэ Сосэки «Затем» (1909), «Сердце»(1914); у Кадзуо Хироцу «Эпоха неврозов»(1917); у Миямото Юрико «Бедные люди»(1916) и «Блаженный Мияда» (1917). Кроме русской классической литературы в Японии получила развитие и русская литература революционного и послевоенного периодов. Переводились труды политических деятелей и произведения таких писателей как Н. Г. Чернышевского, М. Горького, Н. Островского, А. Фадеева, К. Симонова. Русские пьесы ставятся на сценах современных театров Японии: «Цукидзи сегэкидзе» (Малый театр Цукидзи), «Хайюдза» (Театр актеров), «Мингэй» (Художественный театр народного искусства), «Бунгакудза» (Литературный театр), «Накама» (Кружок товарищей), «Кумо» (Облако) и имеют большой успех2. Нужно отметить, что с Реставрацией Мэйдзи в Японии театральная жизнь претерпевает изменения, японские режиссеры, пытаясь найти новые пути развития национального театра, обращаются к театрам Европы и России: «После пребывания в Европе Хидзиката3 возвращается домой. По пути он останавливается на неделю в Москве. Вернувшись в Токио, Хидзиката скажет: «Неделя в Москве мне дала гораздо больше, чем целый год в Европе». Под сильным впечатлением от театральной жизни молодого Советского государства, уже в пути через Сибирь в Японию, у Хидзиката возникает план создания нового театра…»4. Центрами распространения русской литературы стали, безусловно, институты, факультеты русского языка и литературы, а также литературные и исследовательские общества. Назовем самые известные центры: — Ассоциация русско-японского искусства, представителями которого были Акита Удзяку — писатель-гуманист, театральный деятель; Осанаи Каору — драматург и режиссер, создатель Малого театра Цу- 1 Ефимов М. В доме Оэ всегда тишина: там кипит работа // Япония сегодня, август 1998, М., С. 21. 2 Подробнее см. Киоко Сато Современный драматический театр Японии. М.,1973. 3 Хидзиката Еси (1898-1969) - крупнейший режиссер и театральный деятель. 4 Киоко Сато Указ. соч. С. 20. кидзи, писатели Фудзинори Сэйкити, Огава Мимэй, Таяма Катай; Курахара Корэхито — специалист по русской литературе и др.; — университеты Васэда, Хитоцубаси, Софии, Сига, Кобэ, Токийский государственный институт иностранных языков, Государственный университет Хоккайдо (г. Саппоро), Общество «Япония — СССР», Японская Ассоциация русистов. Сегодня Россия переживает новые преобразования, что находит отражение и в литературе. В настоящее время Япония знакома с произведениями В. Сорокина, Т. Толстой, Л. Улицкой, Б. Акунина, В. Пелевина. В современной русской и японской литературах можно отметить общую тенденцию — это изменение взгляда на мир и отражение внутренних проблем государств, которые уже сегодня становятся общими проблемами двух стран. Центр славянских исследований университета Хоккайдо собирает русистов для обсуждения проблем современности и их совместного разрешения. На сегодняшний день русские элементы в японской культуре стали ее неотъемлемой частью. П. В. Курмилев Этические идеалы в китайском и японском «героическом романе» Вступление Одна из характерных черт, присущих традиционным Китаю и Японии, — это особая, почти беспрецедентная в мировой истории значимость феномена, который правильнее всего будет обозначить как воинская культура. Под воинской культурой следует понимать не только «военную науку», «боевые искусства» или соответствующие институты, но и — в первую очередь — идеологию воинского сословия, т. е. систему воззрений и ценностей, определяющую как бытие собственно класса воинов, так и — во многом — культуру в целом. О Китае принято говорить как о колыбели воинской культуры на Дальнем Востоке. В Японии же, ставшей во многом наследницей культуры Китая, воинская культура играла поистине уникальную роль. Пожалуй, больше нигде, даже в средневековой (рыцарской) Европе, воинская мораль не была фактором, определяющим жизнь всех без исключения сословий. Культура же традиционной Японии была детерминирована идеологией самурайского сословия, без преувеличения, на всех уровнях. Из всего многообразия компонентов воинской культуры Китая и Японии мы коснемся именно идеологической, мировоззренческой, ценностной составляющей. Конкретнее — отражение этой составляющей в такой форме традиционной литературы, как героический роман. «Героический роман» — жанр, произрастающий из героического эпоса. Роман в значительно большей степени, чем эпос, отстоит и от мифа, и от исторического повествования; «в виде романа повествовательная литература впервые выступает в качестве чисто художественного творчества, как плод поэтического вымысла, не претендующего всерьез на историческую или мифологическую достоверность»1. В Китае начальный этап становления романа приходится на XIV век2; наиболее значимые произведения этого жанра создаются c XIV по XVIII век. Показательно, что знаменитые героические романы пишутся именно на раннем этапе: два наиболее значимых произведения этого жанра, «Троецарствие» и «Речные заводи», относятся как раз к XIV веку. В XVI веке создается, возможно, известнейшее произведение китайской литературы, — роман «Путешествие на Запад», стандартно определяемый как «фантастический», но, несомненно, содержащий и выраженные героические мотивы. И, наконец, наиболее знаменитые образцы китайского любовного и бытового романа рождаются в XVI – XVIII веках. В культуре же Японии, напротив, первые значимые образцы авторской любовно-бытовой прозы (в частности, роман «Гэндзи-моногатари», считающийся важнейшим памятником всей японской литературы), исторически предшествуют героической эпопее. Эта последняя вырастает, как и в Китае, на базе традиции устного повествования, и формируется уже с XIII века, однако остается ближе к эпосу, чем китайский роман, что видно хотя бы по отсутствию у известнейших произведений жанра единого автора. Тем не менее, перед нами, несомненно, весьма схожие явления: «эпос этот, получивший название гунки или «записи о военных событиях», находит себе аналогию в китайских героических и исторических эпопеях XIV – XVII веков»3. Как соотносятся воинская культура и героический роман? Героический роман в традиционном мире, как и эпос до него, является, с одной стороны, художественным выражением духа культуры, с другой — имеет несомненное дидактическое значение, дает многим поколениям об- 1 Мелетинский Е. М. Средневековый роман: Происхождение и классические формы. М., 1983. С. 3. 2 Кравцова М. Е. История культуры Китая. СПб., 1999. С. 339. 3 Рифтин Б. Классическая проза Дальнего Востока. / Классическая проза Дальнего Востока. М., 1975. С. 14. разцы для подражания, иными словами, сам, в свою очередь, формирует воинскую культуру. Разумеется, и китайская, и японская культура знают дидактическое сочинение и как самостоятельный жанр. Но, обратившись к этим сочинениям за примерами, мы обнаружим сферу, в которой китайское и японское мышление глубочайшим образом несхожи между собой, — сферу теории. Сравним факты. Древнейшие памятники абстрактно-теоретической мысли в Китае возникают еще в древности, в эпоху Чжоу (XI – III вв. до н. э.). Это «Дао-дэ-цзин» Лао-цзы и «Лунь-юй» Конфуция, «Искусство войны» Сунь-цзы, сочинения Чжуан-цзы, Ле-цзы и так далее. Японскому же мышлению теория практически чужда. Собрание поучений, этический трактат — в японской культуре явления весьма поздние. Разумеется, были малоизвестные письменные наставления Ходзё Сигэтоки (XII – XIII вв.), Имагава Рёсюна (XIV – XV вв.), Тории Мототада (XVI в.) и многих других, но при этом считается, что действительно значимых высот самурайская дидактическая мысль достигла лишь в мирную, статичную эпоху Токугава (1603 – 1868), в трудах Дайдодзи Юдзана («Будосёсинсю») и Ямамото Цунэтомо («Хагакурэ»). И если даже допустить корректность сравнения древнекитайских этико-политических и военных трактатов с аналогичными сочинениями, написанными в Японии два тысячелетия спустя, все равно налицо будет несравненно большая «практичность» и «конкретность» японских сочинений. Два тысячелетия разделяют памятники теоретической мысли; героический же роман возникает в обеих культурах независимо и практически одновременно. В силу этих причин наиболее уместным сравнение парадигм воинской культуры представляется именно на материале повествовательной литературы в жанре воинской эпопеи или же героического романа. 1. Образ героя или воинский этический идеал 1. 1. Одно из существенных различий между китайской и японской культурами кроется в следующем. Японский воинский идеал совпадает практически полностью с японским этическим идеалом вообще. Иначе говоря, самураи в японской традиционной культуре считались лучшими из японцев и лучшими из людей («хана-ва сакураги хито-ва буси» — «меж цветов (красуется) сакура, меж людей – самураи», говорит старинная японская пословица4). Но при этом, сколь бы глубока не была про- 4 Спеваковский А. Б. Указ. соч. Самураи — военное сословие Японии. М., 1981. С. 19. пасть между статусом самураев и положением всех прочих сословий, воинские идеи и идеалы продолжали, как мы уже отмечали выше, определять культуру на всех ее уровнях. Идеальный герой воинского романа (или эпоса) и идеальный «реальный» подданный микадо — это одно и то же лицо. Самурай. Воин-вассал, воин-слуга, выше всего ставящий благо господина, обязанный в каждый миг быть готовым к самой мучительной смерти. В Китае же налицо явное расхождение между «общеобязательным» этическим идеалом и образом эпического и литературного воина-героя. Идеальный носитель китайской культуры — это, несомненно, конфуцианский «совершенный муж», исполненный пяти канонических добродетелей (человеколюбие-жэнь, знание ритуала (ли), чувство долга (и), образованность-вэнь и сыновья почтительность (сяо)); это аристократчиновник, все силы отдающий служению стране и государю, а досуг, посвящающий каноническим изящным искусствам. Войну же каноническое конфуцианство рассматривало как неотъемлемую часть культурной практики, являющуюся при этом скорее неизбежным злом, чем благом. Военная сила (у) как губительное и разрушительное начало противопоставлялась вэнь, т. е., в наиболее широком смысле этого слова, — собственно культуре (изначально иероглиф «вэнь» означал «узор») как началу жизнепорождающему и мироустроительному1. Когда Лин-гун, князь царства Вэй, попросил у Конфуция совета в делах военных, «Конфуций ответил: «Я постоянно [и много] занимался ритуальными вопросами, но военные дела я не изучал». И на следующий день Конфуций покинул [Вэй]»2. Центральный же персонаж китайского героического романа (мы относим к этой категории и «Троецарствие», обычно определяемое как роман исторический, и «Речные заводи» (классику авантюрногероической эпопеи), и «фантастическое» «Путешествие на Запад») – это, разумеется, в первую очередь, воин, и не столь важно, знатный он полководец, «удалец» (ся) «из народа», или же вовсе волшебное существо из авторской мифологии (как ряд героев «Путешествия на Запад» У Чэнъэня). Наиболее частый персонаж героического романа — это ся. Данный тип людей в исследовательской литературе очень часто именуют китайскими «рыцарями». «Ся» означает «удалец», «храбрец», «храбрый»; реже можно встретить также термин «юй-цзя»: «страстными ревнителя- ми у-шу были и странствующие рыцари (юй-цзя), искатели приключений, число которых неизменно возрастало после разного рода смут, мятежей и военных кампаний. Образ рыцаря-бродяги… с длинным мечом и крепкими кулаками в китайской литературе не менее популярен, чем соответствующий персонаж в европейских средневековых балладах и повестях». Это — «благородный скиталец, всегда готовый вступиться за слабого и покарать несправедливость, совмещающий в себе черты Ланселота и Робин Гуда»3. М. Е. Кравцова называет «китайским вариантом легенд о Робин Гуде и «благородных разбойниках»» роман Ши Найаня «Речные заводи»4. Образы персонажей авантюрно-героического романа, замечает Б. Рифтин на примере эпопеи «Трое храбрых, пятеро справедливых» (XIX в.), можно понять, лишь вспомнив «эпических богатырей с их неодолимой и не всегда объяснимой тягой к подвигу, с их неистовостью и вспыльчивостью (часто без причины)»5. Во многих случаях, впрочем, за «тягой к подвигу» (приводившим к испытанию своих сил и сил противника в бою) стояло не «неистовство», а вполне осознанное стремление к славе и почестям (иногда также богатствам), достававшимся победителю. Для многих ся образом жизни стало путешествие, в ходе которого они бросали вызов мастерам каждой новой местности, и тем самым непрерывно совершенствовали собственное боевое искусство. В Японии подобным образом поступали только ронины, самураи без господина, — персонажи куда менее любимые в народе, чем ся в Китае. Конфуций же учил: «совершенный муж исполнен достоинства, но не склонен к стычкам»6. «У совершенного мужа нет оснований вступать в состязание. Это необходимо ему разве что при стрельбе из лука!»7. (Стрельба из лука, о которой говорит Кун-цзы, — разумеется, не произвольное светское развлечение, а эстетический ритуал, одно из предписанных канонами и освященных традицией «благородных искусств».) И, наконец, нельзя не вспомнить суть категории жэнь (человеколюбия, или гуманности), ключевой для всей конфуцианской этической парадигмы, — золотое правило конфуцианской морали: «не делай другим того, чего Долин А. А., Попов Г. В. Традиции у-шу. Красноярск, 1990. С. 70. Кравцова М. Е. Указ. соч. С. 340. 5 Рифтин Б. Сказитель Ши Юй-кунь и его истории о мудром судье Бао и храбрых защитниках справедливости. / Ши Юй-кунь. Трое храбрых, пятеро справедливых. М., 2000. С. 17. 6 Конфуций Указ. соч. С. 181. 7 Там же. С. 105. 3 4 Кравцова М. Е. Указ. соч. С. 129 – 130. Конфуций Лунь юй. / Классическое конфуцианство: переводы, статьи, комментарии А. Мартынова и И. Зограф. В 2 т. Т. 1. СПб. – М., 2000. С. 177 – 178. 1 2 не желаешь себе»1. Образ ся, как мы видим, едва ли соответствует конфуцианскому этическому канону. Что кроме желания подвига и славы двигало персонажами китайского героического романа?.. Любопытно, что в большинстве произведений жанра, в том числе и в триаде наиболее известных образцов («Троецарствие», «Речные заводи», «Путешествие на Запад»), неизменно фигурирует мотив бунта, бунтарства. (В отношении к бунту, кстати, также ясно видна разница между китайским и японским менталитетом: японская история, в отличие от китайской, почти не знает народных восстаний и смут, — почти все вооруженные конфликты протекали в Японии между самураями, т. е. внутри сословия профессиональных воинов.) 1. 2. «Троецарствие» Ло Гуаньчжуна (1330? – 1400?), повествующее о событиях II – III веков., времени заката династии Хань, — это история бесконечных мятежей. Многие персонажи здесь меняют в ходе повествования сторону, на которую помещаются. Более того, некоторые ключевые фигуры романа из персонажей «нейтральных» и даже положительных превращаются в злодеев, однозначно осуждаемых даже автором, который, как правило, весьма скуп на этические оценки, и большинство суждений лишь вкладывает в уста тех или иных героев. В большинстве подобных случаев персонажа «портит» обретаемое могущество. Два ярчайших примера — Дун Чжо и Цао Цао, которые из военачальников «правой» стороны, подавляющих восстание Желтых повязок, превращаются в тиранов и убийц. (Описания жестокостей, творимых Дун Чжо заставляют вспомнить… валашского князя Влада Цепеша. «Сидя за столом, Дун Чжо придумывал казни для них. Он приказывал отрубать им руки и ноги, выкалывать глаза, отрезать языки, варить в большом котле. Вопли истязаемых жертв потрясали небо. Придворные ежились от страха, а Дун Чжо пил, ел, беседовал и смеялся как ни в чем не бывало»2. Даже священная и неприкосновенная персона Императора является таковой лишь для небольшого числа персонажей «Троецарствия»; Императоров предают и убивают так же, как и правителей и военачальников различных рангов. Распространенным сюжетным поворотом является убийство командующего подчиненным, стремящимся сдаться на милость врага и купить себе жизнь. Один из персонажей, лестью подстрекая другого перейти на сторону врага, говорит: «…умная птица выбира- Например: Конфуций Указ. соч. С. 182. Ло Гуаньчжун Троецарствие. (http://china.kulichki.com/library/SanGuo). Гл. 8. 1 2 ет себе дерево, на котором вьет гнездо, а мудрый слуга избирает себе достойного господина»3: поступок и мысль, которые в Японии, для японского воина были бы просто чудовищны. Безусловно же, положительные герои «Троецарствия» — это воины, демонстрирующие чудеса отваги и боевого мастерства на полях сражений: такова, например, неразлучная троица — Лю Бэй, Чжан Фэй и Гуань Юй. Эти трое берутся за оружие, желая «послужить государству и принести мир простому народу»4, но и для них воинская гордость и верность собратьям по оружию оказывается порой важнее, чем служение господину. Иллюстрация тому — инцидент, в котором оскорбленный Чжан Фэй готов убить командующего, и не делает этого, только чтобы продолжать сражаться заодно с побратимами5. 1. 3. Также интереснейший пример «бунтарской» мотивации китайского литературного героя являет знаменитое «Путешествие на Запад» У Чэнъэня (1500 – 1582). События романа хоть и привязаны к Танской эпохе, но разворачиваются в основном в мифологическом, легендарном и просто вымышленном пространстве: на Небесах, в Преисподней, в бесчисленных волшебных землях. Любопытнее всего то, что главный герой книги — Царь Обезьян Сунь Укун — самый настоящий «бунтарь без причины», т. е. фигура для всей китайской культуры поистине уникальная. Сунь Укун сражается не с земными правителями; он восстает против самих небожителей, против всего неисчислимого пантеона китайских богов – как даосской, так и буддийской мифологии. Причиной конфликта является нарушение Царем Обезьян — по незнанию, из обезьяньего любопытства и непоседливости, — божественных правил. После того, как боги обрушивают на Сунь Укуна всю свою мощь и все равно не могут взять верх, они прибегают к помощи самого Будды Шакьямуни, который — единственный во всем мироздании — оказывается способен усмирить Обезьяну. Кто такой Царь Обезьян, что все небожители не могут совладать с ним? Это — персонаж, возникающий в китайской культуре практически ниоткуда. Наделенная волшебными силами и воинскими навыками каменная обезьяна, рожденная однажды Небом и землей, является, похоже, собственным созданием У Чэнъэня, в мифологии прежде не существовавшим (прототип у нее, правда, был — это обезьяний царь Хануман из индийского эпоса «Рамаяны»). Царь Обезьян — это, во многом, Там же. Гл. 3. Там же. Гл. 1. 5 Ло Гуаньчжун Указ. соч. Гл. 1. 3 М.: ГИХЛ, 1954 4 удалец-ся, только на сказочный лад; он любит битвы и славу, легко приходит в ярость и никогда не отказывается от брошенного вызова. В «Путешествии…» присутствует и мотив служения. После того, как Обезьяну усмиряет Будда Шакьямуни, Сунь Укун, дабы искупить причиненное небожителям зло, вынужден, смирив гордыню, отправиться в путешествие с буддийским монахом Сюаньцзаном, став его учеником, защитником и слугой. Монах Сюаньцзан же, несмотря на святость и добродетель, во множестве эпизодов предстает глупцом и трусом, и спасать его из лап разбойников, демонов и чудовищ оказывается для Сунь Укуна даже не столько трудно, сколько – унизительно. В финале Сюаньцзан, Сунь Укун и остальные их спутники обретают просветление и занимают различные посты в иерархии Будд и Бодхисатв. Но навязчивая буддийская мораль выглядит в сочинении У Чэнъэня почти неестественно, почти чужеродно. Истинные же достоинства книги, делающие ее популярнейшим произведением китайской литературы, — это авантюрный сюжет, боевые сцены, ряд комических эпизодов, стихотворные описания природы и т. д., но, прежде всего, комически-героический главный герой, могущественный, бесстрашный, самоотверженный, и при этом — дикий, наивный и до последнего не желающий признавать над собою никого и ничего: ни богов, ни Будд, ни правил поведения. 1. 4. Итак, основное различие воинских идеалов, описанных в китайском и японском героическом романе, в том, что самурайский идеал в Японии полностью соответствует этическому идеалу культуры в целом. В Китае литературный воин-герой есть фигура несравненно более «асоциальная», не чуждая служения, но действующая в значительной степени для себя — ради славы, свободы, в поисках нового боевого мастерства etc. 2. Идеальная смерть 2. 1. Постановка вопроса, какой должна быть смерть героя, актуальнее для японской культуры, чем для китайской. Однако и здесь рассмотрение вопроса следует начинать с самых истоков — с конфуцианской этики. Конфуцианский «совершенный муж» должен иметь к смерти отношение спокойное и уравновешенное, и речь здесь, само собой, ни в малейшей степени не идет о своеобразном «стремлении к смерти», свойственном японской — самурайской — культуре. Когда Конфуция спросили, кого тот взял бы с собою в битву, он ответил: «Я не возьму с собой тех, кто [с голыми руками] идет на тигра, ни тех, кто [не в поисках брода] бросается в реку, ни тех, кто готов умереть без сожаления. Я непременно [возьму с собой] тех, кто занимается делом с осторожностью…»1. Но при этом «и благородный муж, наделенный [возвышенными] стремлениями, и гуманный человек не станут цепляться за свою жизнь, [рискуя этим] повредить человеколюбию. Во имя торжества человеколюбия они [готовы] пожертвовать собой»2. Восприятие смерти – один из многих критериев, по которым отличаются друг от друга «совершенный муж» и «маленький человек». Чересчур цепляться за жизнь, как и за материальные блага, — удел маленького человека, эгоистичного простолюдина, не обладающего этическими достоинствами. На материале китайского героического романа вряд ли можно выявить некое особенное отношение к смерти, не присущее эпическим героям другим народов. Отдельно следует отметить лишь, что гибель придавала особый статус даже не свершенному подвигу. «Каноническим» в этом отношении эпизодом из китайской истории можно считать историю покушения Цзин Кэ на Цинь Ши-хуанди, первого Императора Китая (III в. до н. э.). Покушение не удалось; Цзин Кэ погиб, но был воспет как герой. Более полутысячи лет спустя после его гибели знаменитый поэт Тао Юань-мин завершил поэму «Воспеваю Цзин Кэ» такими словами: Ах, печаль меня мучит: был он слаб в искусстве кинжала, Удивительный подвиг не успел увенчать успехом. Но того человека пусть и нет уж на белом свете, Будет в тысячелетьях он тревожить сердца потомков! 3 Эпизод, напоминающий рядом деталей сцену покушения Цзин Кэ, есть в «Троецарствии». Сановник У Фоу пытается убить Дун Чжо кинжалом; тиран, подобно Цинь Ши-хуанди, вступает с убийцей в единоборство и выживает лишь за счет собственной силы и ловкости. Схваченный подоспевшими слугами, герой бросает в лицо тирану слова презрения и ненависти, после чего гибнет, разрубленный на куски. Сцена покушения заканчивается стихотворением: Средь верных друзей династии Хань У Фоу считали вернейшим: Во время приема злодея убить пытался он скрытым оружьем. Конфуций Указ. соч. С. 128. Там же. С. 179. 3 Тао Юаньмин Осенняя хризантема. СПб., 2000. С. 205 – 206. 1 2 И храбрость его дошла до небес, а слава живет и поныне. Во веки веков его будут звать великим и доблестным мужем 1 В обоих случаях мы видим, как факт поражения отступает на дальний план благодаря героическому намерению и факту героической гибели персонажа. 2. 2. Идеальная «смерть по-японски» означает не классическую для воина любой культуры гибель в бою, а самоубийство. Не останавливаясь на генезисе и описании ритуала сэппуку (харакири) (одно из подробнейших рассмотрений этого вопроса есть, например, у А. Б. Спеваковского)2, обратимся исключительно к этическим мотивам самоубийства на Дальнем Востоке. Самоубийство воина издревле известно и в китайской культуре. В героическом эпосе и романе часто упоминаются самоубийства воинов и военачальников, проигравших сражение и не желающих испытать позор плена. В древней литературе фигурируют также случаи, вызванные куда менее «практической» необходимостью. Так, в «Яньском наследнике Дане», анонимной повести I века, повествующей о покушении Цзин Кэ на Цинь Ши-хуанди, есть следующий эпизод. Цзин Кэ со спутником отправляются в свое заведомо гибельное путешествие к Циньскому тирану. «Когда они проезжали мимо провожавших, Ся Фу перерезал себе горло, напутствуя тем самим храбрецов»3. Ся Фу — это «храбрейший муж», поначалу не признававший моральных достоинств Цзин Кэ и даже пытавшийся поначалу затеять с ним ссору. Итак, уже в китайской повести I века мы встречаем добровольное «искупительное» самоубийство героя, ни в малейшей степени не вызванное внешней необходимостью (приказом господина etc). Это — способ принести извинения более достойному, и последнее напутствие отправляющемуся на подвиг. Однако приведенный пример является, конечно, исключением. Одним из величайших благ в китайской культуре на протяжении всей ее истории считалось долголетие (для последователей мистического даосизма — и вовсе физическое бессмертие), а вовсе не ранняя героическая смерть. Первые сэппуку японских воинов относятся, по всей видимости, к эпохе Хэйан (VIII – XII вв.), подлинное же распространение получают лишь в конце этого периода, в XII веке. Последнее столетие периода Хэйан, а точнее — война между родами Тайра и Минамото, —ничто Ло Гуаньчжун Указ. соч. Гл. 4. Спеваковский А. Б. Указ. соч. С. 39 – 60. 3 Поэзия и проза Древнего Востока. М., 1973. С. 351. иное, как золотой век японских воинов; время зарождения и формирования самурайской культуры — и в то же самое время удивительным образом эпоха ее наивысшего расцвета. Для «японских рыцарей» последующих времен период войн между Тайра и Минамото стал тем, чем был для рыцарей европейских век короля Артура, — эпохой архетипического, идеализированного, идеального героизма. Не случайно все важнейшие произведения в жанре воинской эпопеи гунки повествуют именно об этом периоде. Чаще всего в то время самоубийство совершалось в случае нежелания сдаться в плен и с целью смыть позор поражения, а также после смерти господина (отголосок архаической традиции убивать на могиле правителя его слуг). Почему самурай предпочитал смерть от собственной руки гибели в бою? Причин несколько. Во-первых, в непредсказуемой стихии боя ничто не могло гарантировать воину именно смерть, а не ранение и плен; пленение же означало позор и пытки. Другая причина — нежелание дать противнику повод для гордости. «Никому из вас, — восклицает в «Сказании о Ёсицунэ» (XV – XVI вв.) вассал заглавного героя, Сато Сиробёэ Фудзивара Таданобу, — не придется говорить про меня: я-де его убил, он-де его прикончил. Я сам вспорю себе живот»4. Достойным жестом со стороны противника было в подобном случае не продолжать бой, а позволить самоубийству свершиться чинно и с достоинством, с прощальными словами и чтением буддийских молитв. Становится известен также и такой мотив (характерный в целом для более поздних времен), как протест против несправедливости собственного господина, желание убедить его в чем-то. Так, в «Повести о доме Тайра» («Хэйкэ-моногатари»), героическом эпосе XIII века, есть эпизод, в котором Кисо Ёсинака, один из могущественнейших военачальников своего времени, накануне решающей битвы посещает дом одной из своих возлюбленных и долго не может его покинуть. Ёсинаку осуждает один из его вассалов, Иэмицу из Этиго: «— Как вы можете нежничать и любезничать в такой час? <…> Коли так, я первым отправлюсь в обитель смерти и буду там ожидать вас! — И с этими словами Иэмицу распорол себе живот и скончался. — Он лишил себя жизни, чтобы пробудить во мне мужество! — воскликнул Ёсинака, покинул наконец дом и поскакал прочь»5. Другой эпизод показывает самоубийство пожилого воина Ёримасы, многими деталями напоминающее позднее каноническое сэппуку. И сам способ самоубийства, и сложенные перед смертью стихи, и наличие по- 1 2 4 5 Сказание о Ёсицунэ. СПб., 2000. С. 172. Повесть о доме Тайра. М., 2000. С. 376. мощника, призванного отрубить самоубийце голову, — все это впоследствии станет обязательной частью ритуала сэппуку. Стоит отметить, что самурай, которому выпадает миссия отрубить голову своему господину, отказывается сделать это, пока тот жив: «—Понимаю! — отвечал Ёримаса. <…> Потом он произнес прощальные стихи — и было то и прекрасно, и скорбно! Пусть древом упавшим В земле буду я истлевать, Не зная цветенья, — Всего тяжелее из жизни Уйти и плодов не оставить… Таковы были его последние слова перед смертью. Затем он резко приставил кончик меча к животу, нагнулся вперед так резко, что меч, насквозь пронзив его тело, вышел сзади, и Ёримаса испустил дух. Не каждый способен слагать стихи в такую минуту! Но Ёримаса любил поэзию с юных лет и даже в смертный час не забыл своего искусства»1. Сложение предсмертного стихотворения – одна из важнейших составляющих оформившегося впоследствии ритуала самоубийства. Статус подобного эстетического жеста становится особенно ясным в свете конфуцианского изречения: «пение птицы перед кончиной — печально, слово человека перед кончиной – превосходно»2. 2. 3. Итак, смерть, наиболее предпочтительная для героя воинского эпоса и романа, — это смерть от собственной руки. Подобная практика возникает еще в древнем Китае, где, в отличие от Японии, впрочем, самоубийству не отдается предпочтение перед гибелью в бою. Самоубийство совершается китайским героем либо во избежание плена, либо — в ситуации особой этической проблемы (самоубийство Ся Фу, который оскорбил Цзин Кэ). При этом несравненно более желательными исходом для героя является, конечно, не смерть, а победа и долгая жизнь. Японский же «воин-герой всегда знал: как бы много сражений он ни выиграл, как бы много наград ни получил, в конце его ждет трагическая судьба, и эта трагичность не будет результатом ошибок, недостатка стойкости или невезения (хотя все это и может иметь место); причина ее заключена в человеческой карме, несущей мученическую участь»3. Заключение Повесть о доме Тайра. М., 2000. С. 211. Конфуций Указ. соч. С. 134. 3 Моррис А. Благородство поражения: Трагический герой в японской истории. М., 2001. С. 17. 1 На материале героического романа мы рассмотрели некоторые из основополагающих идей и этических ценностей китайской и японской воинской культуры. Каковы же эти идеи, определявшие и жизнь, и смерть героев; чем схожи и чем различаются этические достоинства китайского и японского воина? 1. В основе обеих воинских традиций лежит конфуцианская этика, одной из основных добродетелей провозглашающая служение стране и господину. На «общекультурном» уровне конфуцианская мораль господствовала и в Китае, и в Японии, но в рамках воинской культуры учение Кун-цзы претерпело — в обоих случаях — определенную трансформацию. В Японии конфуцианство стало «подтверждением того, что было признано национальным инстинктом задолго до появления в Японии работ Конфуция», а «аристократический и консервативный стиль Конфуция великолепно согласовывался с требованиями государственных деятелей-воинов»4. Если не конфуцианская гуманность, то, во всяком случае, категории долга, сыновней почтительности и ритуала стали неотъемлемой частью самурайской культуры. Китайский же воин-герой — далеко не всегда слуга и вассал. Наряду с благородными полководцами, воюющими ради блага страны, героями часто оказываются бунтари-повстанцы и бродячие мастера, сражающиеся ради почестей, богатств и по иным личным мотивам. 2. И в Китае, и в Японии, героический статус персонажу произведения, безусловно, сообщает достойная смерть. Но в Китае она не является непременным атрибутом судьбы героя; напротив, идеал мастера военного искусства — это древний старец, которому психофизические практики обеспечили почти мистическое долголетие. Японского же воина, напротив, сама судьба ведет к смерти; гибель героя неизбежна в воинском романе; более того, уже с ранних веков формирования самурайской культуры в Японии происходит своего рода эстетизация смерти безвременно ранней. Не случайно в японском романе при описании чьей-либо героической гибели очень часто указывается возраст персонажа. Чем моложе воин (а самураи выходили на поле битвы и в 16, и в 15 лет, и даже раньше) — тем более почетна и красива смерть (известнейший пример в японской литературе — гибель юного Тайра Ацумори от руки Кумагаи Наодзанэ). Различий между воинскими идеалами в китайской и японской героической литературе много. Однако есть и то, в чем неминуемо поняли бы друг друга воины самых различных эпох и земель, персонажи и реальные, и вымышленные: это желание остаться в памяти будущих поко- 2 4 Инадзо Нитобэ Бусидо – Дух Японии. К., 1997. С. 22. лений. Конфуций сказал по этому поводу: «совершенный муж досадует, если предвидит, что после его смерти его имя не будет произноситься». Лао-цзы выразил это так: «кто умер, но не забыт, тот бессмертен». А. В. Михаленко «О человеческом в человеке» В ногах crescendo, в ладонях diminuendo… Э. Жак-Далькроз История музыки — это история творящих ее людей и поэтому, как бы не казались неуловимыми способ возникновения и область существования музыки, на зависимость ее от телесной структуры указывают определенные факты. Человек, творящий музыку, неосознанно наделяет ее своими формообразующими, человеческими качествами (ритм, темп, движение). В свою очередь и музыка способна врачевать, организовывать и подчинять себе тело человека. В современном мире музыка предельно близко расположена к человеческому телу за счет усиления своей ритмической концепции. Такой резкий уклон в сторону технического усовершенствования звука, изобретения новых ритмов приводит к ее внешнему развитию, т. е. развитию формы (тела) музыки. Современная электронная музыка — это ни что иное, как огромная сфера возможностей в процессе необычного творчества, где компьютер, создавая великое множество вариаций, является сотворцом, а, значит, и со-автором. И как говорил Эмиль Жак-Далькроз, «музыка, написанная для марша, должна побуждать к движениям маршировки, так как в душе композитора вид именно этого рода явлений вызвал определенные музыкальные образы»1. Поэтому механически изобретенная и соединенная воедино музыка должна порождать такую же механическую реакцию. Отсюда исходит объяснение целой идеологии роботизации у современных электронных исполнителей. Примером тому может служить 1 Жак-Далькроз Э. Ритм. М., 2001. С. 116. творчество одного из родоначальников электронной музыки — группы Kraftwerk. Она часто использует образ человека-машины за работой, в спорте (велоспорт, гребля, бег), где механистичность движений, предсказуемость действий очевидна. Современному человеку становится свойственным понимание прозрачности своего организма (электрокардиограмма, ультразвуковое исследование и проч.), что приводит к видению механизма действия. Пульсация, дыхание, кровообращение — теперь еще и видимые ритмы человека. Как пишет известный исследователь, «научная мысль, с помощью ею же вызванного развития огромных инструментальных возможностей познания, создала новый образ мира… Принципы относительности и дополнительности, как и инверсионной вариативности («монтажа») становятся общими основными принципами мышления…»2. Это во многом предопределило не только организационноритмическую, но и содержательную сторону электронной музыки. И в этом случае чувство ритма несет в себе как моторно-настроечную, так и эмоциональную функцию, в виде ориентира на определенные ощущения (трип-хоп — «меланхолично», аксид-хаус — «радостно и резко»). Появление новых ритмов объяснимо, с одной стороны, расширением возможностей и увеличением вариантов ритмотворчества, а с другой стороны, — тем, что существует быстрая адаптация к однообразному ритму, и появление нового дает ощущение остроты физических переживаний. Так как восприятие ритма, на котором к тому же делается акцент в современной электронной музыке, не является пассивным процессом, а напротив, это «субъективное взвешивание собственных движений»3. Традиционная для такого рода музыки организованность большого количества людей (огромные залы, клубы) приводит к чувству всеобщего единения, вследствие активного включения моторики, что расценивается слушателем как его собственная деятельность, как сопричастность к творческому процессу. Но каждый чувствует при этом свою индивидуальность в движениях, реакциях и ассоциациях. Монотонное повторение заданного ритма приводит человека в состояние завороженности, медитативности, о чем неоднократно говорят те, кто бывает на больших площадках, где звучит электронная музыка. Структура современной музыки частично сближается здесь с архаиче- 2 Бергер Л. Г. Звук и музыка в контексте современной науки и древних космических представлениях // Пространственный образ как модель художественного стиля. Тбилиси, 1989. С. 157. 3 Готсдинер А. Л. Музыкальная психология. М., 1993. С. 65. ским фольклором, который, по словам Т. Чередниченко, основывается на двух факторах: «олиготонном характере мелодики и репетитивной ритмике. Олиготоника — это небольшой объем попевок и малое количество вовлеченных в напев звуков. Репетитивизм — многократное повторение унифицированных мелодико-ритмических оборотов»1. Повторение несложных мелодических линий, стандартного ритмического рисунка воспроизводит цикличность дыхания и пульса. Манипулируя громкостью, темпом и регулярностью повтора, можно настраивать у слушателей дыхание и пульс, мышечную координацию и другие физиологические функции. А всякое достаточно длительное и монотонное повторение обладает гипнотическим эффектом, отсюда и возникает ощущение транса у слушателей. Р. Хюнтер (один из лидеров вышеупомянутой группы Kraftwerk) заметил, что «…динамика машины, душа машины — это самая важная часть нашей музыки. Постоянное повторение вызывает состояние транса, а каждый индивидуум ищет возможность впасть в транс в развлечениях, в мире чувств, но только машины изготовляют его безупречно»2. Если же не брать во внимание ритмику, идущую от физических ритмов человека, а обратить свой пристальный взгляд на создание оригинального звучания, то и здесь можно проследить определенные параллели с чувственно-физическим восприятием человека окружающего его мира. В современной электронной музыке тенденция склоняется к нетрадиционному звуковому наполнению. Это могут быть звуки в нашем понимании необъятного космического пространства, таких мест, где человеку не дано ощутить свою телесность. Здесь преследуется цель не отрицания, а иного ощущения телесности, потери вещественности, «утяжеленности» в этом мире. Ярким примером тому может служить музыка группы Massive Attack, которая пропагандирует исключительно электронное звучание. Видеорядом на композицию «Tear drop» служат кадры, изображающие ребенка в утробе матери в плотном водном пространстве невесомости. Композиция строится с помощью гармоничного сочетания ритма, схожего со спокойным биением сердца, и нежного женского вокала, напоминающего колыбельную матери. Такое состояние СВЕРХпокоя, приводящее слушателя в завороженное состояние, и дает ощущение невесомости. Очевидно, что подобным желанием невесомости объясняется и обилие так называемых «звуков космоса»: преобразование голоса в метал- 1 2 Чередниченко Т. В. Музыка в истории культуры: В 2 т. Т. 1. М., 1994. С . 137. Цит. по: Горохов А. Музпроствет. М., 2003.С. 51. лических оттенках, пульсирование или сознательное растяжение звуковсигналов, глубина и тревожность по-новому генерированных «звукоэлементов». Все это говорит о том, что не естественные, не природные (механические) звуки для человека символизируют, с одной стороны, его стремление постичь новое, но, с другой стороны, они выражают страх перед огромным космическим неизвестным, которое есть нечто далекое и недоступное даже для осознания. Можно согласиться с тем, что «в нашу эпоху, открывшую бесконечный горизонт мира, человечество с разных точек зрения пытается охватить недоступное ему целое космоса. Непостижимо космический, многомерный образ мира вышел далеко за пределы конкретной, окружающей человека земной реальности и за пределы эмпирически постигаемых научных закономерностей»3. Современная электронная музыка напоминает полет невесомого тела над миром, в отличие от классически звучащего произведения – полета души в материальном мире. Тем не менее, музыка есть воплощенная целостность человека в его физическом и духовном единстве. Поэтому она имеет свою, пусть даже не материализованную, но все же оболочку, свою телесность, а также свое духовное, внутреннее начало, что позволяет нам говорить о ее ценности, целостности. Нельзя однозначно рассуждать о бездуховности, бессодержательности современной музыки, опираясь на внешние, формальные критерии. Потому что каждая культурная эпоха порождает свой музыкальный стиль как некий концентрат общественного мировидения. Создание современной музыки можно определить как проявление души через тело. С одной стороны, это — естественный ответ человека на высокий темп современной жизни и деятельности, а с другой, это — уход от традиционной европейской (мелодической) концепции музыки, определенная дань человеческому (телесно-ритмическому) в человеке. П. М. Колычев Дерево в шумерской культуре Введение Для понимания ассоциативных значений образа дерева необходимо учитывать культуру, в которой функционировал данный образ. Часть этой задачи приходится на конкретную роль дерева в культуре Шумера, 3 Бергер Л. Г. Указ. соч. С. 163. ибо для того чтобы понять символическое значение образа дерева, изначально необходимо знать его конкретно-культурные значения. В принципе, образы могут иметь различные значения в отличных друг от друга культурах. Например, в культуре, размещённой в лесах средней полосы России, дерево играет иную роль, нежели в культурах, размещённых в пустынях. Учёт конкретно-культурного значения дерева в Шумерской культуре снижает фактор субъективности современного исследователя, ибо каждый из нас может принадлежать к культурам с различными конкретными значениями образа дерева. Как мы увидим далее, в распоряжении современных исследователей большое количество материала по рассматриваемой теме, что даёт надежду на её достаточно объективное освещение. Однако в нашем распоряжении, за редким исключением, не было подлинных шумерских текстов. Для своих выводов нам пришлось довольствоваться вторичным материалом, т. е. выводами и высказываниями шумерологов, которые, мы надеемся, имели дело с первичным материалом. Основную роль в такого рода вторичном материале играет замечательная работа А. И. Тюменева «Государственное хозяйство древнего Шумера», в которой приведено большое количество фактического материала. Часть работы подобного рода уже была выполнена ранее Е. Н. Синской в её статье «Культурная флора древнего Двуречья (Месопотамия)». Однако такая работа не охватывает значительный круг вопросов, касающихся роли дерева в культуре Шумера. Данная работа является обобщением, как по времени, так и по пространству Шумера. Обобщение по времени означает, что мы не ставили перед собой задачу отобразить историческое (временное) развитие значения дерева в культуре Шумера. В основном нас интересовала тема дерева в период наивысшего расцвета культуры Шумера. Поэтому из данных об историческом развитии этого вопроса мы выбирали те, которые отражали наиболее развитую форму. Нечто подобное осуществлено нами и относительно пространственного фактора: нас интересовал Шумер в целом, а не его отдельные города и регионы. Например, успехи использования дерева в Уруке распространялись нами на всю территорию Шумера. Поэтому все конкретные географические названия, которые встречаются в документах, заменены нами на одно название — Шумер. Подобные приёмы может быть недопустимы, если речь идёт об освещении истории Шумера, но думаю, что они вполне приемлемы для поставленной нами цели — наиболее адекватного понимания образа дерева в шумерских мифах и эпосе. 1. Природные условия Шумера Поскольку в данном случае речь идёт о растении, то немаловажное значение здесь имеют природные условия Шумера. Шумер простирался примерно на 400 км от г. Эриду до г. Сиппара, и примерно на 200 км в самом удалённом месте между руслами Евфрата и Тигра. Это прямоугольные рамки Шумера. В реальности вряд ли вся эта территория попала в сферу культурного влияния Шумера, т. е. его культурная площадь была несколько меньше его географической площади. По сторонам света Шумер вытянулся с северо-запада на юго-восток. Территория Шумера представляла собой ярко выраженный самостоятельный ландшафт, имеющий с трёх сторон естественные природные границы. На юго-востоке Шумер ограничен морем, которое сейчас мы именуем Персидским заливом. На северо-востоке Шумер заканчивается у подножия гор Загрос. На юго-западе Шумер упирается в Аравийскую пустыню. Открыт Шумер лишь с северо-запада. Сама территория Шумера представляет собой равнинную местность, вдоль которой практически параллельно протекают две большие реки Евфрат и Тигр. Разливы обеих рек сыграли решающее значение в существовании Шумерского этноса. <В низовьях Евфрата и Тигра из ила создавалась низменность (аллювиальная) потенциально очень плодородная. Перепад уровня реки между северным и южным пределами составлял 1 м на 1000 м русла, и гладкая поверхность равнины была причиной того, что Евфрат и его рукава, а в самых низовьях и Тигр, при своих разливах часто меняли направление, затопляя огромные пространства, и оставляя другие места без воды, так что болота и зарастающие тростником мелководные озёра всюду соседствовали с пустынными просторами, часто песчаными, развеваемыми ветром. В болотистые лагуны и озёра приливы Персидского залива и муссонные ветры заносили горько-солёную воду, а в тростниковых зарослях кишели дикие звери и реяли мириады комаров.>1 <Природные климатические условия Шумера отличаются жарким и сухим климатом>2. <Семь — восемь месяцев в году здесь не выпадает дождь, температура воздуха летом не падает ниже 30, а часто достигает 50 и более, причём тени нет нигде.>3 <Самым холодным месяцем был январь, но снега не было. Весна наступает в феврале.> 4 <Нещадно 1 История древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги рабовладельческой цивилизации. Ч. 1. Месопотамия. М., 1983. С. 35 – 36. 2 Клима Й. Общество и культура Древнего Двуречья. Прага, 1967. С. 117. 3 История древнего Востока… . С. 36; Клима Й. Указ. соч. С. 117. 4 Клима Й. Указ. соч. С. 117. палящее солнце превращало плодородную почву в пустыню уже в нескольких шагах от реки.>1 2. Дикорастущие деревья Шумера Суровые природные условия Шумера значительно ограничивали количество пород деревьев, которые смогли бы вынести существующий климат. Без культурного участия человека, пожалуй, единственным местом произрастания деревьев были берега водоёмов и, прежде всего, берег Евфрата. Что же касается Тирга, то из-за того, что он <на значительном протяжении течёт в высоких берегах> 2, его берега мало предназначены для произрастания деревьев, которым труднее доставать воду с его высоких берегов. Вдоль Евфрата без участия человека могли произрастать такие деревья, как финиковая пальма, терновник, тамариск, смоковница, самшит, кедр, кипарис, тополь 3. Относительно самшита известно также, что он ввозился в Шумер из других стран, и его произрастание в Шумере ставится под вопрос4. Древесина самшита, кедра, кипариса и тополя достаточно хорошего качества, и если бы они действительно могли произрастать в Шумере как дикорастущие деревья, то в последствии люди наверняка научились бы их разводить, однако в нашем распоряжении нет свидетельств подобного рода. Как мы увидим далее, для деловой древесины возделывались плантации финиковой пальмы и тамариска. Поэтому возникают сомнения относительно дикорастущего произрастания в Шумере самшита, кедра, кипариса, тополя. Иногда в работах по культуре Шумера можно встретить фразу типа: <в Шумере известен был и ряд других древесных пород5>6. К сожалению, в них не указывается, о каких именно породах идёт речь, и не уточняется, произрастали ли эти породы в Шумере или ввозились в него из вне. История древнего Востока… . С. 35. История древнего Востока… . С. 36. Синская Е. Н. Культурная флора древнего Двуречья (Месопотамии) // Известия Всесоюзного географического общества. 1961. Сен.-окт. Т. 93. Вып. 5. С. 395 – 405; Клима Й. Указ. соч. С. 120 – 121; Кленгель-Бранд Э. Путешествие в древний Вавилон. М., 1979. С. 85. 4 Синская Е. Н. Указ. соч. С. 395 – 405. 5 D e i m e l A. Šumerische Tempelwirtschaft... . Стр. 90 и сл. Приводятся выводы специальной статьи в «Orientalia» (16, C. 1 – 87); UET, III, указатель под словом «giš» и пр.; Indexes, стр. 88 и сл. Относительно Уммы см.: Н и к о л ь с к и й, II, № 425 – 435, ср. стр. 17 – 18; S c h n e i d e r, Berl., указатель, XIV, 3 (стр. 36); S c h n e i d e r, Str. и S c h n e i d e r, Mont., соответствующие места указателей. Относительно Лагаша см.: R e i s n e r, указатель, стр. 14, под словом «giš». 6 Тюменев А. И. Государственное хозяйство Древнего Шумера. М.-Л., 1956, С. 178 – 180, 317 – 322; Синская Е. Н. Указ. соч. С. 395–405. 1 Таким образом, с достаточно большой уверенностью о дикорастущем произрастании деревьев в Шумере можно заявить, что без участия человека там произрастали финиковая пальма, тамариск и терновник. <Тамариск (из семейства гребенщиковых) — кустарник или небольшое красивое стройное дерево до трёх с лишним метров> 7 <с гладкими бурыми или красноватыми ветвями, направленными вверх; листья чрезвычайно мелки, в виде зеленоватых или сизых чешуек, сидят тесно на опадающих к зиме зелёных веточках. Мелкие бледно-розовые цветы в красивых повислых кистях или колосьях. Цветки обоеполые, редко двудомные; чашелистиков и лепестков 4 – 5 – 6; тычинок 4 – 5, редко 8 – 10; столбиков 3 – 4 (редко 2 – 5); плод — одногнездная многосеменная коробочка; семена мелкие с волосистою летучкою на конце (наподобие ив и тополей), разлетаются далеко по ветру.> 8 <Тамариск растёт по солончакам, чаще всего у воды: по берегам морей и рек.> 9 <На солончаках тамариск составляют иногда единственную древесную породу. На почву тамариски не прихотливы.>10 <Тамариск также растёт в степях и пустынях, так как хорошо переносит засуху.>11 <Тамариски обладают сильным ростом и способностью пускать обильную корневую поросль. Древесина тамариска твёрдая и плотная. Из стеблей тамариска, вследствие укушения кошенилью, вытекает сахаристый сок, быстро твердеющий на воздухе крупинками: он представляет манну, упоминаемую в Библии.> 12 Исходя из одного, но достаточно весомого фактора растениеводства — воды, можно с большой долей уверенности утверждать о весьма ограниченном ареале существования дикорастущих деревьев в Шумере. В самом деле, главным источником поступления воды в Шумере были реки Евфрат и Тигр, у которых, к стати говоря, не было на территории Шумера притоков. Как уже говорилось выше, без искусственного орошения деревья могли расти только в узкой зоне береговой полосы Евфрата. В этом плане в «абсолютном» значении не совсем верно называть Шумер безлесой страной13 или страной, в которой не было дерева14. По- 2 3 7 Тюменев А. И. Указ. соч. С. 41; Энциклопедический словарь. СПб., 1803. Т. 18. С. 976. Энциклопедический словарь. СПб., 1803. Т. 18. С. 976. Тюменев А. И. Указ. соч. С. 41; Энциклопедический словарь. СПб., 1803. Т. 18. С. 976. Энциклопедический словарь. СПб., 1803. Т. 18. С. 976. 11 Тюменев А. И. Указ. соч. С. 41. 12 Энциклопедический словарь. СПб., 1803. Т. 18. С. 976. 13 История древнего Востока… . С. 122. 14 Клима Й. Указ. соч. С. 19; Канева И .Т. Шумерский героический эпос // Вестник Древней истории. 1964. № 3. С. 248. 8 9 10 видимому, в обоих этих случаях авторы имели в виду относительную безлесость Шумера. Иное дело, когда исследователи заявляют о бедности Шумера деревом1 или, как более точно выразился А.И. Тюменев: <Шумер — область бедная дикорастущими лесами> 2. Для того, чтобы в полной мере понять бедность Шумера деревом, необходимо знать того, кто богат им. Ведь бедность — это оценочный термин, и без указания второго объекта отношения он теряет смысл. Так, например, если сравнивать Шумер и соседствующую с ним Аравийскую пустыню, то сравнение будет в пользу Шумера. Если Шумер сравнивать с соседними горами Загроса, то более вероятно, что в преимущественном отношении будет расположившаяся на них территория Элама. Однако вышеприведённые высказывания, по-видимому, отражают сравнение шумерского ландшафта с европейским, в котором проживают большинство современных шумерологов. При таком сравнении очевидна бедность Шумера деревом. Самый главный вывод, который следует сделать из этого, — это то, что сама по себе бедность Шумера дикорастущим деревом ещё ничего не означает, ибо наряду с дикорастущими деревьями существует ещё и искусственный способ их воспроизводства. В свете сказанного, можно, например, заявить, что в Шумере было очень мало (а, может быть, и не было вообще) дикорастущего ячменя. Однако это правильное заключение ни в коей мере не свидетельствует о бедности Шумера ячменём, который весьма успешно там возделывался. Поэтому для того чтобы в полной мере оценить возможности Шумера в дереве, необходимо более подробно остановиться на вопросах возделывания дерева в Шумере. 3. Садоводство Искусственное орошение позволило человеку значительно расширить береговую территорию Евфрата, пригодную для растениеводства. Наряду с посевными культурами и овощеводством в Шумере возделывали и деревья, прежде всего это садоводство, которое, кстати, преобладало над овощеводством3. О важности и размерах садоводства свидетельствует, в частности, тот факт, что садоводство всегда имело общинный характер в начале в рамках храмового хозяйства, затем как часть обособленных (энсиальных) хозяйств в масштабах отдельных городов 1 Клима Й. Указ. соч. С. 120–121; Синская Е. Н. Указ. соч. С. 395 – 405; Тюменев А. И. Указ. соч. С. 41. 2 Тюменев А. И. Указ. соч. С. 178 – 180. 3 Клима Й. Указ. соч. С. 120; Тюменев А. И. Указ. соч. С. 41. Шумера и, наконец, как элемент государственного хозяйства централизованного Шумера4. Одной из целей садоводства являлось выращивание плодов. Для достижения этой цели в Шумере культивировались такие плодовые деревья, как финиковая пальма5, фиговое и гранатовое дерево6, инжир, смоковница7. Кроме того, выращивалось какое-то смолистое ароматическое дерево8. В некоторых работах упоминаются также яблоня и тутовое дерево9, груша и фисташки10. <Для большинства других фруктов жаркий климат Южной Месопотамии был не столь благоприятным.>11 <Из плодовых деревьев на первом месте стояла финиковая пальма, затем — фиговые и гранатовые деревья.>12 Уровень технологии в садоводстве отражается, в частности, на организации труда, для которой характерна специальная терминология. <Для обозначения всех людей занятых в садоводстве, начиная с самого высокого начальства в этой области и заканчивая вспомогательными работами, существовал специальный термин «нугири»13 — «садовники». Однако такой термин употреблялся редко. Чаще использовали термины, отражающие различные специализации в садоводстве. Высшую должностную ступень в садоводстве занимали «галиа» — «главный садовник»,14 к которым, по-видимому, относились и крупные фигуры садовников (нугири), покупающих и продающих рабынь.15 Это, по всей вероятности, были садовники, возглавлявшие большие партии работников или стоявшие во главе плантации. Такие более крупные садовники располагали даже собственной печатью. 16 Более широкое обозначение работников садовых плантаций обозначались термином «сиг», который Тюменев А. И. Указ. соч. С. 317 – 322. История древнего Востока… . С. 120; Кленгель-Бранд Э. Указ. соч. С. 84 – 85; О существовании финиковых плантаций см. D e i m e l. III. № 145. 6 Тюменев А. И. Указ. соч. С. 178 – 180; Синская Е. Н. Указ. соч. С. 395 – 405. 7 Синская Е. Н. Указ. соч. С. 395 – 405. 8 Campbell T h o m p s o n. Assyrian Herbal., стр. 135 и сл.; ср.: Campbell T h o m p s o n. Assyrian chemistry and geology, стр. XVI; латинское название Strobus; см.: P l i n., Nat. Hist., XII, 17, 40: растение с ароматической смолой; XII, 17, 37: иное обозначение ладана; См. UET, II, «Введение», C. 9 –1 0; UET, II, № 209, 241. 9 Клима Й. Указ. соч. С. 120 – 121. 10 Кленгель-Бранд Э. Указ. соч. С. 84 – 85. 11 Там же. 12 Тюменев А. И. Указ. соч. С. 178 – 180. 13 В документах Ниппура также lú-giš-giri11 (см.: SAD, № 71, 12, 16; D e l a p o r t e, № 1). 14 См.: L e g r a i n, s.v. - UET, III, Indexes, s.v. 15 R e i s n e r, № 164/12, I, 21; IV, 2. 16 TEO, № 5663, оборот, 5. 4 5 часто встречается в связи с садоводством,1 и, наконец, «уммиа», на которых лежал уход за рассадником молодых растений. 2 Вспомогательные работники обозначались термином — «думу». На работу на садовые плантации направлялись в распоряжении садовников иногда, помимо постоянных работников, более или менее значительные партии полноправных членов городской общины (гурушей), иногда на длительные сроки (от четырёх до пяти месяцев) 3, а также вместе с гурушами на пальмовые плантации посылались женщины рабыни (вероятно, на время сбора фиников) 4. Кроме того, как в полевых работах, так и в садоводстве, применялся и наёмный труд5. В плане организации садоводства следует обратить внимание на такую особенность как участие женщины в управлении садоводством. Дело в том, что <имеется несколько документов, в которых игинуду являются объектом купли-продажи, причём в качестве покупателей во всех известных нам случаях выступают жёны энси6 или их садовники7.>8 По нашему мнению, данное обстоятельство свидетельствует о том, что садоводство находилось в ведении жён городских царей Шумера. Некоторые плантации достигали значительных размеров. Обширные плантации разбивались на небольшие участки, состоявшие из 150– 350 деревьев в каждом, причём общее количество деревьев отдельных плантаций превышало 10009. Затем эти отдельные участки, распреде- UET, №№ 1019, 1106 и др. См. выше, стр. 289. 3 TEO, № 5663. Ср.: CT, X, № 21 381 (запись прикреплённых к садам гурушей с довольствием в 60 и 30 сила по 1, 2, 3, 4, 7, 12, 20 человек); ср. также: IX, № 21 348, II, 12; оборот, II, 1-2. См. также: UET, III, № 864б оборот, 1 и сл.; S c h n e i d e r, Mont., № 360. 4 C o n t e n a u, contr., № 49. 5 H a c k m a n, № 258. 6 Fö, №№ 141, 144. Ср.: Рифтин А. П. К происхождению вавилонского частноправового акта. // Вспомогательные исторические дисциплины. М.-Л., 1937, С. 4; Струве В. В. Рабство в древнем Сумире. С. 30. 7 Н и к о л ь с к и й. I. № 293. Видеть в этом документе акт покупки рабов частными лицами (см.: Струве В. В. Указ. соч.) вряд ли правильно. Правда, покупатели-садовники не названы прямо садовниками хозяйства жён патеси, однако, поскольку их имена тождественны именам садовников, возглавлявших партии игинуду в энсиальном хозяйстве, мы имеем все основания полагать, что они приобрели игинуду в качестве садовых работников именно для этого хозяйства. К тому же и сам документ представляет собой не акт регистрации покупок, а запись расходов, произведённых, очевидно, из средств хозяйства жён патеси и при посредстве торговых агентов двора — дамгаров. 8 Тюменев А. И. Указ. соч. С. 146 – 147. 9 См. документы из собрания Шейля: V. S c h e i l. De l’exploitation des dattiers dans l’ancienne Babylonie. Rev. d’Assyriol., X, 1913, С. 1 – 10; там же общие замечания относительно культуры финиковых пальм в древнем Двуречье. Аналогичную картину дают и другие документы; см.: UET, III, № 1086, 1416 (обстоятельное описание пальмовых дере1 2 лявшиеся между особыми садовниками10, которые осуществляли уход за деревьями.>11 <Иногда храмовое хозяйство такие участки сдавало в аренду на тех или иных условиях.>12 <Если по тем или иным причинам шла передача плантаций, то персонал плантаций передавался вместе с самими плантациями.13>14 В садоводстве в качестве средств производства использовались бронзовые орудия труда15. Использовались в садоводстве и силу рабочего скота16. По-видимому, одной из главных и трудоёмких технологических операций в садоводстве было орошение. <Существовали специальные рабы — игинуду, основная функция которых заключалось в подачи воды из каналов и колодцев17 для орошения садовых плантаций. Существует предположение, что именно в связи с выполнением такой чисто механической работы игинуду ослеплялись, чем и объясняется их название. Деймель и переводит термин «игинуду» как «слепой»: «Blinder» ..., собственно «неглядящий», оговариваясь, однако, что не все игинуду были слепыми. На садовых плантациях игинуду иногда задействовались на землекопных работах вместе с садовниками.18>19 <Кроме этого на садовых плантациях производилась прополка и окапывание и пр.>20 Выше мы уже упоминали, что в садоводстве существовала специальность — «уммиа», которые ухаживали за рассадником молодых растений. <Финиковые пальмы — двуполые деревья, и их приходилось искусственно оплодотворять. Для этой цели мужские метёлки вкладывались в женские соцветия и укреплялись в них. Такая процедура была необхо- вьев и тамарисков с указанием возраста деревьев, в том числе и подсаженных деревьев); S c h n e i d e r, Mont., №№ 281, 282, ср. № 355 (фрагмент). При сборе отмечались количества сбора отдельных садовников: H a c k m a n, №№ 255, 256; K e i s e r, №№ 214, 218; SAD, № 75 (в отчёте приводятся данные относительно 230 деревьев); о распределении участков плантации см. D e i m e l, III, № 54. 10 См., например: UET, №№ 1096-1098; B a r t o n, II, № 25 (табл. 63); III, № 391 (табл. 149). 11 Тюменев А. И. Указ. соч. С. 317 – 322. 12 Там же. Стр. 88 – 89. 13 UET, III, № 1106. Мастерская жреца-гала Дада часто упоминается в документах Ура этого времени. 14 Тюменев А. И. Указ. соч. С. 317 – 322. 15 Там же. С. 317–322; SAD. № 71. 16 Там же. С. 107. 17 Конус «В/С» Урукагины, VII, 17 и сл. Здесь игинуду представлен близ колодца, сооружаемого на своём поле шублугалем. 18 TSA. № 25. 19 Тюменев А. И. Указ. соч. С. 146 – 147. 20 Там же. С. 178–180. дима для получения обильного урожая.> 1 В технологические операции, по-видимому, следует включить и сбор фиников, как было упомянуто выше, для сбора могли привлекаться и другие (не садовники) люди. <И в отношении пахотных полей и в отношении финиковых плантаций производился такой же и даже ещё более тщательный учёт их плодоносности. Составлялись описи финиковых плантаций: в этих документах обычно помечается не площадь, занимаемая плантациями, 2 а число деревьев, причём деревья распределяются на группы в зависимости от их плодоносности. Наряду с плодоносящими деревьями в описаниях помечались также молодые, ещё не плодоносящие деревья.>3 Для садоводства было характерно совмещение собственно садоводческой деятельности с иными сельскохозяйственными работами. <Иногда на пальмовых плантациях одновременно высаживались также тамарисковые деревья4. Имеются сведения относительно получения с финиковых плантаций также тростника5. Пространства между деревьями на плантациях засевались зерном, причём это зерно наравне с зерном, собиравшимся с пахотных полей, поступало также в центральные зернохранилища6. Для сбора зерна на садовые участки посылались жнецы7. Виноградники обычно сочетались с насаждениями других деревьев, в частности с фиговыми деревьями8>9. Кроме того, <огородничество, по крайней мере, отчасти, было связано с садоводством.10>11 Работающие на садовых плантациях люди получали определённые довольствия. <Так, например, согласно одному документу из Лагаша,12 из общего числа занятых на садовых плантациях и получающих довольствие людей один «думу» получает всего лишь 10 в месяц; довольствие старших работников — «грушей» — составляет для каждого 30 сила в месяц, для троих 60 сила. Подобно гурушам люди, работавшие на плантациях, заняты были и соответственно получали доволь- Кленгель-Бранд Э. Указ. соч. С. 84 – 85. По крайней мере, площадь указывается не всегда. 3 Тюменев А .И. Указ. соч. С. 317 – 322; Синская Е. Н. Указ. соч. С. 395 – 405. 4 UET. III. № 1416. 5 B e d a l e, № 41, 1-2; 60 sa-gi giš-sar é šag-ga. 6 B e r t o n, I, № 102 (табл. 21). - P i n c h e s, № 54. - S c h n e i d e r, Berl., № 134; ср. S c h n e i d e r, Мont., № 132. 7 S c h n e i d e r, Мont., № 186: še gur10 gángiš sar. 8 UET, III, № 1368 (4+2 гана - около 2 га - в ведении um-mi-a).C o n t e n a u, Umma, № 106. 9 Тюменев А. И. Указ. соч. С. 317 – 322. 10 TSA, № 41. - DP, №№ 384, 386, 387, 390. - Fö, № 69. Слово «ну-гири» может означать также «огородник». 11 Тюменев А. И. Указ. соч. С. 178 – 180. 12 R e i s n e r, № 146, оборот, II, 16 и сл. 1 ствие в течение круглого года, причём получавшиеся ими нормы были различны и зависели, по всей вероятности, от различной квалификации их труда. Например, работники плантаций получали довольствие по определённым месячным нормам в течение всего года: заведующий плантацией, хотя он и не обозначен соответствующим званием, получает 75 сила, садовник (сиг) 20 сила, 2 «оросителя» один сиг 40 сила и, наконец, один дуатар получает по самой низкой расценке 20 сила. 13>14 В таком виде оплата труда в садоводстве нам мало, что говорит, ибо мы не можем сказать, много это или мало, необходимо сравнение с нормами среднего потребления в Шумере, с одной стороны, и сравнение с довольствием в других сферах производственной деятельности Шумера. О характере труда в садоводстве свидетельствует и такой фактор как смертность среди его рабочих. <Процент смертности среди садовников (нугири) был особенно высок. В среднем, по данным некоторых документов15, число умерших составляло от 20 до 25% к общему числу занятых в царском или храмовом хозяйствах работников; процент же смертности среди людей, занятых на садовых работах, повышался до 35%.>16 Трудно сказать, с чем это связано: с определёнными профессиями в садоводстве, в которых выполняемый труд мог быть слишком тяжёлым, например, это могли быть игинуду, работающие на орошении, либо с выполнением этих профессиональных обязанностей с риском для жизни. Как было сказано выше, одна из задач садоводства — получение плодов. Эффективность реализации этой задачи зависела от двух факторов: во-первых, от плодоносности финиковых пальм, во-вторых, от производительности труда садовников. Плодоносность финиковых пальм зависела от их возраста <от 10 сила (редко менее) и до 60 (от 4 до 24 л.) и более сила фиников с одного дерева. Максимальный сбор с наиболее плодоносных деревьев на некоторых плантациях достигал одного гура.>17 <При получении продукции с финиковых плантаций установлена была определённая норма для каждого дерева за год.18 Средняя норма (в 2 13 UET. III. № 1019; ср. № 1019; ср. № 1047, оборот, I, 9 и сл., где выделен постоянный персонал плантации: 16 guruš sig7, 3 síla iá-ta, 2 gím ará, 3 síla iá-ta gír-sí-gagišsar-me; ср. также № 1139, 1-2. 14 Тюменев А. И. Указ. соч. С. 317 – 322. 15 CT. X. № 14316. ср. № 14313; CT, VII, № 12925. 16 Тюменев А. И. Указ. соч. С. 366 – 367. 17 Там же. С. 317 – 322. 18 Это следует из сопоставления документов (DP. № 106, 108 и 422): № 108 содержит, очевидно, полную норму, требуемую за год (именно за третий год); № 106 представляет, напротив, запись неполной поставки за следующий, четвёртый год, так как, согласно документу № 422, вносится «остаток» («lal»), недополученный в том же четвёртом году, зависимости от возраста дерева) составляла 50 – 200 сила по царскому счёту1 фиников, понижаясь для самых молодых деревьев до 10 сила, а для наиболее плодоносящих деревьев поднимаясь до гура.2>3 <Нормы сбора отдельных садовников обычно составляли от 1 до 2 гур, иногда понижаясь до 240 и даже 180 сила или (реже) поднимаясь до 3 – 5 гур.4>5 Имеются некоторые данные относительно распределения полученного урожая. <Обработка финиковых плантаций нередко имела определённую цель и предназначалась, например, на довольствие определённых групп персонала царского хозяйства. Так, в одном документе о сборе фиников с отдельных садовников определённая (именно 1/12–я часть сбора) предназначается для царя.6 В другом случае сбор фиников, также с указанием поступлений от отдельных садовников (всего в количестве 70 гур), предназначен был для рабынь-ткачих.7 Встречаются сводные документы о поступлении фиников с плантаций различных храмов (не более нескольких гур с плантации). 8>9 <Уже в древнее время приводилось около 360 способов использования финиковой пальмы.>10 <У финиковых пальм были вкусные плоды, их ели в сыром и сушёном виде> 11 <Они служили обычной пищей>12 <Из фиников получался сахар>13 <Из сока фиников делали мёд или уксус>14, <опьяняющий напиток>15 <Из плодов финиковой пальмы делали причём общее количество, полученное по двум последним документам, равняется норме, поступившей за предыдущий, третий год. 1 Царский гур времени третьей династии Ура заключал 300 сила, тогда как гур саггаль времени Урукагинны равнялся только 144 сила. 2 D e i m e l A. Šumerische Tempelwirtschaft..., С. 92. 3 Тюменев А. И. Указ. соч. С. 178 – 180. 4 UET. III. № 1096 и 1098, ср. № 1097 (без указания сборов отдельных садовников). 5 Тюменев А. И. Указ. соч. С. 317 – 322. 6 UET. III. № 1096 (царь получает 5 сила с 60, именно 3 гура 192 сила из 36 гур 120 сила; расчёт неточный). В данном случае не имеются в виду поборы типа десятины, это видно как из того, что сбор получается именно от садовников, так из факта разделения этих садовников на партии, подчинённые особым начальникам. 7 UET. III. № 1098. 8 B a r t o n. III. №214 (табл. 108; с двух плантаций получается 4 гура 60 сила и 2 гура 60 сила). - CT, X, № 12 247 (поступление небольших количеств фиников от 1 гура 90 сила до 7 гура 20 сила с некоторых плантаций). 9 Тюменев А. И. Указ. соч. С. 317 – 322. 10 Клима Й. Указ. соч. С. 120 – 121. 11 Кленгель-Бранд Э. Указ. соч. С. 84 – 85. 12 Клима Й. Указ. соч. С. 120 – 121. 13 Синская Е .Н. Указ. соч. С. 395 – 405. 14 Клима Й. Указ. соч. С. 120 – 121. 15 Кленгель-Бранд Э. Указ. соч. С. 84 – 85. водку.>16 <Косточки фиников использовались кузнецами для приготовления угля>17, <а когда те же косточки размачивали в воде, они представляли собой хороший корм для скота.> 18 В пищу шли не только финики, но для этих целей в некоторых случаях использовалось само дерево. Так <ферментированный сок дерева финиковой пальмы давал вино, а нежные совсем молодые отпрыски служили пищей, как овощ.>19 Кроме финиковой пальмы получали плоды и с гранатового и фигового дерева <причём гранаты и фиги поставлялись в специально обработанном виде, в виде хлебцев>20. Прекрасной пищей были плоды смоковницы21. Другой <целью садоводства было не только получение плодов, но и дерева. При этом поставка дерева с плантаций имела не меньшее, если не большее значение, чем получение плодов> 22. Последнее обстоятельство говорит о серьёзном различии между современным пониманием термина «садоводство» и его значением в Шумере, ибо современное понимание данного термина практически полностью исчерпывается получением плодов, используемых в пищу. Современному человеку и в голову не придёт выращивать сад преимущественно для получения с него древесины. Это отличие всегда необходимо иметь в виду для адекватного понимания таких слов, как сад, садоводство и слов, близких к ним по смыслу. Данная специфика шумерского садоводства, с одной стороны, объясняется универсальностью финиковой пальмы, с другой стороны, достаточно ограниченным выбором произрастающих в Шумере деревьев, способных удовлетворить производственные потребности в том объёме, в каком это имело место с финиковой пальмой. Действительно, ведь <с садовых плантаций поступало главным образом дерево финиковых пальм.>23 Помимо плодов финиковая пальма имела ствол достаточно внушительных размеров, который <хотя и невысокого качества, служил строительным материалом.>24 Дерево, альтернативное финиковой пальме по размерам, в Шумере не произрастало. Клима Й. Указ. соч. С. 145. Кленгель-Бранд Э. Указ. соч. С. 84 – 85; Клима Й. Указ. соч. С. 120 – 121. 18 Клима Й. Указ. соч. С. 120 – 121. 19 Синская Е. Н. Указ. соч. С. 395 – 405. 20 TSA. № 42, 43; DP. № 105 и сл., 422. - Fö., № 155. 21 Клима Й. Указ. соч. С. 120 – 121. 22 Тюменев А. И. Указ. соч. C. 178 – 180. 23 Там же. 24 Клима Й. Указ. соч. С. 120 – 121. 16 17 Однако специфика шумерского садоводства на этом не заканчивается. Дело в том, что технологические операции садоводства не ограничивалась только выращиванием деревьев. <На садовых плантациях не редко, производилась первоначальная обработка дерева.> 1 <Среди рабов-садовников (игинуду) мы встречаем «игинуду-ремесленников». Конечно, в этих последних нельзя видеть ремесленников в собственном смысле слова. Как и остальные игинуду, они связаны, прежде всего, с садовыми плантациями,2 но в то же время «игинуду-ремесленники», несомненно, представляли какую-то специально квалифицированную рабочую силу3, занятую первоначальной обработкой дерева.>4 <Именно от садовников, возглавлявших эти специальные партии игинуду, дерево поступало не только в более значительном количестве, но в то же время и более разнообразных сортов и различной выделки.>5 <Дерево при этом обычно поставлялось в полуобработанном виде, в виде балок и различных строительных материалов. С садовых плантаций не редко поставлялись также и готовые изделия — плуги, бороны, оросительные приспособления — вёдра?, кирки, а также вёсла для рыбачьих лодок и другие изделия.6>7 <Так дерево на судостроение, поступало на верфи частично в обработанном виде с древесных (садовых) плантаций под ответственностью возглавлявших эти плантации садовников, например, от двух садовников было получено различных сортов обделанного дерева, всего в количестве 11 787 (11 845) штук — 6298 от одного садовника и 5547 от другого. В числе этих обработанных материалов были, например, мачты, рули, вёсла, доски для обшивки судов и пр.8> После приведения таких данных как-то не очень верится заявле- Тюменев А. И. Указ. соч. C. 178 – 180. См., напр.: STH, № 17, II, 10; III, 3 и другие документы этого рода. 3 Из ряда документов известно, что плантации, на которых работали «игинудуремесленники», поставляли не только продукты собственно садоводства — финики, гранаты и пр., но также и дерево, частично обработанное (см.: STH. № 42, 43; DP. № 105 и сл., 410 и сл.) Поскольку это так, возможно, что такой первоначальной обработкой дерева и занимались «игинуду-ремесленников». 4 Тюменев А. И. Указ. соч. C. 146 – 147. 5 Там же. С. 178 – 180. 6 Н и к о л ь с к и й. I. № 280, 284; DP. № 409 и сл. (большое количество документов, касающихся как поступления дерева, так и других операций с обработанным и полуобработанным деревом). Fö., № 57, 98, 152, 157, 177. 7 Тюменев А. И. Указ. соч. C. 178 – 180. 8 P i n c h e s, № 66; Относительно различных видов дерева, употреблявшегося на постройку и оснащения судов см.: S a l o n e n A. Die Wasserfahrzeuge in Babylonien, С. 138 – 192; о терминологии различных обработанных материалов см.: там же, С. 83 и сл. (ср.: там же, С. 126). Относительно получения разных сортов дерева См.: UET. III. № 782 – 784. 1 2 Рис. 1 Мужские ритуальные костюмы Месопотамии представителей высшей знати Раннединастического периода (реконструкция М. В. Горелика). нию Йозефа Клима о том, что <рощи финиковых пальм не давали подходящего строительного материала.>9 <С садовых плантаций поступало не только дерево, но и различные побочные продукты, получавшиеся с пальмовых деревьев — стебли, волокнистые части дерева и пр.10>11 <Из волокон коры делались верёвки и пряжа, из листьев — корзины. Листья финиковой пальмы шли на плетение и для изготовления одежды.> 12 <В древнейшие времена жители Шумера одевались главным образом в пальмовые листья.> 13 Относительно одежды существует и другое мнение, согласно которому <колоколообразные юбки (рис. 1) изготавливались не из пальмовых листьев, а из полотнищ материи, на которые нашивались ряды бахромы или оборки в виде отдельных фестонов-флажков.>14 Однако эти нашитые флажки очень сильно похожи на пальмовые листья, что дает основание предположить о том, что ранее, до появления материи, одежда могла быть сшита из пальмовых листьев, о чем свидетельствует сохранившийся фасон одежды. <В одном из произведений шумерской литературы рассказывается о споре между финиковой пальмой и тамариском, который даёт представление о том, какое разнообразное применение имели эти деревья. В нём финиковая пальма говорит, что всё, что есть у земледельца, вожжи, кнут и уздечка, верёвка, попона для быка, покрывало для сундука, сеть, вся его снасть (всё дала ему финиковая пальма).>15 <Кроме этого, добавляет Клима Й. Указ. соч. С. 24. Peš-hum, ú-nin, si-na peš-ga (см.: UET. III. № 287, 782). Тюменев А. И. Указ. соч. C. 346 – 347, 356, 317 – 322. 12 Синская Е. Н. Указ. соч. С. 395 – 405; Клима Й. Указ. соч. С. 24; Кленгель-Бранд Э. Указ. соч. 13 Синская Е .Н. Указ. соч. С. 395 – 405. 14 История древнего Востока. С. 180, 183. 15 Кленгель-Бранд Э. Указ. соч. С. 85. 9 10 11 финиковая пальма, из неё изготавливается утварь для царского стола1>2 По-видимому, не все упомянутые здесь изделия из материалов финиковой пальмы изготовлялись на садовых плантациях. Вполне допустимо и даже более вероятно, что часть этих изделий производилась не в рамках садоводства, а в специализированных мастерских. Cуществует ещё один шумерский литературный текст, посвящённый садоводству, в своё время он был назван С.Н.Крамером «Инанна и Шукаллитуда, или смертный грех садовника». В этом мифе описаны некоторые технологические приёмы садоводства. <Начинается миф с того, что некогда жил садовник по имени Шукаллитуда. Он был хорошим садовником, трудолюбивым и опытным, но все его усилия были тщетны. Он заботливо поливал растения, однако сад его засыхал. Яростные ветры беспрестанно покрывали его лицо «пылью гор». Несмотря на все его старания, растения погибали. Тогда он возвёл взор к небу, усеянному звёздами, изучил знамения и постиг законы богов. Обретя, таким образом, новую мудрость, наш садовник посадил у себя в саду дерево «сарбату» (установить, что это за дерево, пока не удалось). Его густая тень укрывала сад с восхода до заката. В результате всевозможные огородные культуры стали приносить Шукаллитуде отменный урожай.>3 Из этого текста мы узнаём о том, что в садоводстве было распространено какое-то дерево «сарбату», способное давать густую тень. Из известных нам деревьев на это способна лишь финиковая пальма. Кроме того, становится понятна такая специфика садоводства как совмещенное возделывание финиковых плантаций с огородничеством, посевом зерновых и даже с выращиванием тамарисков, во всех этих случаях финиковая пальма, по-видимому, играла солнцезащитную роль, предохраняя растения от лучей палящего солнца. В заключении отметим, что <садоводство относилось к излюбленным занятиям, садовники считались особо усердными и знающими работниками. В шумерских сказаниях о них говорится как о любимцах богини любви Инанны.>4 Правда, в вышеприведённом мифе о садовнике его отношения с Инанной далеки от идиллических. 4. Лесное хозяйство Ebeling E. Keilschrifttexte aus Assur religiösen Inhalts. Leipzig, 1917. № 145 и сл. Тюменев А.И. Указ. соч. C. 41. 3 Крамер С. Н. История начинается в Шумере. С. 87 – 86. 4 Клима Й. Указ. соч. С. 24. 1 2 <Наряду с садоводством видную роль в шумерском хозяйстве играло также специальное лесное хозяйство, удовлетворявшее потребность в дереве.>5 Лесничество, так же как и садоводство, начиналось от берегов Евфрата6. Лесное хозяйство существовало как в рамках государственного хозяйства, так и в качестве арендной формы хозяйствования, когда лесные участки сдавались лесничим в аренду7. Из неплодовых деревьев, согласно вышеприведённому списку, в Шумере были известны такие деревья, как тамариск, терновник, самшит, кедр, кипарис, тополи и какие-то ещё деревья. Нам трудно сказать, какие из этих деревьев возделывались в Шумере. С определённостью это можно утверждать только относительно тамариска. В лесном хозяйстве Шумера функционировало два специальных термина: «лесничий» и «люди при тамарисках». Кстати, существование этих двух терминов говорит о возможности искусственного выращивания иных неплодовых деревьев помимо тамариска. Действительно, если бы выращивался только тамариск, то и существовал только один термин «люди при тамарисках». Однако этот же самый факт свидетельствует о том, что основным деревом, возделываемом в лесном хозяйстве, являлся тамариск, чем и объясняется введение специального термина — «люди при тамарисках». Существовала в лесном хозяйстве и своя иерархия. <Лесничие подчинены были своим особым надзирателям.8> Существование иерархии9 в лесничестве, по-видимому, может быть, связано с делением больших лесных плантаций на мелкие, ибо <в Шумере практиковалось распределение небольших лесных участков, носящих каждый (подобно полям) специальное наименование, между лесничими, причём обычной нормой таких участков было 1/72 бура (880 м2).10>1 Тюменев А. И. Указ. соч. C. 317 – 322. Синская Е. Н. Указ. соч. С. 395 – 405; Кленгель-Бранд Э. Указ. соч. С. 85. 7 Fö., № 170, VI, 3; оборот. I, 1 (lú tir (лесничий) Урэнинни арендует 1/3 бура — около 2 га). 8 Fö., №№ 107, 178. Имена обоих названных в этих документах угула lú-tir (лесничих) встречаются в списках выдачи довольствия, именно: в списках lú kur6-dab5-ba Урсаг в качестве лица, возглавляющего партии людей GAL-UKU (un-gal; см., например: STH. № 8, I, 13; 9, II, 1; 10, II, 1) и затем 8шублугалей (STH. № 11, I , 3; 13, I, 9; II, 1). Дамму в качестве лица, возглавлявшего партию укуушей (STH. № 5, II, 1; 6, II, 2 и сл.), и затем также шубулугалей (STH. № 13, III, 1). Поскольку мы имеем такое совпадение в обоих случаях, вероятнее предполагать тождество этих лиц, а не простое совпадение имён. 9 Тюменев А. И. Указ. соч. С. 178 – 180. 10 См.: S c h n e i d e r, Berl., № 382. В данном случае используется термин «lú-tir», применяемый в отношении всех людей,получавших эти лесные участки, так и обозначение 5 6 Из технологических операций по выращиванию тамариска нам известно только орошение2 <и рубка леса, на которую посылались гуруши3>4 и <наемные люди5>6. В плане технологий можно воспользоваться двумя косвенными фактами. Во-первых, незначительность по сравнению с садоводством специальных терминов лесничества, которая свидетельствует о том, что технологии лесничества не были развиты в отдельные специальности, что в свою очередь может быть связано с незначительностью выполняемого объёма работ в лесничестве. Отсутствие специализации (с необходимостью) усложняет работу лесничих. Отчасти это подтверждается малыми размерами лесных участков. <Такой, относительно незначительный, размер участков объясняется, очевидно, необходимостью специального ухода за произраставшими на этих участках деревьями.>7 Кроме технологических операций, связанных непосредственно с выращиванием тамариска, по-видимому, в рамках лесного хозяйства велась первичная обработка дерева, ибо <тамариск, получаемый со специальных лесных участков, обычно поступал в полуобработанном виде.8>9 В лесничестве, так же как и в садоводстве, было распространено совместное возделывание: тамариска и тростника, ибо <с лесных участков поступал также тростник.10>11; тамариска и ячменя, который < высевался на лесных участках иногда между деревьями12>13. За выполненную работу <люди, состоявшие при тамарисках и при лесных участках, получали натуральное довольствие зерном (одни по самого акта передачи участков термином «í-díb», употреблявшимся обычно в хозяйственных документах в значении «взять», «принять» (в ведение или хранение). 1 Там же. С. 317–322. 2 FATU. № 65. 3 Н и к о л ь с к и й. II. № 119, 206; TEO. № 5676. - S c h n e i d e r, Ber., № 265, 329; H a c k m a n, № 218, 220, 249 – 250, 259, 260, 264; RTC, № 306. 4 Тюменев А. И. Указ. соч. C. 361. 5 H a c k m a n. № 218. 6 Тюменев А. И. Указ. соч. C. 362. 7 Там же. C. 317 – 322. 8 Относительно получения с лесных участков деревьев, обычно также в полуобработанном виде - giš-úr-ga, giš-dím, giš-il-la, см., например: TSA, № 26. - Fö., №№ 107 (дерево получено от угула Урсага), 178 (дерево от lú-tir ugula Дамму); а также - DP, №№ 442 и др. 9 Тюменев А. И. Указ. соч. C. 178 – 180, 356; Синская Е. Н. Указ. соч. С. 402. 10 Fö., № 108. 11 Тюменев А. И. Указ. соч. C. 178 – 180. 12 Н и к о л ь с к и й. I. № 39, II, № 3 – 4 («человек при тамарисках» Инимманизи вносит значительное количество зерна). 13 Тюменев А. И. Указ. соч. C. 178 – 180; Синская Е. Н. Указ. соч. С. 398. спискам игинуду, другие по спискам людей кормления) 14. Некоторым из них давались также15 надельные участки, иногда значительные (вероятно, лицам, стоявшим во главе подчинённых им партий).16>17 <Разведение тамариска имело большое значение в Шумере.>18 Тамариск, прежде всего, давал деловую древесину19. <О значении тамариска в хозяйственной жизни Шумера свидетельствует вышеупомянутый спор тамариска с финиковой пальмой, согласно которому тамариск называет себя «отцом земледельца» и утверждает, что всё, что имеет земледелец, он вырезает из его ствола, из его побегов он изготовляет мотыги, которыми открывает канал и орошает поля. 20>21 <Стволы тамариска шли на изготовление досок.>22 Относительно искусственного возделывания терновника, который можно отнести к местным деревьям Шумера, нам известно лишь то, что <в Шумере для сбора терновника посылались специальные партии рабочих.>23 Так же, как и в случае с тамариском, на <рубку терновника посылались гуруши24 и наёмные люди>25. <Кроме тамариска, в качестве строительных деревьев употребляли кедр и кипарис.>26 Однако неясно, имеет ли это отношение к лесному хозяйству Шумера, эта же неясность относится к ниже следующему за- 14 Lú giš-šinig: RTC, № 54, VII, 14-оборот, I, 1 [lú giš-šinig Инимманизи получает по списку lú kur6-dab5-ba 36 сила; ср.: Genouillac H. Tablettes sumériennes archaїques. Paris, 1909, № 20, оборот, III, 12-13; STH, № 7, оборот, V, 9; Н и к о л ь с к и й, I, № 39, II, 3 – 4 (тот же Инимманизи вносит, как мы видели, значительное количество необмолоченного зерна)]; STH, №№ 17, оборт, VI, 5; 19, V, 3; TSA, №№ 14, оборот, IV, 23; 15, оборот, V, 18; Н и к о л ь с к и й, I, № 2, оборот, IV, 11 – 12 («человеку при тамарисках»). Бисуге15 выдаётся зерно по спискам «людей, получающих по отдельным таблеткам»); STH, № 19, V, 3 (Бисуга в списке людей lú é-kid-a-me). Lú-tir: Н и к о л ь с к и й, I, № 52, III, 6 (lú-tir без указания имени получает 108 сила ячменного зерна); ср.: RCT. № 54, оборот, I, 2. 16 DP. № 607, 1 – 2 (тот же lú šinig Инимманизи получает надел в 2/18 бура). Н и к о л ь с к и й , I, № 30, III, 5 (lú-ешк Mеаннизи получает надел в 1 1/18 бура — 6 2/5 га). 17 Тюменев А. И. Указ. соч. C. 178 – 180. 18 Там же. С. 41, 178 – 180. 19 Кленгель-Бранд Э. Указ. соч. С. 85. 20 Ebeling E. Keilschrifttexte aus Assur religiösen Inhalts. Leipzig, 1917. № 145 и сл. 21 Тюменев А. И. Указ. соч. C. 41; Кленгель-Бранд Э Указ. соч. С. 85; Синская Е. Н. Указ. соч. С. 402. 22 Тюменев А. И. Указ. соч. C. 178 – 180; Синская Е.Н. Указ. соч. C. 402. 23 Синская Е. Н. Указ. соч. C. 402. 24 Н и к о л ь с к и й. II. № 138, 211; TEO. № 5675, 5676. - S c h n e i d e r, Str., № 73. S c h n e i d e r, Mont. № 237, 299, 347. - H a c k m a n. № 237, 259 сл. - L u t z, I, 6. K e i s e r, № 225. 25 Тюменев А. И. Указ. соч. C. 361 – 362. 26 Синская Е. Н. Указ. соч. C. 402. явлению <В Шумере известен был и ряд других древесных пород, употреблявшихся на изготовление плугов и других орудий; специальные виды и сорта дерева служили в качестве основного материала для судостроения.1>2 5. Внешние источники поступления дерева в Шумер Садоводство и лесничество относятся к внутреннему способу Шумера обеспечить себя деревом. Наряду с этим в Шумере имел место и внешний способ обеспечения деревом. <Правители Шумера приобретали лес, либо путём мирного обмена в этом случае Шумер предлагал в обмен те предметы, которые имелись в стране в изобилии, — в первую очередь продукты сельского хозяйства, либо, совершая грабительские набеги и военные походы в соседние страны, более богатые таким сырьём.>3 <В последнем случае встречаются сведения о походах за кедрами. 4 По существу, речь идёт не о кедре, а о виде крупного можжевельника (juniferus oxycedrus), растущего в Ливане и Палестине 5. Такие экспедиции носили единичный характер. Безусловно, эти отдельные походы были очень опасными, требовали большого мужества и выносливости и, конечно, могли найти своё отражение в эпосе>6, такими являются <эпос об экспедиции отца Гильгамеша, героя Лугальбанда за абрикосами7>8 и эпос о походе самого Гильгамеша за кедрами. 9 О значении добычи кедра, таким образом, говорит сам этот эпос, где <нарубив вечнозелёного кедра, Гильгамеш добудет себе бессмертное имя>10 D e i m e l A. Šumerische Tempelwirtschaft..., стр. 90 и сл., где приводятся выводы специальной статьи в «Orientalia» (16, С. 1 – 87). 2 Тюменев А. И. Указ. соч. C. 178 – 180; Синская Е. Н. Указ. соч. С. 395 – 405. 3 Клима Й. Указ. соч. С. 24, 131, 149; Тюменев А. И. Указ. соч. C. 356; Тураев Б. А. История древнего Востока. 3 Ч. 1. СПб., 1913. С. 61. 4 E. de S a r z e c et L. H e u z e y, Découvertes en Chaldée, P., 1884 – 1912, II, стр. XLVI. 5 R. Campbell T h o m p s o n, Dictionary of Assyrian Botany, L., 1949, С. 282 и 287. 6 Афанасьева В. К. Шумерская эпическая песнь «Гильгамеш и гора бессмертного» // Вестник древней истории. 1964. № 1. С. 84 – 92, С. 88 – 89; Она же. Гильгамеш и Энкиду. М., 1979. С. 93. 7 Краткое содержание см.: M. L a m b e r t, La litérature sumerienne, á propos d’ouvrages récents, Rass, 55. 1961. Стр. 183. 8 Афанасьева В. К. Шумерская эпическая песнь … С. 84–92, 91. 9 Часть перевода и пересказ эпоса см.: Афанасьева В. К. Шумерская эпическая песнь … С. 84 – 92, а также Она же. Мотив «Гильгамеш и кедр» в глиптике // Ассириология и египтология. Л., 1964, С. 21–30; Она же. Гильгамеш и Энкиду. М., 1979. С. 89 – 92. 10 Афанасьева В. К. Шумерская эпическая песнь … С. 84–92, 90; Она же. Гильгамеш и Энкиду. М., 1979. С. 94. 1 В Шумер ввозилось не только дерево как производственное сырьё, но и изделия из дерева. <Так, из Элама получались изделия из местных видов дерева.11>12 <Кедр в Шумере имел определённое отношение к культу — из кедра делали священные двери, крыши в храмах, из кедра (juniferus oxycedrus) выделывались кедровые благовония, кедровое масло13, ветки кедра употреблялись в качестве благовония при жертвенных воскурениях>14 К сожалению, большая часть данной работы основывается на сведениях о хозяйственной деятельности Шумера, в то время как для полного освещения настоящего раздела необходимы сведения о таких сторонах шумерской действительности, как внешняя торговля и внешние военные действия. Вполне возможно, что учёт таких данных позволил бы соотнести количество дерева, ввозимого, с количеством дерева, полученного посредством садоводства и лесничества. Это окончательно могло бы решить вопрос о бедности Шумера деревом. 6. Другие хозяйственные операции с деревом в Шумере <Само дерево, его плоды и изделия из него с садовых и лесных плантаций, среди прочих грузов15, перевозились в Шумере на судах по его разветвлённой сети каналов16.>17 Водный транспорт, по-видимому, был удобен ещё и тем, что садовые и лесные плантации располагались, скорее всего, вблизи каналов. <Так в Шумере был найден знак, изображающий садовую плантацию в виде двух деревьев на берегу водоёма или канала.>18 <Дерево, наряду с другим сырьём, было элементом внутренних экономических связей.19 Эти связи реализовывались в частности и посредством водного транспорта.1>2 Н и к о л ь с к и й. I. № 214, 292, 313. Тюменев А. И. Указ. соч. C. 193. 13 V. and G. E c k h o l m, Flora of Egypt, Cairo, 1941. С. 68 и 77. 14 Афанасьева В. К. Шумерская эпическая песнь … С. 84 – 92, 90; Она же. Гильгамеш и Энкиду. М., 1979. С. 93 – 94. 15 Свод данных о различных предметах перевозки см.: A. Salonen Nautica babyloniaca, С. 29 – 33. В большинстве случаев суда доставляли какой-либо определённый груз, причём и обозначались обычно по перевозимому грузу: má-še, má-zid-da, má-ninda, má-šulum, mági, má-giš, má-udu. Свод данных относительно обозначения судов см.: Salonen A. Die Wasserfahrzeuge in Babylonien, С. 29 – 35. 16 Н и к о л ь с к и й. I. № 281, 284; DP. № 491, 503. 17 Тюменев А. И. Указ. соч. C. 155, 157, 247. 18 Синская Е. Н. Указ. соч. С. 395 – 405, 401. 19 RTC. № 205 и сл., 236, 245. 11 12 <Продукция садовых и лесных хозяйств, в том числе дерево, прежде чем поступить в обработку, финики и деревообделочные изделия, поступала на центральные и местные склады. 3>4 <На таких складах с этими продуктами и сырьём5 производились различные операции.>6 <Со складов дерево поступало в обработку.> 7 Как было уже отмечено, часть работ по обработке дерева шла непосредственно на садовых и лесных плантациях. Причем, иногда это была не просто обработка, а изготовление конечных продуктов из дерева. Однако обработкой дерева на месте его воспроизводства дело не ограничивалось. Наряду с различными профессиями садовников и лесничих существовала и специальная профессия по обработке дерева — «нагар»8. <Этой шумерской идеограмме ранее соответствовал пиктографический знак, представляющий изображение бурава, причём этот знак мог служить одинаково как для обозначения самого инструмента, так и для обозначения пользующегося им мастера.>9 При понимании термина «нагар» необходимо иметь в виду, что этим термином, в силу его единственности, обозначался весь спектр деревообрабатывающих работ. В современной исторической литературе, в RTC. № 254. Тюменев А. И. Указ. соч. C. 213 – 214. 3 STDR. № 272, 318, 325; RTC. № 201-246; LIA. № 72; UET. III. № 201, 218 (для строительных целей), 272 (различные изделия из дерева), 776, 777, 780 – 785, 788, 790 – 794, 801, 813, 814 (дерево для строительства), 832 (доставка дерева на судне из леса Шунаму), 944, 1030, 1767 (кипарисное дерево), 1768, 1777 (кедр, кипарис и др.); Н и к о л ь с к и й. II. № 153, 200 – 206, 425 – 435. - K e i s e r. № 102, 103, 256, 274; K e i s e r CB. № 138; S c h n e i d e r , Berl., № 175, 193, 249, 283, ср. № 316 (оросительные машины из дерева). - S c h n e i d e r , STR., № 91, 278.- S c h n e i d e r, Mont., №№ 198 и др. - L u t s, I, № 69, II, 24; - ITT, V, № 9188. - R e i s n e r, №№ 113, 114 и др., см. также указатель под словом «giš». - B a r t o n , I, № 13 (табл. 21); III, №№ 24 (табл. 154), 299 (табл. 135), 371 (табл. 140). - P i n c h e s, №№ 22, 66. - RTC, № 306. 4 Тюменев А. И. Указ. соч. C. 213, 231, 356. 5 LIA. № 52, 65, 67 и сл. 6 Тюменев А. И. Указ. соч. C. 227. 7 Там же. С. 356. 8 Тюменев А. И. Указ. соч. C. 45, 50, 55, 60, 74, 84, 99, 101, 102, 110, 207, 228, 235, 283, 288, 293, 342, 352, 356, 402, 417, 419, 432; F A T U. № 407, I, 2, № 607, II, 4, № 632, I, 6; PI, № 3, 1, 4 (5 ÉŠ-nagar, очевидно, в значении столяров, принадлежащих храмовому хозяйству); UET, II, фрагм. 180, III, 3; 366, II, 3; ср. также неизданный документ № 14896; D e i m e l. III. № 5 – 7, 9, 15, 18, 22, 25, 45, 47, 53, 56, 60, 72, 76, 77; TSŠ. № 58, 100, 101, 112, 570, 704; RTC, №№ 93, оборот; 3; 96, I, 6, 15; оборот, II, 12; LIA. № 57,оборот, I,3; 71, I,4; S c h n e i d e r, Mont., № 285, 52, 68; UET, III, №№ 361, 697, 758, 807, 845, оборот, 5; 1054; 1081, III, 4 – 5; 1111; 1432, оборот II, 13; 1464; 1471, 1; 1474; 1498; Н и к о л ь с к и й, II, № 117, оборот; S c h n e i d e r, Berl., № 324, 158; ITT, V, № 9264; R e i s n e r. № 139, IV, 15; 154, I, 34; VIII, 8; 164/12, III, 5; 260, оборот, 2; GTD, № 5520, 3; STDR. № 215. 9 Тюменев А. И. Указ. соч. C. 45; F A T U, указатель знаков под № 735. 1 2 частности у А.И.Тюменева, эта мысль находит своё выражение в том факте, что «нагар» интерпретируется, то как плотник, то как столяр, то как столяр-плотник, то как деревообделочник. Думаю, что такое смешанное использование терминов, обозначающих различные профессии в нашем современном мире, не совсем удачный приём для отражения единства профессии по обработке дерева в Шумере. Поэтому в дальнейшем мы не будем использовать такие термины, как столяр, плотник и столяр-плотник. <Грозный считает, что шумеры были пионерами в профессиональной обработке дерева.>10 Это утверждение можно логически обосновать. Во-первых, Шумер — это первый этнос, достигший высокого уровня развития, который впоследствии у разных этносов не был принципиально превзойден вплоть до XIX века (использование паровой машины и опыты М.Фарадея по преобразованию электрической энергии в механическую энергию). Поэтому именно в Шумере впервые должны были получить наивысшее развитие ремёсла, в том числе и обработка дерева. Во-вторых, развитие искусства обработки дерева более логично в условиях искусственного возделывания дерева, нежели в условиях его достаточного естественного произрастания, ибо в первом случае дерево больше ценится, так как на него затрачено определённое количество труда. Поэтому естественно, что более бережное (экономное) отношение к дереву содействовало более изощрённым способам его использования. Если обратиться к вопросу о месте деревообработки среди всех ремёсел, то первое ремесло, которое встречается в самой древней форме хозяйствования (храмовом хозяйствовании), является ремесло «нагар»11. <Деревообделочники не были рабами, а по своему происхождению принадлежали к свободным общинникам.>12 Свою деятельность деревообделщики сначала осуществляли в рамках храмового хозяйства13, затем в рамках царского хозяйства14. В деревообработке на элементарном уровне существовала определённая субординация, ибо наряду с собственно деревообделщиками (нагар) существовали «большие» или «главные» деревообделочники (гал нагар15 или нубанд нагар16). Иногда все ремесленные мастерские, Синская Е. Н. Указ. соч. С. 397. Тюменев А. И. Указ. соч. C. 50, 55, 60. 12 Там же. C. 84. 13 Тюменев А. И. Указ. соч. C. 50, 55, 60, 84; История древнего Востока. С. 126. 14 Тюменев А. И. Указ. соч. C. 228; LIA. № 57,оборот, I,3; 71, I,4. 15 Тюменев А. И. Указ. соч. C. 110. 16 Тюменев А. И. Указ. соч. C. 293; UET. III. № 361, печать. 10 11 куда, в частности, входила и мастерская по обработке дерева, находились под единым общим управлением1. Трудно что-либо сказать относительно конкретных приёмов шумерской деревообработки и используемых шумерами инструментов. То обстоятельство, что их профессия обозначалась термином, используемым ранее для обозначения бура, в частности, указывает на один из таких инструментов — бур. В принципе, даже понятно, почему именно этот инструмент послужил для обозначения целой профессии. Действительно, бур вряд ли применялся где-либо ещё, ибо сверлить было больше нечего, а поэтому данный инструмент достаточно сильно специфицировал профессию деревообделщиков. Известно также, что деревообделщики используют в своих целях рабочий скот2. Другим побочным источником по конкретным технологическим операциям и инструментам деревообработки могут служить сами изготовленные изделия, которые дошли до нас, в частности, как в виде упоминания в тексте, так и в изображениях. Деревообделщики не всегда трудились в рамках своих мастерских, так, например, они могли быть приписаны к мельницам для выполнения каких-то побочных функций3. Внутри деревообрабатывающей мастерской использовался и наёмный труд, например, для изготовления плуга (или, как полагают, оросительной машины)4. Другая деятельность деревообделочника вне его мастерской связана с судостроением. Как можно было видеть выше, для нужд судостроения требовалось большое количество дерева и деревянных изделий, в частности, садовые плантации поставляли доски для обшивки судов. Для выполнения технологических операций, связанных с деревом, в судостроительные мастерские посылались деревообделочники5. В нашем представлении, судостроение в прошлом было преимущественно связано с деревом, а судостроитель рассматривается в тех условиях как одна из специализаций профессии, связанной с деревообработкой. Однако необходимо иметь в виду иное положение дел в Шумере. Там основным сырьём для судостроения был тростник, о чём, в частности, свидетельствует сам термин судостроителя (аккил), который иногда переводят как «плетёночник», «корзинщик», что отражает основную технологическую операцию судостроения — плетение из тростника6. Тюменев А. И. Указ. соч. C. 342; UET. III. № 1498. Тюменев А. И. Указ. соч. C. 100-101; D e i m e l. III. № 5 – 7, 9, 15, 18, 22, 25; TSŠ. № 704. 3 Тюменев А. И. Указ. соч. C. 352. 4 Тюменев А. И. Указ. соч. C. 356; UET. III. № 1081. III. 4-5. 5 Тюменев А. И. Указ. соч. C. 346; UET. III. № 1261, 1459. 6 Тюменев А. И. Указ. соч. C. 288. 1 2 <За свою работу деревообделoчник получал продовольствие> 7, <обычно по 60 сила зерна в месяц.>8 <Иногда деревообделочник получал довольно значительный земельный надел в 12/3 бура.>9, который мог быть платой за его труд. <Можно предположить, что в большинстве случаев обработка этих земельных участков велась трудом лиц, получавших землю, и членов их семей.>10 При этом часть зерна они, повидимому, отдавали в качестве арендной платы 11. Какие же предметы изготавливали деревообделочники? Это плуги и оросительные машины12, стулья13, двери, засовы, мотыги, лопаты14, различная мебель, предметы домашней утвари, деревянные части оружия и музыкальных инструментов — арфы, лиры и др.15 <Готовые изделия поступали на склады. Поступавшие на склады изделия заприходовались и инвентаризировались, с составлением, так же, как и на продукты и сырьё, специальных записей с последующим занесением их в общие инвентари. И только после этого распределялись по назначению и записывались в расход.>16 Представленный выше материал убеждает в том, что дерево, наряду с тростником и глиной, являлось одним из основных видов сырья в 7 История древнего Востока. С. 126; Тюменев А. И. Указ. соч. C. 283; S c h n e i d e r. Mont. № 285, 68. 8 Тюменев А. И. Указ. соч. C. 402; 99 R e i s n e r. № 154. VIII. 8. 9 Тюменев А. И. Указ. соч. C. 84, 99; UET. № 366. II. 3; D e i m e l. III. № 45, 47, 53, 56, 60; TSŠ. № 100, 101, 112. 10 Тюменев А. И. Указ. соч. C. 99. 11 Тюменев А. И. Указ. соч. C. 102 – 103; D e i m e l. III. № 72, 76 (целые партии нагар сдают зерно), 77; TSŠ. № 58, 570 (по несколько человек). 12 Тюменев А. И. Указ. соч. C. 356; UET, III, № 1081, III, 4 – 5 (наёмные столяры изготовляют плуги). 13 Тюменев А. И. Указ. соч. C. 356; SAD. № 62. 3. 14 Тюменев А. И. Указ. соч. C. 356; UET. III. № 1498. V – оборот, II 14 (опись изделий столярно-плотничной мастерской Ура в годовом отчёте заведующего мастерскими угула Арад Наннара); см. также в указателе к изданию слова, производные от giš «дерево» и указатели к изданиям Н.Шнейдера и Рейснера под тем же словом. На склады в Туммале, как известно, связанные с Ниппуром, поступали и с них направлялись по различным назначениям двери, засовы, мотыги, лопаты и другие изделия из дерева (см. ниже, С. 392 и сл.). 15 Тюменев А. И. Указ. соч. C. 385-392; UET. III. № 83, 272, 313, 406, 407, 528, 554, 555, 556, 574, 575, 578, 580, 624, 627, 650, 659, 665, 667, 680, 701, 752, 753, 773, 774, 778, 786, 796 – 806, 808, 809, 811 – 818, 820, 821, 825, 826, 828, 829, 831 – 834, 1122, 1241, 1347, 1498, II; 1767; L u t z. II. № 60, 82, 106; C o n t e n a u, Umma, № 101-103 (в том числе орудия для орошения — giš-nag-gal); K e i s e r CB. № 139; S c h n e i d e r. Berl. Указатель. XIV. 3. Стр. 36; S c h e i d e r. Str., указатель, XVIII; S c h n e i d e r, Mont., указатель, XV; H a c k m a n, № 130; L u t z, II, № 12, 60, 82, 94, 97, 106; R e i s n e r. Указатель под словом «giš». — B a r t o n, I, № 13 (табл. 21); III, № 299 (табл. 135); SAD. № 62; A l l o t t e d e l a F u y e. Compte de gestion… С. 1 – 20. 16 Тюменев А. И. Указ. соч. C. 385 – 392. культуре Шумера. Однако, если тростник и глина присутствовали в Шумере естественным образом, то деревом шумеры обеспечивали себя за счёт его возделывания. Добавим сюда ещё и третью группу сырья, а именно, камень и металл, которые также использовались в шумерской культуре, но в отличие от первых двух видов сырья они полностью ввозились на территорию Шумера. Кстати, то обстоятельство, что шумерам для своей деятельности были необходимы такие сырьевые ресурсы, как дерево, камень и металлы, говорит в пользу того положения, согласно которому шумеры были пришлым народом на этой земле. В самом деле, если бы шумеры испокон веков проживали на ней, то они бы научились обходиться местными сырьевыми ресурсами, т. е. их хозяйственная деятельность наверняка была бы гармонично вписана в местные природные условия. И, наоборот, народ пришлый, имеющий иной опыт хозяйствования, будет на новом месте использовать именно этот опыт, а для его реализации необходимы материалы, которых не было в Шумере. Данное обстоятельство говорит не только о пришлости шумеров, но и указывает на характер местности, откуда они пришли, там, в достатке должно быть дерева, камня и металла. Относительно представленной типологии промышленного сырья в Шумере необходимо подчеркнуть, что она представляет собой современное видение этой проблемы. Сами же шумеры могли классифицировать своё сырьё иным образом. В частности, это имеет место относительно дерева. <Виноградники, тростники и деревья в Шумере составляли один класс сырья. В хозяйственных документах виноградники внесены в запись наряду с тростником и с деревом, при этом все они обозначены одним знаком1. Также и тростник внесён в запись в числе других древесных материалов.2>3 Список сокращений B a r t o n — G. A. B a r t o n. Ha v er fo rd lib ra r y co l le c tio n o f c u ne i fo r mt ab l et s o r d o c u me n t s fro m te m p le ar c hi v es o f T el lo h, I – I I I . Ne w Ha ve n, 1 9 0 5 – 1 9 1 8 . B e d a l e — C. L. B e d a l e. Sumerian tablets from Umma in the Rylands library. Manchester, 1915. С o n t e n a u, Contr. — G. C o n t e n a u. Contribution á l’histoire économique d’Umma. Paris, 1915. UET. II. № 209, 3. (знак 134). UET. II. № 25, I, 1 – 2; 209; 2, 4. 3 Тюменев А. И. Указ. соч. C. 82. 1 2 С o n t e n a u, Umma — G. C o n t e n a u. Umma sous la dynastie d’Ur. Paris, 1916. CT — Cuneiform texts from babylonian tablets in the British museum. London, 1896 и следующие годы. D e i m e l, III — A. D e i m e l. Die Inschriften von Fara. III. Wirtschaftstexte aus Fara. Leipzig, 1924. DP — A l l o t t e d e l a F u y e. Documents présargoniques. I – V, Paris, 1908 – 1920. FATU — A. F a l k e n s t e i n. Archaische Texte aus Uruk. Ausgrabungen der deutschen Forschungsgesellschaft in Uruk – Warka, Bd. 2, Berlin, 1936 Fö – W. F ö r t s c h Altbabylonische Wirtschaftstexte aus der Zeit Lugalandas und Urukaginas. Leipzig, 1916. GTD — H. G e n o u i l l a c. Tablettes de Dréhem. Paris, 1913. H a c k m a n — G. G. H a c k m a n. Temple documents of the third dynasty of Ur from Umma. Babylonian inscriptions in the collection of J.B.Nies. Yale Univ., v. V, New Haven, 1937. ITT — Inventaire des tablettes de Tello, conservées au Musée impérial de Tello, I – V. K e i s e r — C. E. K e i s e r. Selected temple documents of the Ur dynasty. Yale babylonian texts, IV, New Haven, 1919. K e i s e r CB — C. E. K e i s e r. Cuneiform bullae of the third millennium B. C. Babylon. records in the libr. of J.Pierpont Morgan. III, N.I., 1914. L e g r a i n — L e g r a i n L. Le temps des rois d’Ur. Paris, 1912. LIA — A. D. L u c k e n h i l l. Inscriptions from Adad. The univ. of Chicago orient. publicat., v. XIV, Cuneiform series, II, Chicago, 1930. L u t z, I – II — H. F. L u t z. Sumerian temple records of the late Ur dynasty, I – II. Univ. of California publicat. in semitic philology, IX, 2, Burkley, California, 1928. Н и к о л ь с к и й, I — Н и к о л ь с к и й М. В. Документы хозяйственной отчётности древнейшей эпохи Халдеи из собрания Н. П. Лихачёва. Древн. вост. Т. III. Ч. 2, СПб., 1908. Н и к о л ь с к и й, II — Н и к о л ь с к и й М. В. Документы хозяйственной отчётности древнейшей эпохи Халдеи из собрания Н. П. Лихачёва. Ч. II. Эпоха династии Агаде и эпоха династии Ура. Древн. вост. V. М., 1915. PI — S. L a n g d o n Pictographic inscriptions from Jemdet – Nasr. Oxford editions of cuneiform texts, VIII, London, 1928. P i n c h e s — Th. G. P i n c h e s. The Amherst tablets. I. Texts of the period extending and including the reign of Bursin. London, 1908. R e i s n e r — G. R e i s n e r. Tempelurkunden aus Telloh. Königliche Museen zu Berlin. Mitteilungen aus den orientalischen Sammlungen. XVI. Berlin, 1901. RTC — F. T h u r e a u D a n g i n. Recueil des tablettes chaldéennes. Paris, 1903 SAD — David W. M y h r m a n. Sumerian administrative documents from the second dynasty of Ur. Babylon. expedit. of the Univ. of Pennsilvania, series A. Cuneiform texts, edited dy H.V.Hilprecht, III, part 1. Philadelphia, 1910. S c h n e i d e r, Berl. — N. S c h n e i d e r. Die Geschäftsurkunden aus Drehem und Djoha in den staatlichen Museen zu Berlin. Roma, 1930. S c h n e i d e r, Mont. — N. S c h n e i d e r Die Drehem und Djoha Texte im Kloster. Montserrat (Barcelona). Roma, 1932 S c h n e i d e r, Str. — N. S c h n e i d e r Die Drehem und Djoha Urkunden des Strassburger Universitäts und Landesbibliothek. Roma, 1931. STDR — G. J. G e l b. Sargonic texts from the Diyala Region. Chicago, 1952. STH — M. I. H u s s e y. Sumerian tablets in the Harvard museum. Cambridge, 1912. TEO — H. G e n o u i l l a c. Textes économiques d’Oumma, Musée d e Louvre. Textes cunéiformes, V. Paris, 1922. TSA — H. G e n o u i l l a c Tablettes sumériennes archaїques. Paris, 1909 TSŠ — R. J e s t i n. Tablettes sumériennes de Šuruppak. Paris, 1937. UET, II — Ur excavations texts, II: E. B u r r o w. Archaic texts, London, 1935. UET, III — Ur excavations texts,III: L. L e g r a i n. Business documents of the third dynasty of Ur. (1). Plates, 1937; (2). Indexes, vocabulary, catalogue, lists, London, 1947. V. СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ А. И. Ненашев, С. В. Манькова Сравнительный анализ ценностных ориентаций студентов разных специальностей Изучение ценностных ориентаций последнее время всё больше привлекает учёных психологов. Эта тема стала актуальна с развитием рыночных отношений в России. Так в книге «Социально-психологические исследования руководства и предпринимательства» (ИП РАН М.1999) устанавливаются ценностные ориентации для профессиональных военных. В результатах исследования отмечено, что для военнослужащих наиболее существенными ценностями являются: семья, материальная обеспеченность, твёрдость воли и предприимчивостью. Военнослужащие отличаются направленностью на профессиональную самореализацию, самоутверждение и экономические ценности. Они низко ранжируют интеллектуальные ценности, а также не ориентированны на принятие других. Ценность работы, общения с друзьями, исполнительность, образованность и богатство как средство достижения жизненных целей. Менее значимыми стали — ориентация на познание, мудрость, свободу и счастье других, жизнерадостность и собственность как средство достижения цели. В результате многочисленных исследований установлено, что структура ценностных ориентаций женщин отличается большей устойчивостью, чем иерархия ценностей мужчин. Нами было произведено пилотажное исследование ценностных ориентаций студентов разных факультетов. В исследовании приняли участие 40 студентов психологов и 40 студентов историков. Данные обработки результатов показали, что несмотря на одинаковое социальное положение (студенты) и одинаковый возраст данные категории людей имеют различные ведущие ценностные ориентации. Оказалось, что образ будущей профессии влияет на ценностные ориентации обучающейся молодежи. В исследовании приняли участие студенты третьих курсов. А к этому времени процессом обучения уже закладываются определенные профессиональные навыки. И нужные для успеха в профессии ценности хорошо определяются студентами. Рассмотрим различия в ценностных ориентациях студентов психологов и историков. По методике О. Ф. Потёмкиной (выявления установок «свобода — власть, «труд — деньги») установки студентов психологов распределились следующим образом: 1) ориентация на свободу — 35%; 2) ориентация на труд — 25%; 3) ориентация на власть — 21%; 4) ориентация на деньги — 19%. У студентов историков распределение социально-психологических установок выглядит немного иначе: 1) ориентация на свободу — 32%; 2) ориентация на труд — 22%; 3) ориентация на власть — 25%; 4) ориентация на деньги — 21%. Рассмотрим подробнее различия социально-психологических установок студентов историков и студентов психологов. У студентов психологов преобладает ориентация на свободу, на втором месте ориентация на труд, на третьем — ориентация на власть, а в последнюю очередь — ориентация на деньги. У студентов историков в общей выборке также выявлена преобладающая ориентация на свободу, на втором месте — ориентация на власть, на третьем — ориентация на труд, ориентация на деньги имеет самый низкий показатель. Можно предположить, что такое распределение социальнопсихологических установок студентов историков связанно с их будущей профессиональной деятельностью. Так основная масса выпускников исторического факультета работает в органах власти (администрация, областная Дума). Эту тенденцию выявила проведённая нами методика. Ориентация на власть оказалась приоритетной. У студентов психологов социально-психологические установки распределились немного иначе: также как у студентов историков свобода стоит на первом месте, но на втрое место студенты психологи поставили ориентацию на труд. Профессия психолога предполагает постоянное совершенствование профессионального мастерства. Можно предположить, что именно этот факт ориентирует студентов психологов на выбор данной социально-психологической установки. Интересной представляется картина социально-психологических установок на деньги. Было установлено, что ориентация на деньги занимает ведущие позиции в двух случаях: в первом случае, когда денег не хватает, во втором случае, когда их очень много. Все студенты имеют одинаковый социальный статус, они учащиеся и их обеспечивают родители. Студентов мало интересуют материальные проблемы. А теперь обсудим результаты, полученные по методике Рокича. Для удобства разделим оба списка ценностей на высокозначимые (с 1по 5) и низкозначимые (14 по 18) Для студентов психологов высокозначимыми ценностями являются: 1) здоровье; 2) любовь; 3) жизненная мудрость; 4) и 5) счастливая семейная жизнь. Ценностями низкой значимости оказались: красота природы и искусства, творчества, счастье других, развитие, наличие хороших и верных друзей. У студентов историков другое распределение ценностных приоритетов: 1) любовь; 2) счастливая семейная жизнь; 3) активная деятельная жизнь; 4) продуктивная жизнь; 5) уверенность в себе. Низкозначимые ценности для историков: красота природы и искусство, счастье других, общественное признание. Мы рассмотрели терминальные ценности, а теперь приступим к рассмотрению инструментальных ценностей. Высозначимыми для студентов психологов является следующие: 1) независимость; 2) образованность; 3) самоконтроль; 4) высокие притязания; 5) честность. Низкозначимыми ценностями являются: непримиримость к недостаткам в себе и других, твёрдая воля, аккуратность, терпимость, широта взглядов. У студентов историков другая иерархия высоказначимых ценностей: 1) честность; 2) самоконтроль; 3) чуткость; 4) трудолюбие; 5) аккуратность.Ценностями низкой значимости для историков являются: непримиримость к недостаткам в себе и других, широта взглядов, рационализм, терпимость, твёрдая воля. На основании этих данных построены графики сравнения терминальных и инструментальных ценностей студентов психологов и студентов историков. А также составлены таблицы сравнения терминальных и инструментальных ценностей. У студентов психологов ценность «здоровье» занимает первое место, так как профессия психолога подразумевает помощь людям в сохранении их психического и физического здоровья (многие соматические заболевания носят психогенный характер). Соответственно ценность «здоровье» является ведущей у студентов психологов. Ценность сферы «любовь», поставленная у студентов психологов на второе, а у студентов историков первое место можно объяснить одинаковым возрастом — возрастом поздней юности. Именно в этом возрасте потребность в поиске партнёра наиболее высока. На третье место высокозначемых ценностей студенты психологи ставят ценность «жизненная мудрость», можно сделать вывод о том, что студенты сумели определить важную ценность для психологической деятельности. Каждая профессия предполагает наличие определённых качеств, в обыденном сознании существует представление, что хороший психолог должен обладать жизненной мудростью. Для студентов историков в отличие от студентов психологов оказались значимыми такие ценности как «активная деятельная жизнь», «продуктивная жизнь», «уверенность в себе». Для профессиональной деятельности лиц, получивших историческое образование, это — актуальные ценности, так как работа в органах исполнительной и законодательной власти требует от профессионала четкого и уверенного исполнения своих обязанностей, принятия собственных решений в оперативном порядке, принятые решения должны быть действенными и легко реализуемыми в реальной жизни. Если сопоставить эти показатели с предыдущей методикой, где студенты историки в большей степени ориентированы на власть, то видно, что эти ценности взаимосвязаны. Рассмотрим низкозначимые ценности. Для обеих групп респондентов первое и второе места соответственно занимают красота природы и искусства» и «творчество». Эти понятия современной молодежью плохо воспринимаются, в результате того, что в обществе резко упал престиж культуры и искусства. Наверное, это определяется прагматизмом современного общества, в котором ценятся, прежде всего, вещи, имеющие непосредственный смысл, приносящие выгоду и результат. Интересной представляется картина того, что в рейтинге непопулярных сфер студентов психологов последнее место занимает ценность «счастье других» и « развитие». Для психолога такие ценности должны быть ведущими. Но почему-то не происходит осознания этих ценностей. Видимо потому, что многие психологи поступают на учебу для того, чтобы в первую очередь разрешить свои собственные психологические проблемы. Учеными были проведены исследования, в результате которых оказалось, что лица, занимающиеся психологией, обладают большей агрессивностью по сравнению с лицами, занимающимися математикой. Возможно, здесь проявляется синдром хронической усталости из серии синдрома «выгорания учителей и врачей». Работа с людьми, которые имеют психологические проблемы, требует больших затрат нервнопсихической энергии, поэтому эта работа приравнивается к работе вра- чей. Если врач лечит тело больного, то психолог — душу. У студентов историков отвергаемая ценность — «общественное признание». Это происходит, видимо, потому что они еще не состоялись как профессионалы и не понимают до конца важность данной ценности. Теперь приступим к обсуждению инструментальных ценностей. Так студенты психологи на первое место поставили ценность «независимость», на второе и третье, соответственно, — «образованность» и «самоконтроль». Данные качества очень нужны в профессиональной деятельности психолога, так как психолог должен быть хорошо образован, начитан, иметь высокий уровень самоконтроля, не показывать негативные эмоциональные состояния и должен независимо принимать ответственные решения в процессе консультирования личности. Для студентов историков наиболее значимыми ценностями являются: «честность», «самоконтроль», «трудолюбие». Естественно, для работы в органах власти нужно быть исключительно честным, чтобы правильно исполнять законы и принимать новые законопроекты, а также нужно быть трудолюбивым, т.к. часто приходится работать по ненормированному рабочему дню. В работе с людьми часто возникают конфликтные ситуации, следовательно, самоконтроль просто необходим. Итак, выдвинутая нами гипотеза о различиях в ценностных ориентациях студентов разных факультетов подтвердилась. Действительно, ценностная ориентация зависит от профессиональной направленности. И. В. Шугайло Виртуальность фотографии Провозвестник фотографии фотоэффект связан с именем А. Эйнштейна: этот «мистический знак» позволяет надеяться, что великий провидец обнаружил некий новый вид материи, изменивший представление о пространстве и времени, в котором пребывает современный человек. Если попробовать «распаковать» смысл самого слова «фотография», то возможны ассоциации с графикой при помощи света, что-то вроде импровизации с фото-тенью. Р. Арнхейм отмечал, что фотография обещает исследователю куда больше, чем регистрация всех ее реальных достижений1. В этом плане ее можно рассматривать как виртуальное про- 1 См.: Арнхейм Р. Блеск и нищета фотографа // Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. М., 1994. С. 119. странство. «Категория «виртуальности» вводится через оппозицию субстанциональности и потенциальности: виртуальный объект существует, хотя и не субстанционально, но реально; и в то же время – не потенциально, а актуально»1. Первоначально мир черно-белой фотографии был одной из разновидностей виртуальной реальности, которую фиксировала камера обскура. Границы явленного и неявленного она обнаруживала через чередование-сопоставление темных и светлых тонов. Фотография с первых своих шагов стремилась к запечатлению того психического состояния человека, которое должно было его сохранить для Вечности. Фотография обнаруживала и другую свою виртуальную функцию: подобно киберпанку, она должна была «будить воображение и дать возможность преодолеть экзистенциальную ограниченность реальности: выйти за пределы смерти, времени и тревоги; аннулировать свою заброшенность и конечность, достичь безопасности и святости»2. Темы «отражения», теней, визуализации ирреального (через размытое, стертое, приглушенное, фактурно-выделенное и т.д.) в художественной фотографии фиксируют тот архетип «Тени», который затруднен для нашего осознания. Фотография часто фиксирует те моменты, которые случайны, единичны и для самого человека. Если через зафиксированные движения человек как бы актуализирует некий паттерн, форму, то при процессе перехода одного паттерна к другому становление Другого может быть «остановлено» только в фотосъемке. Именно обнаружение «Тени» человека в фотографии стимулирует его к обретению целостности, андрогинности. Удивительно тонкое наблюдение над феноменом творчества дает Л. Выготский: «Самая существенная сторона искусства в том и заключается, что и процессы его создания и процессы пользования им оказываются как будто непонятными, необъяснимыми и скрытыми от сознания тех, кому приходится иметь с ними дело»3. Практически, самое существенное в искусстве – в бессознательном, которое каким-то непостижимым образом фиксируется художником и так же необъяснимо прочитывается или не прочитывается Другим. Настоящее произведение искусства каким-то таинственным образом сообщает слушателю или зрителю состояние, близкое мистическому опыту, переживанию. Это 1 Грицанов А. А., Галкин Д. В., Карпенко И. Д. Виртуальная реальность // Постмодернизм. Энциклопедия. Минск, 2001. С. 122. 2 Грицанов А. А., Галкин Д. В., Карпенко И. Д. Виртуальная реальность // Постмодернизм. Энциклопедия. Минск, 2001. С. 123. 3 Выготский Л. С. Психология искусства. Анализ эстетической реакции. Изд. 5. испр. и доп. М., 1997. С. 85. ощущение сопровождается всегда невыразимыми словами ощущениями и эмоциями. М. Элиаде приводит описание состояния доктора Р. Бьюка после чтения стихов: «… реализация космического сознания проявляется в таком чувстве, будто вы затоплены пламенем или розовым облаком, или, лучше сказать, чувством, будто сам ваш разум (mind) наполнен облаком или туманом. Это ощущение сопровождается чувством радости, доверия, торжества, «спасения». Одновременно с этим опытом или сразу после него происходит неописуемо мильное интеллектуальное озарение. Мгновенность этого озарения можно сравнить только с ослепительной вспышкой молнии посреди кромешного мрака, заливающей светом окружающий пейзаж, прежде тонувший в темноте»4. Но не менее существенен и другой аспект Фотографии: она фиксирует характерные позы, остановки, фигуры, которые воспроизводятся «позирующим» человеком. Они образуют некую стабильную амплитуду, стабильную матрицу его движений. М. Талбот описывает опыты русского ученого Н. Бернштейна, который в 1930-х годах выявил в движениях танцоров скрытые паттерны5. Бернштейн облачил участников эксперимента в черные костюмы и нарисовал белые точки на их коленях, плечах и других суставах. Затем он произвел киносъемку различных типов движений. Преобразовав сложные амплитуды движений многочисленных точек в волновые формы, Бернштейн обнаружил скрытые паттерны движений. Этот опыт подтвердил гипотезу нейрофизиолога К. Прибрама о работе мозга с помощью паттернов, которые запечатлевают движения и операции в скрытой устойчивой последовательности форм. Мозг схватывает движение целиком, в его динамике. На основании этой аналогии можно сделать вывод, что фотография вполне вписывается в парадигму голографической Вселенной. Фотография легко может запечатлеть движение в размытости, переокрашивании, сдвиге выделений в качестве центра и т.д. Запечатлевая изменения, она более фиксирует бессознательное, нежели осознаваемое и намеренно демонстрируемое. Хотя на различных исторических этапах своего развития семантика, связанная с определенными эстетическими установками фотографии менялась. Так, когда на первых этапах развития фотографии требовались долговременные неподвижные позирования, фотографируемый фиксировал перед камерой наиболее выгодные для него, красивые и характерные позы. «Позирующий, подавив на время свою непринужденность и придав лицу и фигуре наилучшее выраже- 4 5 Элиаде М. Мефистотель и Андрогин. СПб, 1998. С. 95. Талбот М. Голографическая Вселенная. М., 2004. С. 40. ние, как бы приглашал внимательно всмотреться в него»1. Такие кадры изображали более образы, нежели состояния. Такая техника фотографирования, сейчас отожествляемая с длительной выдержкой, похожа на наблюдение в телескоп картины звездного неба. Мы всегда наблюдаем на нем давно случившееся прошлое. Так «картина звездного неба» есть скорее матрица, паттерн – относительное стабильная матрица Космоса. Так и Фотография становится проявлением того «отпечатка» реальности, которая существует лишь благодаря нашему воображению по поводу ее. 1 См напр.: Арнхейм Р. О природе фотографии // Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. М., 1994. С. 120.