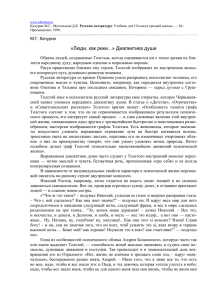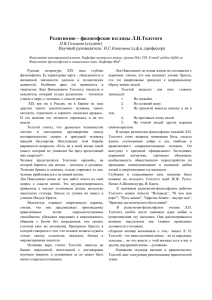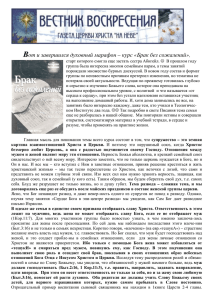Ты меня спросил за что Л Толстого отлучили от церкви Пусть он
реклама

Ты меня спросил: «За что Л. Толстого отлучили от церкви?» Пусть он тебе ответит сам – Л.Н.Толстой. Ответ на определение синода от 20-22 февраля и на полученные мною по этому случаю письма. He who begins by loving Christianity better than Truth will proceed by loving his own Sect or Church better than Christianity, and end in loving himself better than all. Coleridge Я не хотел сначала отвечать на постановление обо мне синода, но постановление это вызвало очень много писем, в которых неизвестные мне корреспонденты – одни бранят меня за то, что я отвергаю то, чего я не отвергаю, другие увещевают меня поверить в то, во что я не переставал верить, третьи выражают со мной единомыслие, которое едва ли в действительности существует, и сочувствие, на которое я едва ли имею право; и я решил ответить и на самое постановление, указав на то, что в нём несправедливо, и на обращения ко мне моих неизвестных корреспондентов. Постановление синода вообще имеет много недостатков; оно незаконно или умышленно двусмысленно; оно произвольно, неосновательно, неправдиво и, кроме того, содержит в себе клевету и подстрекательство к бурным чувствам и поступкам. Оно незаконно или умышленно двусмысленно потому, что если оно хочет быть отлучением от церкви, то оно не удовлетворяет тем церковным правилам, по которым может произноситься такое отлучение; если же это есть заявление о том, что тот, кто не верит в церковь и ее догмата, не принадлежит к ней, то это само собой разумеется, и такое заявление не может иметь никакой другой цели, как только ту, чтобы, не будучи в сущности отлучением, оно бы казалось таковым, что собственно и случилось, потому что оно так и было понято. Оно произвольно, потому что обвиняет одного меня в неверии во все пункты, выписанные в постановлении, тоща как не только многие, но почти все образованные люди в России разделяют такое неверие и беспрестанно выражали и выражают его и в разговорах, и в чтении, и в брошюрах и книгах. Оно неосновательно, потому что главным поводом своего появления выставляет большое распространение моего совращающего людей лжеучения, тогда как мне хорошо известно, что людей, разделяющих мои взгляды, едва ли есть сотня, и распространение моих писаний о религии, благодаря цензуре, так ничтожно, что большинство людей, прочитавших постановление синода, не имеют ни малейшего понятия о том, что мною писано о религии, как это видно из получаемых мною писем. Оно содержит в себе явную неправду, утверждая, что со стороны церкви были сделаны относительно меня не увенчавшиеся успехом попытки вразумления, тогда как ничего подобного никогда не было. Оно представляет из себя то, что на юридическом языке называется клеветой, так как в нем заключаются заведомо несправедливые и клонящиеся к моему вреду утверждения. Оно есть, наконец, подстрекательство к дурным чувствам и поступкам, так как вызвало, как и должно было ожидать, в людях непросвещенных и нерассуждающих озлобление и ненависть ко мне, доходящие до угроз убийства и высказываемые в получаемых мною письмах. "Теперь ты предан анафеме и пойдешь после смерти в вечное мучение и издохнешь как собака... анафема та, старый черт... проклят будь", пишет один. Другой делает упреки правительству за то, что я не заключен еще в монастырь, и наполняет письмо ругательствами. Третий пишет: "Если правительство не уберёт тебя, – мы сами заставим тебя замолчать"; письмо кончается проклятиями. "Чтобы уничтожить прохвоста тебя, – пишет четвертый, – у меня найдутся средства..." Следуют неприличные ругательства. Признаки такого же озлобления после постановления синода я замечаю и 1 при встречах с некоторыми людьми. В самый же день 25 февраля, когда было опубликовано постановление, я, проходя по площади, слышал обращённые ко мне слова: "Вот дьявол в образе человека", и если бы толпа была иначе составлена, очень может быть, что меня бы избили, как избили, несколько лет тому назад, человека у Пантелеймоновской часовни. Так что постановление синода вообще очень нехорошо; то, что в конце постановления сказано, что лица, подписавшие его, молятся, чтобы я стал таким же, как они, не делает его лучше. Это так вообще, в частностях же постановление это несправедливо в следующем. В постановлении сказано: "Известный миру писатель, русский по рождению, православный по крещению и воспитанию, граф Толстой, в прельщении гордого ума своего, дерзко восстал на Господа и на Христа его и на святое его достояние, явно перед всеми отрёкся от вскормившей и воспитавшей его матери, церкви православной". То, что я отрёкся от церкви, называющей себя православной, это совершенно справедливо. Но отрекся я от неё не потому, что я восстал на Господа, а напротив, только потому, что всеми силами души желал служить ему. Прежде чем отречься от церкви и единения с народом, которое мне было невыразимо дорого, я, по некоторым признакам усумнившись в правоте церкви, посвятил несколько лет на то, чтобы исследовать теоретически и практически учение церкви: теоретически – я перечитал все, что мог, об учении церкви, изучил и критически разобрал догматическое богословие; практически же – строго следовал, в продолжение более года, всем предписаниям церкви, соблюдая все посты и посещая все церковные службы. И я убедился, что учение церкви есть теоретически коварная и вредная ложь, практически же собрание самых грубых суеверий и колдовства, скрывающее совершенно весь смысл христианского учения: И я действительно отрёкся от церкви, перестал исполнять её обряды и написал в завещании своим близким, чтобы они, когда я буду умирать, не допускали ко мне церковных служителей, и мёртвое моё тело убрали бы поскорей, без всяких над ним заклинаний и молитв, как убирают всякую противную и ненужную вещь, чтобы она не мешала живым. То же, что сказано, что я "посвятил свою литературную деятельность и данный мне от Бога талант на распространение в народе учений, противных Христу и церкви" и т.д., и что "я в своих сочинениях и письмах, во множестве рассылаемых мною так же, как и учениками моими, по всему свету, в особенности же в пределах дорогого отечества нашего, проповедую с ревностью фанатика ниспровержение всех догматов православной церкви и самой сущности веры христианской", – то это несправедливо. Я никогда не заботился о распространении своего учения. Правда, я сам для себя выразил в сочинениях свое понимание учения Христа и не скрывал эти сочинения от людей, желавших с ними познакомиться, но никогда сам не печатал их; говорил же людям о том, как я понимаю учение Христа, только тогда, когда меня об этом спрашивали. Таким людям я говорил то, что думаю, и давал, если они у меня были, мои книги. Потом сказано, что я "отвергаю Бога, во святой троице славимого создателя и промыслителя вселенной, отрицаю господа Иисуса Христа, богочеловека, искупителя и спасителя мира, пострадавшего нас ради человеков и нашего ради спасения и воскресшего из мёртвых, отрицаю бессеменное зачатие по человечеству Христа господа и девство до рождества и по рождестве пречистой богородицы". Стоит только почитать требник и проследить за теми обрядами, которые не переставая совершаются православным духовенством и считаются христианским богослужением, чтобы увидать, что все эти обряды не что иное, как различные приемы колдовства, приспособленные ко всем возможным случаям жизни. Для того, чтобы ребёнок, если умрёт, пошёл в рай, нужно успеть помазать его маслом и выкупать с произнесением 2 известных слов; для того, чтобы родительница перестала быть нечистою, нужно произнести известные заклинания; чтобы был успех в деле или спокойное житье в новом доме, для того, чтобы хорошо родился хлеб, прекратилась засуха, для того, чтобы путешествие было благополучно, для того, чтобы излечиться от болезни, для того, чтобы облегчилось положение умершего на том свете, для всего этого и тысячи других обстоятельств есть известные заклинания, которые в известном месте и за известные приношения произносит священник. То, что я отвергаю непонятную троицу и не имеющую никакого смысла в наше время басню о падении первого человека, кощунственную историю о Боге, родившемся от девы, искупляющем род человеческий, то это совершенно справедливо. Бога же – духа, бога – любовь, единого бога – начало всего, не только не отвергаю, но ничего не признаю действительно существующим, кроме Бога, и весь смысл жизни вижу только в исполнении воли Бога, выраженной в христианском учении. Ещё сказано: "не признает загробной жизни и мздовоздаяния". Если разуметь жизнь загробную в смысле второго пришествия, ада с вечными мучениями, дьяволами, и рая – постоянного блаженства, то совершенно справедливо, что я не признаю такой загробной жизни; но жизнь вечную и возмездие здесь и везде, теперь и всегда, признаю до такой степени, что, стоя по своим годам на краю гроба, часто должен делать усилия, чтобы не желать плотской смерти, то есть рождения новой жизни, верю, что всякий добрый поступок увеличивает истинное благо моей вечной жизни, а всякий злой поступок уменьшает его. Сказано также, что я отвергаю все таинства. Это совершенно справедливо. Все таинства я считаю низменным, грубым, несоответствующим понятию о Боге и христианскому учению колдовством и, кроме того, нарушением самых прямых указаний Евангелия. В крещении младенцев вижу явное извращение всего того смысла, который могло иметь крещение для взрослых, сознательно принимающих христианство; в совершении таинства брака над людьми, заведомо соединявшимися прежде, и в допущении разводов и в освящении браков разведенных вижу прямое нарушение и смысла, и буквы Евангельского учения. В периодическом прощении грехов на исповеди вижу вредный обман, только поощряющий безнравственность и уничтожающий опасение перед согрешением. В елеосвящении так же, как и в миропомазании, вижу приёмы грубого колдовства, как и в почитании икон и мощей, как и во всех тех обрядах, молитвах, заклинаниях, которыми наполнен требник. В причащении вижу обоготворение плоти и извращение христианского учения. В священстве, кроме явного приготовления к обману, вижу прямое нарушение слов Христа, – прямо запрещающего кого бы то ни было называть учителями, отцами, наставниками (Мф. XXIII, 8-10). Сказано, наконец, как последняя и высшая степень моей виновности, что я, "ругаясь над самыми священными предметами веры, не содрогнулся подвергнуть глумлению священнейшее из таинств – евхаристию". То, что я не содрогнулся описать просто и объективно то, что священник делает для приготовлений этого, так называемого, таинства, то это совершенно справедливо; но то, что это, так называемое, таинство есть нечто священное и что описать его просто, как оно делается, есть кощунство, – это совершенно несправедливо. Кощунство не в том, чтобы назвать перегородку-перегородкой, а не иконостасом, и чашку – чашкой, а не потиром и т.п., а ужаснейшее, не перестающее, возмутительное кощунство – в том, что люди, пользуясь всеми возможными средствами обмана и гипнотизации, – уверяют детей и простодушный народ, что если нарезать известным способом и при произнесении известных слов кусочки хлеба и положить их в вино, то в кусочки эти входит Бог; и что тот, во имя кого живого вынется кусочек, тот будет здоров; во имя же кого умершего вынется такой кусочек, то тому на том свете будет лучше; и что тот, кто съест этот кусочек, в того войдет сам Бог. 3 Ведь это ужасно! Как бы кто ни понимал личность Христа, то учение его, которое уничтожает зло мира и так просто, легко, несомненно, дает благо людям, если только они не будут извращать его, это учение все скрыто, все переделано в грубое колдовство купанья, мазания маслом, телодвижений, заклинаний, проглатывания кусочков и т.п., так что от учения ничего не остается. И если когда какой человек попытается напомнить людям то, что не в этих волхвования, не в молебнах, обеднях, свечах, иконах учение Христа, а в том, чтобы люди любили друг друга, не платили злом за зло, не судили, не убивали друг друга, то поднимется стон негодования тех, которым выгодны эти обманы, и люди эти во всеуслышание, с непостижимой дерзостью говорят в церквах, печатают в книгах, газетах, катехизисах, что Христос никогда не запрещал клятву (присягу), никогда не запрещал убийство (казни, войны), что учение о непротивлении злу с сатанинской хитростью выдумано врагами Христа (Речь Амвросия, епископа харьковского). Ужасно, главное, то, что люди, которым это выгодно, обманывают не только взрослых, но, имея на то власть, и детей, тех самых, про которых Христос говорил, что горе тому, кто их обманет. Ужасно то, что люди эти для своих маленьких выгод делают такое ужасное зло, скрывая от людей истину, открытую Христом и дающую им благо, которое не уравновешивается и в тысячной доле получаемой ими от того выгодой. Они поступают, как тот разбойник, который убивает целую семью, 5-6 человек, чтобы унести старую поддевку и 40 коп. денег. Ему охотно отдали бы всю одежду и все деньги, только бы он не убивал их. Но он не может поступить иначе. То же и с религиозными обманщиками. Можно бы согласиться в 10 раз лучше, в величайшей роскоши содержать их, только бы они не губили людей своим обманом. Но они не могут поступать иначе. Вот это-то и ужасно. И потому обличать их обманы не только можно, но должно. Если есть что священное, то никак уже не то, что они называют таинством, а именно эта обязанность обличать их религиозный обман, когда видишь его. Если чувашин мажет своего идола сметаной или сечет его, я могу равнодушно пройти мимо, потому что то, что он делает, он делает во имя чуждого мне своего суеверия и не касается того, что для меня священно; но когда люди, как бы много их ни было, как бы старо ни было их суеверие и как бы могущественны они ни были, во имя того Бога, которым я живу, и того учения Христа, которое дало жизнь мне и может дать её всем людям, проповедуют грубое колдовство, я не могу этого видеть спокойно. И если я называю по имени то, что они делают, то я делаю только то, что должен, чего не могу не делать, если я верую в Бога и христианское учение. Если же они вместо того, чтобы ужаснуться на свое кощунство, называют кощунством обличение их обмана, то это только доказывает силу их обмана и должно только увеличивать усилия людей, верующих в Бога и в учение Христа, для того, чтобы уничтожить этот обман, скрывающий от людей истинного Бога. Про Христа, выгнавшего из храма быков, овец и продавцов, должны были говорить, что он кощунствует. Если бы он пришёл теперь и увидал то, что делается его именем в церкви, то ещё с большим и более законным гневом наверно повыкидал бы все эти ужасные антиминсы, и копья, и кресты, и чаши, и свечи, и иконы, и всё то, посредством чего они, колдуя, скрывают от людей Бога и его учение. Так вот что справедливо и что несправедливо в постановлении обо мне синода. Я действительно не верю в то, во что они говорят, что верят. Но я верю во многое, во что они хотят уверить людей, что я не верю. Верю я в следующее: верю в Бога, которого понимаю как дух, как любовь, как начало всего. Верю в то, что он во мне и я в нём. Верю в то, что воля Бога яснее, понятнее всего выражена в учении человека Христа, которого понимать Богом и которому молиться считаю величайшим кощунством. Верю в то, что истинное благо человека – в исполнении воли Бога, воля же его в том, чтобы люди любили друг друга и вследствие этого 4 поступали бы с другими так, как они хотят, чтобы поступали с ними, как и сказано в Евангелии, что в этом весь закон и пророки. Верю в то, что смысл жизни каждого отдельного человека поэтому только в увеличении в себе любви, что это увеличение любви ведёт отдельного человека в жизни этой ко все большему и большему благу, даёт после смерти тем большее благо, чем больше будет в человеке любви, и вместе с тем и более всего другого содействует установлению в мире царства Божия, то есть такого строя жизни, при котором царствующие теперь раздор, обман и насилие будут заменены свободным согласием, правдой и братской любовью людей между собою. Верю, что для преуспеяния в любви есть только одно средство: молитва, – не молитва общественная в храмах, прямо запрещенная Христом (Мф. VI, 5-13), а молитва, образец которой дан нам Христом, – уединенная, состоящая в восстановлении и укреплении в своём сознании смысла своей жизни и своей зависимости только от воли Бога. Оскорбляют, огорчают или соблазняют кого-либо, мешают чему-нибудь и кому-нибудь или не нравятся эти мои верования, – я так же мало могу их изменить, как своё тело. Мне надо самому одному жить, самому одному и умереть (и очень скоро), и потому я не могу никак иначе верить, как так, как верю. Готовясь идти к тому Богу, от которого исшёл. Я не говорю, чтобы моя вера была одна несомненно на все времена истинна, но я не вижу другой – более простой, ясной и отвечающей всем требованиям моего ума и сердца; если я узнаю такую, я сейчас же приму её, потому что Богу ничего, кроме истинны, не нужно. Вернуться же к тому, от чего я с такими страданиями только что вышел, я уже никак не могу, как не может летающая птица войти в скорлупу того яйца, из которого она вышла. "Тот, кто начнёт с того, что полюбит христианство более истины, очень скоро полюбит свою церковь или секту более, чем христианство, и кончит тем, что будет любить себя (своё спокойствие) больше всего на свете", – сказал Кольридж. Я шёл обратным путем. Я начал с того, что полюбил свою православную веру более своего спокойствия, потом полюбил христианство более своей церкви, теперь же люблю истину более всего на свете. И до сих пор истина совпадает для меня с христианством, как я его понимаю. И я исповедую это христианство; и в той мере, в какой исповедую его, спокойно и радостно живу и спокойно и радостно приближаюсь к смерти. 4 апреля 1901. Москва. Уход Льва Толстого: документальные свидетельства Наталья Даниловна Блудилина –- кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН. Автор ряда статей о Карамзине и Льве Толстом, о литературных источниках "Войны и мира", один из авторов и редактор книг "Россия и Запад: горизонты взаимопознания. Литературные источники первой четверти ХVIII века" и "Москва в русской и мировой литературе". Осенью 1928 года в Публичную библиотеку СССР им. В. И. Ленина поступила библиотека Оптиной пустыни. Среди рукописных материалов этой библиотеки были ценные документы, связанные с уходом Л. Н. Толстого. Впервые на них обратил внимание хранитель Публичной библиотеки Г. П. Георгиевский в 1929 году (ГПБ. Ф. 217. К. 1). Отметив двоякий характер этих важных материалов, он разделил их на летописные свидетельства и сборные документы. Материалы летописного характера были заимствованы из летописей Оптиной пустыни. В рукописном собрании её библиотеки сохранились две книги, относившиеся к жизни не всего монастыря, а только его части – скита: "Летопись скита во имя св. Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, находящегося при Козельской Введенской Оптиной пустыни". Монастырский летописец день за днем описывал все события из жизни обители. Естественно, что приезд Л. Н. Толстого в Оптину пустынь в 1910 году был в летописи зафиксирован. Все документы сборного характера (черновики или отпуски бумаг, письма и телеграммы, отправленные разными духовными и светскими лицами, причастными к последним дням Толстого, и другие) составили в библиотеке Оптиной пустыни особое "Дело о посещении Оптиной пустыни графом Львом Николаевичем Толстым в 1910 году и о его смерти". "Дело", очевидно, до революции находилось в составе монастырского архива, где в общем порядке или за один 1910 5 год было обозначено под номером 116. Тщательно собранные ценные материалы были разложены в две тетради, для каждой из которых была составлена своя опись бумаг. Г. П. Георгиевский в 1929 году свидетельствовал, что все бумаги, согласно описям, сохранились полностью, включая расписки и квитанции на телеграммы и конверт во второй тетради – кроме стереоскопической фотографии "Л. Толстой в Шамордине". 16 документов под общим названием всех материалов "Дело № 116" были позже переведены из ГБЛ в архив Государственного музея Л. Н. Толстого (ГМТ. КП 9389. Инв. № 60576. Подлинники. 20 лл. + 2 лл. об. + 1 л. чист.). Печатая полностью летописные оптинские материалы, относящиеся к Л. Н. Толстому, мы сохраняем орфографию подлинника. Из "Дела № 116" мы публикуем некоторые документы из тех, которые ранее не печатались (см. сборники ГБЛ: "Смерть Толстого". М., 1928; "Смерть Толстого по новым материалам". М., 1929) или имеют существенные отличия в черновиках, по которым мы их издаем. Летопись скита во имя св. Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, находящегося при Козельской Введенской Оптиной пустыни 1910 г., октября 28. Прибыл в Оптину пустынь известный писатель граф Лев Толстой. Остановившись в монастырской гостинице, он спросил заведующего ею рясофорного послушника Михаила: – Может быть, вам неприятно, что я приехал к вам? Я – Лев Толстой; отлучён от церкви; приехал поговорить с вашими старцами. Завтра уеду в Шамордино. Вечером, зайдя в гостиницу, спрашивал, кто настоятель, кто скитоначальник, сколько братства, кто старцы, здоров ли о. Иосиф1 и принимает ли. На другой день дважды уходил на прогулки, причём его видели у скита, но в скит не заходил, у старцев не был и в 3 часа уехал в Шамордино. О пребывании Толстого в Оптиной было о. настоятелем донесено Преосвященному Калужскому, о пребывании графа в Шамордине имеются следующие сведения. Встреча его с сестрой своей, шамординскою монахинею 2, была очень трогательна: граф со слезами обнял её; после того они долго беседовали вдвоём. Между прочим, граф говорил, что он был в Оптиной, что там хорошо, что с радостью он надел бы подрясник и жил бы, исполняя самые низкие и трудные дела, но что он условием поставил бы не принуждать его молиться, чего он не может. На замечание сестры, что и ему бы поставили условием ничего не проповедовать и не учить, граф ответил: – Чему учить, там надо учиться, – и говорил, что на другой день поедет на ночь в Оптину, чтобы повидать старцев. Про Шамордино отзывался хорошо и говорил, что и здесь затворился бы в своей храмине и готовился бы к смерти. На другой день, среди дня, снова был у сестры, а к вечеру прибыла неожиданно дочь графа3 и ночью увезла его с собой. Ноября 5. 4-го сего месяца утром получена телеграмма Преосвященного Калужского о назначении, по распоряжению Синода, бывшему скитоначальнику иеромонаху Иосифу ехать на станцию Астапово Рязанско-Уральской железной дороги к заболевшему в пути графу Льву Толстому для предложения ему духовной беседы и религиозного утешения в целях примирения с Церковью. На сие отвечено телеграммой, что о. Иосиф болен и на воздух не выходит, но за послушание ехать решился. При сем настоятелем Оптинским4 испрашивалось разрешение, вследствие затруднения для о. Иосифа ехать по назначению, заменить его о. Игуменом Варсонофием 5. На это последовал ответ епископа Вениамина, что Святейший Синод сие разрешил. Затем о. настоятелем телеграммой запрошено у Преосвященного, достаточно ли, в случае раскаяния Толстого, присоединить его к Церкви чрез таинства покаяния и св. причащения, на что получен ответ, что посланное для беседы с Толстым лицо имеет донести Преосвященному Калужскому о результате сей беседы, чтобы епископ мог о дальнейшем снестись с Синодом. Вечером 4-го же числа от старца о. Иосифа было телеграммой спрошено у начальника станции Астапово, там ли Толстой, можно ли его застать 5-го числа вечером и если выехал, то куда. На это получен ответ, что семья Толстого просит не выезжать. Однако утром сего числа о. игумен Варсонофий, во исполнение синодального распоряжения, выехал к графу Толстому в Астапово. Ноября 8. ...Сего же числа поздно вечером возвратился из Астапово о. игумен Варсонофий, которому не пришлось видеть умирающего Толстого, так как доктора до последних предсмертных часов не допускали к нему даже семейных его. Граф скончался утром 7-го числа. 6 Из доношения настоятеля Оптиной пустыни епископу Калужскому Его преосвященству преосвященнейшему Вениамину, епископу Калужскому и Боровскому настоятеля Козельской Введенской Оптиной пустыни Архимандрита Ксенофонта почтеннейшее доношение. Долгом считаю почтительнейшим донести Вашему Преосвященству, что 28 прошлого Октября в вверенную мне пустынь приезжал, с 5-часовым вечерним поездом, идущим от Белева, граф Лев Николаевич Толстой, в сопровождении, по его словам, своего доктора6. 29 Октября часов в 7 утра к нему приехал со станции какой-то молодой человек7, долго что-то писали в номере, и с этим же извозчиком доктор его ездил в г. Козельск. Часу в 8-м утра этого дня Толстой отправился на прогулку около монастыря и, возвратившись часов в 9, пил кофе, а затем часов в 10 опять отправился на прогулку; оба раза ходил один. Во второй раз его видели проходившим около пустого корпуса, находящегося вне монастырской ограды, называемого "Консульский", в котором он бывал ещё при жизни покойного старца Амвросия, у покойного писателя К. Леонтьева; затем проходил около скита, но ни у старцев, ни у меня, настоятеля, он не был. Внутрь монастыря и скита не входил. С этой прогулки Толстой вернулся часу в первом дня, пообедал и часа в три дня этого же числа выехал в Шамордино, где живёт его сестра-монахиня. В книге для записки посетителей на гостинице он написал: "Лев Толстой благодарит за приём". Вашего Преосвященства Милостивого Архипастыря и Отца. № 842 2 ноября 1910 г. Телеграммы. Письма. Донесения Игумен Варсонофий – епископу Вениамину Калужскому8 5/XI – 11.00 в. Калуга. Преосвященнейшему епископу Вениамину Сегодня вечером прибыл Астапово. Семья графа в сборе. Доктора заявили мне, что доступ графу безусловно невозможен на неопределенное время виду опасной болезни воспаления лёгких. Буду ожидать надежде улучшения здоровья графа. Испрашиваю святых молитв, архипастырского благословения и указания. Игумен Варсонофий – епископу Никодиму Рязанскому9, 5/XI – 11.00 в. Рязань. Преосвященнейшему епископу Никодиму По распоряжению Святейшего Синода прибыл сегодня ст. Астапово больному графу Толстому для предложения ему духовной беседы и религиозного утешения в целях примирения его с Церковью. Доктора заявили невозможности доступа к нему виду опасного болезненного состояния. Испрашиваю святых молитв и архипастырского благословения. Епископ Вениамин – игумену Варсонофию10, 6/XI – 08 у. Астапово. Оптинскому старцу игумену Варсонофию. Святейший Синод благословляет вам жить пока в Астапове, впредь до особых распоряжений. Употребить все старания побеседовать с графом Толстым. Будем молиться. Благослови вас Господь. Епископ Вениамин. Игуменья Шамординского монастыря – епископу Калужскому11 Пишу со слов N... и его сестры графини монахини. В 6 часов вечера граф прибыл в Шамордино в келью сестры; встреча была очень трогательная: он обнял сестру, поцеловал и на плече рыдал не меньше пяти минут; долго потом они сидели вдвоем; он поведал ей свое горе: разлад с женой. Затем был обед. К нему пригласили его доктора и монахиню N... Все четыре кушанья, как-то: картофель, грибы, каша и суп, им были смешаны в одно место; ел он много, говорил много; вот его слова: – Сестра, я был в Оптиной; как там хорошо, с какой бы радостью я теперь надел бы подрясник и жил бы, исполняя самые низкие и трудные дела; поставил бы условие: не понуждать меня молиться, этого я не могу. Сестра отвечала: – Это хорошо, брат, но и с тебя взяли бы условие: ничего не проповедовать и не учить. Граф ответил: – Чему учить? Там надо учиться; в каждом встречном насельнике я видел только учителей. Да, сестра, тяжело мне теперь. А у вас? Что, как не Эдем? Я и здесь бы затворился в своей храмине и готовился бы к смерти; ведь 80 лет, а умирать надо! Наклонив голову, он задумался, пока не напомнили ему, что он ещё не окончил обед. – Ну, а видел ты наших старцев? – сказала сестра. 7 – Нет, – ответил граф. Это слово, по мнению его сестры, было ясным доказательством, что он сознает свою ошибку в жизни. – А почему же? – сказала сестра. Граф ответил: – Да разве, ты думаешь, они меня примут? Ты не забудь, что истинно православные, крестясь, отходят от меня; ты забыла, что я отлучён, что я тот Толстой, о котором можно... да что, сестра! – оборвал граф. – Я взад не горюю, завтра я еду к отцам в Скит; по твоим словам я надеюсь, что они меня примут. Итак, доктор, завтра мы в Оптиной ночуем, а день мы употребим на осмотр вашей обители, – сказал граф сестре. Затем он на следующий день в восемь часов утра куда-то ходил. Его встретил мужичок N., которого он просил проводить его в ближайшую деревню, где он искал будто бы для себя квартиру, ничего никому не проповедуя. В три часа дня был у сестры, а в пять часов вечера неожиданно приехала его дочь, и спешно все они в ночь выехали неизвестно куда. Садясь в экипаж, дочь крикнула: "С Богом, скорей, минута дорога!" Говорят, что с восьмичасовым утренним поездом они уехали по направлению к Белеву. Игумен Варсонофий – А. Л. Толстой12 Ваше сиятельство! Графиня Александра Львовна! Мира и радования желаю Вам о Христе Господе Иисусе. Благодарю Ваше Сиятельство за письмо, которым Вы почтили меня. Вы пишете, что воля родителя Вашего для Вас и всей семьи Вашей поставляется на первом плане. Но Вам, графиня, известно, что граф выражал искреннее желание видеть нас и беседовать с нами, чтобы обрести покой для души своей, и глубоко скорбел, что это желание его не осуществилось. Усердно прошу Вас, графиня, не отказать сообщить графу о моём приезде в Астапово, и если он пожелает видеть меня, хотя бы на несколько минут, то я немедленно приду к нему. В случае же отрицательного ответа со стороны графа я возвращусь в Оптину пустынь, предавая это дело воле Божией. А. Л. Толстая – игумену Варсонофию Простите, батюшка, что не исполняю Вашей просьбы и не прихожу побеседовать с Вами. Я в данное время не могу отойти от больного отца, которому ежеминутно могу быть нужна. Прибавить к тому, что Вы слышали от всей нашей семьи, я ничего не могу. Мы – все семейные – единогласно решили впереди всех других соображений подчиниться воле и желанию отца, каковы бы они ни были. После его воли мы подчиняемся предписаниям докторов, которые находят, что в данное время что-либо ему предлагать или насиловать его волю было бы губительным для его здоровья. С искренним уважением к Вам Александра Толстая. 6 ноября 1910 г. Астапово. Игумен Варсонофий – архимандриту Ксенофонту13, 7/XI – 7.12 в. Козельск. Настоятелю Оптиной пустыни архимандриту Ксенофонту Граф Толстой скончался сегодня шесть часов утра без покаяния. Семья была при нём. Меня не приглашали, хотя все меры были приняты с моей стороны видеть больного. Два часа до смерти находился в бессознательном состоянии. Одновременно телеграфирую Епископу. Завтра выезжаю. Игумен Варсонофий. Игумен Варсонофий – епископу Вениамину Калужскому Дополнение вечерней и сегодняшней утренней телеграмм почтительно доношу. Согласно завещанию графа Толстого тело его будет перевезено семейством завтра Ясную Поляну и погребено без церковных обрядов. Глубоко скорбящую графиню постарался утешить. Составляю подробное донесение. Испрашиваю святых молитв и архипастырского благословения. Игумен Варсонофий. Игумен Варсонофий – епископу Калужскому14 Его преосвященству преосвященнейшему Вениамину, епископу Калужскому и Боровскому покорнейшее донесение. Согласно распоряжения Святейшего Правительствующего Синода, изложенного в телеграмме Вашего Преосвященства настоятелю Оптиной пустыни отцу Архимандриту Ксенофонту от 4 ноября за № 390, я отправился 5 ноября в 8 часов утра с поездом У. ж. д. из Козельска на ст. Астапово, куда и прибыл в 7 часов вечера того же дня. Согласно упомянутой телеграммы, цель моей поездки состояла в том, чтобы предложить находившемуся на станции Астапово больному 8 графу Льву Толстому духовную беседу и религиозное утешение, в целях примирения его со Св. Православною Церковью. В вокзале ст. Астапово я встретился с сыном графа Андреем Львовичем Толстым, от которого я узнал, что доктора никого, кроме некоторых лиц, к графу не допускают из опасения осложнения его болезни, но что он употребит все старания, чтобы дать мне возможность лично видеть и переговорить с графом. При этом он добавил, что по той же причине доктора не допускают к больному даже супругу графа и его, А. Л. Толстого, что вообще на свидание с его отцом рассчитывать мне трудно. Вскоре явился на вокзал лечивший графа доктор Никитин и заявил мне, что по единогласному решению его и других докторов постановлено никого к нему, кроме некоторых лиц, не допускать, в том числе и меня, ввиду могущего быть волнения и осложнения болезни его – воспаления легких. На вопрос, могу ли я вообще рассчитывать на свидание с графом, доктор Никитин ответил неопределенно и вообще отрицательно. На другой день, 6 ноября, я также тщетно пытался проникнуть к графу чрез посредство сыновей и дочерей его. Ссылаясь на запрещение докторов, все они отвечали отказом. При графе в это время находились дочь его, графиня Александра Львовна Толстая, и гг. Чертков14 и Сергеенко, имевшие всегда на графа большое влияние и прежде, до болезни его. На просьбу к дочери графа, А. Л. Толстой, лично переговорить со мной, она письменно также отвечала отказом, как равно и на другое письмо моё, переданное ей через брата её, графа А. Л. Толстого. О ходе болезни графа и вообще о состоянии здоровья его определённых сведений я также не имел. Не теряя надежды, я всегда был наготове, чтобы по первому зову графа явиться к нему немедленно. В этот день, как и сегодня, 7 ноября, я находился на вокзале, в 20 шагах от квартиры начальника станции, в которой находился граф, и явиться к нему я мог немедленно. Только сегодня, в воскресенье 7 ноября, жандармский офицер15 известил меня, что граф скончался в бессознательном состоянии, не узнавая жены и сыновей, которые были к нему в эти часы допущены. Смерть графа последовала в 6 ч. 45 мин. утра. Посетивши вдову-графиню и сыновей её, я узнал от них, что граф выразил свою волю быть погребенным в имении его Ясной Поляне, без церковных обрядов и отпевания вообще. По заявлению тех же лиц, тело графа будет перевезено в товарном вагоне завтра, 8 ноября, для погребения. Завтра же предполагаю выехать в Оптину пустынь. В дополнение телеграмм моих 5, 6 и 7 ноября обо всём вышеизложенном почтительно доношу Вашему Преосвященству. Примечания 1. Старец Иосиф (1838--1911), иеросхимонах, был духовником скитской братии и начальником скита. Он происходил из крестьян Старобельского уезда Харьковской губернии, получил домашнее образование. 1 марта 1861 года, в возрасте 23 лет, поступил в скит, где прожил более пятидесяти лет. Последние годы, с осени 1905 года, по болезни и слабости пребывал в скиту на покое. 2. Толстая Мария Николаевна, по мужу Оболенская, родная сестра Л. Н. Толстого, в то время монахиня Шамординского монастыря. 3. Толстая Александра Львовна, младшая дочь Л. Н. Толстого. С ней приехала и её подруга Феокритова Варвара Михайловна. 4. Архимандрит Ксенофонт (††1914). 5. Игумен Варсонофий был в это время начальником скита, старцем и духовником. 6. Маковицкий Душан Петрович. 7. Сергеенко Алексей Петрович, в то время секретарь В. Г. Черткова. 8. Черновик телеграммы (без подписи) о. Варсонофия к еп. Вениамину. Публикуемый текст значительно отличается от окончательного варианта телеграммы (см. сборник: Смерть Толстого по новым материалам. М., 1929. № 461). Одновременно с этим извещением о. Варсонофием была отправлена телеграмма (подобного содержания) в г. Козельск, в Оптину пустынь арх. Ксенофонту. 9. Черновик телеграммы (без подписи) о. Варсонофия к еп. Никодиму. Публикуемый текст значительно отличается от окончательного варианта телеграммы (сб. "Смерть Толстого по новым материалам". № 462). 10. Телеграмма еп. Вениамина. В ответ о. Варсонофий в 9.40 вечера отправил телеграмму еп. Вениамину, где сообщал: "Здоровье графа внушает опасения. Консилиум докторов ожидает окончательного кризиса через два дня. Стараюсь видеть больного при посредстве родных, но успеха нет. Доктора никого не пускают. Предполагаю дождаться кризиса болезни графа" (сб. "Смерть Толстого по новым материалам". № 598). 9 11. "Подробности последнего пребывания Л. Толстого в Шамордино, записанные со слов М. Н. Толстой" – так публикуемый документ назван в описи. 12. Черновик письма (без подписи) о. Варсонофия к А. Л. Толстой. 13. Телеграмма о. Варсонофия. Единственная из всех представленных здесь материалов ранее публиковалась (сб. "Смерть Толстого по новым материалам". № 762). Приводим ее для документальной полноты освещения событий. 14. Чертков Владимир Григорьевич, толстовец, душеприказчик по духовному завещанию Л. Н. Толстого. 15. Савицкий Михаил Николаевич. Публикация, вступительная заметка и примечания Натальи Блудилиной. Е.П. Блаватская ЛЕВ ТОЛСТОЙ И ЕГО НЕЦЕРКОВНОЕ ХРИСТИАНСТВО Толстой – это великий мастер художественного слова и великий мыслитель. Вся его жизнь, его сердце и разум были заняты одним жгучим вопросом, который в той или иной степени наложил свой болезненный отпечаток на все его сочинения. Мы чувствуем его омрачающее присутствие в "Истории моего детства", в "Войне и мире", в "Анне Карениной", пока он окончательно не поглотил его в последние годы его жизни, когда были созданы такие работа, как "Моя вера", "В чем моя вера?", "Что же делать?", "О жизни" и "Крейцерова соната". Тот же самый вопрос горит в сердцах многих людей, особенно среди теософов; это поистине – вопрос самой жизни. "В чём смысл, цель человеческой жизни? Каков конечный исход неестественной, извращённой и лживой жизни нашей цивилизации, такой, какая навязана каждому из нас в отдельности? Что мы должны делать, чтобы быть счастливыми, постоянно счастливыми? Как избежать нам кошмара неизбежной смерти?" На эти вечно стоящие вопросы Толстой не дал ответа в своих ранних сочинениях, потому что он сам не нашёл его. Но он не мог прекратить бороться, как это сделали миллионы других, более слабых или трусливых натур, не дав ответа, который по крайней мере удовлетворил бы его собственное сердце и разум; и в пяти вышеназванных работах содержится такой ответ. Это ответ, которым на самом деле не может удовольствоваться теософ в той форме, в какой его даёт Толстой, но в его главной, основополагающей, насущной мысли мы можем найти новый свет, свежую надежду и сильное утешение. Однако для того, чтобы понять её, мы должны вкратце проследить тот путь, посредством которого Толстой достиг того мира, который был им найден; ибо пока мы не сможем почувствовать так же, как и понять те внутренние процессы, которые привели его к этому, его решение, подобно любому другому решению жизненной проблемы, останется мёртвой буквой, чисто интеллектуальной словесной концепцией, в которой полностью отсутствует жизненная сила; простой спекуляцией, лишенной живой истины и энтузиазма. Подобно всем думающим мужчинам и женщинам нашего времени, Толстой утратил веру в религию в детстве; ибо такая утрата детской веры – неизбежная в жизни каждого человека – не является, как правило, результатом глубокого размышления; это скорее естественное следствие нашей культуры и нашего общего жизненного опыта. Он сам говорит, что его вера исчезла, и он не знает, как. Но его юношеское устремление к этическому усовершенствованию, продолжало сохраняться еще около десяти лет, постепенно забываясь, и, в конце концов, совершенно исчезло. Видя вокруг себя торжествующие амбиции, любовь к власти, эгоизм и чувственность; видя презрение и насмешливое отношение ко всему тому, что называется добродетелью, добротой, чистотой и альтруизмом, и не способный иметь ни ощущения внутреннего счастья и наполненности, ни внешнего успеха, Толстой шёл по пути, которым движется мир, поступая так, как он видит поступают другие, принимая участие во всех порочных и низменных поступках "благопристойного мира". Далее он обращается к литературе, 10 становится великим мастером слова, наиболее преуспевающим писателем, пытаясь, как он сам рассказывает, скрыть от себя свое собственное невежество, поучая других. В течение нескольких лет он продолжал совершать такое подавление своей внутренней неудовлетворенности, но перед ним всё более часто, всё более мучительно вставал этот вопрос: Для чего я живу? Что я знаю? И с каждым днем он всё яснее видел, что он не может дать на него ответ. Ему было пятьдесят лет, когда его отчаяние достигло наивысшей точки. Находясь на вершине своей славы, счастливый муж и отец, автор многих прекрасных сочинений, наполненных глубочайшим знанием людей и жизненной мудрости, Толстой осознает невозможность дальнейшего продолжения жизни. "Человек не может вообразить себе жизнь без желания благополучия. Желать и приближать это благополучие – это и есть жизнь. Человек исследует в жизни только то, что он может в ней улучшить". Наша наука, напротив, изучает только тени вещей, а не их истинную сущность; и, находясь в заблуждении, что это второстепенное и неважное является существенным, наука искажает идею жизни и забывает о своём истинном предназначении, состоящем в проникновении именно в эту тайну, а не в изучении того, что сегодня открывается, а завтра – забывается. Философия говорит нам: "Вы являетесь частью человечества, поэтому вы должны соучаствовать в развитии человечества и в реализации его идеалов; цель твоей жизни совпадает с целью жизни всех других людей". Но как это может помочь мне узнать, что я живу для того же, для чего живет и все человечество, если мне не сказали, что это такое, для чего должно жить человечество? Почему существует мир? В чём состоит результат того, что мир существует и будет существовать? Философия не дает ответа. Скептицизм, нигилизм, отчаяние – в эту сторону уводят подобные мысли думающего человека, если он ищет последнее слово Мудрости в науке и философии различных школ. Таково, также, реальное, внутреннее, ментальное состояние, в котором находятся многие люди как внутри, так и вне Теософского общества. По отношению к этой проблеме жизни Толстой разделяет людей в целом на четыре класса: Некоторые, обладающие слабым и незрелым интеллектом, счастливо живут в своём невежестве – для них проблема жизни, как таковая, не существует. Другие достаточно осознают и понимают эту проблему, но намеренно отворачиваются от неё, поддерживаемые благоприятными внешними обстоятельствами, позволяющими им пройти по жизни как бы в состоянии опьянения. Третью группу составляют те люди, которые знают, что смерть лучше, чем жизнь, прошедшая в заблуждении и невежестве; но они продолжают жить, потому что они не имеют достаточной силы для того, чтобы положить внезапный конец этому обману – жизни. Наконец, существуют сильные и стойкие натуры, которые осознают весь идиотизм этого фарса, который разыгрывается с ними, и одним ударом кладут конец этой глупой игре. "Я ничего не мог бы сделать", – говорит он, – "только думать, думать о том ужасном положении, в котором я находился... Мое внутреннее состояние в это время, которое вплотную привело меня к самоубийству, было таково, что всё, что я сделал до тех пор, всё, что я всё же смог бы сделать, казалось мне глупым и дурным. Даже то, что было для меня наиболее дорого в этой жизни, что столь долго уводило и отвлекало меня от жестокой реальности – моя семья и моё творчество – даже это утратило для меня всякую ценность". Он, наконец, выбрался из этой пропасти отчаяния. "Жизнь – это всё, – заключил он, – я, сам мой разум является созданием этой всеобщей жизни. Но в то же самое время Разум – это создатель и последний судья человеческой жизни, присущий ей самой. Каким же образом тогда разум может отрицать смысл последней, не отрицая самого себя и не называя себя лишённым смысла? Следовательно, я могу назвать жизнь бессмысленной 11 лишь потому, что я не познал её смысл". Убежденный в том, что у Жизни есть смысл, Толстой ищет его среди тех, кто действительно живет – среди людей. Но здесь он снова встречается с разочарованием, горчайшим изо всех, поскольку именно здесь была его последняя надежда. Ибо среди людей он обнаружил единственное решение проблемы жизни, которое покоилось на представлении о вселенной, противоположном разуму, и основывалось на слепой вере, которую он так давно отбросил в сторону. "Я подверг, – рассказывает он, – дополнительной проверке представления моего разума и обнаружил, что Разум в недостаточной степени отвечает на мои вопросы, поскольку он не рассматривает концепцию Бесконечного (Беспричинного, Вневременного и Внепространственного), потому что он объясняет мою жизнь, проходящую во времени, пространстве и причинной обусловленности, опять-таки в терминах времени, пространства и причинности: такое объяснение на самом деле является логически корректным, но только лишь в терминах тех же самых компонентов, то есть, оставляя исходное и конечное основание жизни – единственное, что нас волнует и интересует – необъясненным. Религия, напротив, делает прямо противоположное: она не признает логики, но знает концепцию Бесконечного, с которой соотносит всё сущее и, в некоторой степени, даёт правильные ответы. Религия говорит: Ты должен жить согласно закону Божиему; результатом твоей жизни будет или вечное мучение, или вечное блаженство; смысл твоей жизни, которая не уничтожается после смерти, состоит в соединении с Бесконечным Божеством.... Концепция Бесконечного Божества, божественности Души, зависимости человеческих поступков от Бога – таковы представления, которые зародились в сокровенной глубине человеческой мысли, и без которых не было бы никакой жизни, и я также не смог бы существовать". "Но что же такое Бог? На какой последовательности мыслей основывается вера в его существование и в зависимость человека от него? Если я есть", – рассуждает Толстой, – "тогда должен быть смысл моего бытия, и смысл для такого основания, и некий первичный смысл, и это и есть Бог. Я чувствую успокоение; мои сомнения и сознание своего сиротства в жизни исчезли. Но когда я спрашиваю себя: что есть Бог? Что я должен делать по отношению к нему? – Я обнаруживаю лишь банальные ответы, которые снова разрушают мою веру... Но я имею в себе концепцию Бога, сам факт и необходимость такой концепции, – и никто не может лишить меня этого. Однако, откуда же эта концепция? Откуда же её необходимость? Эта необходимость является самим Богом. И я снова чувствую радость. Все вокруг меня живёт и имеет свой смысл. Представление о Боге – это поистине не сам Бог; но необходимость создания этого представления, стремление к познанию Бога, благодаря познанию которого я и живу, – это и есть Бог, живой и дающий жизнь Бог... Живя в этой мысли, ты действуешь как проявление Бога, и тогда твоя жизнь будет свидетельствовать о существовании Бога". Толстой вновь обрел веру, "свидетельство невидимых вещей", и его религиозная вера выражалась в течение трёх лет его жизни в полном соответствии с наиболее строгими предписаниями православной церкви. Но, в конце концов, обнаружив, что церковь и всё христианское общество в целом поступает прямо противоположно его главным представлениям об истинной Религии, он оторвался от православия и захотел понять, в чём состоит для него Истина в Религии, путём изучения Нового Завета. Но прежде чем обсуждать те заключения, к которым он пришёл, рассмотрим сначала фундаментальную позицию Толстого с теософской точки зрения. Его аргумент о существовании Бесконечного Бога как необходимого "первоначального основания" человеческого разума, полностью совпадает с аргументами теософов о существовании Космического или Универсального Разума, и как аргумент, он не доказывает ничего сверх того. Заражённый западной привычкой к чувственности, он приписывает Универсальному Разуму антропоморфные черты, которыми последний не может обладать, и, таким 12 образом, сеет семена неестественности и приводит к выводам о тех практических действиях, к которым он пришёл впоследствии. В главном он прав; но в попытке удовлетворить требования своей эмоциональной натуры, он впадает в квазиантропоморфизм. Однако, для нас более важно обратить внимание на ту горькую картину, на которой он рисует те ментальные страдания, которые сегодня мучают каждого честного и искреннего мыслителя, и на то, что он указывает путь, единственный путь, на котором возможно спасение. Ибо, исходя из его основной концепции, мы приходим, при тщательном и внимательном рассуждении, к фундаментальным представлениям теософского учения, как мы это увидим впоследствии. Но вернемся к религиозным открытиям Толстого. Изучая Евангелия, он обнаружил самую суть учения Иисуса в Нагорной Проповеди, понятой в своем буквальном, простом смысле, "таком, что даже маленький ребёнок понял бы его". Он рассматривает как совершенное выражение христианского закона Милосердия и Мира, заповедь, "не противься злу", которая для него является наиболее точным проявлением истинного христианства, и эту заповедь он называет "единственным и вечным законом Бога и людей". Он также указывает, что задолго до появления исторического Иисуса, этот закон был известен и признан всеми руководителями человеческой расы. "Прогресс человечества в направлении добра", – пишет он, – "совершается теми, кто переносит страдания, а не теми, кто их причиняет". Такова суть религии Толстого; но мы будем иметь больше возможностей проникнуть в её истинный смысл и оценить вытекающие из неё практические выводы после того, как мы рассмотрим, во-первых, его учение о религиозном счастье, и во-вторых, его философию жизни. Я верю, говорит Толстой: (1) что счастье на земле зависит единственно от выполнения учения Христа; (2) что осуществление этого учения не только возможно, но и легко и исполнено радости. Счастье, учит он, это любовь ко всем людям, единение с ними, а зло – это нарушение такого единства. Любовь и единство являются естественными человеческими состояниями, в которых находятся все люди, которых не сбивают с пути ложные учения. Такие представления изменили всё его отношение к жизни; всё, к чему он ранее стремился, все то, что считается столь значимым в мире – честь, слава, культура, богатство, возросшее качество жизни, окружающей обстановки, пищи, одежды, манер, – всё это утратило свою ценность в его глазах, и вместо всего этого он начал почитать то, что Мир называет дурным и низменным – простоту, бедность, недостаток культуры. Но истинная сущность его учения лежит в концепции Всеобщего Братства человечества. Согласно Толстому, Жизнь означает стремление человека к благополучию, к счастью, причём счастье, как мы видели, может быть достигнуто посредством исполнения заповедей Иисуса. Глубинное значение этих заповедей состоит в истинной жизни, а следовательно также и в истинном счастье, состоящем – не в сохранении чьей-либо индивидуальности, а – в её поглощении Всем, Богом и Человечеством. Поскольку Бог – это Разум, христианское учение может быть сформулировано следующим образом: подчиняй свою личную жизнь разуму, который требует от тебя безусловной любви ко всем существам.*<1> Личная жизнь, та, которую осознает и которую желает только собственное "Я" человека, – это животная жизнь; жизнь разума – это человеческая жизнь, существование, присущее человеку в соответствии с его природой. Максима, завершающая стоическую философию, – живи в соответствии с природой, согласно твоей человеческой природе, – имеет ввиду то же самое. Учения мудрейших законодателей: брахманов, Гаутамы Будды, Конфуция, ЛаоЦзы, Моисея, – содержат такое же объяснение жизни и предъявляют такое же требование к человеку. Ибо с древнейших времён человечество осознавало мучительное внутреннее 13 противоречие, которое ощущали в себе все те люди, кто стремился к личному благополучию. И поскольку, к сожалению, нет иного способа разрешить это противоречие, кроме перенесения центра тяжести существования*<2> человека от своей индивидуальности, которая никогда не может быть сохранена от разрушения, к вечному Всему, то становится понятным, почему все мудрецы прошлого, так же как и величайшие мыслители последних веков, создали учения и нравственные законы, идентичные по своему общему смыслу, ибо они видели лучше всех остальных людей и это противоречие, и его решение. Нетрудно увидеть, в чём состоит основное противоречие личной жизни. То, что является для человека наиболее важным, то единственное, чего он хочет, то, что – как ему кажется – единственно живет, а именно, его индивидуальность, разрушается, потому что скелет, рассыпаясь, не оставляет ничего за "собой"; в то время как то, чего он не хочет, что не является для него ценностью, чью жизнь и чьё благоденствие он не ощущает, – внешний мир борющихся существ, – оказывается именно тем, что имеет продолжение, поистине живет. После пробуждения разумного сознания, которое раньше или позже может произойти в каждом человеке, он осознает ту пропасть, которая проходит между животной и человеческой жизнью; он понимает это всё полнее и полнее, пока в конце концов – на высшем уровне сознавания – фундаментальное противоречие жизни не будет осознано лишь как кажущееся, принадлежащее единственно к сфере животного существования, и смысл жизни, который безуспешно искал "личный" человек, наконец становится открытым. Он обнаруживается не с помощью логических выводов, но – интуитивно. Духовно пробуждённый или возрождённый человек внезапно обнаруживает себя перенесенным в вечное, вневременное состояние жизни чистого "Разума",*<3> в котором не может быть больше никаких иллюзий, противоречий, загадок... Разумная жизнь, как первоначальная и единственная истинная жизнь, является также нормальной жизнью человека, и человек как таковой лишь в той степени может быть назван "живущим", в какой он подчинил животное в себе законам Разума; и это точно так же, как и животное действительно живёт только тогда, когда оно подчиняется не только законам того вещества, из которого состоит его тело, но и высшему закону органической жизни... Если однажды было осознано, что верховенство, особенно в человеческой жизни, безусловно принадлежит не личности, но разуму, то тогда нет ничего сверхчеловеческого в следовании естественному закону человеческой жизни, и в отношении и в использовании в качестве средства того, что является просто средством для истинной жизни, а именно – личности... Но может возникнуть вопрос: для чего же тогда мы имеем личность, если мы должны отказаться от неё, отрицать её? Затем, чтобы личность, подобно любому средству, могла служить просто как способ для достижения цели, – и другой ответ здесь невозможен. Личность – это ничто иное, как "лопата", которая дана разумному существу, чтобы копать ею, чтобы она затуплялась при этом копании и затем снова затачивалась, – чтобы ею пользоваться, а не для того, чтобы она была чистой и хранилась без употребления. Использовать средство в качестве средства – это не означает отрицать его, но значит просто поставить её на службу соответствующей цели, то есть, Разуму. Такова философия жизни Толстого, одинаковая в своей основе с учением теософии. Но, испытывая недостаток в универсальности последней, имея слишком сильную склонность к искаженным и фрагментарным изречениям лишь одного Учителя Мудрости, философия Толстого оказалась бессильна руководить им на практике и, как показывает изучение его трудов, в действительности привела его к внутренним противоречиям. Однако, эти внутренние противоречия, находясь лишь на поверхности, на одном лишь физическом плане, имеют сравнительно небольшое значение по сравнению с тем действительным избавлением от иллюзий (в которых живет большинство из нас), которое он совершил. 14 "Люцифер", сентябрь 1890 г. *<1> Это абсолютно та же самая доктрина, которой учил Будда и все остальные посвященные, включая Платона. Этот факт был понят Толстым, хотя он и не придал ему должного значения. *<2> Там, где твоё сокровище, будет и твоё сердце. *<3> В значении "ноэтической жизни" у Платона. Последним по времени фактом биографии Толстого является определение Святейшего Синода от 20 – 22 февраля 1901 г. "Известный всему миру писатель", читаем мы в этом определении, "Русский по рождению, православный по крещению и воспитанию своему, граф Толстой, в прельщении гордого ума своего, дерзко восстал на Господа и на Христа Его и на святое Его достояние, явно перед всеми отрекшись от вскормившей и воспитавшей его матери, церкви православной, и посвятил свою литературную деятельность и данный ему от Бога талант на распространение в народе учений противных Христу и церкви, и на истребление в умах и сердцах людей веры отеческой, веры православной, которая утвердила вселенную, которой жили и спасались наши предки и которой доселе держалась и крепка была Русь святая. В своих сочинениях и письмах, во множестве рассеваемых им и его учениками по всему свету, в особенности же в пределах дорогого отечества нашего, он проповедует, с ревностью фанатика, ниспровержение всех догматов православной церкви и самой сущности веры христианской: отвергает личного живого Бога, в святой Троице славимого, Создателя и Промыслителя вселенной; отрицает Господа Иисуса Христа – Богочеловека, Искупителя и Спасителя мира, пострадавшего нас ради человеков и нашего ради спасения и воскресшего из мертвых; отрицает бессменное зачатие по человечеству Христа Господа и девство до рождества и по рождестве Пречистой Богородицы Приснодевы Марии, не признает загробной жизни и мздовоздаяния, отвергает все таинства церкви и благодатное в них действие Святого Духа и, ругаясь над самыми священными предметами веры православного народа, не содрогнулся подвергнуть глумлению величайшее из таинств, святую Евхаристию". В силу всего этого "церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с ней". 15