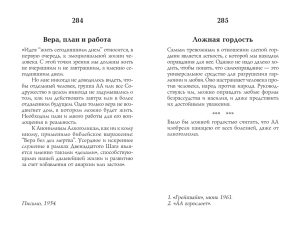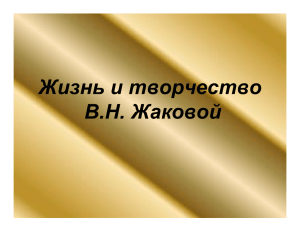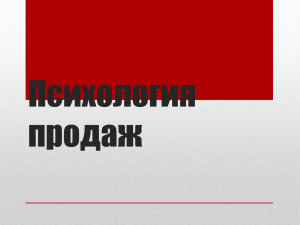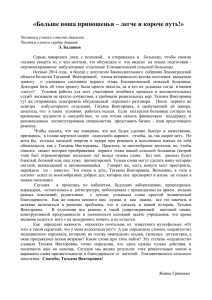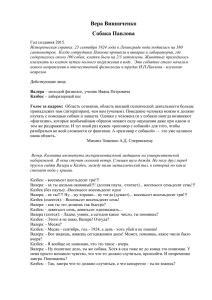Михайлова Наташа
реклама
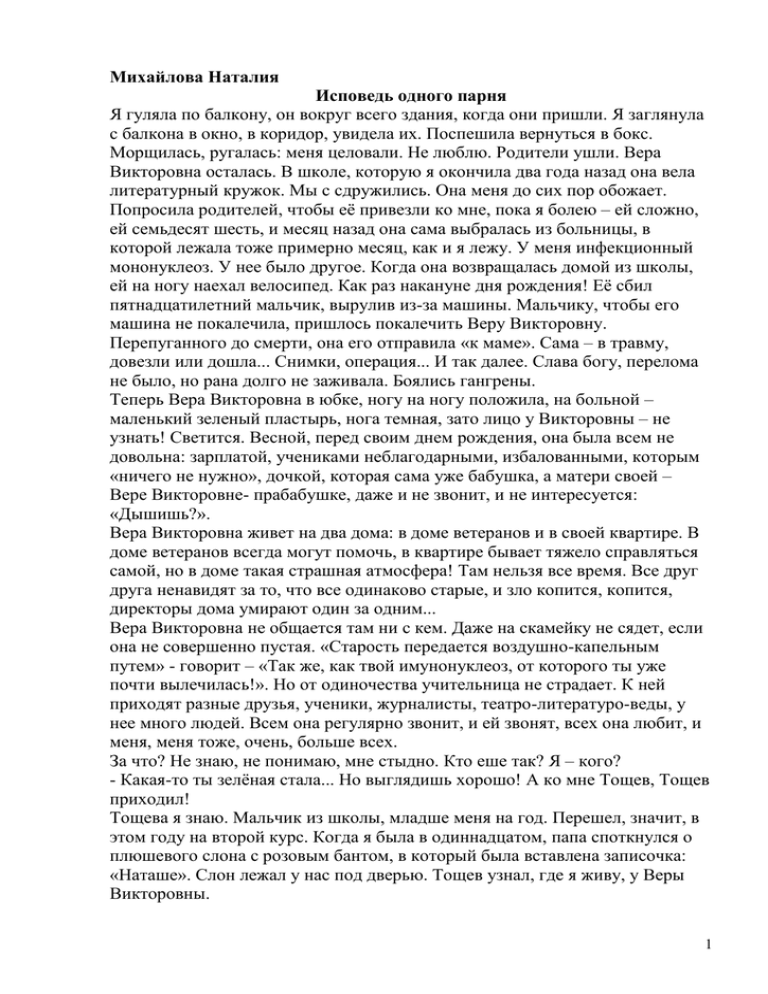
Михайлова Наталия Исповедь одного парня Я гуляла по балкону, он вокруг всего здания, когда они пришли. Я заглянула с балкона в окно, в коридор, увидела их. Поспешила вернуться в бокс. Морщилась, ругалась: меня целовали. Не люблю. Родители ушли. Вера Викторовна осталась. В школе, которую я окончила два года назад она вела литературный кружок. Мы с сдружились. Она меня до сих пор обожает. Попросила родителей, чтобы её привезли ко мне, пока я болею – ей сложно, ей семьдесят шесть, и месяц назад она сама выбралась из больницы, в которой лежала тоже примерно месяц, как и я лежу. У меня инфекционный мононуклеоз. У нее было другое. Когда она возвращалась домой из школы, ей на ногу наехал велосипед. Как раз накануне дня рождения! Её сбил пятнадцатилетний мальчик, вырулив из-за машины. Мальчику, чтобы его машина не покалечила, пришлось покалечить Веру Викторовну. Перепуганного до смерти, она его отправила «к маме». Сама – в травму, довезли или дошла... Снимки, операция... И так далее. Слава богу, перелома не было, но рана долго не заживала. Боялись гангрены. Теперь Вера Викторовна в юбке, ногу на ногу положила, на больной – маленький зеленый пластырь, нога темная, зато лицо у Викторовны – не узнать! Светится. Весной, перед своим днем рождения, она была всем не довольна: зарплатой, учениками неблагодарными, избалованными, которым «ничего не нужно», дочкой, которая сама уже бабушка, а матери своей – Вере Викторовне- прабабушке, даже и не звонит, и не интересуется: «Дышишь?». Вера Викторовна живет на два дома: в доме ветеранов и в своей квартире. В доме ветеранов всегда могут помочь, в квартире бывает тяжело справляться самой, но в доме такая страшная атмосфера! Там нельзя все время. Все друг друга ненавидят за то, что все одинаково старые, и зло копится, копится, директоры дома умирают один за одним... Вера Викторовна не общается там ни с кем. Даже на скамейку не сядет, если она не совершенно пустая. «Старость передается воздушно-капельным путем» - говорит – «Так же, как твой имунонуклеоз, от которого ты уже почти вылечилась!». Но от одиночества учительница не страдает. К ней приходят разные друзья, ученики, журналисты, театро-литературо-веды, у нее много людей. Всем она регулярно звонит, и ей звонят, всех она любит, и меня, меня тоже, очень, больше всех. За что? Не знаю, не понимаю, мне стыдно. Кто еше так? Я – кого? - Какая-то ты зелёная стала... Но выглядишь хорошо! А ко мне Тощев, Тощев приходил! Тощева я знаю. Мальчик из школы, младше меня на год. Перешел, значит, в этом году на второй курс. Когда я была в одиннадцатом, папа споткнулся о плюшевого слона с розовым бантом, в который была вставлена записочка: «Наташе». Слон лежал у нас под дверью. Тощев узнал, где я живу, у Веры Викторовны. 1 -Он такой трогательный... Сначала расскажу, что он мне принес. Огромную чашку с ручкой. На ней Эйфелева башня, даже не одна, справа и слева, и по центру – три целых! Под башнями – соборы, соборы... Из Парижа чашка. Чай, говорит, будете пить! Да мне, чтобы поднять эту чашку, нужно за нее схватится двумя руками! Я в нее салат буду делать или варенье красть. Тяжелая... -Он же, вы говорили, в Германию поедет? Я сама с Тощевым не общаюсь, не созваниваюсь. Раньше мы гуляли, до слона. Слон все перепутал, я Валеру не любила. -В Германию! Но там какое-то место на границе. И они разъезжали везде! В Париже были, Эйфелеву башню он назвал пузатой, она ему не понравилась, Париж весь ему не понравился. Французские девушки, говорит, уродины... Он же, ты сама знаешь... Все мне рассказывает! Я от него очень устаю, и не видела б его, в театр не ходит, книг не читает, и такой вампир! После него я чувствую себя опустошенной! Но я понимаю – ему некуда податься! Приходит ко мне, как в церковь.Ему нужен человек, чтобы все о себе рассказать. Он, на самом деле, очень одинокий, несчастный мальчик. Жалко мне его. И мамой загублен. Он меня попросил, чтоб я хоть с его мамой по телефону поговорила. Это же не дело! Парню восемнадцать лет, а о нем так пекутся! Родители уехали в Испанию на две недели, бабушку вызвали из деревни, чтобы она с ним сидела. Тогда, помнишь, мой день рождения праздновали, бабушка за ним пришла? Встречать! Шестнадцать ему было! Он сам бабушку защищать давным-давно должен. Но мне его жалко. В Германии он жил у того же немца, который сюда к нему приезжал. Немцу двадцать лет. Валера мне с гордостью говорил, что все думали, и ему двадцать. Получил ключ от квартиры и сам все делал, мясо, говорит, покупал, и жарил себе. И мне, ты представляешь, принес! В баночке! Так он крышку закрутил... Силища! Он ушел, я открыть не могла, позвала у себя там, в доме ветеранов, сестру, она кого-то еще позвала, открыли. Тушеное мясо, особенное, по-немцки. Его научили. И что ты думаешь?.. Объеденье! Я ему тут же позвонила и говорю: « Спасибо, Валера, ты мне такой мужественный подарок сделал, по-настоящему мужской подарок!». Мясо! Как он возгордлился! Ему же важно! Ему приятно! Переспросил несколько раз, правда ли мне понравилось? Да, говорю. Он же стеснительный очень, робкий. Говорит мне: «Вера Викторовна, вы же знаете, я какой, мне самоуверенности не хватает, а мама меня ни разу не похвалила за всю жизнь! И ни разу не сказала, что я хорошо выгляжу!». Слушаю Веру Викторовну, чаю ей предлагаю. Даже перестаю быть такой пасмурной и злой, как сначала, как с родителями. Вспоминаю Валеру. Мы гуляли по городу, и он удивлялся, как это я могу – все с чем-то сравнить, какое у меня «здоровское» воображение. Рассказывал мне о том, что читал в «умных» газетах, журналах и на «умных» сайтах в Интеренете. Он любил все «умное», плохо, как и я, разбирался в «умном», но интерес в нем всегда был великий к тому, что в мире происходит, политике, экономике. Культура, 2 театр, выставки – это всегда было не его. Потом он как-то перестал и об «умном» говорить, в чем мне тоже всегда очень хотелось разобраться, теперь у него были другие увлечения: тренажерка, девочки. И все он мне что-то хотел сказать, я чувствовала, и не говорил. Мне не нравилось, что всю свою энергию он тратил на молодое свое тело, придумывал, как бы его еще развить. Мне стало скучно с ним. -В Амстердаме – продолжала Вера Викторовна – он был на гей-параде. Амстердам, ты же, наверное, знаешь, изветный город в том плане, что свободные нравы там... И я ему, сумасшедшая старушка, говорю: «Ну как?». Я же все его склоняю... Может мальчики ему нужны? «Я ни разу не целовался. Я не знаю, как подойти к девушке. Не представляю, что будет!» он мне как-то сказал. Он же гей! Вид у него такой... Даже у моих семилеток... Помнишь моего Петю, черненького? Сколько в нем мужского обаяния! Сексуальности – уже! А у Валеры никакой сексуальности, правда ведь? -Да. – киваю. – Ничем он не задевает... -Вот и я говрю. Ты, Валера, так шарф поправляешь перед зеркалом, что я сомневаюсь, стоит ли тебе пытаться – с девочками-то! Но про гей-парад он мне сказал: «Нет, Вера Викторовна, я понял, это отклонение! Так не должно быть.Семья должна быть полноценной. Мама. Папа. Иначе дети...». Здесь я уже спорить не стала. Ребенку, и правда, нужен и мать, и отец. Но все-таки, я ведь права, раз Валера согласился подумать, когда я ему превый раз сказала: «Может, мальчики?» - раз согласился, значит, какая-то неуверенность в нем присутствует? И склонность к... -Да, думаю. А сама любуюсь Верой Викторовной. Сколько в ней бодрости! Сколько сил! Да она еще сто лет проживет, не меньше! И так же тараторить будет и в сто, и так же любить жизнь! Всем она довольна, нога зажила, и злости в ней не осталось. И старости тоже нет. - Геи – они же люди. Сколько артистов балета! Известных! Таланта в таких даже больше! Нельзя это считать патологией! А Валера... Эх! Жалко мне его!.. Но он себя найдет. Он ведь, на самом деле, очень хороший мальчик, только не определился пока... Дальше мы еще поговорили о чем-то, Вера Викторовна, точнее, говорила, я молчала, почти не слушала, смотрела на свои джинсы, серо-синие от грязи, потертые, с дырками, на ногти свои, я никогда не делала маникюр. Еще у меня нет косметики. Вообще никакой. Я как-то этим...Ну, не пользуюсь. Не привыкла, да мне и в голову не приходило. Прическа... Меня мама стрижет. Я не хожу в парикмахерскую. Вере Викторовне пора: «А то я тебя заболтала! Я приду домой, рюмку за тебя выпью! Две!». Обнимает меня, целует и просит, чтоб я с родителями – поласковее. - Хорошо, говорю! Я понял!- смеюсь. Это я люблю почему-то так говорить «Я понял» - в мужском роде, и смеяться потом, как бы извиняясь. 3