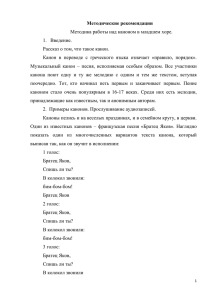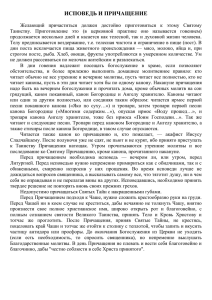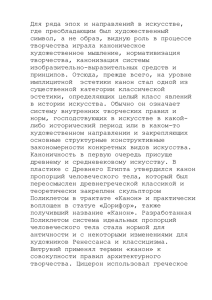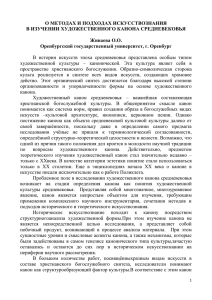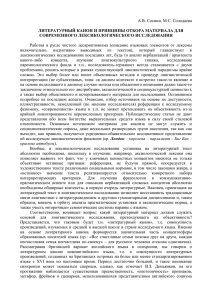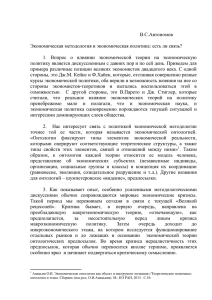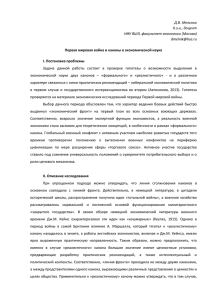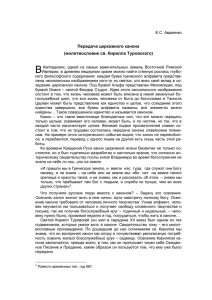20070320_igiti
реклама
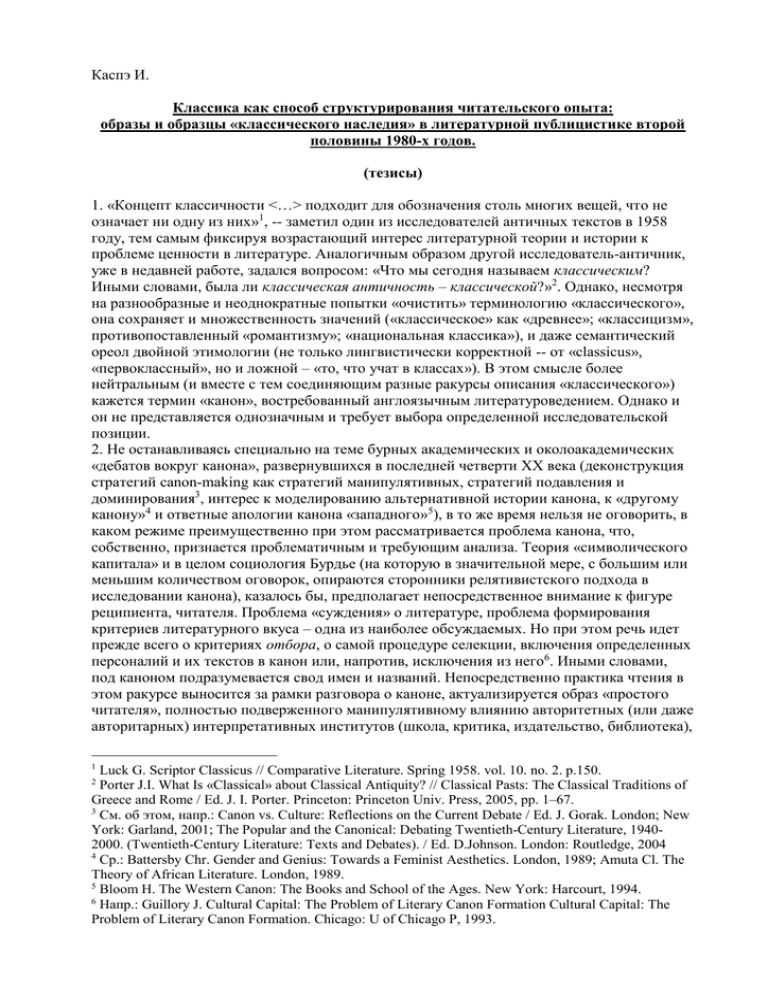
Каспэ И. Классика как способ структурирования читательского опыта: образы и образцы «классического наследия» в литературной публицистике второй половины 1980-х годов. (тезисы) 1. «Концепт классичности <…> подходит для обозначения столь многих вещей, что не означает ни одну из них»1, -- заметил один из исследователей античных текстов в 1958 году, тем самым фиксируя возрастающий интерес литературной теории и истории к проблеме ценности в литературе. Аналогичным образом другой исследователь-античник, уже в недавней работе, задался вопросом: «Что мы сегодня называем классическим? Иными словами, была ли классическая античность – классической?»2. Однако, несмотря на разнообразные и неоднократные попытки «очистить» терминологию «классического», она сохраняет и множественность значений («классическое» как «древнее»; «классицизм», противопоставленный «романтизму»; «национальная классика»), и даже семантический ореол двойной этимологии (не только лингвистически корректной -- от «classicus», «первоклассный», но и ложной – «то, что учат в классах»). В этом смысле более нейтральным (и вместе с тем соединяющим разные ракурсы описания «классического») кажется термин «канон», востребованный англоязычным литературоведением. Однако и он не представляется однозначным и требует выбора определенной исследовательской позиции. 2. Не останавливаясь специально на теме бурных академических и околоакадемических «дебатов вокруг канона», развернувшихся в последней четверти ХХ века (деконструкция стратегий canon-making как стратегий манипулятивных, стратегий подавления и доминирования3, интерес к моделированию альтернативной истории канона, к «другому канону»4 и ответные апологии канона «западного»5), в то же время нельзя не оговорить, в каком режиме преимущественно при этом рассматривается проблема канона, что, собственно, признается проблематичным и требующим анализа. Теория «символического капитала» и в целом социология Бурдье (на которую в значительной мере, с большим или меньшим количеством оговорок, опираются сторонники релятивистского подхода в исследовании канона), казалось бы, предполагает непосредственное внимание к фигуре реципиента, читателя. Проблема «суждения» о литературе, проблема формирования критериев литературного вкуса – одна из наиболее обсуждаемых. Но при этом речь идет прежде всего о критериях отбора, о самой процедуре селекции, включения определенных персоналий и их текстов в канон или, напротив, исключения из него6. Иными словами, под каноном подразумевается свод имен и названий. Непосредственно практика чтения в этом ракурсе выносится за рамки разговора о каноне, актуализируется образ «простого читателя», полностью подверженного манипулятивному влиянию авторитетных (или даже авторитарных) интерпретативных институтов (школа, критика, издательство, библиотека), 1 Luck G. Scriptor Classicus // Comparative Literature. Spring 1958. vol. 10. no. 2. p.150. Porter J.I. What Is «Classical» about Classical Antiquity? // Classical Pasts: The Classical Traditions of Greece and Rome / Ed. J. I. Porter. Princeton: Princeton Univ. Press, 2005, pp. 1–67. 3 См. об этом, напр.: Canon vs. Culture: Reflections on the Current Debate / Ed. J. Gorak. London; New York: Garland, 2001; The Popular and the Canonical: Debating Twentieth-Century Literature, 19402000. (Twentieth-Century Literature: Texts and Debates). / Ed. D.Johnson. London: Routledge, 2004 4 Ср.: Battersby Chr. Gender and Genius: Towards a Feminist Aesthetics. London, 1989; Amuta Cl. The Theory of African Literature. London, 1989. 5 Bloom H. The Western Canon: The Books and School of the Ages. New York: Harcourt, 1994. 6 Напр.: Guillory J. Cultural Capital: The Problem of Literary Canon Formation Cultural Capital: The Problem of Literary Canon Formation. Chicago: U of Chicago P, 1993. 2 причем история рецепции здесь, как правило, подменяется историей репутаций – историей борьбы за канон как ресурс доминирования. 3. Тем не менее другое значение слова «канон» -- не только «список», «свод», но и «мера», «образец», подспудно продолжает воспроизводиться (ср., например: «Канон отсылает к тем литературным работам, суждение о которых может быть достойно академического исследования»7), однако редко артикулируется. Обычно остается открытым вопрос: образец чего, какой именно практики имеется в виду при упоминании литературного канона? Начиная исследование формирования английского литературного канона со Средних веков, Тревор Росс предлагает различать каноничность, основанную на «производстве» (production), и каноничность, базирующуюся на «потреблении» (consumption)8. Если первая, до-модерная (или, в терминологии Росса, «риторическая») модель канона опирается на воспроизводство образцовых текстов или образцов письма, то вторая, модерная (по Россу – «объективистская») модель формируется и воспроизводится через интерпретативную, рецептивную практику. Обозначив современный, модерный литературный канон как канон чтения, можно уйти от демонизации интерпретативных институтов как таковых – безусловно, это институты авторитета и социального контроля, но также и институты структурирования читательского опыта. 4. Итак, если подразумевать под «каноном» прежде всего «образец», «санкционированный стереотип», то «канонизированным» можно назвать произведение, которое не только наделяется повышенной ценностью, но и предполагает наибольшую устойчивость рецептивных практик, способов интерпретации, обращения с текстом (включая негативные практики его «пародирования», «низвержения», «осовременивания»)9. Делая акцент не столько на проблеме формирования канона, сколько на ресурсах его воспроизводства, я постараюсь рассмотреть «литературный канон» как наиболее жесткий режим структурирования читательского опыта, его социализации, конструирования и поддержания воображаемой читательской общности. Возможно, это позволит уйти от чрезвычайно популярной в данном случае «технологической» оптики: меня будут интересовать не технологии канонизации, а культурные смыслы, стоящие за трансляцией тех или иных интерпретативных образцов, за апелляцией к модусу «высокой литературности», за обращением к понятиям «пантеона», «классического наследия», «классики». Закономерно, что фактически первая в литературной теории (во многом манифестарная, провокативно-радикальная) попытка ввести в оборот проблематику интерпретативных институтов – «Is there a text in this class?» Стэнли Фиша – имеет непосредственное отношение к ложной этимологии слова «классика». «Чтение в классе» связано с трансляцией и наиболее жестких норм прочтения канонизированных, классических текстов, и, одновременно, представлений об их «неисчерпаемости». Мне, однако, представляется важным дифференцировать типы «нормативного», различать границы «нормативности» и показать, что даже в случае канона работа интерпретативных институтов не тотальна и оставляет место для конструкций персонального опыта. Между конструкциями «нормативного» и «персонального» чтения я бы и хотела построить свое исследование. 5. Говоря об апелляции к «классическому наследию» и формах воспроизведения «классических образцов» сегодня (например, об ощутимом присутствии литературной классики в сетке телевещания), приходится так или иначе иметь в виду проблематичность 7 Johnson D. [Introduction to Part 2] // The Popular and the Canonical: Debating Twentieth-Century Literature, 1940-2000. (Twentieth-Century Literature: Texts and Debates). / Ed. D.Johnson. London: Routledge, 2004. P.201. 8 Ross T. The Making of the English Literary Canon: From the Middle Ages to the Late Eighteenth Century. McGill-Queen's Press –MQUP, 1998. P.6. 9 О парадоксальности «модерных» процессов канонизации, о режимах учреждения, поддержания и опровержения классических образцов: Дубин Б.В. Классик – звезда – модное имя – культовая фигура: О стратегиях легитимации культурного авторитета // Синий диван. 2006. № 8. С.110-112. 2 самого режима «наследования». Каким бы ни был исследовательский ответ на вопрос о преемственности «советских» и «постсоветских» интерпретативных институтов, избежать этого вопроса вряд ли удастся. Однако значения «разрыва», «кризиса норм» в скрытом виде присутствуют и в советском литературном каноне. Травма «сброшенной с корабля современности» классики продолжает переживаться спустя десятилетия после официального признания «классического наследия»10. В каком-то смысле «перестроечная» публицистика оказывается своеобразным «пятном ясности», -свидетельствует о представлениях, которые, возможно, не были публично проявлены прежде и уже не будут столь концентрированно выражены в более поздние годы. 6.Литературная эссеистика, рецензии, книжные обзоры, беседы критиков, литературоведов, литераторов, печатавшиеся в «толстых журналах» в 1985-1991 гг., -особый материал. Специфическое «переоткрытие» публичного пространства, -территории с непрерывно меняющимися очертаниями и границами дозволенного – одновременно и выявляет, и трансформирует представления о литературном каноне: и те, что являлись официально санкционированной нормой, и те, что воспроизводились в качестве символов групповой солидарности, и те, что воспринимались как часть персонального, уникального опыта. Здесь можно выделить несколько событий, вокруг которых организуются и выстраиваются дискуссии о канонизированных текстах и канонизированных авторах. Пожалуй, основные вехи связаны с именем Пушкина: 150-я годовщина дуэли на Черной речке (1987), во-первых, во-вторых -- публикация «Прогулок с Пушкиным» Синявского-Терца в журнале «Октябрь» (1989), спровоцировавшая скандал (главный редактор издания Анатолий Ананьев был обвинен в русофобии и формально уволен, однако фактически продолжил исполнять свои обязанности) и горячее обсуждение в прессе. Не менее заметна «борьба за Достоевского», ссылки на которого пытаются полемически использовать сторонники разных «идеологических лагерей» («патриотического» и «демократического»11). Вообще же вторая половина 1980-х определяется участниками литературных дискуссий не только как «время перемен», но и как «время юбилеев» (ср. : «Всеобщая увлеченность классикой – не о ней ли мы радели, не к ней ли мы звали?.... Жизнь поторапливает. А навстречу ей из глуби времен – очередной, дежурный эксперт: юбилеи – как бы вахты дежурства классиков»12); собственно, юбилейные публикации в значительной мере способствуют складыванию канона «Серебряного века» (параллельно с отбором имен отрабатываются и интерпретационные стереотипы). Анализируя подобные дискуссии о классике, востребованные модусы и режимы канонического, я постараюсь проследить, как фиксируются значения «преемственности» или «разрывов», как воспроизводится конструкция «классического наследия» (ср.: «Чье наследие? Наше ли оно «по завещанию»….? Живо ли прошлое, которое мы сейчас активно наследуем, способно ли продлиться в нас…? То есть: кто мы на самом деле, душеприказчики или сыновья? некрофилы или жизнелюбы?»13). См. материалы получившей широкий резонанс дискуссии «Классика и мы» (Москва, ЦДЛ, 21 дек. 1977 г.): Классика и мы // Москва. 1990. №1-3. 11 Подробнее об этих способах коллективной идентичности: Каспэ И. Апокалипсис-1990: «Настоящее», «прошлое», «будущее» в литературной публицистике // Новое литературное обозрение. – в печати. 12 Турбин В. Сын Отечества. К 175-летию Лермонтова // Новый мир. 1989. №10. С258. 13 Архангельский А. Наследие и наследники // Дружба народов. 1990. № 8. С.250. 10 3