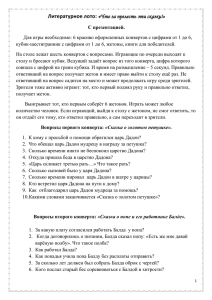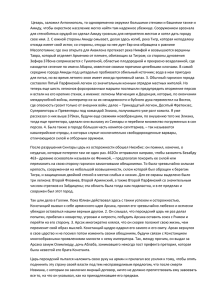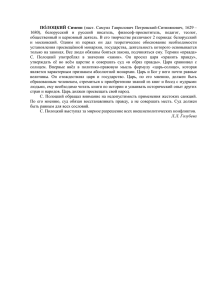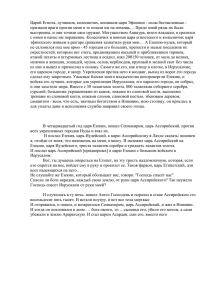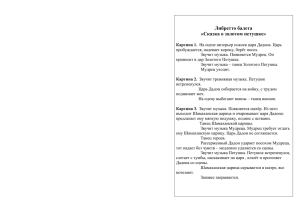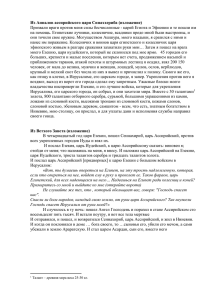“Золотой петушок” как символ литературной эпохи : метасюжет о .
реклама
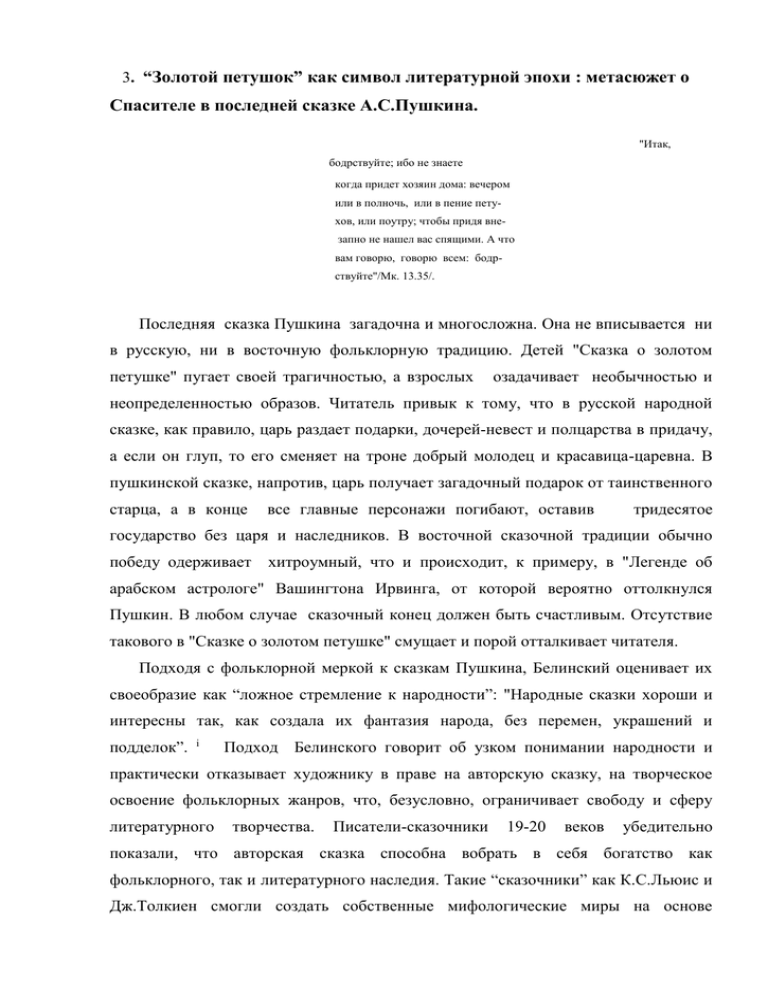
3. “Золотой петушок” как символ литературной эпохи : метасюжет о Спасителе в последней сказке А.С.Пушкина. "Итак, бодрствуйте; ибо не знаете когда придет хозяин дома: вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру; чтобы придя внезапно не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте"/Мк. 13.35/. Последняя сказка Пушкина загадочна и многосложна. Она не вписывается ни в русскую, ни в восточную фольклорную традицию. Детей "Сказка о золотом петушке" пугает своей трагичностью, а взрослых озадачивает необычностью и неопределенностью образов. Читатель привык к тому, что в русской народной сказке, как правило, царь раздает подарки, дочерей-невест и полцарства в придачу, а если он глуп, то его сменяет на троне добрый молодец и красавица-царевна. В пушкинской сказке, напротив, царь получает загадочный подарок от таинственного старца, а в конце все главные персонажи погибают, оставив тридесятое государство без царя и наследников. В восточной сказочной традиции обычно победу одерживает хитроумный, что и происходит, к примеру, в "Легенде об арабском астрологе" Вашингтона Ирвинга, от которой вероятно оттолкнулся Пушкин. В любом случае сказочный конец должен быть счастливым. Отсутствие такового в "Сказке о золотом петушке" смущает и порой отталкивает читателя. Подходя с фольклорной меркой к сказкам Пушкина, Белинский оценивает их своеобразие как “ложное стремление к народности”: "Народные сказки хороши и интересны так, как создала их фантазия народа, без перемен, украшений и подделок”. i Подход Белинского говорит об узком понимании народности и практически отказывает художнику в праве на авторскую сказку, на творческое освоение фольклорных жанров, что, безусловно, ограничивает свободу и сферу литературного творчества. Писатели-сказочники 19-20 веков убедительно показали, что авторская сказка способна вобрать в себя богатство как фольклорного, так и литературного наследия. Такие “сказочники” как К.С.Льюис и Дж.Толкиен смогли создать собственные мифологические миры на основе библейской традиции. Право художника на свободное творческое обращение с фольклорной и мифологической традицией хорошо понимал Б.Томашевский, который положительно оценивал свободное обращение Пушкина с фольклорными сюжетами и образами.ii Сказка Пушкина прежде всего интересна своим отличием от фольклорного канона и обретает свой смысл при анализе этого отличия как ценной и многозначительной самостоятельности автора. В советском литературоведении сложилась социально-критическая интерпретация “Золотого петушка” как сатиры на царский строй. Сказку называли сатирическим памфлетом на николаевский режим, а мудрец и Шамаханская царица выступали в роли представителей сказочного мира, несущего возмездие и смерть глупому ленивому царю Дадону. Вульгарно-социологическое прочтение не могло объяснить добродушно-иронического отношения рассказчика к Дадону и вовсе не раскрывало существа волшебных образов сказки, концентрируя внимание читателя лишь на образе ленивого царя. Кроме того, сложилось и Шамаханской царицы биографическое прочтение сказки: за образом видели Наталью Николаевну, околдовавшую Пушкина своей красотой, а схватку Дадона с мудрецом трактовали как пророчество о дуэли Пушкина с Дантесом. Но биографический подход заведомо обедняет и, в данном случае, искажает содержание художественного произведения, поскольку судьба поэта является не целью, а одним из источников его творчества. В то же время, автобиографичность сказки позволяет прочитать ее как символическую исповедь поэта: прожитая жизнь представлена молодостью, исполненной страстных желаний и грубых ошибок, и зрелостью, как временем расплаты и Божьей милости. При этом рассказчик-сказочник представляет историю Дадона как типичную сказку, окаймляя ее традиционным зачином и заключительной моралью. Исповедальное начало, наполняя форму сказкипроповеди, объединяет ее с поэмой Кольриджа. Перед нами трагикомическая сказка, заключительная сцена которой количеством смертей скорее напоминает шекспировские трагедии, чем волшебные сказания народа. Ироническая легкость стиха лишь подчеркивает трагизм концовки и усиливает эффект некоего беззаботного наслаждения убийством, презрительной радости, звучащей в безумном смехе Шамаханской царицыдемоницы: Вся столица Содрогнулась, а девица Хи-хи-хи да ха-ха-ха! Не боится, знать, греха. Загадочный трагизм сказки говорит о том, что смысл ее не только не вписывается в фольклорный канон, а скорее направляет нас к классической литературной и евангельской традиции, столь существенной для позднего Пушкина. Перед нами оригинальная аллегорическая притча о встрече человека со спасителем, универсальная по своему содержанию, и, подобно евангельским притчам, имеющая отношение к жизни любого человека. Дадон - говорящее имя: “дадоном” во Владимире, как отмечает Даль, называли неуклюжего, несуразного человека.iii Можно было, видимо, сказать с укоризной: “Экий ты, право, дадон!”. Нарицательное употребление слова “дадон” подчеркивает то, что образ царя в сказке можно рассматривать как аллегорию среднего или любого человека в его внутренней душевной неустроенности, слабости, нескладности, греховности. Важно отметить в этой связи, что Пушкин не использовал имени царя Абуна Абеса из восточной легенды, сюжетом которой он воспользовался, а выбрал имя, которое звучит на восточный манер, встречается в сказках (на это указывает Даль) и одновременно используется в русском языке как насмешливое прозвище для несуразного человека. При этом Пушкин создает образ жизненного пути царя, концепцию судьбы человека, - это своего рода итоговое произведение поэта, в котором он достигает особой целостности в воззрении на жизнь человека в целом. Написанная в 1934 году, сказка предлагает нам образ судьбы-ошибки, которая в той или иной степени применима к жизни любого человека. Негде в тридевятом царстве, В тридесятом государстве, Жил-был славный царь Дадон. Смолоду был грозен он И соседям то и дело Наносил обиды смело, Но под старость захотел Отдохнуть от ратных дел И покой себе устроить... Жизнь Дадона разделена на две контрастные части - молодость и старость. Молодость - пора жестоких утех, жажды власти, которая легко вела к нападениям, то есть, по существу, к грабежу и убийству. Соседям то и дело наносил удары смело... Кто такие “соседи”? Сосед - это традиционная аллегория ближнего, евангельский ближний на некоторых языках обозначается словом сосед (англ. “neighbour”, нем. “Nachbar”). Молодость представлена как пора, когда над человеком с легкостью властвуют разрушительные злые силы, которые он принимает как источник наслаждения, удовольствия. Характеристика молодости Дадона перекликается с ранним стихотворением Пушкина 1820 года: Мне бой знаком – люблю я звон мечей; От первых лет поклонник бранной славы, Люблю войны кровавые забавы, И смерти мысль мила душе моей. Во цвете лет свободы верный воин, Перед собой кто смерти не видал, Тот полного веселья не вкушал И милых жен лобзаний не достоин. Заметим, что уже в этом стихотворении, как и позднее в “Сказке о золотом петушке”, любовь к “кровавым забавам” и “милых жен лобзанья” - жестокость и страсть – сливаются как проявления одного состояния души, жаждущей опасности и наслаждений. Смерть дважды упоминается в этом стихотворении: мысль о ней мила герою, а встреча с ней - желанна. В традиционно характерное для образа смерти есть некое очарование, возлюбленной, о которой думает и к которой стремится поэт. Молодость Дадона - это пора полного подчинения своим дерзким и разрушительным желаниям. Соседа, ближнего своего, Дадон презирал и уничтожал с той легкостью, "смелостью", с которой потом будет предаваться утехам в шатре Шамаханской царицы, забыв про смерть сыновей и войска; с той беззаботной жестокостью, которая в конце сказке наполнит леденящий кровь смех Шамаханской царицы: Хи-хи-хи да ха-ха-ха! Не боится, знать, греха. Греха не боится не только царица, греха с молодости не боится и сам Дадон. Царица в этом смысле - образ души Дадона. Сверхъестественные образы в литературе, как правило, воплощают собой внутреннее состояние души героя. Тень отца Гамлета у Шекспира появляется тогда, когда рождается подозрение в душе принца, Мефистофель есть материализовавшаяся готовность Фауста любыми средствами познать окружающий мир. Тени, фантомы как бы вырастают изнутри героев и затем появляются в качестве самостоятельных образов. Кстати, в опере Римского-Корсакого “Сказка о золотом петушке” Шамаханская царица впервые появляется на сцене задолго до ее встречи с царем на поле брани - она является к Дадону во сне, сладострастно танцуя вокруг царского ложа. Точнее, она вырастает из его плотского сна - такого состояния души, когда дух человека немощен, а плоть всесильна. Чем же отличается молодость Дадона от его старости, если тема греховности героя лишь усиливается в последней части сказки? Но на старость захотел Отдохнуть от ратных дел И покой себе устроить. Тут соседи беспокоить стали Стали старого царя, Страшный вред ему творя. Итак на смену молодости как поре утех, страстей и безумных дерзновений, приходит старость, когда "душа покоя просит". Покой приходит как новое желание, не более того. Дадон - человека желания, в этом смысле он - аллегория желания, а подчиненность человека желанию (будь то буйное желание молодости или ленивое желание старости) иронически представлена как слабость, греховность человеческой природы. Пора, мой друг, пора! покоя сердца просит... написанном, как и сказка, в В этом стихотворении, 1834 году, Пушкин выражает свой идеал покоя, раскрывает то, чем должен быть наполнен покой: Давно, усталый раб, замыслил я побег В обитель дальнюю трудов и чистых нег. Слово “чистых”, видимо, можно прочитать здесь как “благословенных Богом”, “семейных”. “Стихотворение осталось незаконченным, - отмечает А. ТырковаВильямс, - но дальше идет прозаический конспект, в котором целый план жизни, мечта несбывшаяся: “О скоро ли я перенесу мои пенаты в деревню. Поля, сад, крестьяне, книги, труды поэтические, семья, любовь, религия, смерть”. iv Тема трудов поэтических очень важна для зрелого Пушкина: в 1836 году он сетует в письме к М.А. Корфу: "Но история долга, жизнь коротка, а пуще всего человеческая природа ленива” v. Пушкин часто употребляет само слово “пора”, а в 1836 году пишет в статье "Александр Радищев": "Муж, со вздохом иль с улыбкой, отвергает мечты, волновавшие юношу. Моложавые мысли, как и моложавое лицо, всегда имеют чтото странное и смешное. Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют (курсив мой – Е.В.). vi “Сказка о золотом петушке” как раз и написана о глупце, который не изменяется, ибо время не приносит ему развития. Дадон неуклюж и смешон, потому что он глуп и неопытен - он моложав, в том смысле, что похож на юношу своей беззаботностью, страстностью и самовлюбленностью. Для Пушкина очень важна мысль о том, что время должно приносить внутреннее развитие - пора зрелости-старости должна быть порой внутреннего созревания и старания. Заметим, что “старый” и “старательный” - слова созвучные в русском языке. Желание покоя приходит к Дадону не как нравственная духовная потребность, а как результат физической старческой немощи и лени. Но “Тут соседи беспокоить// Стали старого царя// Страшный вред ему творя”. Но и физический покой недоступен Дадону, так как грехи юности оборачиваются наказанием старости. Иначе, что такое нападение соседей, как не отмщение, наказание за обиды, нанесенные им молодым Дадоном? Кто спасет Дадона от наказания за его же грехи, кто помилует его? Тот, кто освободит его от наказания за грехи, тот простит ему эти грехи. “Ибо что легче сказать: "прощаются тебе грехи", или сказать: "встань и ходи"? – спрашивает Иисус Христос книжников после того, как исцеляет расслабленного. (Мтф.9:5). На помощь “расслабленному”, беспомощному, Дадону приходит мудрец, звездочет и скопец, все три характеристики которого существенны для понимания сказочного образа спасителя. Звездочет и скопец, “в сарачинской шапке белой”, восточным происхождением и ролью дароносца, явно напоминает евангельских волхвов. Евангельские мудрецы также были звездочетами, которые, вычислив по звездам место и время рождения нового царя, пришли поклониться новорожденному Младенцу и преподнести ему дары - злато, смирну и ливан. Волхвы, прежде чем отправиться в Вифлеем, пришли к Ироду в Иерусалим, где состоялась их встреча с земным царем, которому они простодушно и радостно поведали новость, встревожившую Ирода и зародившую в нем мысль об убийстве Иисуса Христа. Для понимания пушкинской сказки важна евангельская ситуация встречи волхвов, посвященных в тайну небес, и властного Ирода, готового поднять руку на самого Бога, если тот пожелает отобрать у него земную власть. Царю Дадону подарок приносит мудрец, звездочет и скопец - мудрость, посвященная в тайну небес и оскопленная, т.е. освобожденная от власти низших природных стихий. Приход мудреца можно прочитать как чудесное прощение грехов, как неожиданный дар свыше - дар спокойной жизни, ограждение от внешних врагов (не об этом ли просит христианин в молитве, желая избавления "от враг видимых и невидимых"?). В художественной роли мудреца-спасителя есть скрытая аллюзия и на молитву "Отче наш": "И остави нам долги наша якоже и мы оставляем должником нашим". Как Дадон более не желает зла своим ближним (соседям), так и мудрец-спаситель освобождает его от наказания за грехи, подарив ему петушка. Мудрец в трагикомической сказке о петушке, как и юродивый в трагедии “Борис Годунов”, или, например, старый священник в маленькой трагедии “Пир во время чумы” представляют, кроме того, и русскую традицию святости - традицию старчества, призванного увещевать, исцелять людей и предупреждать их о духовных опасностях на жизненном пути. Русская история знала немало случаев противостояния мирской и духовной власти, когда голос святого звучал как глас Божий, увещевающий князя или царя. Эта же тема с античных времен осваивалась европейской литературой как диалог греховной души с голосом совести... Мудрец и царь: власть небесная и власть земная. Горе тому царю, что не прислушивается к голосу неба... Встреча царя с мудрецом - одна из древнейших архетипических ситуаций в истории литературы. Первая сцена в “Илиаде” Гомера, например, представляет жреца Аполлона, “непорочного Хриза”, который приходит к Агамемнону (наиболее могущественному из греческих царей) и приносит ему богатые дары в надежде, что царь вернет ему дочь Хризеиду, захваченную в плен ахейцами. Жрец, служитель Олимпа, умоляет царя быть милосердным и уважить его просьбу ради бога: “Чествуя Зевсова сына, далеко разящего Феба”. Жестокосердный Агамемнон отказывает старцу и тем навлекает на себя гнев Аполлона, который наводит моровую язву на все ахейское воинство. В “Илиаде” дважды повторяется ситуация, когда просят (или требуют) отдать девицу: сначала просят Хризеиду у Агамемнона, а затем Бризеиду - у Ахилла. Ни Агамемнон, ни Ахилл не желают отдавать девицу, которую они завоевали на поле битвы, получили как награду за бранные подвиги. Но и тот, и другой оказываются вынуждены расстаться с добычей... Для прочтения пушкинской сказки особое значение имеет созданный Гомером образ царя, для которого девица оказывается важнее просьбы священнослужителя, воли народа (для Агамемнона) и даже судьбы всего воинства (для Ахилла). Ахейские цари предстают ослепленными собственной страстью и гордыней и не способными услышать увещевающий голос сладкоречивого Нестора: “Сердце смири, Агамемнон: я, старец, тебя умоляю”. (Илиада, 280, пер. Гнедича). Заметим, что в сказке Пушкина тяжелые утраты, смерть обоих сыновей, не изменяют Дадона. Он легко переходит от горя к радости и пирует в шатре Шамаханской царицы, даже не похоронив рядом лежащие тела убитых сыновей. Царь завыл: “Ох, дети, дети! Горе мне ! попались в сети Оба наши сокола! Горе! Смерть моя пришла”. Все завыли за Дадоном, Застонала тяжким стоном Глубь долин, и сердце гор Потряслося. Вдруг шатер Распахнулся… и девица, Шамаханская царица, Вся сияя как заря, Тихо встретила царя. Как пред солнцем птица ночи, Царь умолк, ей глядя в очи, И забыл он перед ней Смерть обоих сыновей. Забыв о погибших детях, царь забывает и о своем царстве, о долге перед народом, защищать который он отправился в столь дальний путь. Таким образом, с гомеровским эпосом сказку Пушкина связывает не только ситуация схватки за девицу (которую герой обретает на поле битвы), но и темы потери близкого человека и любви к родине. Все три выделенных тематических звена инверсивно освоены Пушкиным, представлены им в обратном, ироническом, смысле. Если Агамемнон и Ахилл получают Хризеиду и Бризеиду как награду за бранные подвиги, то Дадон сам оказывается жертвой красавицы, встреченной им на поле битвы. Если смерть Патрокла изменяет Ахилла, смягчает его сердце и вразумляет его, то смерть сыновей ничему не учит Дадона, он с радостью входит в тот шатер, перед которым лежат окровавленные тела его детей (хотя и восклицает перед этим пророческие слова: “Горе! смерть моя пришла”). Шамаханская царица действительно приносит смерть всему царскому дому и воинству, она соединяет в себе несколько традиционных образов: аллегорическую фигуру смерти, соблазнительницу царя (подобную нимфе Калипсо) и Бабу Ягу, способную оборачиваться прекрасной принцессой. Очевидно, что образ Шамаханской царицы как фантома женской красоты бездонен по своему значению, и любое понятийное толкование грозит грубым упрощением и даже опошлением этого символа, хотя и можно говорить в самом широком смысле о притягательности, власти и тленности преходящей красоты мира сего, которая поработив душу человека, рано или поздно посмеется над ним, растаяв в воздухе. Нечистую силу в русском фольклоре традиционно разгоняет утреннее пение петуха. Вдруг раздался легкий звон. Петушок звучит, как живой колокол! Колокола звонили об опасности, и он кукарекает- звонит! Петушок - центральный персонаж сказки. Пушкин не выносит в название имени Дадона, это не "Сказка о царе Дадоне, мудреце и Шамаханской царице", а сказка о золотом петушке. Золотой петушок, как и золотая рыбка, воплощают в себе сверхъестественную всемогущую силу, которая вольна миловати и спасати, но ей же доступно и отмщение, или воздаяние за грехи. Поистине божественной властью обладают золотой петушок и золотая рыбка, символами божественного всемогущества они и являются в сказках Пушкина. Петух издревле почитался на Руси как глашатай дня, света, зари, криком своим разгоняющий ночную нечисть. В Евангелии крик петуха пробуждает апостола Петра от греха богоотступничества и приводит к покаянию: “Тогда петух запел во второй раз. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня (Мк.14:72).” Золото также традиционно воплощает на Руси вечную власть Самого Бога: подобно сказочному золотому петушку на спице, спасающему тридесятое государство Дадона, русские города исстари устремлены ввысь золотыми куполами и крестами, охраняющими Святую Русь от “набега силы бранной,// Иль другой беды названной...”. Мудрец в сказке Пушкина не применяет силы, не принуждает царя к подчинению. Добровольно данный Дадоном обет самоотречения не лишает царя свободы выбора между добром и злом, между смирением и гордыней страсти. Человек в мире Пушкина свободен в выборе добра, но наказуем за выбор зла. Наказуем всемогущей силой, что несет помощь нуждающемуся и наказание согрешившему. Мир “Золотого петушка” - золотого века русской культуры - конусообразен: в основании его высится духовно-нравственная вертикаль - спица, на которую водружен золотой петушок, способный как поддержать, так и покарать окружающий его мир. Конус - это геометрическая фигура, воплощающая, по мнению Андрея Белого, идею соединения Вечной Истины, "догмата", с эволюцией мира, соединения Бога с человеком: "Небосвод, опустившийся на землю, и земля, ушедшая в небосвод, соединились в реальности Символа-Самого. Соединение небесной земли с землей неба символика христианства. (..) Символ есть третье измерение догмата: его глубина, ибо в символе догмат не круг: догмат-конус, а линия эволюции не линия вовсе, а растущая плоскость вечного треугольника. В догмате эволюция превращается в неподвижную точку, в символе эволюция превращается в треугольник с неизменяемыми углами и растущими сторонами" .vii Таким образом, конус, или объемный треугольник с растущими сторонами, символизирует, по мысли Белого некую Вечную Истину в ее движении от высшей точки "Вечности" центре конуса мысленно к основанию -"Времени". Если в представить вертикаль, соединяющую "Вечность" со "Временем" и, одновременно, измеряющую расстояние между ними, то можно вычертить графическую модель символа. При этом очевидно, что чем ближе ось символа к верхней точке "Вечности", тем уже окружность "Времени", тем сгущеннее художественное время произведения. Так, например, в сказке Пушкина отсчет времени начинается с того дня, когда Дадон получает петушка и дает обещание мудрецу. С этого момента сюжет приобретает символическое значение, поскольку возникает связь между конкретным событием и его духовным, вневременным смыслом. Сначала время течет медленно: Год, другой проходит мирно; Петушок сидит все смирно." Затем событийное время резко сжимается, и следуют три срока по восемь дней. Восьмой день в христианской традиции символизирует вечность: шесть дней Бог создавал мир, в седьмой день отдыхал от трудов, а восьмой день находится за пределами земного мира - в вечности. Первые восемь дней царь ожидает вестей от старшего сына, вторые восемь дней длится ожидание младшего сына, а напряжение все нарастает: Царь скликает третью рать И ведет ее к востоку, Сам не зная быть ли проку. Проходят третьи восемь дней (поход царя), напряжение достигает кульминации, и тогда на сцене появляется Шамаханская царица. С ее появлением время убыстряет ход, а сюжет устремляется к развязке - к разрыву договора с мудрецом В шатре у царицы Дадон проводит семь дней: число семь - ироническая аллюзия на заповедь о седьмом дне недели, который человек должен посвящать Богу (“шесть дней делай свои дела, а седьмой день Богу отдай”). В народной традиции день, который следует посвятить Богу, часто понимается как просто день отдыха, когда нельзя работать, хотя “отдать день Богу” совсем не значит “ничего не делать”, а напротив, предполагает труд во славу Божью (молитву, помощь больным, заключенным, голодным, т.е. всякого рода нуждающимся людям). Дадон же почивает в шатре царицы все семь дней: цифра “восемь”, как символ вечности, сменяется седмицей, которая традиционно рассматривается как символ тварного мира, земной жизни человека. Последняя сцена сказки вовсе занимает одно мгновение: два убийства и два исчезновения на фоне динамичных емких реплик невероятно сжаты во времени, что производит эффект взрыва, катастрофы. Связь человека с вечностью разорвана. Эта связь длилась недолго: кратковременность символических событий в данном случае говорит о их поверхностности, о малой глубине символа как духовной вертикали, устремленной от человека к Небесам. В этом смысле лаконичность сказки символична история жизни царя уместилась на шести-семи столько же дней Дадон провел в Пушкин быстро переходит шатре сама по себе. Вся страницах Шамаханской (примерно царицы). от молодости царя к его старости, к тому моменту, когда царь наконец возжелал покоя, подчеркивая тем самым важность этого желания и незначительность предыдущего, "грозного", периода в жизни Дадона. После встречи царя с мудрецом рассказчик начинает отсчитывать жизнь царя все меньшими периодами: идут годы, бегут дни, пролетает мгновение. Царь, сам того не осознавая, вступил в разговор с Вечностью, его жизнь теперь приобретает особое значение в глазах рассказчика, а длительность и содержание этого разговора измеряют глубину души царя. Разговор короток - значит душа мелководна. Слово, данное Дадоном мудрецу, символизирует в сказке акт религиозного сознания - отречение от личной воли и предание себя воле всемогущей мудрости. Царь Дадон неожиданно для самого себя поднимается на уровень самоотречения. Вначале, приняв петушка, он "горы золота сулит", а потом внезапно (как бы уже помимо своей воли) обещает звездочету: Волю первую твою Я исполню как мою, тем самым безотчетно признавая за мудрецом право высшей мудрости - благой воли, на которую можно положиться, ибо она не способна причинить зла. Обещание Дадона звучит как парафраз строки из молитвы “Отче наш”: “Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли”. Последующие слова этой молитвы о “долгах”, т.е. о грехах, и об искушении имеют прямое отношение к войне Дадона с его соседями. Дадону было легко “оставить долги” своим соседям, поскольку, состарившись, он ослабел для ратных дел. Гораздо сложнее оказалось удержаться от искушения и выполнить высшую волю. Уровень благодарного самоотречения непосилен для царя, поскольку образ его соткан из низменных стихий: гордыни гнева и желания плоти. В результате духовный сон царя как бы материализуется в образе Шамаханской царицы - фантома, завораживающего невиданной красотой форм и несущего смерть. Пушкин уподобляет мудрость бодрствованию, а глупость и беспомощность сну, развивая тем самым евангельский образ сна как греховного состояния души. "Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, - увещевал Иисус Христос своих учеников, - да сподобитесь избежать всех будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого"(Лк.21,36). Несмотря на это, трое учеников засыпают в Гефсиманском саду во время моления Христа о чаше. Трижды отходит Христос от учеников помолиться в уединении, трижды призывает он Петра, Иакова и Иоанна к бодрствованию, и трижды они погружаются в сон. “И приходит в третий раз и говорит им: вы все еще спите и почиваете? Кончено; пришел час; вот предается Сын Человеческий в руки грешников” (Мк. 14:41-42). Проспали Христа. В сказке Пушкина тема сна, лености, как метафоры духовного сна, т.е. греховного состояния внутренней бездеятельности, зарождается в желании Дадона "отдохнуть от ратных дел// И покой себе устроить", затем развивается в оппозицию "спящий Дадон - бодрствующий петушок" и достигает кульминации в шатре Шамаханской царицы: Уложила отдыхать На парчовую кровать. И потом неделю ровно, Покорясь ей безусловно, Околдован, восхищен, Пировал у ней Дадон". Жизнь царя Дадона проходит во сне, с закрытыми глазами, то есть с закрытой, спящей душой, которая не пробуждается ни в час смертельной угрозы, ни в час тяжелой потери. Ибо среди внешних бед и напастей, что может быть страшнее нападения врага на родину и смерти детей? Но ни то, ни другое не пробуждает Дадона. Его душа в плену у тела, у зова плоти. "Незваная беда", неведомая Дадону, но известная мудрецу, приходит с востока в образе Шамаханской царицы. Смертельная опасность является в облике фантома женской красоты, что можно прочитать как указание на внутренний источник опасности - сластолюбие Дадона, которое царствует над царем. (плотские?) чары девицы вначале приводят к Колдовские братоубийственной войне ("без шеломов и без лат// оба мертвые лежат,// меч вонзивши друг во друга”), лишает царский престол наследников, а затем красавица-призрак (призрачная красота мира сего?) околдовывает, опьяняет самого Дадона, отнимая у него память, сознание долга перед будущим (сыновьями), настоящим (государством) и прошлым (словом, данным спасителю-мудрецу). Царь Дадон окончательно погружается в сон, на этот раз - в дурманящий сон беспамятства, и погибает. Образ Шамаханской царицы, кроме того, прозрачно указывает на военную опасность, исходящую с Востока, в то время как мудрец воплощает мудрость и спасение, пришедшие с Востока, чем уравновешивает и обогащает образ Востока в сказке и, соответственно, его роль в истории России. В политической сфере Восток традиционно представлял угрозу для России, о чем писал Пушкин и что позднее Владимир Соловьев назвал желтой угрозой. В духовной же сфере Восток стал символом христианства: рай был устроен на Востоке (Бытие, 2:8), Восток ( Сам Бог) “посетил нас свыше” (Лк. 1:78), волхвы видели Вифлеемскую звезду на Востоке (Матф.2:2). Восточный мудрец-спаситель вновь является царю, расплаты и суда (в данном случае очевидна когда приходит час аллюзия на первое и второе Пришествие Иисуса Христа). Но Дадон, околдован, опьянен, и проснуться не желает. Он, в слепоте духовной, не видит ни скопца поседелого, ни мудреца всемогущего, ни спасителя милосердного, а видит лишь соперника в безумной схватке за девицу. Кстати, таким соперником мудрец выступает в новелле Вашингтона Ирвинга “Легенда об арабском астрологе”, сюжетную основу сказки. Анна Ахматова в статье “Последняя сказка Пушкина” убедительно показала текстуальные совпадения двух текстов. Ирвинг пересказывает арабскую легенду, в которой царь и астролог представлены как персонажи-двойники: они оба изображают невинных старцев, чья душа свободна от страстей, но при этом оба подвластны плотским желаниям. Абен Абуз, хотя и решил отдохнуть от ратных дел, в душе остается кровожадным воином и не упускает случая пролить кровь врага. Астролог дарит царю волшебную шахматную доску, на которой разыгрывается военная битва; при этом царь поставлен перед выбором: он может коснуться фигурок врагов тупым концом копья, что приведет армию в смятение и заставит покинуть поле битвы, или может поразить их острым концом, что приведет к пролитию крови. “Я думаю, мы все-таки прольем немного крови!”, восклицает царь и так увлекается кровавой битвой, что астрологу с трудом удается остановить “миролюбивого владыку”. Астролог Ибрагим Ибн Абу Аюб также представляет тип лицемерного старика: он изображает мудреца, свободного от желаний плоти, но при этом окружает себя роскошью: его желания возрастают по мере их удовлетворения, он все чаще обращается с просьбой к царскому казначею: Мне нужна еще одна вещь, - как-то сказал он. - Дело идет о совершеннейшем пустяке, о том,. что доставит мне развлечение в перерывах между моими занятиями. О премудрый мой Ибрагим, я имею султанское приказание снабжать тебя всем, что бы в твоем уединении тебе ни понадобилось; чего ты еще желаешь? Мне хотелось бы иметь несколько танцовщиц. Танцовщиц! - повторил, как эхо, поверженный в изумление казначей. Да, танцовщиц, - ответил степенно мудрец. - Пусть они будут молоды и приятны на вид, ибо лицезрение юности и красоты действует на стариков освежающе. Мне достаточно будет немногих, ибо я - философ, потребности мои невелики и удовлетворить их нетрудно.”viii Ирвинг последовательно развивает мотив ненасытной плоти, скрывающейся под маской духовности. Его рассказ изобилует описательными деталями, воссоздающими портрет, историю жизни и растущих желаний Ибрагима. Увидев прекрасную пленницу, Ибрагим просит царя отдать ее ему, мотивируя свое желание стремлением избавить владыку от опасной колдуньи, которая принесет несчастье государству. Ирвинг оставляет ситуацию двусмысленной: с одной стороны, очевидно, что звездочет очарован красавицей и сам возгорелся желанием к ней, а с другой, его предостережения могут быть обоснованными. Пушкин усилил двусмысленность ситуации, заменив подробное описательное повествование лаконичным приемом намека. В сказке Пушкина нет никакой информации о жизни и желаниях мудреца, он появляется подобно сказочному волшебному персонажу, у него нет родословной (столь детально описанной у Ирвинга), нет психологической характеристики, мы не знаем ни о его планах, ни о его желаниях. Пушкин добавляет лишь одну деталь - “скопец”, и одной этой деталью освобождает мудреца от подозрения в желании плоти. У Ирвинга в схватке двух стариков за обладание девицей побеждает хитрейший, что хорошо укладывается в восточную традицию плутовской сказки. Ирвинг по характеру своему был собиратель иноземных легенд и сказаний, которыми желал обогатить нарождающуюся американскую литературу. Художественное творчество в США в то время только набирало силу, оно нуждалось в источниках образного освоения мира. Ирвинг прожил в Европе семнадцать лет и целью “европейского сна Рипа ван Винкля” видел коллекционирование национальных образцов художественной интерпретации мира. Он бережно относится в собираемым им легендам, и в случае с “Легендой об астрологе” сохраняет не только сюжет, но и ценностную основу плутовской сказки. Царь и мудрец противопоставлены друг другу не по характеру, а по положению: они представляют пару персонажей-двойников, сходство между которыми все больше проявляется по мере развития действия. Пушкин же ввел в заимствованную ситуацию прием ценностной антитезы, противопоставив глупости земного царя мудрость небес. При этом Пушкин оставил видимую двусмысленность ситуации на поверхности рассказа, предлагая таким образом читателю самому решить непростую загадку. К ирвинговской трактовке, как ни странно, возвращается Римский-Корсаков в опере “Золотой Петушок”, нарушая тем самым замысел Пушкина. У РимскогоКорсакого и звездочет, и петушок воплощают собой темные колдовские силы, которые вместе с Шамаханской царицей замыслили погубить Дадона. Если у Пушкина побеждает спасающий и карающий мудрец-скопец, то у РимскогоКорсакова (как и ранее у Ирвинга) побеждают силы зла, что явно нарушает нравственную основу пушкинской сказки и противоречит как русской духовной традиции, так и евангельской основе образов. Отчего же интерпретаторы этих произведений Кольриджа и Пушкина обычно представляют Морехода и Звездочета как отрицательных героев, воплощающих смерть и власть темных сил? Что затрудняет выявление метасюжета о спасителе? В случае с Мореходом, ответ более или менее очевиден: герой сам убивает птицу, что и формирует в первую очередь отношение к нему читателя. “На совести” Звездочета тоже убийство - смерть Дадона. И тот и другой не поддаются однозначному толкованию, они сложны по своей духовно-нравственной направленности, простота здесь действительно может оказаться хуже воровства, упрощенный подход к пониманию образа может “украсть” у персонажа суть его характера. Дело в том, что мир земной во многих отношениях является перевертышем мира духовного: мудрость мирская может оказаться глупостью в глазах Бога, а мирская доброта - жестокостью. И наоборот: истинная любовь может показаться людям жестокой, а Божественная мудрость - безумием. Образ звездочета у Пушкина связан с традицией юродства опосредованно, но очень важной своей чертой. Он парадоксален и труден для понимания, его внешнее поведение противоречит его внутренней скрытой духовной цели. Читатель может поверить, что звездочет действителен возгорелся желанием к Шамаханской царице, как люди порой обвиняли юродивых в распутстве, потому что некоторые из них шли к блудницам, чтобы спасти заблудшие души. Мотив провокации характерен для агиографии и предназначен для испытания читателя. Образ же моряка у Кольриджа связан с архетипом одинокого странника, Каина, которого Кольридж насыщает христианским содержанием. Это не пресыщенный жизнью и опустошенный собственными страстями Чайльд Гарольд, а скорее христианский странник, пусть поневоле, но скорее по послушанию, несущий истину Христову людям и призывающий их на покаяние. Фигура тоже напоминающая юродствующего пророка Юродивые, которых почитали за безумных, были проводниками Божественной мудрости, а царь Эдип, признанный мудрым, потому что он отгадал загадку сфинкса, оказался слеп перед лицом высшей истины. Мудрость Морехода и Звездочета не явлена прямо, она должна быть понята сердцем читателя. Христа тоже принимали за колдуна и обвиняли в бесовщине: “Теперь узнали мы, что бес в Тебе.”(Иоанн, 8:52), - говорили фарисеи, потому что поведение и слова его не укладывались в плотское мирское представление о жизни. Дадон убивает Звездочета потому, что видит в нем лишь плотское, себе подобное существо, не допуская и мысли о духовном желании мудреца помочь обезумевшему царю, освободить его от злых чар Шамаханской царицы. Образ Морехода и Звездочета косвенно представляет традицию “юродства Христа ради” - традицию не прямой, а опосредованной проповеди Истины. Юродство, в свою очередь, опирается на художественное творчество, поскольку “говорит” на языке жестов и образов. И в этой художественной свой ипостаси также следует за Христом, который говорил притчами, находя язык образов наиболее подходящим для передачи знаний о мире духовном. В час ответа перед высшими спасительными силами царь в безумии бросает мудрецу гневные слова, которые звучат обвинением самому Дадону: "Что ты? - старцу молвил он Или бес в тебя ввернулся? Или ты с ума рехнулся? Что ты в голову забрал?" Своенравный ревнивый гордец, ослепленный страстью и гневом, убивает старца, пришедшего спасти Дадона, но не сумевшего пробудить царя от сна. Убиты цесаревичи, убит спаситель-мудрец, золотой петушок смертью карает царя и взвивается в небо. Обилием смертей в последней сцене пушкинская сказка явно нарушает сказочную традицию счастливого разрешения конфликта и скорее напоминает развязки шекспировских трагедий.. Трагизм сказки усиливается тем, что за ее художественной ситуацией просматривается библейская история об убийстве Спасителя, пришедшего к людям с чудодейственным даром спасения от враждебного человеку мира греха. Мудрец с золотым петушком в сказке Пушкина - это и символ самого автора мудрого рассказчика, певца золотого века русской поэзии, обладавшего чудодейственным даром - ясным чистым голосом возвещать спящим людям о грозящих им опасностях и тем самым уже спасать их от беды. Но почему сюжет о Спасителе исполнен пронзительного трагизма и в поэме Кольриджа, и в сказке Пушкина? Совместима ли весть о спасении с трагическим взглядом на жизнь? Этой проблеме был посвящен отдельный выпуск английского журнала “Литература и теология” (Literature&Theology, Oxford, July 1990). Один из участников дискуссии Джордж Стайнер (“Об абсолютной трагедии”) утверждает, что абсолютная трагедия противоречит христианской картине мира, но этот вид трагедии крайне редко встречается в искусстве. “Абсолютная трагедия - это драматическое произведение, определенно основанное на постулате, что жизнь человеческая обречена, что лучше бы человеку не рождаться на этот свет или умереть молодым... что само существование человека преступно... Абсолютная трагедия представляет собой негативную онтологию бытия” ix. Стайнер считает, что такое мироощущение не может длиться долго, оно временно и обычно представлено отдельным фрагментом художественного произведения, отдельным состоянием героя или настроением автора. В короткий список абсолютных трагедий он включает “Антигону” и “Царя Эдипа” Софокла, “Медею”, “Гекубу” и “Троянок” Еврипида, основной сюжет “Фауста” Марло, “Тимона Афинского” Шекспира, “Беренику” и “Федру” Расина, “Ченчи” Шелли, “Войцека” Бюхнера и монологи Беккета. Большинство же трагедий, утверждает Стайнер, являются трагикомедиями, и Шекспир тому самое яркое подтверждение. Трагикомедии, а тем более другим, нетрагическим, жанрам литературы, свойственен дух надежды, просветления и преображения - теология надежды. Отсутствие надежды Стайнер определяет как хулу на Духа Святого. Филип Квин (“Агамемнон и Авраам”) менее категоричен: он находит трагическую ситуацию в самой Библии - в истории Авраама и Исаака. Другой участник дискуссии, Стюарт Сатерлэнд, считает, что жанр трагедии ставит под сомнение трагическую безысходность бытия тем самым, что воплощает ее в слове, актуализирует и анализирует трагическое видение мира. “Трагическое слово - не последнее слово человека о смысле жизни. Если бы оно было окончательным приговором бытию, то зачем писать, зачем ставить на сцене, зачем смотреть и слушать? Сам творческий акт отражения, выстраивания, написания и сценического воплощения отрицает за трагической ситуацией право быть истиной в последней инстанции”x. Авторы дискуссии прямо не формулируют, но очевидно пытаются разрешить сложившееся противоречие: почему две тысячи лет христианства, религии спасения, не освободили человека от страданий, не очистили от зла, не упразднили трагедию как жанр искусства? Может быть, потому что люди распяли Бога? Потому что на Голгофе проявилось безграничное человеколюбие Бога и безграничная ненависть человека? Неслучайно обе истории, рассмотренные нами, повествуют об убийстве того, кто принес спасение, кто пришел в мир, желая помочь погибающему человеку, кто спустился, подобно античному deus ex machina, с небес, но был отвергнут людьми. Поэма Кольриджа и сказка Пушкина написаны в лиро-эпическом жанре баллады, сюжет которой опирается на единый канон: 1. человек начинает свою жизнь радостно и бездумно (корабль отправляется в плавание, не зная, как найти путь в океане жизни; “смолоду был грозен” царь Дадон, не понимая того, что творит); 2. затем человек оказывается в безвыходной ситуации, обреченный на смерть перед лицом враждебных ему сил природы или общества (корабль застывает во льдах; соседи грозят войной беспомощному Дадону); 3. спасение приходит свыше как дар сверхъестественный сил (альбатрос спускается с небес; звездочет дарит петушка); 4. образ спасителя представлен птицей , что подчеркивает его небесное происхождение и заботу Бога о человеке. 5. человек благодарен спасителю (Мореход кормит альбатроса и играет с ним; Дадон “горы золота сулит” и дает обещание исполнить первую волю мудреца); 6. убийство спасителя (неосознанное в случае с Мореходом и сознательное - в споре Дадона с мудрецом); 7. мотив убийства (или оправдания убийства) вызван конфликтом между спасителем и практическими интересами людей (моряки оправдывают убийство, когда туман застилает корабль; Дадон убивает звездочета как соперника); 8. за убийством спасителя следует наказание убийцы (страдания Морехода; петушок карает смертью царя); 9. разрушаются чары зла (Мореход обретает любовь ко всему живому и начинает молиться; Шамаханская царица растворяется в воздухе); 10. рассказчик выступает в роли учителя-проповедника, при этом рассказ “звучит” как устное слово, что подчеркивает его укорененность в духовной традиции поучения и придает особое значение фигуре слушателя, за которой стоит читатель (Мореход поучает Брачного Гостя; Пушкин завершает рассказ моралью “Сказка - ложь, да в ней намек: добрым молодцам урок); Брачный Гость и “добрый молодец” представляют собой образец слушателя/читателя; 11. повествование обретает универсальное звучание притчи, в центре которой ситуация нравственного выбора (Альбатрос доверяется Мореходу, и жизнь птицы отныне в руках героя; Дадон заявляет об абсолютном доверии своему спасителю и должен сдержать слово); 12. метасюжет о Спасителе, в основе которого лежит библейская концепция истории человечества, воплощен в истории жизни героя, что создает модель человеческой жизни сквозь призму встречи человека с Богом (противопоставление молодости - старости; мотив развития/неподвижности, путешествия/сна, смыслообразующее значение хронотопа встречи). Многие притчи Иисуса Христа трагичны, среди них притчи о двух должниках, о злых виноградарях, о неразумных девах, о безумном богаче, о бесполезной смоковнице.... Но трагизм ситуации для персонажей притч не делает их абсолютными трагедиями, не утверждает абсолютную власть зла над человеком, а выявляет высший закон справедливого возмездия, за которым стоит Добро и Любовь Бога к своим созданиям. Бог не оставляет людей в мире зла, а приходит судить их с позиции всеобъемлющего Добра, на котором и основан Его правый суд. В этом смысле Звездочет, как символ Божьего Суда, творит добро, а не зло; а Мореход - становится проводником истины о справедливом возмездии. Эсхатологичность обоих персонажей очевидна, как очевидна и их духовная укорененность в христианской концепции спасения. Концепция абсолютной трагедии, сформулированная Стайнером, оправдана только в том случае, если мы рассматриваем художественное произведение вне его связи с читательским/зрительским сознанием. Расширяя поле жизни трагедии до безграничного круга внимающей аудитории, мы можем в воспринимающем сознании найти воскрешающее начало, которое способно победить власть смерти. Трагедия и зритель: в Евангелии эта ситуация представлена распятием Иисуса Христа на Голгофе. Крест возвышается на горе, Голгофа становится сценой, на которой разворачиваются трагические события вселенского масштаба. Люди, окружившие Крест, - зрители и участники трагедии. Они по-разному относятся к происходящему: Богородица, Мария Клеопова, Иоанн, Иосиф Аримафейский - в невыносимой скорби; некоторые, вероятно, смущены, но большинство злорадствуют и кричат “Распни Его! Распни!”. Для кого из них Крестные муки Спасителя представляют абсолютную трагедию? В данный момент, наверное, для тех, кто близок к Спасителю, кто любит Его и переживает Его страдания, как свои собственные. Но затем именно для этих людей наступит радость Воскресения. Те же, кто требовал крестной смерти для Христа, вовсе не видели в казни никакой трагедии, что же, они лишены надежды на Воскресение? Нет, вероятно, одни из них крестились в День Пятидесятницы, а другие позднее. Были среди них и такие, кто стал преследовать и казнить христиан, но из их среды вышел апостол Павел.... Позднее же весть о Спасителе распространилась по всему миру. Каков же вывод? Абсолютная трагедия Распятия обернулась абсолютной победой Воскресения! Можно ли найти аналогичный процесс в восприятии литературной трагедии читателями и зрителями? Расходятся ли от трагической сцены волны очищения? Аристотель назвал этот процесс катарсисом - очищением, которое достигается благодаря состраданию и страху (“Поэтика”, гл. VI). В христианстве центральным символом страдания является Крест Христов, а сострадание определяется как со-несение - совместное несение Креста: “носите крест друг друга и тем спасетесь”. Погружаясь в мир трагедии, читатель/зритель подключается к страданиям героя, сопереживает ему таким образом, будто он сам оказывается в трагической ситуации. Процесс сопереживания и есть несение креста героя, опыт сострадания, который, по словам Спасителя, помогает человеку спасти душу. Но это в жизни, скажите вы, в искусстве же человек зря тратит душевные силы, сопереживая вымышленному персонажу. Но разве сопереживание герою не происходит в жизни? Разве проливая слезы над судьбой Офелии, зритель не проливает настоящие слезы? Разве Офелия, как образ, не воплощает собой реальное страдание, которым наполнен окружающий нас мир? Мир при помощи искусства обнажает свои страдания и призывает человека к состраданию. Искусство становится голосом страдания, а реакция читателя - голосом сопереживания, сонесения креста, то есть спасения. Носите крест друг друга и тем спасетесь.... Не только читатель, сопереживая герою, выполняет этот наказ Христа, но и герой, встречая на своем пути страдания, характерные для жизни в целом, тем самым “несет” в художественном мире крест своего читателя. У героя и читателя оказывается общий крест: человеческое “единство во грехе” оборачивается “единством во кресте”, поскольку грех и страдание неразделимы. За героями же стоит личность автора, поэтому можно в самом художественном творчестве увидеть исполнение слов Спасителя: носите крест друг друга и тем спасетесь. Белинский В.Г. Сочинения Александра Пушкина. – В кн.: Белинский В.Г. Статьи и рецензии. В 3- тт., М., 1948, т. 3, с. 637. ii См: Томашевский. Б. Пушкин. В 2 тт. (Глава “Михайловское”, раздел “Интерес к народному творчеству (сказка “Жених”) - М, 1990, т.2, с. 352-354. iii Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. – М, 1978, в 4 тт., т.1, с.414. iv Тыркова-Вильямс А. Жизнь Пушкина. – М., 1998, в 2 тт, т.2, с. 432. v Последний год жизни Пушкина: Переписка. Воспоминания. Дневники. – М., 1988, с. 295. vi Там же, с. 120. vii Андрей Белый. Линия, круг, спираль -символизма. - отд.переп. С.18. viii Ирвинг В. Новеллы.(перевод А.Бобовича) - М., 1987, с.258-259. ix Steiner G. A Note on Absolute Tragedy. // Journal of Literature and Theology. -1990, vol.4, #2, P.147. x Sutherland S.R. Christianity and Tragedy. - Op.cit., P.167. i