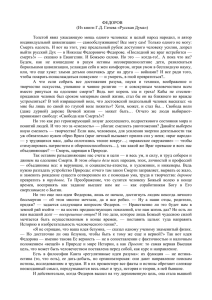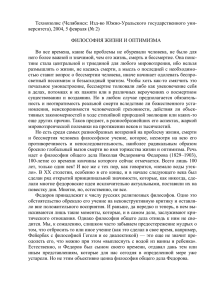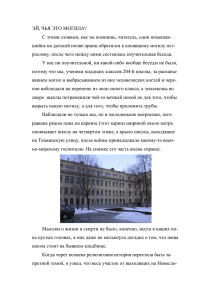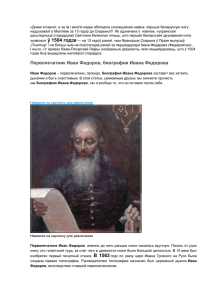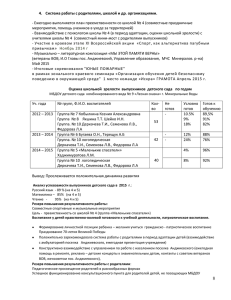тени забытых предков - Музей
реклама
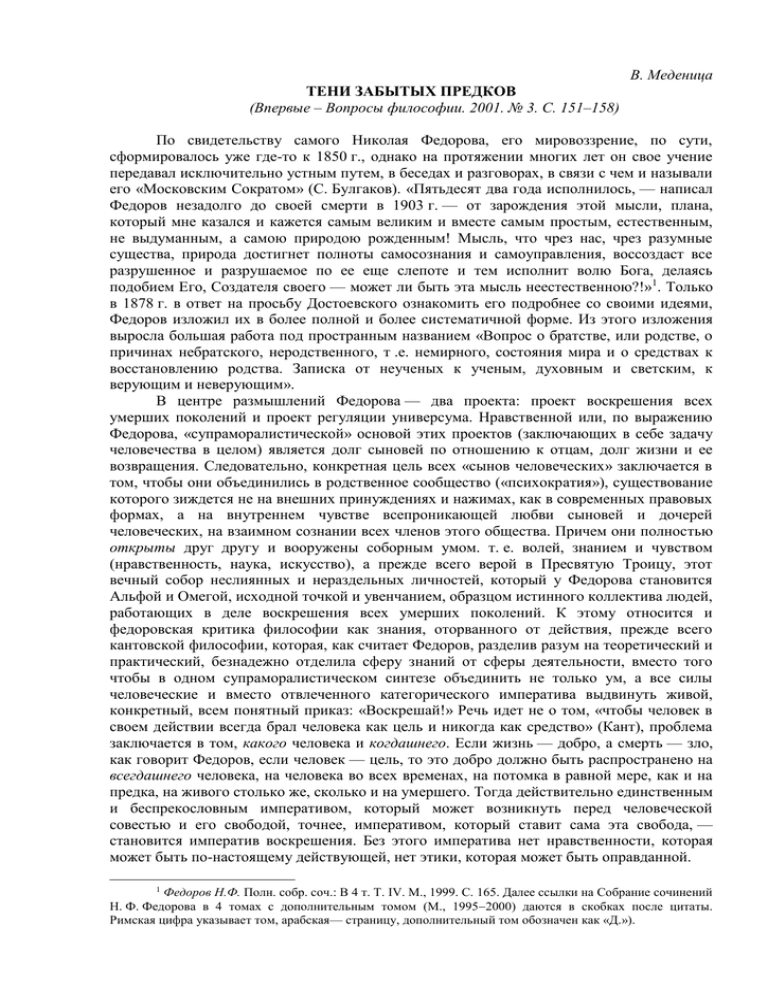
В. Меденица ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ (Впервые – Вопросы философии. 2001. № 3. С. 151–158) По свидетельству самого Николая Федорова, его мировоззрение, по сути, сформировалось уже где-то к 1850 г., однако на протяжении многих лет он свое учение передавал исключительно устным путем, в беседах и разговорах, в связи с чем и называли его «Московским Сократом» (С. Булгаков). «Пятьдесят два года исполнилось, — написал Федоров незадолго до своей смерти в 1903 г. — от зарождения этой мысли, плана, который мне казался и кажется самым великим и вместе самым простым, естественным, не выдуманным, а самою природою рожденным! Мысль, что чрез нас, чрез разумные существа, природа достигнет полноты самосознания и самоуправления, воссоздаст все разрушенное и разрушаемое по ее еще слепоте и тем исполнит волю Бога, делаясь подобием Его, Создателя своего — может ли быть эта мысль неестественною?!»1. Только в 1878 г. в ответ на просьбу Достоевского ознакомить его подробнее со своими идеями, Федоров изложил их в более полной и более систематичной форме. Из этого изложения выросла большая работа под пространным названием «Вопрос о братстве, или родстве, о причинах небратского, неродственного, т .е. немирного, состояния мира и о средствах к восстановлению родства. Записка от неученых к ученым, духовным и светским, к верующим и неверующим». В центре размышлений Федорова — два проекта: проект воскрешения всех умерших поколений и проект регуляции универсума. Нравственной или, по выражению Федорова, «супраморалистической» основой этих проектов (заключающих в себе задачу человечества в целом) является долг сыновей по отношению к отцам, долг жизни и ее возвращения. Следовательно, конкретная цель всех «сынов человеческих» заключается в том, чтобы они объединились в родственное сообщество («психократия»), существование которого зиждется не на внешних принуждениях и нажимах, как в современных правовых формах, а на внутреннем чувстве всепроникающей любви сыновей и дочерей человеческих, на взаимном сознании всех членов этого общества. Причем они полностью открыты друг другу и вооружены соборным умом. т. е. волей, знанием и чувством (нравственность, наука, искусство), а прежде всего верой в Пресвятую Троицу, этот вечный собор неслиянных и нераздельных личностей, который у Федорова становится Альфой и Омегой, исходной точкой и увенчанием, образцом истинного коллектива людей, работающих в деле воскрешения всех умерших поколений. К этому относится и федоровская критика философии как знания, оторванного от действия, прежде всего кантовской философии, которая, как считает Федоров, разделив разум на теоретический и практический, безнадежно отделила сферу знаний от сферы деятельности, вместо того чтобы в одном супраморалистическом синтезе объединить не только ум, а все силы человеческие и вместо отвлеченного категорического императива выдвинуть живой, конкретный, всем понятный приказ: «Воскрешай!» Речь идет не о том, «чтобы человек в своем действии всегда брал человека как цель и никогда как средство» (Кант), проблема заключается в том, какого человека и когдашнего. Если жизнь — добро, а смерть — зло, как говорит Федоров, если человек — цель, то это добро должно быть распространено на всегдашнего человека, на человека во всех временах, на потомка в равной мере, как и на предка, на живого столько же, сколько и на умершего. Тогда действительно единственным и беспрекословным императивом, который может возникнуть перед человеческой совестью и его свободой, точнее, императивом, который ставит сама эта свобода, — становится императив воскрешения. Без этого императива нет нравственности, которая может быть по-настоящему действующей, нет этики, которая может быть оправданной. Федоров Н.Ф. Полн. собр. соч.: В 4 т. Т. IV. М., 1999. С. 165. Далее ссылки на Собрание сочинений Н. Ф. Федорова в 4 томах с дополнительным томом (М., 19952000) даются в скобках после цитаты. Римская цифра указывает том, арабская— страницу, дополнительный том обозначен как «Д.»). 1 Критика Федорова распространяется и на философию его современника Ницше, восславляющую влечение к власти у сверхчеловека, тогда как он, отмечает Федоров, по сути не отличается от тех слабых, которых презирает, так как он с ними равен в самом существенном — в смертности. Сверхчеловеку Ницше лучше было бы вести борьбу против смерти, причем не только своей собственной, а смерти всех, он должен бы проповедовать религию одного-единственного, сознательного и свободного возвращения, вместо весьма сомнительной языческой теории вечного возвращения постоянно одного и того же, т. е. бессмысленного, несвободного и бесконечного вращения колеса бытия. Вместо «Amor fati!» он должен был крикнуть: «Odium fati!», чем и заслужил бы свое название сверхчеловека и из блудного сына превратился бы в сына человеческого — сына-воскресителя. Итак, в целях осуществления этих проектов, Федоров строит собственную концепцию величественного храма-музея, представляющего своего рода религиозное учреждение. Это место собрания сыновей во имя активной памяти о конкретных, «живых» образах умерших отцов, и, в связи с этим, его деятельностью может быть только «возвращение жизни останкам отжившего, в восстановлении умерших, по их произведениям, живыми деятелями» (II, 377). Поскольку, по его мнению, музей — это выражение памяти не об утраченных вещах, а об утраченных лицах, то Федоров формулирует: «Музей есть не собрание вещей, а собор лиц» (II, 377). Таким образом, память у Федорова становится, как и у Платона, основным видом познания, причем у Платона оно направлено к трансцендентному миру идей, в то же время как у Федорова оно направлено к имманентному миру личностей, к конкретным образам умерших отцов и живому образу Пресвятой Троицы. Вообще, у Федорова, познание всегда личное, деятельное, весьма далекое от абстрактных отношений и категорий, возникших уже у Платона и окончательно утвержденных Аристотелем. Таким образом, гносеология у Федорова становится гносеоургией. Федоровский Музей является одновременно обсерваторией, и в ней готовится космическая одиссея сыновей человеческих. Несмотря на высокую оценку, данную им Копернику, Федоров все равно является сторонником своего рода геоцентризма. Конечно, он категорически отрицал птолемеевский геоцентризм, считая его следствием некритического восприятия чувственных данных, плохого субъективизма, который неподвижную Землю объявляет центром Солнечной системы и всего Космоса. Он защищает коперниканский гелиоцентризм, возникший как результат коррекции разума, власти разума над непосредственностью и чувственностью, как начало пути к преодолению неподвижности Земли и ее одновременной динамичности в одном, правда, пока ограниченном объеме (вращение Земли вокруг Солнца). При этом он отрицает философские и религиозные продукты коперниканства, которые атеистами используются для обесценивания Земли как центра Божьего творчества, в связи с чем выдвигает свой проективный геоцентризм, вытекающий из умственного созерцания — своеобразной интуиции Божественного промысла и восстановления веры в миссию человека. Исходя из космологии Федорова, можно прийти к выводу, что Земля является уникальным местом в космосе и только ей дан залог преображения универсума. Следовательно, Земля — это та точка, из которой выходит проекция универсума, а гарантом этой проекции является человек, который своим падением увлек за собой и всю природу. Из этого логично вытекает (учитывая, что вся система Федорова — это система возвращения долга), что человек должен отдать свой долг природе, и он должен это сделать так, чтобы ее из слепой силы, приносящей болезни и смерть, превратить в силу, над которой господствует разум и которая, как таковая, из своих недр вернет все уничтоженное ею в период ее слепоты. Земля, следовательно, как носитель сознания является центром универсума. Речь идет, таким образом, не о геоцентризме птолемеевского типа, базирующемся на чувственном опыте, точнее на чувственном обмане, а о своеобразном космическом геоцентризме, основывающемся на глубокой интуиции Божьего промысла и смысла универсума вообще. То есть в коперниканском, чисто материалистическом смысле, совершенно верно, что Земля вращается вокруг Солнца, однако проективистски, телеологически и космоургически не только Солнце, а даже все небесные светила универсума «вращаются» вокруг Земли как единственного рассадника сознания. Напомним, кстати, что такое видение прямо противоположно представлению универсума у Циолковского, согласно которому все просто кишит разнообразными формами жизни. Итак, человек в системе Федорова завоевывает привилегированное место и самым большим обязательством человека, единственного обладателя сознания в универсуме, становится задача его преобразования с помощью Божией. «До сих пор сознание, разум, нравственность были локализованы на земной планете; чрез воскрешение же всех живших на земле поколений сознание будет распространяться на все миры вселенной. Воскрешение есть превращение вселенной из хаоса, к которому она идет, в космос, т. е. в благолепие нетления и неразрушимости. Ни в чем так не выражается глубина и богатство премудрости, как в спасении безграничной вселенной, в спасении, выходящем из такой ничтожной пылинки, как земля. Обитаемость одной земли и необитаемость других миров есть требование высшего нравственного закона» (II, 231). Этот проект регуляции универсума, его одухотворения, как нового этапа сознательной всеодухотворяющей «эволюции», предшествует аналогичным идеям, развиваемым Вернадским и Тейяром де Шарденом2. Проект Федорова относительно регуляции природы и космоса в целом как внесения сознания, воли и разума в природу превосходит простой эволюционизм: из него, как из зародыша, развивалось учение Вернадского о биосфере и новом направлении эволюции человека и человечества, Павла Флоренского о пневматосфере, существующей в биосфере или вокруг нее, и Тейяра де Шардена о ноосфере, гоминизации и персонализирующемся универсуме, учения, которые подкреплялись научными аргументами их авторов в области химии, биологии, физики, палеонтологии и т. д. По мнению Тейяра, развитие ноосферы идет к одной точке, как последнему и верховному очаге конвергенции, к точке Омега. Омега имманентна миру как цель, но она и трансцендентна, она Личность, она «Бог», центр центров», она Христос. Это развитие, по Шардену. невозможно остановить. Язык у Федорова другой, но пафос тот же самый. Объединением сыновей человеческих и их действием согласно вечному Образцу, т. е. Образу Пресвятой Троицы, гарантируется гоминизация, т. е. персонализация ноосферы. И в этом процессе Бог никогда не аннулирует отдельную личность именно потому, что он и сам Личность, и никогда не отменит соборность именно потому, что Он и сам соборный, троичный. Процесс, следовательно, идет не к обезличению, а, наоборот, к олицетворению — повторному восстановлению вселенной в целом. Это победа над смертью. Однако шарденовская эволюция ноосферы, ее направленность к полному олицетворению и точке Омега (федоровское олицетворение всех миров) является неотвратимым, неизменным и неудержимым процессом. «Конец света» определенно положительный. Здесь Тейяр в большей степени оптимист, чем Федоров, потому что у него отсутствует если и тем самым нет свободы, нет ощущения возможности всеобщей гибели, уничтожения. У Федорова существует одно если: т. е. если род человеческий не образумится (т. е. может и не образумиться) и не объединится в родственное сообщество, «психократию» (уже в этом неологизме содержится пневматосфера Павла Флоренского, а также ноосфера Тейяра де Шардена), катастрофа Страшного суда становится неминуемой. У Тейяра осознанная эволюция является необходимостью; ось ноосферы, вокруг которой все вращается, неотменимо присуща жизни мира и фактически закрывает возможность глобального обратного движения. У Федорова «психократия» и «регуляция природы» являются проектами, следовательно, речь идет о человеческом плане, который, правда, соответствует плану Божественному, однако его осуществление зависит от готовности человека выполнить его. Бог же Тейяра де Шардена как будто действует помимо воли человека, прежде всего его влечения ко злу, причем человек вдруг становится чем-то вроде марионетки Омеги и ноосферы (здесь Омега несколько похожа на гегелевский «мировой Разум, ведущий свое дело по большому счету», который использует человеческие страсти и столкновения для одной-единственной цели — абсолютной свободы, предназначенной премудростью Гегеля для прусского государства, причем те же страсти и столкновения нисколько не могут помешать намерениям этого Разума). У Федорова нет этой наивности, зло не является просто средством, при помощи которого используется добро, для того чтобы привести историю к цели; зло является силой, предотвращающей осуществление добра. Однако эта сила не является самостоятельной, она зависит от свободы человека, так как именно этой свободой, т. е. стремлением человека к добру, зло может быть отменено. У Федорова нет и следа слепой эволюции, нет осознанной необходимости, нет детерминизма, всегда первый шаг за человеком, и только тогда, когда он свободно возьмется за проект регуляции и воскрешения, Бог обернется к нему Лицом к лицу и вступит с ним в со-действие. Так и должно быть, если человек свободное существо — самого Бога необходимо ограничить. Это самоограничение Бога, от имени и 2 Из всего сказанного выходит, что Земля не может остаться пленницей внутри Солнечной системы. Она, будучи ответственной по отношению к космосу (и здесь же открывается федоровский проективный геоцентризм), должна быть свободной, должна свободно передвигаться в небесных пространствах, она должна быть чем-то вроде космического корабля, лоцманом которого будет «самодержец», а его командой — христианские «аргонавты», сыновья-воскресители, одухотворяющие и оживляющие универсум воскресшими поколениями… Эта космическая поэма и является образом федоровской внехрамовой литургии, раздвигающей стены храма, распахивающей церковную литургию в космические дали. Таким образом, Церковь конкретно и материально становится Вселенским Собором всех живых и умерших, ныне воскресших поколений. В основе этого понимания заложено глубоко христианское восприятие пространства и времени, рассматривающее их в первозданной чистоте как прапространство и правремя, пока они еще были открытыми для вечности и безграничности. В результате падения человека вечность исчезла из времени, а безграничность и доступность пространства превратились в дурную бесконечность, в недоступный хаос, «организованный» слепыми силами. В падшем мире пространство и время могут быть или субъективными формами, как у Канта, который понимает их как чистые восприятия a priori, предшествующие любому опыту и делающие возможным любой опыт и любое познание, т. е. как неизменные предпосылки сознания и познания вообще, или же, объективной предопределенностью, существующей независимо от человека, как это понимают материалисты. Обе позиции для него неприемлемы. Кантовская потому, что в конечном итоге ведет в субъективизм и индивидуализм, и в шопенгауэровском варианте мир оборачивается представлением. В современной философии эта позиция закрепляет человека как конечное, смертное существо, которое только пониманием этой своей участи может каким-то образом преодолеть эту участь, в смысле быть всегда готовым к смерти (Хайдеггер). Кантианство во всех вариантах, так сказать, закрывает человека, оно в манере плохого имманентизма блокирует сознание, ограничивая его им самим, его неизменным содержанием, т. е. чистыми восприятиями a priori. С другой стороны, материалисты объявляют пространство и время объективной предопределенностью, закрывают человека снаружи и тем увековечивают дурную бесконечность падшего мира. По мнению Федорова, в основе пространства и времени лежат движение и деятельность, т. е. такие элементы творческой свободы, которые Бог, создавая человека по Собственной творческой природе как созидателя, заложил в человека. Поэтому, по мнению Федорова, пространство и время не могут быть ни субъективными формами восприятия, неизменными в своей априорности (трансцендентализм, субъективный идеализм), а также не могут быть объективной предопределенностью, существующей независимо от человека и его сознания (трансцендентизм, материализм), а прежде всего они должны быть проектами (и в этом заключается революционность федоровской мысли), элементами (которые, следовательно, и сами подвергаются изменениям) одного плана создания и созидания согласно сущей воле Божией. А воля эта действует через человека, являясь одновременно и человеческой волей, — волей к воскрешению предков (победа человека над падшим временем, т. е. над конечностью, над смертью, возвращение прошлого) и к регуляции неба (победа человека над падшим пространством, т. е. слепой природой, над закрытостью, непроницаемостью и роковой замкнутостью материальных элементов, одухотворение универсума). Проективное пространство и время, по сути своей, — глина, формовочный материал, и этим открывается возможность не только их преображения, а также преображения всех вещей мира сего, закованных в кандалы этих чистых восприятий а для достижения свободы человека, поднимает человека на пьедестал самого превзысканного существа вселенной, однако одновременно увеличивает его ответственность, вплоть до ответственности за «конец света». priori, или же объективных предопределенностей, существующих независимо от человека. Следовательно, осуществляя эти проекты, воскрешающий сын побеждает и трансцендентализм и трансцендентизм как разные состояния одного и того же падения, ведущего только к несвободе и смерти: преобразует пространство и время, создает заново собственную жизнь, видоизменяет и восстанавливает свое тело, отвергает дурную последовательность поколений, обретает бессмертие, причем не только для себя, а для всех, завоевывает и одухотворяет универсум, заселяя его воскресшими поколениями. Таким образом, человеческое существо как факт в результате выполнения долга сыновей-воскресителей превращается в существо как акт, как единение рода в преобразованном времени и пространстве, «олицетворение всех миров», как обретение бессмертия всей тварью, как «конец сиротства и безграничное родство», как вечность во времени, «Царство Божие, или рай», который есть «произведение всех сил, всех способностей, всех людей в их совокупности <…> произведением полноты знания, глубины чувства, могущества воли», рай, созданный «самими людьми, во исполнение воли Божией» (I, 404), рай как осуществление Богочеловечества или жизнь в Пресвятой Троице. При этом, подчеркиваем, этот проект не является чем-то, что можно было бы навязать сверху или ввести насильственным путем, исключена даже совсем мягкая форма принуждения, т. е. этот проект, согласно воле Божией, можно и необходимо принимать и осуществлять только свободно. Поэтому для Федорова история не может быть ничем иным, как только воскрешением. По сути, она этим была и до сих пор в рамках исторических текстов и произведений искусства, только как бы иллюзорно, недействительно, она этим будет и в дальнейшем, но уже как действительное, реальное оживление умерших предков. В этой связи каждая приходская церковь должна находиться на кладбище, как на месте памяти, а центральный собор, как основа центрального Музея, должен находиться на Памире, «Царе кладбищ», гипотетическом месте захоронения праотцов, этом Вселенском Кремле, хранящем, как святая крепость, прах предков, и точно так же центральный Музей должен находиться в Константинополе, «Царе городов», в котором собрано всеобщее знание Старого мира и в котором были выработаны догматы христианской православной веры. Однако падение Царьграда было неотвратимым потому, между прочим, что он превратился в место бесконечных распрей, преобразив живое Слово Божие в теологический диспут и забыв общее дело отцов. Гибель Константинополя — это, по сути, гибель веры и знания, оторванных от действия. Однако, вопреки этому, история остается «печалованием за Константинополь (Царь городов), и Памир (Царь кладбищ и кремлей)» (I, 138). Начало нынешней истории, по Федорову, это бессознательные поиски страны умерших предков, запечатленные в древних сказаниях. В сознательный период истории предки должны воскреснуть (восстановление Константинополя — слияние знания и действия в истинной вере). Следовательно, чтобы человечество стало братством («психократией») для «патрофикации» (отцетворения), оно должно объединиться именно в столице истинной веры отцов — в Константинополе. Федоровское учение об истории (кстати, как и его учение вообще) исходит из осознания абсолютной ценности всей материи, всех существ, конкретных личностей, в связи с чем ее смысл не может заключаться в реализации каких-то трансцендентных планов гегелевского разума или общности и закономерности в духе марксистского понимания истории, пожирающих живую личность человека и использующих ее исключительно как средство, а ее смыслом должно быть именно восстановление этой абсолютной ценности в лоне полной действительности обоженного космоса. Это учение является проективноретроспективным, и, будучи таким, оно полностью христианское. То, что возникает в ретроспекции, должно возникнуть и в проекции, то, что умерло, должно воскреснуть. История — это поле постоянного возвышения человеческого существа до осознания долга воскрешения, как единственной победы над грехом с Божией помощью. История, следовательно, в своем высшем назначении рассматривается у Федорова как проект, как план вывода рода человеческого из истории как факта, т. е. бессознательного взаимного уничтожения людей и безумного использования Земли, благодаря чему и будет осуществлен ее переход в историю как акт, т. е. состояние, в котором она вступает в небесную сверхисторию бессмертной жизни, соответствующей Пресвятой Троице. Так как в состоянии фактической истории господствует раздор, хаос и смерть, человеческие поиски рая и бессмертия, единения и гармоничного космоса в пределах мира, ограниченного координатами «сего пространства и сего времени», не могут увенчаться успехом, а, наоборот, неизбежно приходят к «печальным» историческим результатам, страдающим от тех же недостатков, от которых поиски начались. Чтобы избегнуть бессмысленного вращения колеса истории, при котором вся трагедия мира постоянно повторяется, лишь при участии новых действующих лиц, поиски должны осуществляться абсолютно осознанно. Им необходимо (за счет активной памяти-сознания, в котором действуют образы предков и живой образ Пресвятой Троицы) дать сознательное задание, т. е., выражаясь федоровским языком, проект братства и отцовства — вселенского сообщества всех живых и умерших (воскресших в жизнь, обретших бессмертие личностей). Этот проект должен быть осуществлен, как уже говорилось, всеми возможными средствами, при всеобщем действии объединенного человечества. А для того чтобы вообще приступить к осуществлению этой колоссальной задачи, человек должен выйти из состояния пассивности (буддизм), вырваться из цепей цивилизации, прекратить наслаждаться всякими мануфактурными игрушками (гедонизм), освободиться от подчинения потустороннему (ислам) и земному (католицизм), и, объединившись в родственное сообщество (психократия), вернуть жизнь предкам. Таким образом, наука не идет по сатанинскому пути создания новой жизни, фаустовского гомункула, или же клонирования, т. е. создания каких-то репликантов любой из уже существующих форм жизни. Ибо справедливость заключается не в бессмертии только для живых (наука в небратском и неотеческом смысле), а правда — в бессмертии для всех (наука в проективном смысле). Указанное объяснение истории и ее смысла связано у Федорова с его пониманием условности апокалиптических пророчеств. Если история существует как поле свободного человеческого действия, тогда апокалиптические пророчества не должны приниматься фаталистически, как неминуемая неизбежность, а, скорее, как предупреждение недозревшему человечеству образумиться и пойти по пути истинного сыновнего дела. История как проект должна исходить только из имманентного учения о воскрешении. Имманентное воскрешение — это выражение, при помощи которого Федоров отделяет свое учение апокалипсиса от классических эсхатологических представлений в религиях так называемого трансцендентного воскресения, к которым он причисляет католицизм и ислам. В системе трансцендентного воскресения Страшный суд является пророчеством о конце мира, однако пророчеством, которое исполнится при наступлении конца времени, и при этом — безусловно. Вопреки этому, Федоров развивает мысль об условности апокалиптических пророчеств. Апокалипсис нельзя понимать как роковую необходимость, так как это противоречило бы тому Божественному началу в человеке, тому движению и активности, которые являются, по воле Божией, неотъемлемыми элементами человеческой свободы. Страшный суд, по словам Федорова, это угроза для несовершеннолетнего человечества; угроза, которая исполнится, причем в самых классических образах рая и ада, если человечество продолжит пребывать в инфантильности, в состоянии греха — небратства и розни, удовлетворения женских капризов и увлечения мануфактурными безделушками, —если не опомнится и не объединится в общем братском деле воскрешения всех умерших поколений. Пассивное ожидание Страшного суда не может быть, по мнению Федорова, достойным человека. Такая пассивность характерна для «небопоклонника», для человека ислама, для религии трансцендентного бога Аллаха, не Бога Отца, а бога Господина, «не имеющего ни сына, ни равного» (I, 99), бога, который выносит человеку приговор, награждает его и наказывает по мере его участия в единственной, как считает Федоров, активности, допускаемой исламом — джихаде, святой войне против безбожников. Не так далеко от ислама отстоит и католицизм, религия «землепоклонников», в которой суверенным судьей и властителем, от имени трансцендентного Бога, выступает папа. «Католицизм есть религия ужаса, а управление ею — терроризм. Причиною воскресения там является не любовь, восстановляющая жизнь, а гнев; гнев раскрывает могилы, гнев выбрасывает тела, которым жизнь возвращается под грозные звуки трубы: Христос — неумолимый Судья, даже Дева Мария не ходатайница, а все святые — обвинители, требующие отмщения за причиненные им страдания. Картина страшного суда затмила, можно сказать, все другие произведения живописи и сделалась предметом воспроизведения по преимуществу. К этому нужно прибавить все совершенство, всю утонченность техники, с которою разрабатывались эти сюжеты в искусстве, как и в жизни, инквизициями, Варфоломеевскими ночами и т.п. Что значили все эти живописные и словесные изображения чистилища, ада, рая, если они не были выражением папского могущества, изображением того, что могли дать, и, в особенности того, от чего могли бы избавить папы, эти мнимые преемники Петра и истинные преемники древних императоров…» (I, 172). В противоположность этим религиям трансцендентного воскресения существует православие как скорбь об умерших, печалование глубокое и действенное, как желание и стремление ко всеобщему спасению, спасению, которое не может быть следствием лишь одной прекрасной молитвы, а только конкретной работы при молитвенном обращении к Богу, конкретного действия всех сынов человеческих, при помощи всех имеющихся в распоряжении средств (включая науки, объединенные в астрономии), в общем деле воскрешения всех умерших поколений. Таким образом, федоровская скорбь идентична стремлению, из которого опять рождается воля, т. е. желание возрождения исчезнувшего, желание чтобы предмет безнадежного плача и горести стал целью человеческих надежд, чтобы телесно осуществлялась Церковь всех живых и умерших поколений. Имманентное воскрешение, оказывается, является реализацией самой высокой заповеди, которая может быть поставлена перед человеческой свободой, требуемой этой же свободой, заповеди «Воскрешай!» В исполнении этой заповеди и заключается последний, глубокий смысл любви, ее вселенское, всечеловеческое измерение, поисками которого в русской философии занимались и Соловьев, и Бердяев, а все-таки, кажется, что только Федорову удалось добраться до него. Если страх является существенным определением существования в западной философии (страх свидетельствует о направленности человека к самому себе, к собственной судьбе), то в федоровском учении — это печалование (направленность к другому, к чужой судьбе), скорбь, вызванная постоянными утратами, раздорами, болью и смертью, которой, фактически, подчиняется человечество в целом, скорбь из-за возможности еще более жалкой кончины, чем «земная» смерть, из-за возможности трансцендентного воскресения, «воскресения гнева» и окончательной гибели человека. Это как раз и есть та вселенская действенная скорбь, благодаря которой нравственное сознание Николая Федорова, по словам Бердяева, возвышается как самое высокое сознание в истории христианства. А высокое нравственное сознание, знающее, что «смерть — зло, а жизнь — добро», никогда не занимается подсчетами и расчетами, а самоотверженно возвращает любой, даже самый маленький долг, самым щедрым образом. Будучи таковым, оно должно быть исполнено самой большой любви, любви к жизни в целом и к каждому существу в отдельности, любви, рождающей, но и возрождающей, любви, которой, несомненно, был исполнен и сам Федоров, ибо только благодаря такой любви и мог возникнуть величайший план, одновременно божественный и человеческий, план освобождения материи из цепей греха и смерти, когда и воскресшие отцы будут работать в деле воскрешения своих отцов — из поколения в поколение, обратным ходом, вплоть до праотца Адама, до того, с которого начинается история греха. Это сознание, в результате исполнения данного плана, и приведет к завершению Богочеловеческого круговорота универсума. Возвращай всегда больше чем тебе дано, жизнь бессмертную и совершенную за жизнь смертную и погибающую — в этом заключается последнее напутствие и последняя просьба активистского, супраморалистического учения Федорова. Этим окончательно решается и тео-космо-антропологический вопрос: человек покажет свою Божественную суть тогда, когда, вернувшись к прародителю Адаму, предстанет лицом к Лицу Отца Небесного. Только тогда человек окончательно и полностью сможет избавиться от обособленности и стать подлинной Личностью, образом и подобием Божиим во всей полноте, а человечество — вселенским храмом-собором, образом и подобием Пресвятой Троицы. Тогда и Вселенная, одухотворенная воскресшими поколениями, из хаоса, из царства разложения и тьмы превратится в свет и станет подлинным Космосом. Таким образом, окончательно и полностью осуществится святое общее дело внехрамовой литургии. Через соборность и подвиг возвращения жизни умершим, через преображение универсума, через обезгрешение существа в целом, человек вступит в рай, однако не в рай как предмет мечтаний (рай поэтов и религиозных фанатиков, эпических и мифических преданий, произведений искусства), а в истинный богочеловеческий рай, созданный при содействии сил человеческих и силы Божией, рай как обоженное и очеловеченное бытие, как преобразованное время или вечность во времени. Перевод с сербского — Миры Грбич