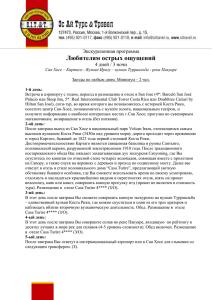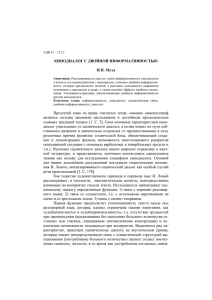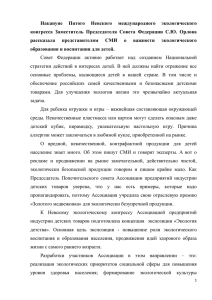Раненое дитя Севера
реклама
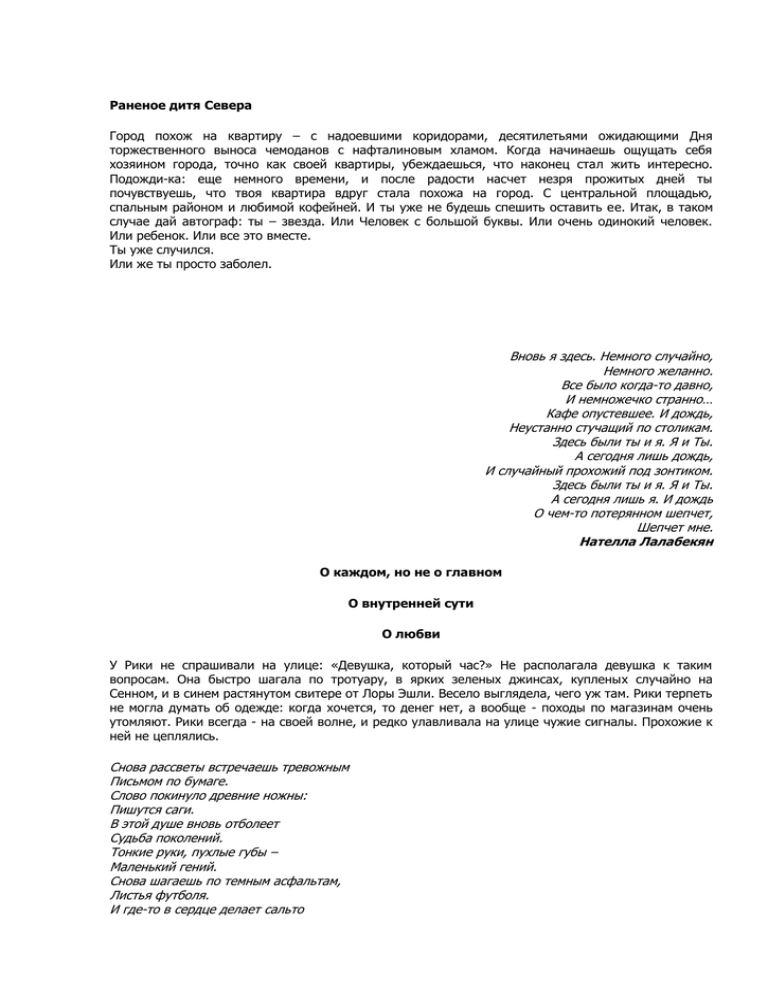
Раненое дитя Севера Город похож на квартиру – с надоевшими коридорами, десятилетьями ожидающими Дня торжественного выноса чемоданов с нафталиновым хламом. Когда начинаешь ощущать себя хозяином города, точно как своей квартиры, убеждаешься, что наконец стал жить интересно. Подожди-ка: еще немного времени, и после радости насчет незря прожитых дней ты почувствуешь, что твоя квартира вдруг стала похожа на город. С центральной площадью, спальным районом и любимой кофейней. И ты уже не будешь спешить оставить ее. Итак, в таком случае дай автограф: ты – звезда. Или Человек с большой буквы. Или очень одинокий человек. Или ребенок. Или все это вместе. Ты уже случился. Или же ты просто заболел. Вновь я здесь. Немного случайно, Немного желанно. Все было когда-то давно, И немножечко странно… Кафе опустевшее. И дождь, Неустанно стучащий по столикам. Здесь были ты и я. Я и Ты. А сегодня лишь дождь, И случайный прохожий под зонтиком. Здесь были ты и я. Я и Ты. А сегодня лишь я. И дождь О чем-то потерянном шепчет, Шепчет мне. Нателла Лалабекян О каждом, но не о главном О внутренней сути О любви У Рики не спрашивали на улице: «Девушка, который час?» Не располагала девушка к таким вопросам. Она быстро шагала по тротуару, в ярких зеленых джинсах, купленых случайно на Сенном, и в синем растянутом свитере от Лоры Эшли. Весело выглядела, чего уж там. Рики терпеть не могла думать об одежде: когда хочется, то денег нет, а вообще - походы по магазинам очень утомляют. Рики всегда - на своей волне, и редко улавливала на улице чужие сигналы. Прохожие к ней не цеплялись. Снова рассветы встречаешь тревожным Письмом по бумаге. Слово покинуло древние ножны: Пишутся саги. В этой душе вновь отболеет Судьба поколений. Тонкие руки, пухлые губы – Маленький гений. Снова шагаешь по темным асфальтам, Листья футболя. И где-то в сердце делает сальто Капелька горя… Снова рассветы кофейные с рифмами Вместе встречаешь. Кто-то не ждет тебя, скольким ты нужен – Не замечаешь. С ресниц вытираешь так осторожно Капельки влаги. Слово покинуло древние ножны: Пишутся саги. Дождь шагал за нею по асфальту, быстро догоняя и исподтишка капая ей на нос и ресницы холодными противными каплями. Жизнь была обыкновенной, как течение тихой речушки вдоль низких равнинных берегов: интеллигентная, ничем не выдающаяся постсоветская семья, учеба на одни пятерки и троещинские дворы. Хотя в общем сказать, что детство Рики было безоблачным, неверно: хоть и имелась у нее собственная комнатка, куклы, книжки и подружки, очень много времени оставалось на раздумья. Когда мыслей стало больше, чем реальной жизни, эта способность Рики, единственная, громко заявлявшая о себе, стала казаться недоброй. Уже потом, через много лет, Рики считала, что это оттого было, что родилась она для одной жизни, а попала совсем в другую. Что целую жизнь у нее отобрали. Детство было автоматическим: дом-школа-двор-дом. Маятник исправно раскачивался в раковине улитки. Улитка ползала тудасюда, таская за собой раковину, внутри которой туда-сюда колыхался маятник. Ничего не существовало больше, кроме мыслей и прохладно-обеспокоенных попыток домашних заглянуть в эту раковину. Они не догадывались, что сами – такие же точно улитки в раковинах, только маятники у них будут маячить из стороны в сторону всегда. А Рики надеялась скорее от своего избавиться. Время от времени родители предпринимали попытки раздавить, разбить ракушку дочки. На ее восстановление шло огромное количество раздумий. Обнаруживая новые и новые книгохранилища, Рики купалась в пыли страниц, как в целебной воде – пока не стала захлебываться в ней. Поэтому со временем она читала очень медленно и имела обыкновение не дочитывать книги до конца. Вскоре она стала взрослой. И хотя ей, двадцатилетней, по-прежнему давали пятнадцать, она и в самом деле выросла. И выбросить маятник из раковины до сих пор не смогла. Каждое утро она открывала глаза и ползла на кухню ставить чайник. Одевалась и выбегала из дома, забыв выпить чай. Если не оставалась ни у кого, засыпала, крепко обняв игрушечного пушистого зайца. Просыпалась вновь в родительской квартире и снова тянула свою раковину на кухню ставить чайник. Одевалась и выбегала из дома, забыв выпить чай. Внешне она была тоненькой и хорошенькой, со стремительными жестами, распахнутыми глазами, бегущей детской походкой и волевыми чертами, что создавало удивительную гармонию сильной натуры с очаровательной, нежно взращенной внешностью. В восемнадцать она была похожа на Эммануэль. Ей очень шли блейзеры и панамки. *** Рики передвигалась по обычному маршруту - из института к метро. Она никак не могла решить, куда ей идти сейчас. Домой ехать не хотелось. К Тигре в подвал - тем более. Наверняка он скажет, что занят до позднего вечера. Усталость давала о себе знать. Усталость возраста, когда ни минуты не сидишь на месте, да еще мысли бегут нескончаемым потоком, отчего просто устаешь думать. Впрочем, что ее так утомило, Рики сама не очень-то понимала. Наверное, вот это желание все же увидеть Тигру сегодня вечером, и резкое нежелание - видеть его вообще. Рики присела на каменный карниз под “Макдональдсом” и безучастно растворилась в бурлящей вокруг шумной уличной жизни. Очереди на маршрутки. Тетки-торговки. Прохожие, спешащие... Мое грустное настроение – В переплетениях дождя, В разговорах автобусных, В желтых листьях и в отражениях… Мое грустное настроение Ищет, ищет себе оправдание, В галереях, музеях и выставках, Не находит себе выражения… Мое грустное настроение В капюшоне, насквозь промокшее, В парке звонко по лужам шлепает, Но не может найти понимания И не слышит в дожде объяснения… Перед глазами пробегали их бесконечные сцены выяснения отношений: ревность, споры, драки, обиды, любовь. У нее в жизни получилось, как и у всех. Этого она простить не могла. Даже Тигре. Казалось, во всяком случае, что любить его она больше не может. Чувства переродились, делись куда-то. Все изменилось, и ничто не вернется обратно. Ее раковина окаменела, как древний амонит. Тигра тоже, наверное, устал от нее. Зачем она ему такая? Они оба тогда еще не знали, что от таких бурных выяснений отношений перестает хотеться вообще разговаривать с кем-либо, особенно с любимыми. Подснежники продают. Конец февраля. Тепло. Скоро весна. Еще чуть-чуть - и весна! Встречаться с Тигрой она стала год назад. Рики тогда училась на втором курсе, а Тигра – на четвертом. Она и представить себе не могла, насколько плотно он войдет в ее жизнь, поработит ее волю, чувства своей любовью. Все произошло неожиданно, бесконтрольно, само собой. Рики потом много думала, почему такие события в жизни, как любовь, невозможно никак проконтролировать. Сначала ей казалось, что все в ее власти: просто нравится она этому симпатичному чернявому мальчику. Но она ведь у себя в городе, где ничего не может произойти без ее ведома, помимо ее воли, она тут свободна, как быстрая чайка... Но вышла фигня. Все произошло иначе. С каждой новой встречей с ним Рики становилась, как пластилин, все более податливой. Ей стало хотеться опоры, поддержки, а раньше она не выносила и не допускала подобных желаний. *** Эта зима в периоде разнообразных внутренних состояний поставила большую белую точку: Киев давненько не видал таких снегопадов. Снег замедлил высокий темп столичной жизни: люди, события, транспорт – все стало двигаться медленнее. Снижение этого быстрого внешнего суетного ритма привело в некое подобие соответствия с реальностью нерасторопные, вечно что-то осмысливающие, «провидящие», «варящие» наши творческие внутренние миры. Мысли вдруг перестали безвозвратно, навсегда теряться в маршрутных такси: наконец-то стало возможным успевать записывать их, и иногда даже – стихами. Постоянно сомневающиеся во всем, нерешительные чувства вдруг стали успевать приструнивать загулявшие в заоблачные дали размышления, и приводить их в чувство, давая душе добро на самовыражение. А все – из-за снега. Этой зимой неожиданно восстановились кухонные общения, порядком уже подзабытые, стали открываться новые взгляды на старые вещи и двери в иные миры. Капризная парочка – Время и Пространство – будто выяснили наконец свои непростые отношения и вспомнили о бренном, земном существовании скромных и нескромных киевских творцов, музыкантов, художников, журналистов, писателей… В Киеве – зима. *** - Неужели вы это все вправду о Рики рассказываете? – удивилась уже успокоившаяся девушка. Она говорила медленно, с трогательным акцентом. – Даже не верится… - Может, и зря рассказываю. – Немолодой мужчина, вздохнув, перестал размешивать сахар в кофе, стряхнул с чайной ложечки капли и положил ее на блюдце. – Может, и зря… Тебе виднее. Час назад Виктор Ильич мирно следовал по привычному пути – по улице Артема, из театрального института, где преподавал, к себе, на Гоголевскую. Он не спешил. С тех пор, как умерла его жена, актриса Русской драмы, он не торопился больше в свою просторную квартиру. На Львовской, у входа в сувенирную лавку, он остановился покурить и полюбоваться нежным снегом, тихо кружившимся в отсветах фонарей. Виктор Ильич затянулся дымом, довольно прищурил глаза, поежился внутри теплой куртки, в которой так было уютно в любой мороз, словно в объятиях древнего, верного друга. И тут он увидел нечто. Нечто возникло из Нестеровского переулка и понеслось на Львовскую площадь. Оно было среднего роста, коротко стриженное, красивенное, похожее на цыганчонка, взволнованное, одетое черт-те как – в общем, как вся молодежь сейчас одета: плотные холщовые штаны с большими карманами, которые за километр видно, теплое драповое пальто до колен, длиннющий черный шарф, раз десять обмотанный вокруг шеи. Нечто чуть не плакало. Виктор Ильич заинтересованно наблюдал. Он любил такие лица. Тем более что молодые все больше сражали однообразием, явная харизма этого нечто удивила бы любого опытного человековеда. Оно неслось по улице к светофору, сметая на своем пути прохожих и распугивая автомобили. Пешеходы, которых нечто толкнуло посильнее, крутили пальцем у виска: совсем сдурел парень. Но Виктор Ильич, неспроста режиссер, смутно догадывался, что закавыка этой красочной, казалось даже, постановочной беготни в чем-то другом. Он разглядел, что нечто – это на самом деле девушка, и что так стремительно выбежала она из бара «Бродячая собака» – любимого местечка творческих юнцов самых разнообразных ориентаций, о котором он пару раз слышал от студентов, что оно, мол, рядом с театральным находится. Виктор Ильич стал внимательно наблюдать дальше. Барышня - хотя на барышню она была похожа меньше всего - выскочила на Артема, оглянулась вокруг, явно в надежде что-то отыскать. Глянула на троллейбусную остановку, к которой подползал рогатый, как улитка, троллейбус, и лицо ее исказилось гримасой поражения. «Похоже, увидела кого-то, – подумал Виктор Ильич. –А этот кто-то сейчас уедет». Он обернулся в ту сторону, куда противоположной стороне шумной троллейбусной остановке озябшую, ожидал встретить вновь. Ни сегодня, с мольбой смотрела девушка, мучительно ожидавшая на улицы зеленого сигнала. И обомлел. Да, он увидел на сидящую на лавочке другую девушку. Которую никак не ни вообще когда-либо в жизни. «Да, меня не покидает ощущение, что я живу в написанном кем-то романе!» – подумал про себя Виктор Ильич. Он был, в принципе, не из тех людей, которые стали бы вообще чему-либо удивляться. В своей жизни он видел столько и стольких, что, как он привык говорить, на удивление у него выработался иммунитет. Но Виктор Ильич был уверен, что тот человек, которого он углядел так неожиданно сейчас на остановке, никогда больше ему на пути не встретится. Случилось иначе, и он впрямь был удивлен. И немного раздосадован потерей отныне покоя: «Вот дернула нелегкая остановиться здесь! Нельзя было, будто, в скверике покурить!» *** Но произошло то, что произошло, рвать на себе волосы было поздно и ни к чему. Нечто тем временем уже одолело проезжую часть и подбежало к девушке, недвижимо сидящей на остановке и упрямо пропускающей полупустые троллейбусы. Виктор Ильич переместился поближе, чтобы иметь возможность еще понаблюдать за дальнейшими событиями и в то же время остаться незамеченным. Он стоял довольно далеко, чтобы слышать разговор девчонок, но видел, как бегунья села рядом с замершей на скамейку, обвив рукой ее плечи, и стала что-то взволнованно говорить. Та сидела, уткнувшись мыслями в комья снега на асфальте, и вообще никак не реагировала на происходящее. Бегунья с еще пущим пылом, распугивая прохожих, чуть ли не в истерике, пыталась уверить подругу в чем-то. Но Виктор Ильич уже знал то, чего пока не знала говорившая: замерзшая девушка сейчас уйдет. Потому что это была Рики, а Рики в подобных случаях всегда уходит. К остановке подкрался заснеженный троллейбус – точно вор, собиравшийся умыкнуть чужую невесту. Молчунья резко поднялась со скамейки, быстро смешалась с толпой и исчезла в нем и в нутре морозной, засыпанной снегом улицы. Бегунья даже не успела ничего сообразить. Кроме того, что этот последний миг превратился для нее в вечность. На остановке не осталось никого, кроме серой, осунувшейся фигурки, освещенной пятном фонаря, и Виктора Ильича, подошедшего к ней вплотную. - Послушай, я, это, на ты. Ладно? – промямлил он в свойственной ему робкой манере, от которой, впрочем, его студентки сходили с ума десятками. – Послушай, идем обратно, а? В «Собаку», а? Хорошо? Девушка подняла на него огромные серые глаза, заплаканные немой болью. Но увидела перед собой то, что меньше всего могла ожидать увидеть: строгое, интеллигентное, жесткое лицо немолодого солидного мужчины с темной бородкой, хорошо одетого, и с очень-очень добрыми, немного лукавыми глазами-лучиками. Такого не пошлешь. А то пошлешь – и будешь жалеть потом, совестью мучиться. *** Рики отправилась бродить по улицам. Раньше во время таких гуляний в голове прояснялось, появлялись свежие мысли. А теперь мозги напоминали ей какой-то отстойник, колодец с затхлой, застоявшейся водой. Бесцельные прогулки увенчивались энным количеством выпитого пива и ощущением бездарно прожитого вечера. Где-то вечера бывают упоительными, где-то бывают разгульными, звучащими, светящимися, где-то – взрывающимися, где-то – бесконечными, где-то – сонными, где-то – только такими и никакими другими, а в этом городе они часто бывают бездарными. Потому что вечер трудного дня – это вечер послеработный или послеучебный, который можно провести в решении насущных бытовых вопросов и в поисках учебных же ответов. Те, у кого есть альтернатива – те, кто не учится, кто учится без напряга, или те, у кого нет необходимости решать бытовые проблемы, могут сказать, что вечера трудных дней принадлежат им. Но это неправда, это виртуозная ложь посетителей баров, ресторанов, дискотек, лавочек в парках и у подъездов, казино, кинотеатров и оперы, в лучшем случае. Разве вы можете быть уверенным, что ваш вечер принадлежит вам? А если он действительно принадлежит, ваш вечер, не вам, то вы уверены наверняка, что он – не бездарный? Вот и Рики не была очень в этом уверена. Она прошла по Гончарке и устроилась на скамейке под старой липой. Люди не любят эти деревья. А Рики привыкла считать, что только липа и открывает человеку правду. Закурила сигарету. И услышала за спиной женский голос: «Девушка, у вас найдутся спички?» К ней подошла престарелая хиппи: джинсы, котоновая куртка, бандана на распущенных рыжих волосах, феньки. Голос низкий, сиплый. Рики стало интересно. Ведь к ней никогда не обращались на улице! Женщина затянулась едким дымом. - Послушай, хочешь, я тебе погадаю? Вопрос больно ударил по внутренностям своей тривиальностью и опасностью, зачастую в нашем городе не удивляющей. - Нет, спасибо. - Рики разочарованно глянула на нее. «Странно, вроде не цыганка!» - подумала она. У Рики был принцип: она никогда не гадала на свою судьбу. - Ладно. Хочешь, так кое-что расскажу? Выглядишь ты лет на шестнадцать. На самом деле тебе больше. Вижу, ты очень мучаешься. Ты не можешь простить за что-то своего парня. Казалось бы, чепуха какая! Да нет, не в этом дело... Женщина говорила быстро, нелегко было разобрать слова. - Ты не можешь многого решить для себя. Быть тебе как все, детей рожать, или оставаться со своими принципами и творчеством. Действительно, тяжело это, можешь совсем запутаться. Только вот характер не даст. Очень крепкий он у тебя. Все через душу пропускаешь, а прочувствуешь – уже не изменишь. Хотя выбор у тебя непростой: либо проживешь, как принято, либо одна будешь. Никто твои горести на себя не примет. Никто на твое место не встанет. Никто не поймет. Еще не скоро ты разберешься, почему сама во всем этом паришься. Рики так никогда потом и не могла решить для себя: почудилась ей эта встреча или вправду была? Пиво свое она уже выпила, женщина говорила монотонно, и как эта загадочная особа ушла, Рики и не заметила: очнулась, будто после крепкого сна, а той уже и след простыл. В общем, может, и привиделось. Рики приехала домой, сняла кроссовки и без сил упала на устроеную на полу лежанку, служившую ей кроватью. Взгляд упал на противоположную стену, сплошь увешанную открытками теплого содержания. Почти все подарены Тигрой. Она утомленно поднялась, окинула взглядом эту выставку. И стала быстро сдирать все открытки, одну за одной. Через минуту в ее руках оказалась увесистая пачка. Рики перебирала пыльные картинки с милыми мишками и надписями, и ей хотелось расплакаться. Сейчас было бы так хорошо, если бы Тигра был рядом! Но он никогда не знал, что творится в ее душе, он просто не умел замечать. Его не оказывалась рядом даже тогда, когда Рики было по-настоящему больно. *** Не, вечера здесь все-таки странные до невозможности. Представьте себе: где-нибудь в крошечном приморском городке вы выйдете себе вечером на крыльцо, втянете ноздрями трепещущий, как легкое платьице, свежий морской воздух, пройдете вверх по поселку и потом шагом по трассе – на Кош-каю: на хвост, на морду – куда вам заблагорассудится. Вы можете быть уверены, что вечер – ваш, и никуда он от вас не денется. Вряд ли зазвонит мобильный – просто потому, что все ваши возможные собеседники сейчас – на другом конце страны, в огромном городе, в шумных кабаках, под колпаком надоевших мелодий, с чувством долга, который будет выполнен завтра в виде неизменного похода на работу, - вы им такой не нужны. Можете смело оставить мобилку в комнате: не сомневайтесь, этот вечер – принадлежит вам полностью. Рики представляла себя экскурсоводом, владелицей какой-нибудь маленькой алупкинской дачки, встречающей новых постояльцев. Кажется, с такими-то способностями рассказчика, от них не будет отбоя! Вы можете передумать и вернуться обратно. Вы можете подумать, что хотите ужинать, и повернуть назад. Вы можете поразмыслить над тем, что поужинать просто забыли, и поворотить оглобли. Все в ваших руках. А можете добрести, освещая путь фонариком, до оживившейся к ночи обсерватории, накупить чудесных фоток с изображением далеких галактик, посмотреть на луну в огромный телескоп, пострелять лазерным лучом по высоким облакам, на обратной дороге помечтать, сидя на горных верандах, удерживая на ладони целое побережье, маякнуть улыбкой подмигиванию далекого маяка и полусонным и счастливым вернуться домой, спать, но с полным сознанием красиво прожитого дня. А те, в огоромном городе, могут вообще не жить, если захотят. Так, просто качать легкими воздух, пребывая годами, веками в одном и том же самом душевном состоянии. Они там носят дорогие одежды, но дух их носит рвань. Они там – а вы тут. И здесь, пусть вы и расхаживаете в простых шортах, ваш дух неимоверно красив, здоров, приподнят над уровнем моря и, вероятно, вполне упитан. Ему здесь, как Александре в предреченном ей городе, не придется вынужденно встречаться с некогда бросившим ее отцом, зараженным цивилизационным безразличием. Пустых вечеров в жизни Рики случалось много. И этот вечер оказался, очевидно, не самым лучшим в ее жизни. Где-то внутри умерла еще одна нервная клетка. А может, и две. *** На следующий день Рики, comme d’abitude, приехала в институт. В общем-то, ничего нового ее там не ожидало. В их университетской компании на занятия никто не ходил. Приезжали в универ, обычно, чтобы потуситься на скамейке в соседнем сквере, изо дня в день пить берло и трепаться о всякой ерунде. До сессии – несколько теплых недель, что же может быть лучше в этой жизни? Дворики, кафешки, парки и парадняки – вот места, где поистине вольно, спокойно и на своем месте чувствует себя любой стыдент, если только он не родственник препода. Как правило, эти славные места примиряют всех: и бюджетников с контрактниками, и заочников со стационаром, и отличников с шаровиками. Именно сюда нет-нет да и заглянут выпускники, здесь обсуждаются все на свете темы: от самых политических споров до гипотетических расценок на памперсы. Сюда приносят свежерожденных малышей. И вообще – реки, болота, моря и океаны, имеется в виду, вполне по колено, поэтому главное здесь для всех – чем бирца больше, тем, понятно, жизнь и хороша. Вероятно, для приезжих студентов будни столичной жизни тогда были несколько иными, может, поэтому студенческие дворики Рики понимала как альтернативные формы отдыха, само собой разумеется, контробщажные. Ну, что поделаешь! Кому-то - жизнь, а кому-то – продпайки через проводников. Она прошлась по инсту, но никого из своих не встретила. Бывает такое. Наверное, народ подтянется позже. Пойти бы на лекцию к Тигре. Но его Тигры, как всегда, в институте нет. За неимением альтернатив, решила сходить на пару. Группа у них была небольшая, не очень дружная, нормальная только для необходимого общения в стенах родного учебного заведения. Рики скучала на семинарах, потому как в группе ни с кем не дружила - сидела одна и смотрела в окно. Рики вспоминала, что они, киевские аборигены, отрывались со своим курсом в общаге всего один раз. И то потому только, что какой-то не случившийся комсорг к середине третьего курса не выдержал и молвил: “Стыдно, товарищи!” Потери в тот день были такие, что “общие” полгода потом вспоминали, стыдливо хихикая и на нее, Рики, с опаской указывая, как, мол, пили и что творили. Ну, действительно, такое неприлично хранить в памяти дипломированным специалистам. Но если вам стыдно, зачем же тогда было приглашать? С тех пор племя столичных зареклось: в общагу – ни шагу. Релакс допускалася только во дворике, и редко, когда заводились хрущи – в соседней с инстом бильярдной. Конечно, сложно не признать, торжественно, перед лицом заучек, что, ясен пень, та порода студентов, что тусуется во дворах, ведет себя, назло врагам, очень оторванно, сессии сдает на “отлично” и имеет крайне вольнодумное мировоззрение. Только толку с этого никакого. Пять лет жизни на баклажанной грядке – и все, нет мировоззрения. Одна икра. Надоело… Вообще-то… Но сегодня, войдя в аудиторию, Рики зафиксировала необычное явление, имеющее вид незнакомой девушки с непослушными, крашенными рыжими волосами и с феньками, как и у нее, Рики, на руках. Прекрасная мадемуазель безмятежно рисовала что-то на листике бумаги в течение всего семинара, изредка поднимая лицо и заглядываясь в окно на деревья и небо. Взгляд барышни, спокойный и серьезный, уплывал куда-то далеко за облака: было ясно, что девушка находится далеко от рассказов преподавателя, одногруппников и конспектов, где-то внутри своих острых раздумий неизвестно о чем. Рики прожег насквозь, пробежав по позвоночнику и устремившись в сердце, быстрый ток. Ей неимоверно сильно захотелось познакомиться с этим юным созданием. Такое, знаете ли, случается: даже не знаком с человеком, но кажется, что знаешь о нем все, и он занимает полностью твои мысли, как неотразимые герлушки, поющие о биологии в крендельках озабоченного дедугана. Но тут не эротика, тут несколько – настолько! – другое. Просто появляется чувство, что этот встретившийся случайно человек тебе близок. Дежавю. Причем заинтриговать может любая мелочь – жест, взгляд, случайное меткое выражение – и все, ты попал. У Рики такое попадалово случалось и раньше: еще лет в десять, в пионерском лагере, она увидела вечером, на крыльце, у входа в корпус, странную девочку, в голубеньком с оборочками длинном платье и широкополой соломенной шляпке. Будто из фильма о девятнадцатом веке. Выяснилось, что девочка – вовсе не из фильма, что она из дружественной перестройке Германии, зовут ее Ивонна, и она ни бельмеса ни по-украински, ни по-русски, и что ее вместе с компашей немецких детей привезли сюда отдыхать. Это было так нереально: через четыре года после Чернобыльской катастрофы, под Киевом, в лагере авиационного завода – здоровые, довольные, щеголеватые немецкие чайлды… Они были не такими. Они были послушными, а потому им было все можно, и они развлекались как хотели в рамках установленных правил. Наши дети так не умели, но все равно им было очень завидно, и они жутко мечтали познакомиться с немцами. Повезло только одному мальчику, который неплохо говорил по-английски – немцы его понимали. Он играл с ними в теннис. И поэтому стал кумиром всех лагерных девчонок. Рики, если честно, ему завидовала, но понимала, что до него ей действительно далеко: её английский был ну просто никакой. Поэтому она наблюдала, сидя где-нибудь неподалеку от теннисного стола, в уголке, затаив дыхание. Ее поражало то, что Ивонна ходила, как кукла – с идеально прямой спиной и всегда – на прямых ногах, которые, кажется, не были приспособлены для сгибания. Просто у немки была такая походка. У Рики спина не была такой прямой. Она вообще никогда не видела раньше у людей такой четкой осанки. Разве что у кукол, но они никогда ее не интересовали. С тех пор Рики очень сильно привлекали люди, выделявшиеся пластикой, уникальностью походки, удивлявшие движением, гибкостью, силой и красотой какой-либо части тела или полностью всей натуры. Рики шестым чувством различала их, выделяла из толпы и влюблялась, как художник: не с целью обладать, а с неукротимым желанием любоваться, запоминать и воспроизводить в стихе или в рисунке. А там уже, как получится… То есть, такие вот люди, именно, ее вдохновляли. А Ивонна была необычной – точно такой, как Рики и нравились. *** После занятий, так никого из друзей и не дождавшись, Рики стала думать, куда же ей податься теперь. Домой она ехать просто не могла: родители не дали бы ей побыть с самой собой, громыхая новостями по телевизору, семейными разговорами и сковородкой на плите. Рики села в трамвай и отправилась на Подол. Быстро пробравшись раскидистыми улочками к набережной, она уселась на ступеньках причала за элеватором. Стемнело. Рики откупорила ножом винную бутылку. Перед ней раскинулся город - как всегда, загадочный и таинственный. Жить в Киеве - значит постоянно ощущать свою сопричастность к неизведаному и великому, чувствовать, как переплетаются в перекрестках улиц прошлое и будущее, и думать, думать постоянно о своем мизерном, протекающем молниеносно, непредсказуемом и глобальном настоящем. Вечер обволакивал, спускаясь на город медленно, словно подкрадываясь, и одним рывком покрывая пеленой сумерек все беспокойства, одиночества и надежды. Фонари плыли в плещущейся воде Днепра, скрываясь где-то за Южным мостом. Туда же, в Осокорки, уплывал по набережной бурный поток автомобилей. Из летних кафе звучал киевский шансон. Рики, по крайней мере, он нравился больше, чем что-либо другое, что можно услышать по радио. Слева, переливаясь в огнях, виднелась Оболонь. Справа блестели купола Андреевской церкви на холмах, где ложился спать и засыпал уставший вечерний Киев. Рики чувствовала себя потерянной среди этого волшебного великолепия - утерянной во времени и пространстве, ничьей. И в то же время сильной, готовой на любые подвиги, на героические свершения. Так ей казалось. *** Оно открыло глаза. Потянулось сладко под теплым одеялом, высунуло из-под него большой палец задней ноги и, поежась, тотчас спрятало его обратно. Зевнуло пару раз, для оттачивания к сегодняшнему вечеру куртуазных манер как можно шире распахивая рот, решительно отдернуло одеяло, встало и подошло к окну. И так, в майке и трусах, раздвинув шторы, засмотрелось на сто седьмое утро своего девятнадцатого года жизни. Как прекрасен мир! Голубые листья на деревьях были измазаны густым серебристым ветерком. Он каплями стекал вниз, на нежно-бирюзовую травку, но прозрачные слои воздуха, неожиданно передвигаясь, как фишки в пластмассовом «лабиринте» (винтажная, кстати, игра, завезенная с одной очень лихо раскрученной планеты – как у этих навороченных землекосов крыши не срывает?), отбрасывали норовившие незаконно стечь капли куда-нибудь как можно дальше – на листья соседнего дерева, а еще лучше – на Западный полюс, к гегемонам. Под окном стояла толпа. На сей раз все были без бамбука и понтов. «Надо же, даже вон то, симпатичное, ни в одной своей нежной барцабке не держит ни единого бамбучка!» – удивилось оно. - Эй, другелло, рассказывай давай, чем ты занимался в мерсе шестого президента землекосов! «О, Великая Масса! Что же это они такое орут? Они что, с ума посходили? Почему мерс? С чего они взяли?» – оно резко занавесило окно, и глаза его забегали. Кофе пить расхотелось. А кофе был бы вкусный, икристый: вчера, как раз, свежую черную икру завезли, и специальную стеклянную икринницу, чтобы удобно было сыпать в чашку. Об оконную раму шлепнулось что-то тяжелое. Видимо, какой-то придурок запульнул куском серебряного ветра. «Что же произошло? Чего они так кипишуют?» – удивлялось оно, хрустя вчерашним холодным баттербридом. Но поразмышлять ему не дали. Затарабанили в дверь. Оно подкралось тихонько и посмотрело в глазок. - Слушай, открывай давай, это я! – надрывался за дверью какой-то толстенький плейшнер. Он заметно нервничал и дергал дверную ручку, но вскоре, не выдержав, содрал с головы свою внешность, и оно немедленно узнало в нем своего приятеля, из бывших гегемонов. Отработав на полюсе пять лет, естественно, на шару, товарищ вернулся в центр и стал продюсером. Продюсировал он оно, разумеется. Оно сразу же распахнуло дверь, впустило друга и захлопнуло за ним, закрыло на три замка тяжелую кованую дверь и еще накинуло цепочку. Продюсер в прихожей бросился на колени: - Малыш! Мой бедный, замученный, хороший, добрый малыш! Старайся улыбаться миру! Чтобы никто не замечал твоей боли! Твоего одиночества! Живи достойно, потому что нужно уметь быть достойным даже и несбывшихся желаний! Я целую тебя, люблю, - при этом он начинал лихорадочно целовать ему руки, - и надеюсь, что у тебя все выровняется, что ты найдешь свое место в жизни и будешь чувствовать себя любимым и нужным. Не бойся, я с тобой. Прорвемся! Оно в ужасе выдергивало руки: - Эй, слушай, ты чего? - Да, в самом деле, чего это я! – продюсер встал с колен, отряхнул зеленые штаны в розовый кружочек и тяжелой поступью проследовал на кухню. – Сваргань-ка нам по чашечке кофе с икоркой, а я расскажу тебе, отчего сегодня под домом звезды поутру такая неуравновешенная толпа. - Да-да, интересно? – оно послушно наполнило джезву до краев, оперлось о край стола и прикурило сигарету от газовой горелки. Выпрямилось, выжидающе посмотрело на продюсера. - Если бы ты видело, что сегодня показала Желтая фреска! Джезва выпала у него из рук, покатилась по полу, пол всей своей тушей навалился на коричневый кофейный плевок и проступил сквозь него. Оно вытаращило глаза. - Что-то обо мне? – вскричало истерическим голосом. - О ком же еще! – удовлетворенно кивнул продюсер, обрадовавшись произведенному эффекту. – Ну так что наш кофе? Так и останется лежать на полу? Оно на автомате наклонилось, отодрало кофейный выхарк от линолеума и покрошило в чашки. Сверху посыпало икрой. От души. Для родимого продюсера даже икры не жалко. Тем более, он же ее и привозит. И он же съедает. Но позволяет помогать. Иногда. За это оно очень любило своего продюсера. Оно присело на краешек табурета, стыдливо прикрыло худую ногу полой цветастого мятого халатика и приготовилось слушать. - Так вот, - чавкая кофеем, проговорил продюсер, - рассказываю. Ну, ты понимаешь, первые любопытствующие, как всегда, потянулись к фреске, только рассвело: и то рассвета дожидались, потому что ночью ни фига не видно. - И что??? – сигарета подрагивала в тонких пальцах его, и пепел безжалостно оседал на голой коже, в расщелине щуплого халатика. - Короче, приперлись они туда… - Голос продюсера запах сваркой. – И как ты думаешь, что они там увидели? А увидели они там такое, что через полчаса около фрески была уже вся мерия стройными рядами, и нестройными – ментавры и Би-би-си. Особенно хороши были бабки! - Ну, видимо, там горячо было, на фреске-то! Раз даже неподъемные задницы прикатили! Но Биби-си – они-то откуда взялись? Ведь их деятельность давно запрещена законом! – глаза его округлились от любопытства. Оно любило сплетни на завтрак. - Мы с Ней как раз гуляли там, часа два-три… - Продюсер покраснел. - Посидели там в кафе, на углу Прорезной, и я с Театральной к тебе поехал. Прикольно было бы описать всю беседу, но это очень длинно. - Какую беседу? - Которая была слышна с фрески. Ты там нес такое… - Я??? Стоп, так значит, мерседес… Но мерс мне снился во сне! – оно не находило слов от возмущения. - Ясен пень. Но если раньше желтая фреска показывала, периодически, лишь твою личную жизнь, то теперь она продемонстрировала твой сегодняшний сон. Во всех – поверь мне на слово, очень пикантных – подробностях! - И ты, и ты! Ты ничего не сделал? На мне какая-то сыпь. Всю неделю собираюсь сидеть дома: нет денег даже на проезд. Я все чешусь. Неужели это лишай воспалился? - Это ты зря, что дома, и зря, что лишай. Представь, что фреска покажет тогда! Оно перестало расчесывать невесть откуда взявшуюся сыпь на руке и растерянно спросило: - Что же там показала желтая фреска? Продюсер уже давно терпеливо ждал, когда оно успокоится. - Так вот, мое дорогое! Твой сон сегодня в нашем городе не видел только ленивый. Народ смотрел и тащился – от того, как ты катался на синем президентском мерседесе, как ты по ночам взрываешь петарды у окон мерии, крича, что это – бомбы, как, прокравшись в музей, ты разрезал лезвием «Великую Массу» кисти Льва and Карпа… Еще ты в своем сне отправил в молодежную газету статью о том, откуда дети берутся – и сегодня с утра многих юных свистушек, намылившихся проверить, а вправду ли существуют гегемоны, вылавливали из аэробусов и силой увозили обратно домой. Сам понимаешь, вот этот эпизод в твоем сне – слишком уже противозаконный… Оно побелело и стало нервно крошить себе в чашку еще кофе. - И что же дальше? - А дальше – самое интересное. Фреска в деталях изобразила, как ты, сидя перед нашими телекамерами, правдиво рассказываешь, что у тебя нет ребенка от землекоса. И у тебя, как ни странно, вполне неплохо это получалось! В смысле, врать. Но фреска озвучила тут же твои мысли, которые, в довольно нецензурной, поверь, форме изложили истинную версию происходящего, какую ты никак не хотел открывать репортерам. Ребеночек, значит, есть! Но это еще не все. Самое ужасное – то, что фреска показала… Угадай, что она показала в твоем сердце? Она показала в твоем сердце… любовь. - Что????? - Ну что-что? Представь, как зашевелилась мерия! А ментавры! Ну, тут уж даже я бессилен, сам понимаешь… - Так это ты, гад, проплатил за желтую фреску? - Чудак ты человек! Я могу проплатить всем и за все – что правда, то правда. Но как же проплатишь фреске? Фреска – сам понимаешь, это окно в мир иной. Это сюжеты на религиозные темы. А кому там платить, в мире ином, я и сам не знаю. Знал бы – за себя бы, любимого, платил, чтобы в рай попасть, или куда там обещают. А не за тебя, оборвыша… - Слушай, а как же священники реагировали на это все? - Ну как они могли реагировать? Говорят, чудеса случаются. Нужно молиться Великой Массе. Но ничего хорошего из этого не будет – пусть хоть завтра весь город усядется в синие мерседесы и поедет делать детей к гегемонам. А вот то, что любовь… и на фреске… Ну, тут уж я не знаю, старик… - Послушай, э-э, можешь мне на один вопрос ответить? – оно, побелевшее, нервно щелкало сорокакопеечной зажигалкой. - Валяй! - А какая она была? - Кто – она? - Ну, любовь. Которая у меня в сердце? Продюсер перестал бегать по кухне и размахивать руками, подошел к нему, наклонился и внимательно посмотрел ему в глаза. - Ну, старик, я так смотрю, мне надо быстро становиться продюсером кого-нибудь еще. Красненькая она была! Кра-сне-нька-я!!! Тебе ясно, еханое отродье?! - Ясно. И что же мне теперь делать? - Ну, во-первых, выйди на балкон и поприветствуй публику. Ты ж теперь, с сегодняшнего дня, не просто так, а Избранный Великой Массой! - Так что, я пошел на балкон? - Иди. Только имей в виду, что как только ты выйдешь на балкон, они тебя застрелят. Такого святотатства – любви, изображенной на желтой фреске, они тебе не простят! - О, Масса! Ну что же я мог поделать? Продюсер поднял с пола джезву и стал нервно колотить ею об стол. - Что ты мог сделать, придурок? Что ты мог сделать? Головой подумать, для начала! Во-первых, не нарушать закон! Ты – существо общественное, ты живешь за всех нас, вместе взятых! Твои сны сбываются назавтра или, на худой конец, послезавтра! Ты должен был думать! Ты был обязан!!! - Я думал! - Чем??? Ты должен был, перед тем как лечь спать, очистить свое сердце от любви и прочих неэстетичных шлаков! Твой организм должен быть, как стеклышко – ведь он у всех на виду! Хорошо хоть, ты на ночь помолился Великой Массе, и твоя голова была под завязку забита псалмами. а то бы с утра начались разговоры. Впрочем, придурок, они и так начались. - И что теперь? - Теперь думай сам. Кстати, ты должен мне бабки. За то, что я, бывший гегемон, согласился стать твоим продюсером. Знал же, знал, что твоя прабабушка гуляла с землекосами! Нужно было не связываться… А теперь – одни проблемы. Западная Церковь уже с утра выступила с заявлением, что любовь, мол, на фреске в Восточном соборе – это не что либо как, а как либо что. Железная леди высказалась в том же духе. Теперь они народ на улицы выведут. Какой же ты безответственный! Твои же сны дети смотрят! Представь, теперь какая-нибудь стрелка мелкая тоже себе подумает: вот, любовь такая красненькая, я тоже себе такую хочу, как у него! Ты должен был… Оно позеленело, схватило со стола джезву за длинную ручку и резко забросило ее в посудомоечную машину. Из машины полетели фиолетовые брызги. Оно повернулось к продюсеру, и тот с ужасом увидел, что на его лице играла торжествующая улыбка. - Никому я ничего не должен! И тебе ничего не должен! – радостно и тихо проговорило оно. – Я сяду сейчас в свой аэробус и укачу далеко-далеко, туда, где у таких же, как я, есть красненькое в сердце. - А-а, ну, скатертью дорога! – продюсер выскочил в коридор, натянул перед зеркалом свою внешность, выдрал цепочку из двери прямо с двумя шурупами, распахнул дверь и выскочил на освещенную солнцем и кинопрожекторами площадь, в объятия ревущей толпы. Толпа встретила его, как героя и стала качать. Оно осталось в квартире один на один со своими мыслями. Мысли прервал телефонный звонок. - Але, дядя, привет! - это звонила из другого города маленькая племянница. – Дядя, вот тут в новостях передали… А скажи, пожалуйста… Пока мама не слышит… А какая она – та, что у тебя в сердце? В самом деле красненькая? В телевизоре этого не показали, но все говорят… - Красненькая, малыш, красненькая! – Оно обожало свою племянницу. - А, ну тогда до свиданья, дядя! Правда, тебя все равно убьют. Но может быть, мы еще увидимся? Пока-пока! Оно бессильно уронило телефонную трубку. Трубка грохнулась об пол и разлетелась на кусочки и проводочки. Его любимая телефонная трубка! Оно подошло к письменному столу, выдвинуло первый ящик, вытащило оттуда пачку конвертов, положило один на стол, остальные спрятало обратно в ящик. Надписав на конверте имя, оно заклеило его языком, положило на тумбочку в коридоре, надело кожаную летную куртку, взяло конверт с тумбочки и сунуло его в карман куртки. Посетовав над вырванной цепочкой, открыло входную дверь и осторожно высунуло нос. Ни в парадном, ни на улице никого не было. Оно беспрепятственно вышло во двор, наклонилось, погладило рукой мягкую бирюзовую траву, улыбнулось и направилось к аэробусной станции. Несколько служителей при виде его шарахнулись в стороны. Священники с камерами и диктофонами наперевес ухмылялись из-за угла. На противоположном углу сидел прямо на асфальте продюсер и тоже ухмылялся. Проект оказался очень удачным! Сегодняшний выпуск желтой фрески сулил немалую прибыль. Аэробус вылетел в солнечное небо. Вечером служители Великой Массы сделали официальное заявление, что нефтебаки этого аэробуса были почти пусты. Ровно настолько, чтобы взлететь в воздух. Ну, взрыва никто не видел. Следующим утром маленькая племянница открыла конверт, и ей на ладошку выкатилось маленькое, красненькое… *** «Жил-был муравей. Такой себе обычный муравей, только дикий. Он курил поганый «Бонд», потягивал холодное пиво и закусывал орехами. А около по тропинкам пробегали мимо другие муравьи, у которых среди рабочего дня все по местам. Военный с дипломатом, девочки с мячиком, мама с сыном и авоськой... Вот только наш муравей был - бездельник. Не потому, что ничего не делал, а потому, что у Цоя в песне есть такой образ, и значит, муравей - это плагиат». Рики сидела в незнакомом доселе дворике неподалеку от станции метро «Дружбы народов» (не все ли равно где: сколько в городе таких двориков, в которых Рики отдыхала от мира), на детской площадке, на зелененьком обшарпанном крокодильчике (бывало: на качелях, скамейках, лестницах, крышах, на траве и далее по списку), уткнувшись задумчивым носом в порванный забор, и пыталась думать. Думать, как всегда в такие моменты, не получалось. Мысли складывались в рифмы, путаясь с цитатами из Достоевского и неожиданно вспомненными снами, и на этом думательный процесс обрывался. Мысли шпарят кипятком, ветер руки бьет кнутом. Разливаются поля... Где-то - ты, а это -я. Пролезая в песен щель, дышит в губы мне апрель. Вот такая ерунда для созревшего плода. Разбежался алфавит, разорвался динамит. Кто-то умер, кто-то нет, Чья-то жизнь - совсем как бред. Помолилась облакам, отдалась чужим словам. Прожила когда-то стих. Он пропел и он затих. Что-то ищут муравьи в отрешенъи, в забытьи. Мир, как вечная душа в черточках карандаша. На самом деле она попросту не заметила, бесславно удрав с работы на воздух, что день-то близок к финалу. Отрывочный день из привычных мыслей о том, что знакомые трубочисты уехали сегодня на Альбигойку, что домой не хочется, но требуется спать или очутиться где-нибудь за городом. Рики вяло рассматривала потертые клеша своих джинсов и гадала, с кем бы ей хотелось пообщаться сейчас. Было бы неплохо, наверное, посидеть тут помолчать с одной малознакомой девушкой, которая, к сожалению, никогда не станет ее подругой. Через несколько лет после этого дворика Рики смешно узнает себя в образе обаятельной героини из хорошей книжицы популярной импортной писательницы. Точно так же убегавшая в шестидесятых в бесцельные гулянки по улицам и переулкам родного города, желавшая свобод и просторов, учившаяся вдруг, ни с того ни с сего, говорить только лишь то, что ей хотелось в данный момент сказать и чувствовать то, что в данный момент чувствовалось, чем-то была приятна. И Рики впервые задумалась, прочитав книгу, что ее вот эта необоримая привычка разрывать на себе воротники рубашек, кожу тела, тонкую мембрану души - ради… напитаться, надышаться, наконец-то! – свободы, свободы – все о ней, все ею мерялось, все ею оправдывалось, и ею только и жилось. Но впервые она подумала о том, что девчонок таких же, по нашим вот этим бескрайним постэсесерским селеньям – немеряно, и что она такая – не эксклюзив и не раритет. Просто что-то кем-то зачем-то нарочно выпущено из внимания, затерян необходимый бессчетный паззл, и она, вместо того чтобы жить в кругу себе подобных, никого из них не может найти. И жизни оказывается очень даже мало, чтобы понять, в каком месте и в какое время тебя потеряли, и с чем и с кем можно себя идентифицировать, чтобы получить наконец, для нормальной общепринятой жизнедеятельности, простую общепринятую же ось координат: что хорошо, что плохо, что надо, чего не надо… так хотелось бы просто прочитать об этом. В каком-нибудь пошлом бульварном романе. Что ли самой написать? *** Рики очень хотела быть хорошей девочкой. Она и была очень хорошей девочкой. Ей и в двадцать очень шли панамки и бейсболки. А еще молотки, мотороллеры и моря. Книжная обаятельная героиня тоже такой вроде бы была, но за нее обо всем позаботилась писательница. Позже, дочитав книгу до конца и обнаружив бесславный обрыв ее судьбы, с легкой руки автора, поступившей с юной жительницей брежневской эпохи слишком уж негуманно, Рики поняла в пятисотый раз, что нравящееся ей не может быть вечным. А она когда-то даже определения подыскивала подобным характерам, вообще их коллекционировала – таких, с остро выраженным, явственным, проявленным синтезом интегрального мышления и чувственного восприятия. Бережно хранила в памяти, не избавляясь от воспоминаний об интересных встречах даже при серьезных ревизиях прочей инфы на жестких дисках в собственной голове. Но сейчас, сидя в очередном случайном дворике – сейчас, когда та пресловутая книга еще не издана, цепенея в своем одиночестве, Рики думала, что даже самое дорогое и близкое сердцу неумолимо превращается в воспоминания. Хорошо, когда что-то может потрясти! А то, все больше, в воспоминания вынужденно перевариваются прожеванные мысли и проглоченные чувства. Как правило, сомнительного качества. Но что поделаешь… ешь то, что дают! Это было сродни чуду: обычно, когда у человека депрессняк, ничего такого не случается, что могло бы дать намек на возможность скорого выхода из этого состояния. Так что есть повод поступить в школу медиумов и отучиться говорить «никогда». Here comes the Summer Son He burns my skin I ache again I’m over you Она услышала голос - ее кто-то окликнул. Чудо таки произошло, да еще какое! К крокодильчику приближалась та самая загадочная девушка, невесть откуда взявшаяся тогда на паре. Как в иностранном кино про наркоманов и ангелов. Рики вся внутренне сжалась, ожидая вопросов веселым голосом типа «Ну, как дела? А чего ты тут? Отдыхаешь?» и прочих безразличнонахальных, которые обычно так любят задавать друг дружке случайно встретившиеся одногруппницы, которым не удалось увильнуть от нежелательных приветствий, пришлось вымученно встретиться взглядом, подражать в улыбке Шварценеггеру и вступить в нудный и нарочито неторопливый процесс пустого трепа. Но Лия спросила только: - Ты не против, если я присяду? - Нет. - Рики, подняв голову, посмотрела на нее, изобразила беспечно-довольное лицо, которое она умела сооружать моментально при вторжении на ее личную территорию. Лия села рядом, на краю крокодильчика. Ее вельветовый клеш улегся в песке около кроссовки Рики. Лия молчала, закурив сигарету, и думала о чем-то своем. Но Рики не было неприятно и тягостно от этого молчания. Наоборот: на секунду промелькнуло где-то в глубине сознания, что Лия думает... о ней! И эта догадка была слишком правдива и невозможно удивительна, как и вся эта встреча. Но спустя несколько минут Лия прервала молчание. - Знаешь, о тебе в инсте много говорят. - Как обо всех. – Рики спокойно улыбнулась. - Да ладно – как о всех! Ничего подобного. Наверняка ты провоцируешь такое количество пересудов. Говорят, не общаешься ни с кем, мол, с тобой трудно подружиться. И при этом все замечают, что ты очень прикольная. Рики промолчала. Много ли интересного в этой девчонке, если она, как и все, способна лишь на пустую болтовню? Рики сознавала, что ее одиозная (спрутик-гипнотизер), стервозно-истеричная личность вызывает интерес у сверстников, пересуды и замысловатые сплетни. Но, во-первых, так к ней относились лишь те, кто был с ней шапочно знаком. А к таким знакомствам она относилась… никак. Всех этих людей реально в ее жизни не существовало. Они были плодом больной фантазии, гриппозного бреда, смутными образами утреннего сна. И они были ей не нужны. И она была им не нужна. Лишь должна была регулярно являться на пары, дабы быть ими препарированной и доставить им новогодний мешок неосознанных наслаждений самыми несовершенными отрывками ее естества. «А о туалетной бумаге они обычно думают, что в ней есть душа!» – считала Рики. - О тебе ещё говорят - ты много работаешь, - продолжала Лия. В ее голосе слышались лишь уважение и интерес. Рики ощутила: если бы не подобная характеристика, у Лии не возникло бы желания с ней разговаривать. Это было странно, так как в почете у друзей Рики было - гулять, а вовсе не работать, и поэтому Рики, если честно, ощущала себя в институтском бельчатнике очень напряжно. Она затянулась дрянной сигаретой, буркнув в ответ Лии что-то неврозумительное. Вопрос работы и ее количества всегда был для нее болезненным. Странно, что Лия вообще говорит об этом. - Мне рассказали, что ты в группе - из тех, кто пашет как еж в тумане. Почему тебе кажется, что мало? - Лия спросила осторожно, робко, словно боясь спугнуть. В инсте ей о Рики наболтали уже многие подробности. «Странные вопросы у девчонки» – мысль неотвязно крутилась в голове, но от побега Рики на сей раз и, пожалуй, впервые на ее памяти, что-то останавливало. Лия не наглым влезанием в душу занималась, как практиковали болтуны и сотоварищи – она пыталась завязать обоюдоинтересный разговор, несмотря на непреодолимую оборону собеседницы. - Мне мало себя, мало других, мало всего - но этого не объяснишь… - Что-то болело в душе, и если бы Рики умела, расплакалась бы - так это все чувствовалось для нее важно. - И ты не устаешь от этого состояния? - спросила Лия после долгой паузы. Рики почувствовала себя стесненной: глаза девушки, застав врасплох, вновь ушли куда-то в глубину неба, будто там, в облаках, видели что-то великое - словно как на том семинаре в институте, когда Рики увидела ее впервые. - Я не чувствую себя на воле. Привыкла так ощущать, просто - такой человек. И я задыхаюсь, я не живу, мне все время не хватает воздуха. Рики не понимала, почему вдруг прозвучали признания. Я живу в этом городе Ом, Зазеркальном, заиндевевшем, В ожидании марта дрожащем От холода, нежном. Я играю его рассветами, Словно бисером, нежно сплетенным. Одиночество мое – вечер, И стихи во мне, словно свечи. Впрочем, какова цена этой откровенности? Только кажется, что она стоящая. А на самом деле, цена ей – грош. Рики было не жаль. Но было интересно. Лия сидела, упершись локтями в колени, ковыряла взглядом песок и улыбалась. Потом проговорила: - Знаешь, бывает, что вот сейчас хочется вобрать в себя все, все чувствуешь вокруг, ощущаешь, как всего у нас мало на самом деле: жизни, людей, любви, правды какой-то. А бывает - хочется свернуться в уголке дивана, исчезнуть в себе, видя себя, свою малость, свою мизерность и бесполезность - и не надо рядом никого, чтобы только ни с кем слова не произносить. И это все одно и то же состояние. Это бывает больно. Рики была удивлена тем, что услышала - она была шокирована. Лия сейчас, вдруг, заговорила о том, что происходило в душе Рики многие годы, как будто она знала, о чем говорит. Все родственные души, как считала Рики, давно уже встречены, а впереди может быть только одно: она сама. И тут вдруг такие слова. Это сказка. То, чего не может быть. Лия сидела рядом и молчала, но между ними это молчание создавало непознанный никем доселе мир; да что там - о существовании такого мира можно было помыслить во сне на грани рассвета, когда перемешиваются фантазии и блики, впечатления летающей души и отзвуки былых воспоминаний. Время потекло по-другому, но осознать, заметить вмиг изменившуюся реальность было непросто. Они стали вне, они сейчас не могли вернуться обратно. Вслух Рики произнесла: - Я думала обо всем этом только что. До того, как ты появилась. Знаешь, ты можешь не понять, конечно, но у меня в голове еще вот что. Это какое-то состояние, в большой мере присущее нашему человеку, пьющему без оглядки, глядящему кому-то в глаза, неожиданно честные и милые душе. Чувство такое, болезненное, достоевское. - Ага, быть братом всех людей - классики о чем-то подобном писали. Да, знаешь, ведь такое отношение к людям возможно лишь от любви к ним, а любовь такая бывает лишь в свободных душах. А пьяные лишь подражают. Мне кажется, это масштабность личности, на самом деле. Или что-то в этом роде. Другим есть с кем быть, не думая, зачем. Просто быт, привычка. А такая вот свобода болит в человеке, заставляя думать, простора искать, все большего и большего. Рики задыхалась где-то внутри. Ей уже не казалось, что они плюют друг другу в мозги, вместо того, чтобы от скуки поплевать в лужу. С каждым словом, произнесенным Лией, она чувствовала, что все неимоверно правильно: Лия именно ее понимает, и Рики ее понимает тоже, и мир создан, и это полет, прыжок с парашютом, бесполезный и никому не нужный, впрочем. Значит, снова будут стихи. Так всегда бывает перед стихами. По крайней мере, если человек так страдает душой, от общения и понимания страдание это не прекращается… *** «А ночью растаял Днепр…» «Трям, здравствуйте!» Ежик в тумане больно ударил ее по голове. Потому что сборничек Олежки стоял на книжной полке как раз за тонким ежачим томиком. «Никакой он не ежачий! – обиженно поджала губы Рики, потирая больное место, свою многострадальную голову. – Ежный! Ежасный!» Она вовсе не собиралась перечитывать любимые истории о ежике. Лихорадочно схватив за край обложки Олежкины стихи, она быстро переворошила все страницы. Вот оно! У Олежки так: «…А горизонт – ведь он стихия, Живущих над землей, под небом Существ, не выпускающих свои стихи, Существ, сжигающих свои стихи На алтаре луны. Ночью оттаял Днепр….» (Олег Мамчиц) Вечером она долго смотрела в окно и представляла себе, что ревет, как дура. *** Рики бегала по магазинам в поисках интересных книжек на каком-нибудь иностранном и достойных открыток с видами Киева. «Патриотка, блин!» – строила она себе рожи, отражаясь в тонированных стеклах. В Киев приехал Эмануэле. Эмануэле – из тех итальянцев, что к старости обязательно становятся похожи на гномиков, с родимыми пятнами на лбу, с надсадным табачным хрипом и в очках, топорщащихся на длинном с горбинкой носу. Будущий дедушка-раздолбай, обожающий всех на свете женщин, а больше всего – свою вечную невесту и лазанью, Эмануэле стал самым прикольным Рикушиным другом. Они познакомились при чрезвычайных обстоятельствах, в дни, когда Рики выдыхала чесночный запах Тигриной достачи: сколько не натирай рот зубной пастой, сколько ни полощи – все не избавиться. Она тупо сидела на каменной ограде в центре крошечного лигурийского городка, в самом живом его месте - на парковке, самонадеянно провозгласившей себя автобусной станцией. С отвращением созерцала горные пейзажи. «Они мне идут!» – восклицала она три дня назад. А теперь их хотелось резко содрать и выбросить в урну. С дороги то и дело соскальзывали, как разноцветные жуки, быстрые мотороллеры, сплошь засиженные чернявыми барышнями. У них позади была трасса на Рим, а впереди ждал ужин. Девчонки ехали с моря или с работы. Глядя на Рики из-за мушиных очков, они чуть из джинсов не повыпрыгивали. Сплетня об украинцах в этом итальянском поселке лидировала во всех хит-парадах. Раньше бы Рики плевала на них: подумаешь, поучились бы в ее универе, узнали бы тогда, что такое сплетни. Но сейчас, когда даже горы раздражали, все любопытные девушки-мухи приговаривались к расстрелу. Стрелять было нечем. А тут еще какой-то придурок, притормозил вереницу ветреных, жужжащих макаронников, кинул свой самокат и бросился к Рики с воплями: «Ucraina! Ucraina!». В голове Рики, как в последний раз, пронеслись строчки из Некрасова. Она медленно поднялась с камня, встала, возвышаясь, над распахнувшими рты, замершими в своих повозках итальянцами, и крепко сжала кулак. Она видела лишь приближающуюся бриллиантовую улыбку на темном, красивом лице. Вот эту улыбку она приготовилась убить. Но придурок оказался проворным. Парень подскочил к ней гораздо быстрее, чем она рассчитывала, обхватил ее за ноги, поднял стоймя, стащил с ограды и закружил. При этом он умудрялся то и дело оглядываться на друзей и верещать: «Ucraina! Ucraina!». У Рики не хватало на него зла. «Поставь меня на землю! - рычала она себе под нос. – Макаронник хренов!» До парня будто бы дошло. Он аккуратно поставил Рики на газон. Откуда-то из-под ног залаяли собаки – владельцы газона. Лаяли на итальянском, Рики сделала вид, что не поняла. Парень тем временем тарахтел: - Sei da Ucraina! Che carina bambina! Come stai? Che cosa? Non capisco! Ragazzi! Questa ragazza ucraina, costa e brava, pensa che “capisco” è la parola erotica! Он цепко держал ее за руку. Он был невысокий, но крепкий. И другой рукой набирал номер мобильного. Он все делал стремительно. Он орал в телефон что-то на тему «Я поймал в Апеннинах украинскую девушку, сейчас она скажет тебе пару слов!». Он больно прикладывал трубку к уху Рики, и она, зеленея от злости, от души выражалась в нее на языке своей далекой родины. Сие зрелище созерцали мерзкие дружки итальянского наглеца, зависшие, словно в «Море волнуется» на счет «три», с открытыми жевальниками. Минут через десять-пятнадцать он окончил обзвон друзей и, довольный, сунул трубку в карман. Но отлипать не собирался. Заглянул Рики в глаза, улыбнулся и обнял ее за плечи: - Mi chiamo Emanuele! - Sono felice! – прошипела Рики. - Sei comunista? – не унимался придурок. – So che da voi ci sono comunisti molti! Eh, ragazzi! Questa signorina simpatica e comunista! Сегодня, заметила Рики, ей категорически перестали нравиться клоуны. Она резко отдернула руку, плюнула крикуну под ноги и пошла восвояси. Начинать междоусобную войну не было смысла – все равно здесь она чужая и одна. А этот, если будет еще орать, ответит… Он быстро догнал ее на своем драндулете (ему пришлось долго объезжать большую лужайку, и он волновался). Его дружки прожужжали мимо. - Scusami! Senti! - Что еще? – Рики остановилась. (Трепятся по-итальянски). - Мне кажется, тебе было неприятно говорить со мной. Извини, это я виноват. Может быть, у вас – не все коммунисты. Просто здесь это, в какой-то мере, среди молодежи популярно, вот я и спросил. Прости, пожалуйста. Если ты не спешишь, поехали сейчас со мной. Я направляюсь в бар «Рондо», там я работаю по вечерам и целую субботу. Там собирается вся наша компания. Я надеюсь, тебе будет нескучно посидеть с нами за пивом и поболтать немного. - Говори медленнее! – Рики уселась позади него на кожаное сиденье, и они понеслись, подпрыгивая на брусчатке старинной мощеной улочки, в «Рондо». *** К встрече с Эмануэле следовало морально подготовиться. Он учился на инженера, но был подкован во многих вопросах, обожал историю, мог до бесконечности расспрашивать о культуре и истории Украины, о Шеве и украинской лингвистике – в общем, был неизлечимым почемучкой. Его интересовали любые мелочи: почему, например, в итальянском имя его лучшего друга Владимира никак не сокращают, а в украинском и русском сокращений полно? Почему того усатого дядьку, нарисованного на полотенце, называют также, как и его, почемучки, любимого футболиста? Почему украинцы, когда оказываются за границей, рассказывая о своей культуре, говорят лишь об этом усатом дядьке на полотенце, Чернобыле и дарят русских матрешек? На каждые пять минут общения у Эмануэле были заготовлены десятки «почему». Как ему объяснишь, что она полгода уже не пишет в газеты и вообще не работает по специальности? Как объяснить, что она делает по жизни только то, что ей хочется? Эмануэле, обычно, сначала много расспрашивал за жисть, а потом делал свой любимый пассаж: - Ну вот видишь, я же говорил, что ничего не понимаю об обществе! В этот момент Рики ненавидела его всеми фибрами души: вот, налицо осточертевший синдром кэпэишника, независимо от того, из какого он политеха – украинского, итальянского… Кэпэишник – он и в Африке кэпэишник. Они сидели в уютном деревянном «Сундуке» на бульваре и грелись горячим фирменным грогом. - Двадцать раз повторю, как я счастлив тебя видеть! – восклицал Эмануэле. Его темперамент был горячее грога. Рики улыбалась. - Но я все же не понимаю, откуда такие проблемы? У тебя хороший диплом, с ним, наверное, нетрудно устроиться на работу, - продолжал он. Рики улыбалась. - Да, я понимаю, у вас такая страна. Плохая свобода слова. Коррупция. Бедность. Но ты не переживай! Ты должна знать, что у нас жизнь тоже не сахар, очень дорогая. Я донашиваю вещи своего кузена! Наш президент, к твоему сведению, очень богат – ну, ты понимаешь! – и его политика хороша только для таких, как он. А я ничего в этом не шарю, изо дня в день пашу на автостанции, а потом в «Рондо». Рики улыбалась. «Ах ты свинья малая! Ты бы рассказал о том, что живешь в небольшом дворце – да, я понимаю, старинный такой, готический, ремонт сделать бы надо, гараж достроить, а то в вашей семье всего три автомобиля, и один из них, твой, уже год ночует во дворе под навесом… И у бабушки твоей пенсия в две штуки баксюков…» Лучше промолчать. Он все равно ничего не поймет. - Но ты! У тебя же диплом! – продолжал Эмануэле. - Университет! Почему ты не работаешь как журналист? Тебе не нравится твоя специальность? Рики улыбалась. - Слушай, я знаю, твои подружки из универа работают не по специальности. Продавцами. На учебу их устраивали родители. И девчонкам не нравится их профессия. И им все равно. Но тебе ведь не все равно! Ты же хотела этот диплом! - Что хотела, то получила. – Рики, наконец, надоело тупо улыбаться. - Знаешь, что такое развод? - О-о, это ужас! Это очень нехорошо! Это проблемы! Алименты! - Так вот, с журналистикой я развелась. Слава Богу, пока обходится без алиментов. Но у нас пока что первый этап бракоразводного процесса. Тот, что в Италии называется “separato”. Какое-то время мы с журналистикой поживем раздельно. - А-а, понимаю, у вас еще не исчезли чувства! – Эмануэле, улыбаясь, сделал большой глоток грога. – Ой, он горячий и крепкий! - Осторожно, Эмануэле, там же коньяк! Да, ты правильно понимаешь. Я свою профессию очень люблю. Но мое существование в ней исчерпало само себя. Так бывает: у кого-то из двух происходит надрыв. В таком случае, лучше разойтись. Может быть, пройдет время, и возникнут новые стимулы, новые мотивы и амбиции. А может быть, окажется, что журналистика была всего лишь этапом. – Рики бросила в бокал яркий лимон. - Ты сумасшедшая! Что значит «этапом»? Ведь это же твоя специальность! Это твой допуск к нормальному существованию в вашем социуме! – Почти некурящий Эмануэле потянулся за сигаретой. – Кстати, я привез тебе твой любимый «Kim». Он вытащил из сумки блок сигарет и протянул Рики. - О, Эмануэле, за «Kim» - тысячу спасибо. – Рики вытянула сигарету из пачки и щелкнула зажигалкой. - Просто, понимаешь, со мной что-то произошло. Меня не спасли ни лето, ни всяческие моря, ни книги, ни мечты. Моя давняя привычка – наследство детства - ходить перед собой «по струнке» призывала уговаривать себя, что ничего не случилось, что все неприятное пройдет, как белых яблонь дым. Что это все – из-за плохой погоды. Но это не прошло. И вот теперь я думаю: нормальная ли я? Чем больше думаю, тем ответ отрицательней. Десять лет я печаталась, список моих должностей превышает две печатных страницы, и училась я на совесть. Знаю на память кучу теорий, могу создать любой текст с любыми вводными, так, что никто не придерется. Но я оставила журналистике шкатулку с фотографиями и неотъемлемое право на другую любовь. Ушла от нее, как душа уходит из тела. Ушла не специально, вдруг. Просто так не могло больше продолжаться. Но я не могу ненавидеть ее. Я не могу забыть ее. Я могу только лишь ее любить. - Как любила Тигру? - Как и свою личную жизнь – такую же стервозную, как журналистика, и такую же экстремальную, – продолжала Рики разговор, выкуривая сигарету за сигаретой. - Но только эта любовь безответна. Вокруг меня – мой город, мой мир. Я знаю все об этом мире, ну или почти все. Все они здесь - мимо меня, и они живут, и им хорошо. Без меня. Жизнь идет – без меня. Земля крутится – без меня. Понимаешь? - Наверное, нет… *** Впрочем, в понимании с его стороны она не нуждалась. Все давным-давно уже было решено и себе объяснено. Лия когда-то бесстыдно избавила ее, Рики, и от страха, и от позора. - Понимаешь, в тебе все через край льется, - говорила Лия. – Жизнь бурлит, реальная, твоя жизнь, со всем, о чем можно только мечтать и с тем, чего другие избегают, как только не ухищряясь: с любовью, со шрамами на руках, с приключениями, с трагедиями, со стихами, с мордобоями, с вагонами чувства и ума и еще тележкой цинизма и холодной расчетливости. Все в тебе бурлит, выливается, течет потоком, а ты стоишь и смотришь. - Ну да, потому что я все это понимаю. - Конечно, понимаешь, в том-то и дело, что ты все понимаешь. Ты будешь, как философ, умирая, рассказывать друзьям о своих впечатлениях. Причем сначала проинформируешь, потом проанализируешь, а после, если успеешь, еще и в образах воплотишь. Эпитетами и метафорами. - Это плохо? - Когда я только познакомилась с тобой, была уверена, что да. Меня раздражала твоя идиотская способность понимать, что ты могла бы быть счастлива, уже после того, как момент счастья пролетел мимо. Я думала, что все в твоей жизни пролетает мимо. А потом уже до меня дошло, что это у тебя инстинкт самосохранения срабатывает. Если бы ты жила всем, что предлагает тебе каждый миг твоей жизни, ты бы лопнула от ее переизбытка. Знаешь, как галактики взрываются: мне кажется, что от переизбытка самих себя. Каждую минуту ты оказываешься сразу в нескольких параллельных мирах, испытываешь мириады разнообразных эмоций и в каждой умудряешься давать себе отчет. Мне казалось, что ты просто никчемная фантазерка. Но потом была просто поражена: вся эта твоя жизнь реализуется, постоянно воплощается в какие-то формы, которые, появившись, тут же начинают изменять все вокруг, уже без твоего ведома. А ты и это понимаешь! И каждый миг наполняешь только самые интересные из созданных тобою форм! Я таких людей и раньше видела, но они были мне очень объяснимы: у каждого из них где-то вовне всегда имелась мощная батарейка. А у тебя батарейка внутри! Ты – сама себе блок питания. Поэтому, как мне кажется, тебе никогда не может быть с самой собой скучно. - Правда. - И я поняла, что вовсе ты не фантазерка. Наоборот, циничнее и рациональнее человека – еще поискать. Ты не придумываешь ничего. Просто ты все чувствуешь, и свое, и чужое, словно свое. Твои чувства, как ожоги, у тебя прямо на коже. Импульс любого характера моментально вызывает реакцию. Каждый миг ты проживаешь десятки разных жизней, неизвестно, кому приписанных, и при этом вполне продуктивно живешь своей собственной. - А у тебя разве не так? - Нет, у меня не так. Я не умею так понимать, как ты. Еще не научилась. И я постоянно пытаюсь в чем-то разобраться, потом мне это надоедает, и я пугаюсь. А чтобы не бояться, мне необходимы чьи-нибудь чувства. Хорошо, когда они под рукой. Но если их нет, я иду искать. И быстро их нахожу. Но мне это все не нравится: понимаешь, мне главное – не бояться, а для этого нужно всего ничего – чтобы кто-то все время был рядом, был ко мне привязан. Потому, первым делом, мне необходимо как можно быстрее выйти замуж и родить ребенка. Либо родить ребенка и затем выйти замуж. Это неважно. Правда, со временем возникнут проблемы: ведь мне не нужен муж, мне нужны его чувства. И от ребенка – неплохой, кстати, возможности выразить себя, очень нужны чувства! У меня хватит ума не думать, чтобы жить одними чувствами, и чтобы муж мог жить одними чувствами – тогда они долго не умрут, а мне удастся долго жить без страха. Но если, все же, за всеми этими чувствами мой муж будет пытаться отыскать меня, а ребенок подрастет и станет отдавать свои чувства другим, мне придется нелегко. Я непременно вновь пойду на охоту. - Но это же означает, что ты никого не любишь. - Нет, отчего же? Люблю. Очень люблю – саму себя. А что ж ты хочешь, – у меня внутри нет батарейки! - Ничего подобного. Есть она, ты просто не знаешь… - А вот на этом, Рики, давай прекратим. Я знаю: сейчас ты за пять минут наведешь в моей душе глянец и лоск, перетасуешь все точки сборок и с чувством выполненного долга будешь пить пиво. А мне будет каково? Может быть, ты даже отыщешь где-нибудь у меня в аппендиксе завалящую пальчиковую батарейку. Ну, может, и была она у меня когда-то, в младенчестве. Но давным-давно уже села. Приходится подпитываться из других источников. Так что не старайся. Поверь, мне моей зарядки хватает на то, чтобы чувствовать немножко. Родители, отпуск на море, новый любовник, моя кошка… Достаточно, на самом деле, чувств и для моей жизни. На что мне их тратить? На то, чтобы котлеты пожарить? Эмоции – это для тебя хорошо, а для меня это – лишнее. Быстро садятся аккумуляторы, понимаешь? - Но ты же не только котлеты жаришь. Ты музыку пишешь, рисуешь… - Да, на это чувств требуется побольше. Но, поверь, одного не слишком затяжного романа с сопливым расставанием в конце вполне достаточно для хорошей картины! Картину или мелодию потом продашь, и снова себе спокойно котлеты жаришь. Пока деньги не закончатся. Да что я тебе рассказываю: ты так никогда не сумеешь! - И это плохо, да? - Сама знаешь, чего спрашиваешь?! Хорошо, конечно! Только я тебе этого не говорила. Такие люди, как я, этого никогда не признают. - Почему? - Ну, знаешь, анамнез: комплексы – из детства, стереотипы – из юности, смерть – из старости. Ведь смерть – это тоже наш комплекс. Всего только детский комплекс. «Раз вы меня родили и жить заставили, я о смерти забуду, вот так!» И забываем. А потом узнаем о чьей-нибудь, и начинаем комплексовать. - Из-за меня, если что, комплексовать не надо! - Это и так ясно. Из-за твоей придется сутками в церкви торчать: твоей душеньке, видите ли, это понравится. - Да, конечно. Ну так а почему такие люди, как ты, не признаются, что я – не отстой? Причем тут комплексы? - А притом, что такие, как я, Бога не знают. А значит, не знают и самих себя. - Да ладно, мы все из мира приходим и в храме, как мертвые, стоим. - Только не дети, Рики! А ты – дитё! *** До сессии Рики больше не появлялась в институте, – это было так на нее похоже. Потом занималась выискиванием по инсту преподов, к которым на экзамен она опоздала или в назначенную дату не пришла. А затем уже было лето. Киев летом ужасен: пыль и сухой воздух застревают в каждой клеточке тела, останавливают всякое движение, всякое стремление. Но Рики давно привыкла к такому лету и особенно не задумывалась о том, как уберечь себя от тупого надоедливого зноя. Просто гуляла по улицам, тусовалась в кафешках, дневала в библиотеках и думала о своём, о женском. Вот в такие скучноватые дни и появился Тигра. Он позвонил сам, ни с того ни с сего, как это часто бывало. Теперь они сидели на балконе Рикушиной съемной квартиры, глядя на вечереющее небо, исчерченное визгливыми полетами ласточек, потягивали вермут с соком и говорили. Рики вообще умела говорить не со многими. Таким людям, как она, слова даются трудно: на людях фонтанируешь, смеешься и болтаешь, но мечтаешь остаться наедине с собой очень надолго, чтобы ощущать только себя и свою любовь, и свое внутреннее молчание. Но Тигра - он уникален - тем, что он провидел все, что творилось в душе Рики, все, что бы она ни думала и ни произносила, даже когда она сама не совсем давала себе отчет в нужности такого разговора. Тигра знал всю судьбу Рики, и никогда не подверг бы сомнению те ее внутренние состояния, которые составляли её; уникальность, и которые он так любил в ней, как и ее всю. Он знал о её; прошлых одиночествах и сознавал теперешние, а других таких людей, в полноте, в жизни Рики не было. - Помнишь, когда-то давно, когда мы валялись на берегу моря, ты сказала, что чувствуешь, как твоя душа уходит в иной мир? - спросил Тигра в продолжение какого-то разговора, завязавшегося между ними. - Ты и теперь это ощущаешь? Глаза Рики унеслись в небо. - Да, это со мной много лет. Мне кажется часто, что большая часть меня живет там, в ином мире, который я ощущаю, поэтому я все время хочу говорить с Богом. - Когда ты так думаешь, мне хочется обнять тебя, чтобы знать, что ты все же здесь, со мной, и я могу тебя защитить. - Как романтично! Но знаешь, Тигра, смешно так думать, и защищать меня не нужно. Это состояние касается только меня, кроме того, оно не страшное. Просто глупо бояться того, что пережили миллиарды людей - все они уходят рано или поздно в иной мир, и думаю, все оттуда возвращаются. И когда чувствуешь, что впереди – много времени, принадлежащего тебе, а часы, отведенные на земную жизнь, могут стать как неоценимыми, так и бесполезными, ощущаешь все в иной плоскости - Но я же тебя люблю! Рики обняла колени руками и склонила на них голову. - Ну и что? Я сама всегда хочу дать тебе больше, чем могу. Дело ведь не в том, что ты меня любишь. Пусть ты просто так это произносишь, или думаешь, что любишь, или сам когда-нибудь поймешь, что заблуждался или разлюбил, или просто врал. Смешно ожидать от любимого существа ответной любви. Главное, чтобы моё сердце доносило до тебя то, что пытается каждую секунду - каждым сокращением. Тигра затянулся сигаретой. Тяжело было с ней. Он знал, что если сейчас попробует проявить все те чувства, которые жили в нем, Рики может отреагировать совершенно необъяснимо. Скорее всего, поднимется со своего берёзового пенька и уйдет. - Рики, слушай, а чего именно ты хочешь дать мне больше, чем можешь? Рики удивленно пожала плечами. - Речь идет о чувствах, наверное. Я сама не знаю, чего я хочу. А вот то, что реально даю – знаю: себя. - Ты не боишься, что мне наскучишь? Ты – красивая, чувственная девочка, но не более чем. – Тигра исподлобья глянул на нее. - Нет, не боюсь. Но, наверное, ты слишком мало приобретаешь от жизни со мной. - Не, можно и о выгоде в отношениях поговорить, конечно. Но я не об этом. Мне важно, чтобы ты понимала: ты очень потенциальна. Ты пытаешься давать мне то, чего в тебе еще не случилось, но со временем свершится обязательно. «Мы еще запоем и запишем, как не знал и не ведал никто…» - Да, ты очень прав… Вообще, он боялся ее. Она ему не нравилась. Он опасался чего-то в ней, чего - и сам не знал. Рики – из тех женщин, с которыми мужчинам серьезные отношения противопоказаны. Таких женщин, как она, все время хочется бросить, а бросать их нельзя, потому что не любить таких женщин, кажется, невозможно. Тигра безумно боялся, что она привяжет его к себе. Но время шло, а она так и не закатила ему ни одной истерики из-за того, что он вовремя не позвонил/не подарил весенних цветов в первый же день их появления в руках бабушек из подземелий/отправился на встречу с другом или на свою конченую репетицию, а о Рики забыл/приперся к ней на день рожденья, в то время как она собиралась спать целый день/что он ее не любит. Вскоре он осмелел и стал пробовать свою свободу на прочность. Сознательно не звонил, чтобы посмотреть, что будет, капризничал в самый неподходящий момент, даже телевизор включал, когда Рики, свернувшись в кресле, читала книжку. Но она не обращала внимания. При этом сам он ее невнимания к себе не ощущал. Рики повсюду было очень много. Она была, как мороженое: только привыкнешь к сладкому холоду, войдешь во вкус – как оно уже закончилось, и хочется купить еще. Но останавливает боязнь простудиться. Тигра понимал, что разгадка шарады кроется в степени его провокационного поведения. Все просто и банально: Рики нельзя выводить из себя. У нее ангельское терпение, но характер испорченный и местами неадекватный. “За измену тебя ждет истерика – с опухшим лицом, поросячим визгом и выпрыгивающими из моего рта лягушками!” – говорила Рики. Этому бы он не удивился. Но и не удивился бы, если б за измену ему ничего не было. Тумблеры у Рики имели способность переключаться хаотично: она могла на полуслове прервать нецензурную ссору и пойти готовить ужин. И если б кто-то ей об этой ссоре напомнил, она бы даже не поняла, о чем, вообще, идет речь. - А если так, реально на все посмотреть, без проекций – так мне от тебя вообще ничего не достается. Так, мелочёвка, любовь-морковь, то, что можно получить повсюду. Но, поверь, мне в тебе не функциональность твоя интересна, а именно ты, без порывов, без амбиций, без сумасшествий. Это если уж быть честным до конца. - Я напрягаю тебя? - Скорее да, чем нет. Но, я надеюсь, ты это перерастёшь. - И ты согласен ждать? Ты согласен терпеть всё это? - Я уже привык к тому, что ты портишь мне жизнь. - Я порчу тебе жизнь, Тигра, только потому, что тебе это очень нравится. Шло время, а Рики оставалась ребенком. И Тигра уже знал, что ошибку совершают те, кто считает своим долгом ее нянчить, заботиться о ней, воспитывать и всякими другими способами мешать ей жить. Однозначно лишь то, что она не была полноценной женщиной – и была больше, чем Женщина. Что-то в ней недоразвилось, а чего-то, наоборот, было слишком. Она была гранями сразу нескольких стереотипов – и ни единым из них. В тот момент, когда Тигра был уже убежден, что она – из тех женщин, которые на следующий день после знакомства приезжают к любовнику с чемоданами, Рики исчезала из его жизни на несколько недель. После того, как накануне на вечеринке он флиртовал со всеми девушками вокруг и с каждой поочереди, она даже не понимала, отчего он так загадочно и выжидающе на нее поглядывает. Будто скандала ждет. Странный какойто! Тигра никогда не вдавался в подробности насчет своих увлечений, но провоцировать Рики пытался. Она была равнодушна к любым его изменам – и реальным, и гипотетическим. Он чувствовал: она была с ним - и не с ним. - Тигра, ты ведь меня ломаешь. – Рики умиротворенно любовалась ласточками. - Это как же? - Ты принимаешь меня полностью, такой, какая я есть – кстати, об этом ты знаешь гораздо больше меня самой. И ты знаешь, что та я, которая есть – это еще далеко не всё, и знаешь, что я буду другой. И категорически не хочешь принимать меня другую. Ту, будущую. Ты не хочешь, чтобы я случилась. - Наверное, так и есть. - Но, Тигра, я обязательно отыщу моё несвершившееся, я обязательно произойду. Оказывается, ты пытаешься мне помешать. - Особо не пытаюсь. Наблюдаю просто. Думаю, тебе будет проще навсегда остаться со мной. Ты поймешь это вскоре. По крайней мере, я почти в этом не сомневаюсь. Но на самом деле, он боялся ее, потому что понимал ее всю – и не мог разобраться, что же ей нужно. Она была данностью, стремительным потоком горной реки, вихрем, послушно замиравшим, как котенок, в лучах горячего солнца. Она не обсуждалась, не поддавалась описаниям и анализу. В редкие дни, когда к ней подходил ее гороскоп, она неизменно чувствовала себя больной. Она постоянно ходила по краю. Все люди как люди, а она и жила там, на краю. Он о таких только в песнях слышал. Предположить, что у него такая же заведется, он не мог, несмотря на то, что был рокнролльщиком. “Рики сама – сплошной рок-н-ролл, только какой-то неправильный” – думал он. Тигра уже научился слышать ее самые тонкие состояния - когда она почти не существовала здесь, когда все ее тайны проявлялись в свете ее глаз, в доброте улыбки, в печальных отзвуках тихого смеха. Тигра вспомнил, как в детстве читал повесть о маленькой девочке Ульяне, которая спала с полузакрытыми глазами, и соседи предсказывали скорую ее смерть. «Закрывает ли Рики глаза, когда спит?» - удивленно спросил себя Тигра. «Кажется, я становлюсь таким же ненормальным, как и некоторые!» - печально улыбнулся он. *** Не может быть одновременно столько любовей, чтобы было легко, когда они все вместе все-таки случаются. Был сентябрь. Тигра уехал в тур. Рики бродила по улицам одна, растворяясь в музыке, которую слушала постоянно. Женские вздохи, «Ночные снайперы». Лия ей, к сожалению, нигде не встречалась. Рики уже несколько дней заходила в Интернет-клуб, чтобы открыть страничку с необходимым адресом. Но она вводила в окошечко номер телефона - и на странице неизменно появлялся ненавистный "еггог". И вот, сегодня ей, похоже, повезло. «Белые люди в темных аллеях – Зачем вы тут?..» Она запомнила адрес и отправилась искать маршрутку. «Белые люди в темных аллеях, как вас немного тут. Необъяснимо, на воскресенье нелепо выпал карающий снег…» Рики пыталась ругать себя за глупости, которые все не уставала вытворять: как в детстве, ехать в самый дальний район города, чтобы отыскать Дом и покурить где-нибудь невдалеке на скамеечке, а потом уйти, и печально бродить по берегу реки, слушая разговоры звезд. Одно дело, когда вытворяешь такое в двенадцать лет, и совсем другое, когда ты уже давно вышел из детского возраста. Но Рики была благодарна Рики-двенадцатилетней за то, что та научила ее, как чувствовать в случае безнадежной влюбленности. Рики прошла по проспекту в самый конец массива, и, плутая дворами, отыскала Дом. Он был девятиэтажный и очень длинный. Она сама жила почти в таком же, только в другом конце города. У Рики дух захватывало: она прикоснулась, как к краешку легкого платья, к иной жизни, о которой она ничего не знала и знала больше всех, потому что чувствовала ее всеми фибрами души, всеми клеточками своего тела. Она представляла, как Лия выходит из этого парадного утром и как идет по плиточной дорожке вечером. Как, сидя на подоконнике, смотрит в небо. Как пишет в этих стенах за компьютером свои стихи и рассказы, которые она наверняка пишет. Рики сидела на поваленном дереве и задумчиво рассматривала дом, пытаясь угадать, где же окна Лии. Закурила сигарету. Рики думала о том, что с ней происходит. Теперь она ясно поняла и ощутила, что такое любовь к ближнему. Ничего не стоило влюбиться и надеяться на взаимность. Но Рики воспринимала все совсем не так. Она любила: «Я тебя чувствую, так почувствуй же и ты, как я!», - Достоевский уже все давно за нее сказал словами ее обожаемой Неточки Незвановой, ближайшей ее детской подружки и верного товарища, молча когда-то сочувствовавшего ее таким острым, таким сильным переживаниям и ощущениям. *** Вот уже полчаса, как Лия боялась пошевельнуться за шторой. Ей казалось, что она свихнулась: она ясно видела во дворе дома Рики, сидящую на поваленном дереве и затягивающуюся неизменной сигаретой. Лия уже почти поверила, что ей Рики не приглючилась, но что она здесь делает и как реагировать, Лия не знала. Эта томящая невысказанность, возникающая между двумя людьми, ощущалась, словно прозрачная пелена в воздухе, через которую ВСЕ видно и которую можно стянуть одним рывком, только лишь протянув руку. Но объясняться было страшно, как переходить пропасть по висячему мосту. Лия, пересилив себя, отошла от окна и села на край дивана, обхватив голову руками. Душа задыхалась и хотела наружу. «Если ты сейчас же не выйдешь на улицу, я выпрыгну туда через окно!» - угрожала душа. «Фиг с тобой! Позорься!». Лия поднялась и открыла входную дверь. В один миг она очутилась внизу. Но на поваленном дереве уже никого не было. *** В Киеве капуччино так вкусно, как в Италии, делать не умеют. Но Сара пила уже третью чашку – никак не могла согреться. Виктор Ильич одобрительно посматривал на нее исподлобья. Пальто она не сняла – чуть выше колена, оно напоминало драповый пиджак. Худенькая, очень загорелая шея торчала еле из намотанного огромного шерстяного шарфа. Короткие волосы цвета вороньего крыла – да вообще она вся была так похожа на цыганку. И говорит с акцентом… Саре очень нравился этот спокойный, красивый пожилой мужчина, который то и дело поглаживал свою старомодную бородку и хитро посматривал на нее. Ей дома приходилось слышать, что этим русским лучше не доверять. Но тут – l’occasione! Просто невероятный случай. - Я совсем не знаю город, – говорила она. - Я приехала вчера и остановилась в гостинице. Но как здесь найти человека, если знаешь о нем только его имя? У вас ни справочников с телефонами всех жителей города, ничего толкового! Я знала только, что Рики окончила университет. Ну, я пришла к её институту. Там у дверей тусовались ребята – я стала спрашивать их, не знают ли они Рики. Кто-то был знаком с ней, помог найти номер ее мобильного. Хотела ее адрес еще попросить, не ребята сказали, что она живет уже где-то в другом месте. Я же не знаю, что у нее тут за жизнь – может быть, она замужем, может быть, еще что? Но я сразу же позвонила, услышала голос Рики – чуть с ума не сошла от счастья. - И что? Что она тебе сказала? - Рики, узнав, что я в Киеве, согласилась встретиться, - расстроенно продолжала Сара. - Сказала, что приедет через час в «Бродячую собаку». Я отправилась в этот бар и там дожидалась ее. Она приехала. Я ее очень просила вернуться, но она довольно грубо сказала, что не хочет жить в Италии. Говорила, что очень устала, что ей все надоело. Я понимаю ее, вы не думайте, но так, как она, может рассуждать человек, которому все опостылело в жизни, которому сама жизнь не мила. Я испугалась за нее. Знаете, она как мертвая. Будто бы давно уже ничего не чувствует, словно жизни в ней совсем нет. «Что же с ней произошло?» – Виктор Ильич положил обе руки на стол и наклонился всем туловищем, заглянув сидящей напротив Саре в самую-самую душу. Он, услышав рассказ этой чудной итальянской девочки, испугался не на шутку. У него очень болела душа за Рики. *** «Я влюбилась в тебя потому, что ты была из параллельного мира. И в тебе все было параллельно. И тебе все было параллельно. Даже я. Ты была маленькой Че Геваррой, с двумя куцыми рыженькими косичками, в черных гриндерсах, которые тебе очень шли, и старенькой, с облезшим лаком, гитарой. Благодаря тебе, я сейчас могу петь, аккомпанировать на гитаре и играть на аккордеоне. Потому что до тебя я была безголосой и тормознутой в плане восприятия музыкальных звуков. А возможно, и всех остальных. Ты взорвала мой мир и на развалинах построила новый. Спасибо, конечно. По крайней мере, теперь я знаю, что мой мир всегда можно развалять и переделать иначе. Даже не спрашивая у меня разрешения. Мне кажется, это экстрим. Ты рассказывала мне, как придумывать революции. Например, на семинаре тебе поставили обидную тройку «за недостаточную спонтанность». Ты неприлично надолго задумалась над написанием какого-то слова, чего обычно с тобой не случалось. А тут как сглазил кто. Тебе нравились революции. Ты сидела за первой партой, как всегда, на своем любимом месте – перед носом у препода. Чтобы он тебя увидел. Потому что еще шансов увидеть тебя на семинарах у него не было. Разве что ты явилась бы на экзамен за своей неизменной четверкой. Там, где ты пробегала, зацветали цветы, начинавшие дико танцевать под “common everybody, danсing tonight”. Там, где ты появлялась, вяли преподаватели. Они долго наблюдали за твоими попытками вспомнить вылетевшее слово и хитро щурились. Молчали. Потом шли по материалу дальше, и работы проверяли, когда семинары подходили к концу. Всем ехидно называли их оценки, кроме, естественно, твоей. Твою работу они брали в руки торжественно, с чувством, с толком, с расстановкой. - Так як ви все ж вважаєте, як пишеться фраза “Моя хата з краю”? – спрашивали они тебя. А ты любила устраивать ревоюции. Ты рисовала в тетрадке креветок. Тебе, вообще-то, казалось, что «з краю» – это наречие, и писать его нужно слитно. Зачем издеваться, спрашивается, если и так понятно, что ты не знаешь? На тройки тебе было плевать, конечно. Хуже другое: что до преподов просто не доходит, как человек может, не зная написания подобной фразы, сметь жить и даже являться в инст на семинары! Ты же являлась, не обращая внимания на эти преподские приколы. Но они провоцировали все новые и новые ситуации. За шутками, поблажками, побасенками и хитрыми улыбками крылось их непреодолимое, неосознанное, первобытное презрение к тебе такой и тебе подобным. - Москальська дитина! – говорили они. И на этом ставили точку и, в лучшем случае, четверку за курс. Откуда родом, Откуда родом? Это Бог перед порогом Твой барадак Такнцует маленький цветок… На других планетах к ужину тебя не ждали. Над тобой зависла серая туча, которая грозила безрадостной судьбой, и в самый неожиданный момент обещала разразиться ливнем, градом, снегом, Божей яростью за то, что ты – русский ребенок. Туча не «светилась», у деканата и на кафедрах обычно было солнечно. Туча выглядывала из-за углов внезапно, говорила «гав!», подстерегала в институтских кафешках, подглядывала в окно в момент сдачи контрольных работ… Из тучи накрапывало в редакторских кабинетах украиноязычных газет, когда тебя усаживали на стул, и гостеприимно поили зеленым чаем, который ты терпеть не могла. В этих газетах тебя по нескольку лет ценили и поили чаем.. Твои тексты везде печатали, потому что не печатать их мог только дурак. Редактора не хотели быть дураками, печатали и продолжали поить тебя чаем. Ты догадывалась, что так и состаришься в этих вечных гостях. У тебя развивалась паранойя. На самом деле, ты безумно боялась туч. Что-то должно было в стране произойти. Ну не могла ты так, раненое дитя Севера, работать с утра до ночи, зная, что не случится отклика на твой труд. Что-то должно было измениться, чтобы все люди, живущие здесь, стали чувствовать себя иначе. Так, чтобы в любом магазине, в любом кафе хотелось первой сказать продавцу или официантке «здравствуйте», и услышать улыбчивый ответ. Должна, должна, наконец, Божья благодать снизойти на эту землю. Ты выбегала на переменах из инста, покурить и потрепаться с друзьями. Друзья были контрактниками и детьми преподов. Они не были Че Геваррами. Они не были даже собой, в промежутке от сессии до сессии делая вид, что они – как бы и не дети преподов. Тебя дружно жалели и советовали: «Задвинь!» Да блин, ты задвигала уже четвертый год! Ну не привыкать же тебе гоняться за пятерками и статусом лучшей ученицы! Только я знала, что именно это и было твоей стратегической ошибкой: по идее, ты должна была из шкуры вон лезть, становиться лучшей из лучших, доказывать свою “сознательность”, а не проводить на парах сравнительный анализ особенностей национального менталитета, который не анализировать, а хвалить было нужно. Но ты не желала тратить на это свою молодую жизнь. Тебе хотелось, чтобы все вокруг тебя танцевало под “common everybody” всегда. Тебя ставили на беговую дорожку. Но после свистка все срывались с места, а тебя кто-то осторожно, сзади, придерживал за рукав… Постой, мол, зачем бежать – еще успеешь! Прозрачный до незаметности стеклянный колпак, под которым ты жила, под которым все и танцевало под “common everybody”, исчезал лишь на любимых твоих занятиях по специальности. Бывало, он случайно разбивался и на других семинарах, когда какой-нибудь препод, увлекшись по доброте душевной рассказами о своей давней армейской службе, открыто проявлял свою шовинистическую сущность, и сам не замечая как, вдруг разражался витиеватыми фразами и смачными эпитетами в адрес сослуживцев-«кацапов». Слава Богу, такие инциденты происходили редко, потому что тогда на семинаре разражалась настоящая война: в твоей группе, кроме тебя, было еще несколько ребят с русскими фамилиями, учившихся на бюджете без «крыши», не друживших между собой, но в «горячих точках» всегда выступавших единым фронтом. В первую очередь, потому, что втыки на экзаменах за «сам не знаю что, не нравишься ты мне», сопровождавшиеся голливудским смайлом, были знакомы вам всем. Защищаться начинали в крайних случаях, когда препод пользовался запрещенными приемами. Вы пытались сказать преподам: «Ребята, давайте жить дружно!» Сам факт подобных споров был вам неприятен, вы, «москальские дети», темой брезговали и не открывали ртов до последнего. Но на тех преподов, которые никак не унимались, чаще всего везло именно тебе и твоей подружке Маруське. По отработанной схеме «добрый и злой» из разных концов аудитории вы отрезвляли заболтавшегося препода, напоминали о толерантности и требовали извинений. К счастью, всегда их получали. После чего не на шутку перепуганный своей разговорчивостью препод еще полчаса вспоминал свою армейскую жизнь, но уже лишь те сюжеты, которые свидетельствовали о крепкой дружбе украинцев и русских. К сожалению, издеватель, посмеявшись всласть, так и не сказал тебе тогда, как правильно писать слово «з краю». А ты очень разозлилась на это слово. Ты вызвала его на дуэль. Ты решила разобрать свою теплую избу и поставить себе хату именно на краю. Я увидела тебя как-то через много лет. Ты танцевала в VIP-зоне под “common everybody, dancing tonight”. Тебе все было параллельно. Однажды, я знаю, уже окончив инст, ты позвонила Маруське в редакцию и спросила ее: «Слушай, как все-таки правильно пишется «Моя хата з краю»? Маруська рассмеялась, крикнула куда-то мимо трубки: «Нинка, как пишется «моя хата з краю»?» и передала тебе, наконец, из третьих рук сотрудницы правильный ответ. Ты сделала его заставкой в своем компьютере. Может быть, когда-нибудь запомнишь». *** Институт окончили весело. На госс группы перетасовали и на их останках создали новые. Народ друг друга, в общем, не знал, и знать не хотел. Было очень скучно, друзья приезжали на экзамены в иные, чем Рики, дни. Подоспела защита. На ней, кроме стеба преподов, Рики ничего не грозило. Получив свою дипломную пятерку, она вышла в весенний двор, наткнулась на свою компанию – почти все с младших курсов. Решили отправиться на пиво – благо, был повод. Однокурсники также разбрелись группками по кафешкам. Праздник выдался серым, как дождь в выходные. Кстати, дождь тоже не заставил себя ждать. Попив с друзьями пива, Рики собралась домой. Ежась в реглане, она мокла на троллейбусной остановке. Мокла старательно: ей ничто не мешало упрятать себя под пустынный козырек. На темном асфальте автомобильные огни жарились, как яичница. Фары выхватывали из темноты Рикино вымокшее лицо и перебрасывали его друг другу, словно мяч. - Девушка, извините, можно, я укрою вас зонтиком? – коротко стриженная белесая барышня в платье поверх синих джинсов взгромоздила над головой Рики большой черный зонт. «Хоть сто порций!» - Рики сглотнула слюну. Пальцы в карманах брюк крепко сжались в кулаки. Душа забилась подальше меж ребер и сдержанно оттуда рычала. Барышня же была вполне симпатичной и весело улыбалась. Скільки можу тобі сказати – Дитя, що шукає розплати За своє зболіле серце, За твої запеклі очі у ньому. Воно, як дитя, не скаже Про саме найпотаємне, І ти цього не дізнаєш Ні в чому. Рикина внешность отвечала такой же ослепительной улыбкой, скромно потупленным взором и вежливой паузой. Ля-ля-фа. На три такта. - Понимаете, спасибо, конечно, но мне очень нравится дождь. И нравится под ним мокнуть, молвила Рики голосом придворной сумасшедшей. Прочувствовала она, видимо, верно: барышни в подобном обличье всегда на такой вот тон ведутся. В нем им чудится проявление некого богемного индивидуализма. Обставить же Рики в практической психологии было трудно. - Вам нравится? Понимаю! – умиленно мяукнула юная леди, и – о, крыса! – немедленно сложила зонтик. Кстати, правильно сделала: дождь-то уже закончился. Они стояли рядом, окруженные темными предчувствиями, их лицами нагло играли в пинг-понг автомобильные фары. Они стояли и тупо улыбались. Осторожненько, по миллиметрику, стали отползать друг от друга. Они друг дружке понравились, но та, которая поактивнее, уразумела, что кадр испорчен, кина не будет, аншлаг отменяется. Главный же клоун был явно не в духе. Ему было по фигу, и он был нетрезв. Барышня отползла к павильону троллейбусной остановки и спряталась под козырьком. Рики села на каменном ограждении, свесив ноги и закурив. Как только ей удалось превысить интимную дистанцию учтивой барышни, душа, осмелев, вылезла из Рикушиных носков. Ни троллейбуса, ни даже маршрутки, как назло, все не было. Рики старалась не смотреть в сторону павильона. Какого черта ее, блин, все жалеют? Ма-аленькая, не-ежненькая, нельзя тебе под дождиком… Рики было тяжело. В ней обитали вполне взрослая девушка и смешной хулиганистый пацан. И они терпеть не могли друг друга, сгорая от обожания. Они терзали Рики на части. Делили ее, как близнецы – клубнику. Отсветы фонарей не отставали от фар, играя в пятнашки у Рики на губах. Улица была совершенно пустой. Все нормальные люди сидели дома. Рики всегда принимала случавшееся как есть. Но бежала от неслучившегося. Она умела безошибочно чувствовать его приближение, она знала его цвет, вкус и запах. Неслучившееся в ее представлении не было чем-то абстрактным. Оно было совершенно четким, но ему в родном Рикушином языке не существовало названия. Хотя, по идее, можно было бы порыться в медицинских справочниках… Она не позволяла неслучившемуся войти в ее жизнь, завладеть всем, узурпировать все, что было нажито непосильным трудом. Она любила это неслучившееся обходить, давая дорогу всевозможным «иначе». Как совершилась ее встреча с барышней на троллейбусной остановке в других временах и пространствах, Рики знала точно. И из всех возможных ракурсов в действительной реальности она выбрала один – самый безопасный, самый непреложный. Рики знала, что неслучившееся хочет завладеть ее свободой, и приняла меры заранее. На этот раз пронесло. Барышня растворилась в ночи, как сахар в молоке, как ее и не было. Перекур. Рикина душа крикнула: «Снято!» Под козырьком, конечно, никого и в помине не было. Рики опечалилась. В троллейбусе, прижавшись щекой к холодному поручню, рассматривала темноту сквозь влажное стекло. Ливень грянул снова. По тротуару, сжимая под мышкой черный зонтик, шлепала грустная юная леди. Мокрая юбка красной тенью облепила синие джинсы. Мокрая печаль стекала по мокрым щекам мокрого троллейбуса. *** Люди – как фотографии. Одни рождаются уже готовыми цветными фотками. Другие – негативами. Третьи – лишь зафиксированны аппаратом на пленке. Рики относила себя к третьим. Лия ее проявила и напечатала. А теперь что? Можно пожить, но время - лимитировано. Рики, словно инвалид – человек, не способный существовать в общем ритме. «Но даже у инвалидов ритм интенсивнее моего! – считала она. – Я не живу почти. Запомните это, мои несбудущиеся дети!» Можно было запросто выпивать любовников, как утреннюю заварку. Заводить долгосрочные любови не было смысла: отношения познавались молниеносно. Аспект отношений вмиг выходил на первый план и становился ясным. (А нашим бабушкам и дедушкам на это требовались десятилетия!) Невыдуманное содержание любви не успевало зародиться, а ментальная всепонятность требовала нового корма. Зачем нужны чувства, если они и так ясны в потенциале? Зачем нужно их появление, если их можно сымитировать, разыграть в лицах и тем самым развить естественные отношения так, как хочется, не полагаясь на волю случая? О «замуж» Рики не думала: отношения с любым гипотетическим мужем исчерпались бы, в наилучшем случае, в течение года. Этот год можно прекрасно прожить и без штампа. Мужчины никак не могли адаптироваться ко все усиливающемуся ментальному полю женщин. Женская логика, провидение, целое мысли и чувства глобализировалась, становилась топливом в цивилизационной машине. И процесс этот, очевидно, был необратим. Мужчины слишком быстро оказывались разгаданными и подчиненными. Те из них, кто по старинке пытался пользоваться силой, не развивая мозги, на глазах превращались в общественный шлак, в тяжелых наркоманов, быков и зеков, наивно полагающих, что это они сами – властители своей судьбы. На самом же деле они быстро превращались в злокачественную опухоль нации, к которой они принадлежали. У их бычек, в противовес, молниеносно развивался кризис чувства. И они точно так же спивалисьскалывались, попадали в места не столь отдаленные. Процесс деградации происходил очень быстро. Каждое поколение становилось эпохой. Но в общем мужчинам ситуёвина нравилось. Это время оказалось для них золотым: наконец-то их перестали ругать за разбросанные носки (герл варит кофе на огне психолингвистических изысканий), за низкие заработки (герл сама зарабатывает и делится, по доброте душевной), за измены (герл сама стремится к разнообразию). Великий период в украинской истории: расцвет мужского инфантилизма. Мужчин пёрло самоутверждаться, сидя на электрических стульях, и умерщвляться током женских мыслей. Спорить о существовании таковых мыслей можно было сколько угодно. Но уже на том свете. Рики вот так все это знала, и ей было все равно. Отношения – неинтересны. Но необходимы. Потому что их не может не-быть. Такая вот получалась лажа. Когда-то они говорили об этом всем с Тигрой. - Я читала, отрицать отношения, не общаться стараются шизофреники. – говорила Рики. – У них такая голубая шизофреническая мечта. Они, как некий вид хомо сапиенсов, приспособились к обстоятельствам – просто стремятся к нулю. И очень в этом парятся. - Тоже вариант! – отвечал Тигра. - Это вовсе не вариант, потому что не коммуницировать они не могут. А не могут потому, что невозможно. Общение для человека – это константа. Не в смысле трепа, а в плане любых вербальных и невербальных заморочек. - Ну и что? Можно просто отрицать любую. Что, кстати, шизофреники и делают, - улыбнулся Тигра. - Ни фига. Умные люди справедливо пишут, что отказ от коммуникации – это тоже самая что ни есть коммуникация. И прикол в том, что шизофреники этого не понимают, по уважительной причине собственной болезни. Шизофрения – это исключение, утверждающее правило. Патология, подтверждающая состояние здоровья. Отрицание общения, подтверждающее существование общения. Нелюбовь, констатирующая существование любви. - Ну, в принципе я согласен. – Тигра насупил брови. – Но ты же не будешь отрицать, что многие из нас сознательно и очень охотно записывают себя в партию шизофреников, которая, я думаю, лет через десять обретет юридический статус и будет зажигать в Верховной Раде. Нам нравится этот статус, чего врать! Посмотри на тех, кто фрикует, эксгибиционирует, долбит… - Я траву не курю! - Ой, извини. Ну и как же – разве они не шизофреники? - Нет. Потому что они сознательно пытаются отрицать коммуникацию в том виде, в котором она сейчас существует, но они прекрасно понимают: сколько ни вороти нос, а жрать все равно придется. Сколько ни бравируй жаждой самоубийства, жизнь как таковую еще никто не отменял. Поэтому все, тобой перечисленные, по сути ничем не отличаются от Верки Сердючки: клоуныкомики. Пародисты. И чем серьезнее они относятся к своей несерьезности, тем противнее получается. - Ну так это им и нужно! - Не знаю… Понимаешь, им как раз не это нужно: они все из шкуры вон лезут в юные таланты, в музыканты-писатели. «Мы протрахали себе мозги! Теперь дешево и сердито сделаем это и вам! А вы, дяди и тети, дайте нам денег!» Колядуют. Все такие из моих знакомых больше всего на свете хотят состояться, успокоиться тем, что они занимаются тем, чем хотят, но при этом тем самым, чем надо. Они кричат о ломке стереотипов, но сами остаются абсолютно типичными. - В смысле, отрицая типичность, они… - Утверждают все самые тупые общественные устои. Укрепляют их краеугольными камнями. Делают таинственные глаза и произносят: «Знаешь, я никогда не сливаю в туалете!» Так и прет обернуться разумной домохозяйкой и провозгласить: «Да, конечно!» Тупорыльство все это, помоему. - Сколько уже было всяческих неформальных движений, которые чего только не отрицали. Естественно, что поколение коммуникационной эпохи отрицает коммуникацию. – Тигра разлегся на диване, вытянув ноги в зеленых кедах. - По твоей логике, их дети станут отрицать свою шизофрению. - А о чем это говорит? - О том, ясен пень, что они будут - шизофреники! – Рики, смеясь, воскликнула хором с Тигрой. Но резко оборвала смех, закурила. - Слушай, мне кажется, что ты сама никогда не была против не общаться, – проговорил Тигра. - Общение, завязанное только на интеллекте, на понимании понимания, скучно. Понятно ведь, что оно неполноценно: чувства, эмоции либо выдумываются, либо берутся из телевизора, либо из смоделированных экстримов и смакетированных времяпрепровождений. Например, прыгаешь с парашютом – зачем? – чтобы ощутить. Почувствовать. Значит, без парашюта чего-то недочувствуешь, недопроживаешь. И есть выбор: либо проживать с парашютом, любо найти способ равноценно проживать без него. А выбор этот, в свою очередь, окрестили «разнообразием альтернатив» и провозгласили повсеместную толерантность, из инстинкта самосохранения, который вполне ее существование и оправдывает. На самом же деле, никто альтернатив не ищет. Все, как зомби, прыгают с парашютами. Поэтому общаться не хочется. - Но пока способ необщения еще никто не изобрел. - Моя подружка, одногодки мы с ней, окончив школу, попыталась найти себя в религии и ушла в монастырь. Сама не розумела, что делала. Барышня видная, красивая, из мажорной семьи. Ну задолбало ее все. А в православном храме она чувствовала себя гармонично. Просекла это и стала послушницей. Прошло какое-то время, она уже готовилась к постригу, как до нее дошло: баста. Такого что ни есть коммуницирования, как в монастыре, еще поискать. Бог, священники, сестры… Меньше чем через два года она уже хотела бежать от них от всех. Причем, знаешь, в православии она не разочаровалась – оно, как раз, предоставляет возможности здорового общения, которые от наших, общественных принципов отличаются в лучшую сторону. Так вот, альтернатива у нее была, понятно, одна: вернуться в мир, но обязательно замуж. Очень скоро так и произошло. Она быстро привыкла: воспитывает дочку, водит тачку, зарабатывает. И в церковь часто ходит. Как говорит, если церковь – не мать, то Бог – не отец. - И что? - Ну, это значит, что она сумела сконцентрироваться на содержательном аспекте общения, не ударяясь в религиозную эйфорию (точнее, ею она переболела), естественно существуя в обществе, то есть, и в его ментальном поле. Фактически, она – глава семьи, отношения в которой – такие же, как и в любой, например, неформальной молодой family. Точнее, очень похожи. Также быстро выкупаются, быстро исчерпываются. Но при этом не разрушаются и остаются содержательными. Потому что в них открываются все новые и новые аспекты. То есть, бесконечные отношения. В общем-то, такой идеал семьи, к которому активно стремились многие предыдущие поколения. - Плохо стремились. Получается, семью общество отдало на откуп православным. - Ну и, чтобы не быть субъективными – другим конфессиям. Понимаешь, религии всегда сознательно буксуют в развитии ментального сознания. И поэтому верующая семья получается вроде бы адаптированной к обществу, гармоничной, но немодифицируемой, с точки зрения общества, по жизни застывшей. Как бы идет невидимая война, безмерное количество быстрых видоизменений, негативно тенденциозных, а верующие, словно в бункере невидимом сидят. Хотя на самом деле они будто бы в другой реальности, где все жизненные процессы происходят по другим законам и подчинены иным целям. И трансформации есть, но не внешние, как обязательное улучшение материального состояния, например, а глубинные. - И детей они по другим законам делают? – постебался Тигра. - А как ты думаешь? - Ну, думаю, что смысл процесса несколько иной… Тебе виднее. Ты же в церковь ходишь. - Очень редко. Поэтому – не считается. Повод для обсуждения моей религиозности отсутствует. К сожалению. Хотя само православие гораздо проще, чем наше о нем представление, понимаешь? - Не будем спорить: я - католик. – Тигра метал дротики в плакат группы «Тату» на стене. – Тем более, чтобы рассуждать об этом, мне нужно обладать хоть какими-нибудь соответствующими знаниями. Хотя, догадываюсь, что тебя как журналиста больше всего бесит в обществе вербальная коммуникация. - Сто процентов. Во-первых, она всё монополизировала. Ее невозможно избежать, ни выкинув телевизор, ни отказавшись от газет, современных книг, не слушая музыку, ни прекратив вращаться в каком-либо кругу… Ловушки расставлены везде, как журналист, я даже знаю, где и какие, поэтому у меня развилась алергия на все вербальное. Мне везде мерещится подтекст и суггестивность. Таков мой удел. А религиозная информация – сущностная. - Типа монопольная – не сущностная! - Не знаю… Она содержательная, конечно, но в соотношении в общественной коммуникации ярче выражено стремление понимать отношения, чем сознавать и чувствовать их естественное содержание. Религия же, на мой эксклюзивный взгляд, предлагает не отношения понимать, а принимать сущность всего, в том числе и самого себя. Эта сущность есть Бог. Вот тебе и пожалуйста! – Рики тоже метнула дротик в «татушек». – Какой навороченый у нас разговор получился! *** Тигра Рики дико боялся, потому что знал, что ей нужно бездонности, а мужчины сейчас бездонными не бывают. Он точно знал, что их отношения все же не могут быть бездонными. Точнее, он наверняка понял, что их вообще не может быть. Он дико боялся Лии. Он был совсем не готов к мысли о расставании с ней. Но они никак не могли научиться любить друг друга. Любить зеркальные отражения друг друга в самих себе. Все его, Тигрино, самое в нем плохое было Лией. Все самое гадкое в Лии было Тигрой. Рики, - а она об этом даже не знала! – досталось от них двоих все самое лучшее. Во-первых, Лия знает его давным-давно, правда, вряд ли может сказать, что этому рада. Вовторых, когда-то давно у него, у Тигры, просто не было другого выхода. *** …Тигра что-то последнее время увлекся модой. Нужно ему объяснить, что любовь к очень умным юным женщинам в «гриндерсах», навсегда оставшимся девочками – это кич, как розовый цвет. Это то, что в следующий сезон пройдет, останется в памяти пошлостью, вульгарностью! Лия достала из ящичка глиняную глазурованную пепельницу, бросила ее на большой круглый стол, стоящий в центре просторной кухни, уселась на стуле и закурила. Она пыталась вспомнить все в мельчайших деталях. Зачем-то это ей сегодня понадобилось. Вспомнился разговор с Рикушей о батарейках. «Странно, что я перевелась в тот самый институт, где учится Рики», - думала Лия. Она вспомнила свою беседу с Виктором Ильичом, отцом Тигры. Он предлагал ей переехать к ним с Тигрой, в их большую, уютную квартиру на Гоголевской. Виктор Ильич, экий громила, еле помещался за деревянным столичком, нервно ерзал на стуле. Слишком уж он был такой, интеллигентный. Лии он нравился, правда: мужик, настоящий, он вдохновлял ее. Еще в институте, когда читал лекции ее курсу. И даже тогда, когда они сидели с ним на этой кухне и решали, уйдет ли к ней его жена, или все же Лия оставит жену ему, на дневной стационар, жить-доживать и добро проживать. Конечно, для романа с ним ей нужно было бы срочно поменять имидж, скрутить волосы в тугой узел и нацепить на нос очки в роговой оправе – кажется, ему нравились бабы в таком образе. Но он тщательно это скрывал. Потому что его жена такой бабой не была. Но Лия-то лучше всех знала, какой она была: актрисой. Она была бабой такой дурацкой породы – скрестите долматина с чаучау! - богемной, откровенно испорченной, развращенной и томной. По крайней мере, любила такой казаться. И никогда так и не поняла, как жалко она смотрелась – на глупых поэтических вечерах, где она нараспев читала чьи-нибудь бездушные вирши, на скучных, заунывных концертах в Доме актера, где восторженно кричала «браво!», а потом долго доказывала Лии, что о вкусах не спорят. Да Лия и не спорила. Просто пыталась договориться с ней, что на следующие такие чудесные вечера актриса будет ходить, как всегда, со своим любимым ридикюлем, но без нее, без Лии. Когда жене Виктора Ильича было уже за пятьдесят, она, наконец, осознала, что выбрала себе не ту профессию. Что блестящая актерская слава ей в Киеве не светит. Потому что на дворе была перестройка, а потом – постперестройка, и нужно было как-то жить, и все такое, а еврейкой она не была, и о загранице приходилось забыть, и вообще. Жизнь у нее стала жалкая. Она читала лекции у Лии, на искусствоведческом, уже в двадцать первом веке, и похоже, сама себя стеснялась. Но у нее был один-единственный козырь – прекрасный, чудесный, золотой муж, который стал ее опорой, визитной карточкой, ее звездной улыбкой в тридцать два белоснежных зуба, ее кошельком и строкой в афише с заветной фамилией. Он был для нее всем. А у Лии тогда еще мужа не было. Родители жили в Яремче, дядя с семьей – в Рахове, где Лия часто проводила целые недели. Поговаривали, что дома ей жилось вполне неплохо – родители, мол, даже подарили ей маленький «Опель». Но от перемены мест ее ничто не удержало: окончив школу, она уехала в Киев. Преподша, к тому же жена известного режиссера, подвернулась ей очень кстати. Лия быстро выкупила, в чем суть игры, и бабушка очень скоро отправила, куда подальше, свою наличествовавшую на то время сорокалетнюю подружку. «Если бы у меня была дочка, ей было бы сейчас, наверное, столько же, сколько тебе» мечтательно произносила актриса. Она с такой любовью говорила о театре, об искусстве… Она любила Лиины стихи. Ей нравились эти дурацкие детские стишки! И еще у актрисы было много свободного времени. И она была готова тратить его на нее, на Лию. А ей тогда очень хотелось, чтобы кто-то тратил на нее много времени, но выгодное предложение поступило только от жены Виктора Ильича. Виктор Ильич – кто знает, отчего он все это терпел. Лию это вовсе не волновало. Не надо пытаться его понимать, а то придется долго распутывать мозги и нервные окончания этого клавесина. Резоны свои у него, вероятно, были. Болела его жена, к тому же. Он сидел тут, курил, стряхивал пепел… Как-то, когда его жена еще была жива и даже относительно здорова, Лия с Виктором Ильичом тут же, на кухне, выпили водки и решили заключить мир. Тогда впервые она почувствовала, что теперь может легко говорить с ним обо всем. Тем более, что Лии был необходим союзник. А Виктору Ильичу было очень нужно, чтобы замысловатые истории его жены не стали достоянием журналистов. Ведь у них был сын, который ни за что не должен был что-либо узнать. Впрочем, последнее было всего лишь пошлой интеллигентской мечтой. Тигра был постарше Лии, знал своих родителей лучше, чем она, любил их посильнее – и иллюзий насчет них не строил. Он знал о многих романах матери, но ему никогда не приходило в голову осуждать ее за это. Отец жил для них с мамой, никогда не шел на крайние меры, был толерантен ради семьи, и наверное, несчастен. Его жена была актрисой, и его не любила. Виктор Ильич это знал. Но это не мешало им быть вместе. Его любви хватало на обоих, жена за него держалась, а Тигру любили оба. Что стоило Виктору Ильичу принять эту бойкую, строптивую яремчанскую девчонку в свой дом, в свою семью? Сначала он надеялся, что неприятные ему в этом доме отношения быстро сойдут на нет. Он, конечно же, понимал, что Лии необходимо «зацепиться», как говорят киевляне. И вряд ли ошибался, думая, что она использовала роман с его женой. По мелочи. Чтобы завести знакомства, чтобы быть на виду, чтобы вращаться в определенных кругах. С этим пониманием он жил несколько лет. Жена чувствовала себя последнее время особенно нехорошо, но погасла очень быстро и неожиданно, в считанные дни. Виктор Ильич тосковал, старался привыкнуть к пустой, безрадостной отныне жизни вдовца, но одна-единственная мысль не позволяла ему надолго уходить в туманный мир серых воспоминаний, мысль даже не о сыне - о Лии. Что-то ему подсказывало: нельзя ее вот так отпустить, вычеркнуть, и наконец-то, забыть навсегда. Но пока он думал, у Лии с Тигрой уже зарождался роман. Точнее, никаких таких растянутых подготовительных свиданий и объяснений: Тигра даже не успел сообразить, как оказалось, что они уже вовсю живут вместе. Виктору Ильичу все время было как-то неприятно, но он голосовал двумя руками за этот брак. Тем более, Лия гордо отказалась от штампа в паспорте. Сказала, что должно пройти время. Что она подумает, мол, спасибо, конечно, весьма тронута вашим теплым отношением. Правда, вскоре сама предложила Тигре расписаться. Миниатюрная миленькая стервоза с далеко идущими планами и золотыми браслетами на руках, которые она, в зависимости от дислокации, легко сменяла на мельхиоровые с камнями или на кожаные, была не без способностей. Их бы развивать, конечно. Но попробуйте-ка их развить у хамелеона! Она распоряжалась ими сама и бездумно, подчиняя все свои таланты и в актерском мастерстве, и в музыке, и в рисовании лишь собственным, таким банальным, меркантильным интересам. Но Тигра ее любил. По крайней мере, ему, Виктору Ильичу, хотелось в это верить. Виктор Ильич был не против помочь Лии и с учебой, и с карьерой. На работу он был готов ее устроить, но до этого - еще далеко. А вот с учебой нужно было что-то решать. Через какое-то время после трагедии, по институту, в котором преподавал Виктор Ильич и еще недавно – его жена, поползли, зашуршали вдоль плинтусов нелепые слухи. О нетрадиционной семье, куче детей, бездарности актрисы, расторопности девчонки… Он сделал все и даже больше, чтобы Лия со следующего учебного года перевелась в университет, который оканчивал Тигра. Тогда она и попала на курс, где училась Рики. *** Что такое поэзия? Это прогулки по острию лезвия. Это сердце, безудержно-бесполезно Трепещущее на краю бездны... Оборванные джинсы клешами подметают лужи. Была осень. Рики присела на влажную спинку скамейки, взгромоздив ноги на сиденье. Вспомнила, как шла когда-то давно с подружкой по этому октябрьскому опадающему парку. Они фотографировали птиц и свои детские картины, прислонив к деревьям. Обдумывали книжку стихов, ими написанных. И тут, как в плохом фильме, откуда ни возьмись, к ним подошел маленький человек без особых примет, но в плотно запахнутом озябшем на нем пальто. Он держал руки в карманах и спросил разрешения прочитать стихи собственного изготовления, представившись Поэтом. Подруга Рики сразу же согласилась на эту экзекуцию. Девочки бродили под дождем по аллеям, рядом с ними семенил Поэт, читая что-то нудноватое про «осень без обмана». Он заразил их осенью. Отныне всегда было много стихов, рисунков, воздуха старинных киевских дворов, - и зимой, и весной тоже. Потом подружка Ника ушла в монастырь, затем вернулась, вышла замуж и родила дочку, завещав Рики терпкие крапивовые привкусы их безудержного романтического детства. А Рики так и осталась бродить по паркам и общаться с осенями-ясенями и веселыми, подождливому задумчивыми эльфами на Владимирской горке. Но теперь, через столько лет, ее заносило в отдаленные районы, на улицы, в которых она терялась и не могла найти дорогу, пока не купила себе новую карту города. Рики не могла предсказать, когда ее переклинит и где она окажется сегодняшним вечером. Хотелось глобальности, но это чувство она списывала на осень. Лию Рики встретила на перекрестке этих самых незнакомых улиц, около шумной площади в нереально далеком от ее собственной жизни районе. Этой встречи Рики никак не ожидала, впрочем, как и всех прошлых, и всех последующих. - Привет. - Привет. Ты чего здесь? Рики вспомнила, сколько раз загадывала, проезжая по незнакомым улицам в троллейбусах, что, может быть, вот эти чужие перекрестки когда-нибудь станут для нее родными и близкими каждой вмятинкой на асфальте. Когда начинаешь, как жареный заяц, носиться по чужим улицам, жди любви… Или не жди. Но не говори, что тебя не предупреждали. Любовь – особа невоспитанная. Лия понимающе посмотрела на нее. «Интересно, что ей пришло в голову? - подумала Рики. – Видимо, это плата за сотрудничество со спецслужбами моего характера». - Гуляю. А ты что здесь делаешь? - Я здесь обитаю. – Лия говорила, как всегда, с сочувствующей улыбкой. Рики это подкупало, она ощущала себя заговорщицей, но ей от этого было не по себе. - Неужели? - Рики изобразила удивленное лицо. - По-моему, ты живешь где-то на Гоголевской. Мне говорили – даже в том самом доме, где и один мой знакомый. - С чего ты взяла? Я там иногда бываю… У родственников, - прикинулась Лия. - Хочешь, пойдем посидим во дворике? Рики завороженно замерла от такой неожиданной щедрости судьбы и кивнула. Когда они подошли к небольшому скверику во дворе кирпичного дома, Рики удивилась еще больше: - Ты здесь живешь? А я в этом дворе часто пью пиво. Еще с весны. - Тут я тебя никогда не видела, но, признаюсь, разглядела тебя в окно в доме твоего знакомого. Периодически повторяющаяся случайность! Наверное, ты его ждала? «Проклятое любопытство! – подумала Рики. – Нет, тебя!!!» А вслух сказала: - А у меня в Киеве почти нет родственников. - Почему? - Так сложилось. Семья, в которой я родилась, переехала сюда из России. Здесь у нас никого нет. Даже могилы все где-то под Тулой. - Рики отвернулась и замолчала надолго. Она не любила говорить на эту тему, и пожалела, что тема слетела у нее с языка. Своего отца Рики не видела ни разу в жизни. И ей приходилось сильно переживать из-за семейных неурядиц. Казалось, Лия поняла и больше ни о чем не спрашивала, даже про Гоголевскую. Они сели на лавочку под старой яблоней, открыли бутылки пива складным ножом и затянулись приторным дымом. У Рики в душе все съежилось, она боялась, что сейчас возникнет кем-то изданный звук, и начнутся разговоры, споры и откровения, после которых хочется одного выспаться и неделю не выходить из дома. Рики не любила разговоров. Но Лия молчала, затягиваясь сигаретой, словно наслаждаясь гаммой ощущений, оживших в ней от этого сидения и безмолвного общения. Понимала ли она, что происходит с Рики все эти противно долгие недели? Наверное, да. Ощущения приходят гораздо раньше пониманий и объяснений, без которых, кстати, было бы гораздо легче жить, и без которых ничего бы между людьми не было. Зато как угораздит произнести: «Я люблю тебя!», акценты сразу же смещаются в неудобоваримую сторону, и после недели кайфа тяжелой поступью приходит познание. Биться лбом о реальность в этот раз Рики была не в состоянии. Хотелось любви молчащей, так долго званной и так нежно трепетной, такой невозможной и творческой, не посягающей на личное пространство одиночества, самого неизменного и самого самоотверженного чувства в душе Рики. Могла ли Лия это понять? Вряд ли. Как когда-то давно не понимала этого Рики в других людях. Не покидай... Ты слышишь мотивы, Что колеблются в каждом слове Так ненужной тебе любовью... Не покидай... Сколько раз мечтала, Сколько раз отпускала мысли. Как давно я тебя искала По холодным дорогам жизни. Рики снова думала стихами. Лия была тут, рядом, и вновь, как летом, Рики казалось, что Лия думает… о ней. По крайней мере, Рики уже понемногу с ней говорила, и чувствовала, чувствовала - но прочитать мысли Лии она не могла. *** Машина резко затормозила у обочины шоссе, около придорожного бара для дальнобойщиков. В выборе мест для вечернего кофе ты была разнуздана. - Молчишь? Ты отвернулась, растекшись взглядом по стеклу вечернего окна в разводах ярких мигающих фонарей. - Ну, молчи. In tango. Сигарета. Кофе с рябиновой настойкой. Черные авто. Черные вороны. Вороной пафос автомобиля не сочетался с твоими потертыми джинсами. Тебя это прикалывало. Но ты так и не научилась думать об одежде. - Ты меня любишь? - Нет. Но я люблю свой город, - отвечаешь ты. - Почему? - Потому что он мой. Он был моим до моего появления на этот свет. Останется моим и после. Может быть, и ты когда-нибудь разлюбишь меня и полюбишь город. Который сделал меня такой… Такой, которой нигде не повторится. Знаешь, как приятно это понимать? Это необходимо понимать! Не будет больше другой такой, так влюбленной в себя, дико влюбленной в своего маленького Бога. Впрочем, ты все время мне врешь. Ты никогда не говоришь правды. И думаешь, что я об этом не догадываюсь. Ты вынула из магнитолы кассету Пи Джей Харви. Ты всегда слушаешь ее в машине. Динамики гремели странной радиопьесой из параллельного мира. Такое с нами уже бывало. Я смотрю за тобой, как коршун. Я оберегаю тебя. Уберегу ли? Убегу ли? Жигули? Жгли? Жили? Deja? Дежа вю. *** Такое уже бывало. Вечером Тигра появился снова, по телефону и неожиданно. Зачем он вообще ей звонит, Рики, при всей своей ненаивности, догадаться не могла. Чуял, наверное, перемену погоды. Он умел. Он умудрялся. Да, похоже, именно так оно и было. - Ты СЛИШКОМ потерянная последнее время. Это тебя та пацанка – то ли девочка, то ли мальчик наповал сразила? Рики положила трубку. Она не выносила хамства в свой адрес и в адрес своих приоритетов. Звонок раздался снова. Рики молча нажала кнопку - жест молчаливого согласия выслушать очередной бред. Тигра звонил извиняться: - Да ладно, я просто хотел спросить, что ты собираешься теперь делать. Ведь ты предпочитаешь с девушками не объясняться. Да и мне хотелось бы знать, как мне быть, чего ждать. - Иди к черту! - Рики выдала этот дельный совет деловито-доброжелательным тоном. Правда, ей не очень-то хотелось, чтобы Тигра обиделся. Ведь он, по крайней мере, уже давно понял, что с ней происходит, и - не исключено - даже лучше, чем она сама. Ей было любопытно, как всегда нам бывает любопытно, когда в воздухе начинают витать флюиды возможной информации про нашу сегодняшнюю любовь. Можно было сдержаться и вырубить трубку насовсем, но Тигре в отношении таких общений можно было доверять. Лишнего он не скажет, но и о главном не промолчит. - Ну, знаешь, имею ли я право поболтать с любимой женщиной о ее любви не ко мне в более интимной обстановке, чем по этим дурацким проводам? - Ну, знаешь ли, если ты мазохист... – в тон ему ответила Рики. - Извини, нет. Я реалист. Пока. - Э, о-ей! Подожди, чего ты, как ужаленный! Приезжай. Тигра приехал через полчаса, за которые Рики в лихорадочном темпе успела выпить три чашки жутко разбавленного кофе с молоком и мыслительным процессом, и даже забыла поругать себя за то, что употребляет эту кошмарную баланду. «Неужели все дело в привычках? - думала она. - Нет, кофе - ритуал ожидания». Но вновь зазвонил телефон, и через пару минут Рики с Тигрой уже сидели во дворе на столике имени дедушек-доминошников, спустив ноги на мокрые от дождя лавочки. Это тоже было привычкой - натурой второй, если не первой. - Слушай, ну вот ты с ней общаешься, допустим. - Тигра говорил спокойно и размеренно. - Без «допустим». - Неважно. Так вот. Ты ведь с ней не будешь объясняться. Даже если она догадается выявить свои чувства первой, ты ведь наверняка сбежишь. У нее ноль шансов. - Почему ты так думаешь? - Рики пыталась скорчить наивно-обиженное лицо. - Потому что вряд ли у нее был подобный опыт раньше, сколько бы она ни пыталась показать, что это не так. - Ну и что? - Да не чтокай! Ты никогда на это не пойдешь, чтобы завязать отношения... Рики резко спрыгнула со стола. Отошла немного, подальше от Тигры, закурила сигарету. Да, Тигра был прав, эта романтика могла продолжаться еще долго, ровно столько, насколько у Лии хватило бы терпения. И состояний Рики день за днем в этой истории не перескажешь. Она могла молчать долго. Очень долго. Но если б Лия все-таки обнаружила свои чувства, Рики ушла бы, переступив через боль и через любовь тоже. Она понимала, что Тигра сейчас начнет рассказывать, что... - ...глупо жить принципами! Если ты любишь человека, то... - Тигра, первым делом я подумаю, не разрушу ли я его жизнь своей любовью. В данном случае я не понаслышке знаю, как оно бывает. А эта девочка, мне кажется, не знает. Хотя да, она пацанка, ей вообще легче себя мальчиком ощущать, но она явно сама – по мальчикам. То есть, ощущать она себя может, как угодно, а природа останется природой, как бы Лия не пыталась сублимировать свои переживания. - Ты цинична! - Я??? Да. Поэтому я не сделаю ей больно. - Но ты не против делать больно себе! Опять возьмешь лезвия, пойдешь кожу портить. - Ну, тебя это никак не касается. - Нет, позволь, почему же? Очень даже касается. Жениться я на таком сумасшествии не женюсь Бог уберег, я быстро все понял. Но понимать тебя мне ничто не мешает. Причем, не спрашивая, нравится ли тебе то, что я понимаю, или нет. - Давай оставим это словоблудие вон тем гопникам! - Прости, но я себя к неформалам не причислял. Это был резкий выпад. Рики обиделась. Сколько еще он будет ее третировать? Но она слушала его по одной поганой причине: он прав на все сто процентов. Она не признается Лии и не ответит на ее чувства. Что может быть тяжелее невысказанной любви, которая уже давно стала больше той души, в которой зародилась, и давно хочет вырваться на свободу и объять весь мир, соединившись со своей второй половинкой? Рики села на скамейку поодаль, уткнула локти в колени и опустила голову в ладони, изучая прожилки желтых листьев, укрывших песочницу и еще не прогнанных отсюда дворником. - Да, ты прав, Тигра. Я ей никогда ничего не скажу. А она, думаю, вообще не догадывается ни о чем. Вряд ли пара случайных встреч - правда, одна была не случайной, - о чем-то ей говорят. Однажды она даже подумала, что я ждала под ее окнами какого-то своего дружбана. Тебя, может быть. Ведь вы, кажется, в одном доме живете. У вас ведь, - слушай прикол, - даже фамилии одинаковые! - Лия так и сказала, что ты, мол, меня ждала? – засмущался Тигра. - Нет, конечно, откуда ей тебя знать? Вообще, она, конечно, чувствует очень тонко - иногда мне кажется, что Лия читает мои мысли. Но предположить, что она может догадаться или даже признаться мне первой... Лучше бы она этого не делала! Я не маленькая, я как-нибудь с собой справлюсь, а вот для нее правда - худший из вариантов. - Ну да, а ты, например, порежешь вены до такой степени, что зашивать придется! Рики отвернулась от него и снова затянулась сигаретным дымом. На самом деле она уже почти не владела собой. И вообще, дождь. Как-то странно все. Что-то не так. *** Кто-то из знакомых с утра обрывал телефон. - Слушай, я нашел деньги! - Поздравляю. И чё? – Рики даже не пыталась врубиться, кто это и о чем речь. - Да блин, я же нашел деньги! Тебе! На газету! А-а, это некий товарищ Ленин, ну, погоняло у чувака такое. Он все пытался изобрести мышеловку, в которую она, Рики, попалась бы. Он очень старался. Но как-то случайно выпустил из виду, что она – не мышь. Впрочем, крысоловку изобретать она ему бы тоже не советовала. До Ленина не доходило. Правда, он давненько уже не объявлялся, она успела о нем забыть. И вот, довелось вспоминать сначала. Когда-то они работали вместе. Даже пытались замутить какое-то сми, потом замяли тему и разошлись в разные стороны. К счастью. Хотя Ленин так не считал. - Ты что, уже не хочешь газету? – Рики представила, как он сидит перед зеркалом, держа около уха плечом телефонную трубку, и примеряет маску Святого Зайца. А по стенам у него развешана коллекция скальпелей всех преподов ИЖа. Журналистов он, вообще, не коллекционировал, но так как Рики являлась еще и преподом, наиболее хорошо освещенное место на стене прямо по центру приберегал для скальпа своего друга Рикуши. - Я хочу спать. Пока. - Неужели ты, как все бабы? Он правильно рассчитал. Девятнадцать движений рта было необходимо уместить в те доли секунды, пока Рики не нажала на кнопку. Она была для него всем. Ну, почти всем, потому что всем не была по определению. Ну, он бредил ею ночами. Он бредил ею круглые сутки. Он бредил ею в своей крутой рекламной конторе. Он бредил ею в своей разнузданной квартире наркомана-долгожителя. Он делал все, чтобы она догадывалась, что об этом не догадывается. И действительно, она об этом догадывалась, и поэтому предпочитала ни о чем не догадываться. Кто предупрежден, тот вооружен. Потому что он ее ненавидел. У Рики с позднего подросткового периода точно срабатывал механизм распознавания тех, кто может ее создать, и тех, кто может ее уничтожить. Поэтому Ленин больше всего терпеть не мог пресловутую «черную книжечку» в ее голове. Да, она у Рики имелась. Туда были занесены имена героев ее будущих повестей. Ленин, удовлетворенный идеальным расчетом времени непопадания пальцем в кнопку, вещал дальше. - Услышь меня, маленькая злая девочка! Я исполню все твои самые тайные мечты! - У меня нет тайных мечт. Все явные, - пробурчала Рики. - Тем более. У нас есть деньги на газету. Я буду главным редактором, а ты – моим замом. - Да пошел ты! Он был людоедом. У него имелась мечта: слопать Рики и стать самым сильным на Земле. Просто он думал: чтобы стать самым сильным на Земле, нужно сожрать Рики. И тогда будет до фига наркоты и на нее бабла. Примета у него была такая. Рики в его собственную картину мира не вписывалась. Все вписывались, а она нет. Затмевала его «Белый квадрат» своим «Черным квадратом». Его это расстраивало. Он думал, что Рики очень умная и знает жизнь. Он не понимал, что она – попросту дитя своего времени. Тупое и бездарное. Он даже жаловался на Рики своей маме. - Кроме шуток, надо бы встретиться. Все решим, все обсудим. - Иди ты, Ленин, я спать хочу! Не нужна мне твоя газета! – Рики молниеносно придумала гениальный способ от него отделаться. Блин, как вообще этот Ленин не кстати! - Я не хочу никакую газету! – проворковала она, растягивая слова, тоном «золотой» девочки. Хорошо, что она делала ему прививку к этому тону и раньше. Теперь у него наверняка выработался стойкий иммунитет: он не сомневался в ее избалованности. Но должен был засомневаться в честности. Тут он не досчитал. Икс оказался вертлявой переменной. Игрик найти не удалось. Он повелся. - Ты чë, обалдела? Ведь я же учил тебя играть в «Дум»! – Ленин растерялся. «Ага, и дарил мне носки, оказавшиеся тебе большими!» – хихикнула Рики. Он играл, будто она – его кореш. Он в горячке соображал, что бы еще соврать. Рикиной излюбленной стратегией было говорить свою правду. Счас он этим попытается воспользоваться. - Так ты, оказывается, такая же глупышка, как все бабы! – воскричал Ленин на том конце трубки. Рики с удовольствием уселась в кресло. Она выиграла! - Да… - Что «да»? Э-э, дитя, ты врешь! Этот номер у тебя не пройдет! Ты – не баба! Вы все, наверняка, что-то мутите за моей спиной! Ленин очень боялся заговоров. И лихорадочно считал. - Ты угадал. Сегодня ты у меня первый в списке. Честное слово. Видишь, как точно ты случайно позвонил? Просто ночной снайпер! - Ты же знаешь, что я мечтаю лишить тебя жизни. - Жизнь – а что это? Расскажи мне о ней. – Рики терпеть не могла играть с ним в слова, но Ленин был как компьютер: завершать работу тоже нужно через кнопку «пуск». Ленин был очень похож на одного лысого звукача-маньяка, о котором Тигра читал ей из журнала, и не исключено, что являлся какой-то его ипостасью. - Жизнь – это когда у тебя будет газета, такая, как ты хотела, - воспрянув духом, давил он на когда-то болевые точки. - Слушай, это круто, конечно. Знаешь, я уже десятую концепцию дописываю. Только никому не рассказывай! - Да ну что ты, я – ни-ни, я – никому. - Но знаешь, недавно я поняла, что целую неделю не была у моего парикмахера! Что со вчерашнего дня я ни разу не перекрасила ногти! – сочиняла Рики, по привычке их обкусывая. - И что? - А то, что идею с газетой придется забыть навсегда. - Почему? – Он говорил тоном директора фирмы на совещании. Он велся. - Ну, тебе же не приходится париться над тем, что нужно что-то менять в жизни. Подолбил – и все. - Да-да, понимаю. Дитя, ты же не долбишь вообще… Эти мне твои дурацкие принципы… Улавливаю! - Так вот. Подумай: а мне каково? Все эти феньки, татуировки, этогенические подходы… Я хочу, наконец, позволить себе быть сама собой. Ничего не сублимировать. Ничего не бояться. - Ты решила что-то поменять в жизни? Но ведь нашему делу это не может помешать. Ты и так все меняешь сто раз на дню. Не волнуйся об этом: я привык. Или, может, все-таки тебе лучше подолбить? - Ленин, ты прав, но и ты меня пойми, - сочиняла Рики дальше. – Ведь я не просто решила что-то поменять. Я решила быть женщиной. Ну, ты понимаешь… Тушь, помады, шмотки, любовь-морковь. Сам подумай: на носу двадцать пять, а у меня статус – школьник, пацан. Отныне мой девиз: регланы – на тряпки, тряпки – на меня. Следишь? - Да-да, кажется, я все понял… Сартр, Фрейд… Ты их что, переписала по-своему? - Ну, в общем, хрен с ней, с журналистикой. - С ее стороны последний выпад был рискованным, но должен был сработать. - Так, я вызываю скорую. - Ты болеешь? - Дитя, я за тебя волнуюсь! Ты хоть сама можешь представить себя в фифочных тряпках, да еще и с помадой? Чтобы ты приспособила для мытья пола свой любимый старый джуд? - Ах, Ленин, если бы ты знал! Я давно уже это совершила! Тебе первому признаюсь в сием грехе. Хожу на каблуках, пока не очень получается. Всем нравлюсь, пока не очень получается. Не говорю неприличного. Озабочена только общественной моралью. Тоже пока не очень… Видимо, у Ленина сдали нервы. - Все вы, бабы, такие! В голове – пусто, живете одним местом! Я-то думал, ты – исключение, а оказывается, ты такая же, как все! Вышлю тебе почтой женские журналы!!! Да блин, откуда тебе знать, что такое общественная мораль??? Так что, думаешь, о газете говорить нет смысла? А куда же девать бабло? - Нет смысла, Ленин, нету! - Так что, я тогда наркоты куплю? Ты не обидишься? Как в кино: «Я могу теперь потанцевать с другими?» - Нет, Ленин, не обижусь. Хозяин – барин. Так что звони мне в следующий раз месяца через два. Сам понимаешь: маникюр, педикюр. Дел по горло. - Да, я понимаю. Не волнуйся, я трепаться не буду. Можешь на меня положиться. - Я в тебе не сомневаюсь. Пока-пока. А когда-то он был способным московским журналистом и часто ночевал в корректорской Радянки. *** Мой бульвар фонарей да окон – Расползаются, как улитки, В свои мысли за мраком стекол Мои Радости и Ошибки... Пустота внутри до легкого озноба, подкатывающая комком к горлу. Рики вспоминала лица сверстников, с которыми общалась в институте, и внутри возникали диалоги из обидных фраз: каждому хотелось набить морду, да со всей дури, до синяков. Рики не считала себя ангелом, хотя ей очень хотелось. Тупая ненависть к идиотическим словам, к дурацкому желанию следовать чьимто представлениям заставляла Рики задыхаться от злости. Но она успокаивалась, мысли слагались в стихи и бродили в голове, пока Рики их не забывала. «Есть люди, которые общаются с тобой, чтобы донести до тебя себя самих, а есть - которым на себя плевать, которые понимают тебя всю, со всеми потрохами и думают о тебе, потому что о себе думать не умеют. Жаль, что мне в жизни попадаются первые». В Лии она ждала друга, но он не случился. Что-то не так произошло, что-то больно оборвалось внутри, и чувство, взвинченное до великой отметины, излилось искрами страдания. Рики лежала дома на диване, забившись в угол и сложив руки около груди, словно надеясь защитить душу от этих ужасных вторжений мира. Хотелось плакать, но Рики этого, к сожалению, почти не умела. *** Лия взобралась на подоконник и смотрела на ту скамеечку, на которой сегодня они сидели с Рики, уже во второй раз случайно встретившись на улице. Бедную, покинутую всеми лавочку заливал дождь. От легкого сквозняка переливчато позванивали ветра на косяке двери. «Неужели я ее люблю?» Лия тупо крутила в голове эту фразу, подбрасывала в небо и хватала руками, и никак не могла уложить ее в бутафорский фокусный чемодан. «Какие уж тут фокусы!» думала Лия. Она переместилась на широкую старинную кровать, с которой, видимо, и началось Тигрино путешествие по пути этой несчастной жизни, и уставилась в зеркало. «Я – лесбиянка, - повторяла она себе ровным, ничего не выражающим голосом. – Я – не лесбиянка. Я – дрянь. И я права. Любовь превыше всего». Какой-то доселе незнакомый, тихий, но очень настойчивый внутренний шепот вещал что-то о Рики, о том, что если завтра Рики не явится в институт, то Лия... Что Лия? Этого голос еще не обмозговал, но интонация его не предвещала для Лии ничегошеньки мало-мальски хорошего. «Она меня не любит? Допустим. Нет, она меня любит. Я не могу ошибиться. Я чувствую. Я знаю все ее чувства, она вся вибрирует, когда сидит рядом и молчит. И, как это ни банально, но я схожу с ума. Хотя она мне непонятна, совсем непонятна. Что ей мешает избавиться от одиночества, как все женщины, собирать дань или хотя бы стремиться к этому? Искать случая, ждать шанса, момента триумфа и гарантий бесконечной власти? Что ее заставляет игнорировать веками испробованные женщиной способы утвердиться, руководить, подчинять? Отдаваться в жены, заводить детей? (Одни детей рожают, иные – заводят). Если бы она сама не знала ответа на эти вопросы, я презирала бы ее. Но она знает, а я ее люблю». Лия растерялась. Она ведь - не Тигра, который пожил рядом с Рики какое-то время, кое-что узнал, кое о чем догадался, сопоставил со своими наблюдениями. Лия же Рики не знала совсем. Она чувствовала ее в сейчас, но не знала того, что Рики - человек с большой судьбой и коллекцией изнурительных одиночеств. Лия вспоминала их наивные случайные встречи, телефонные звонки, письма по интернету, записки на семинарах. Каждое слово Рики согревало Лию ощущением, доселе незнакомым и невозможно приятным. Хотелось, чтобы это никогда не прекращалось. Хотелось продолжения. Говорят, у Рики – очередной роман… Они обе умели сходить с ума. Пить пиво под столешницами в лекционных, прыгать в резинки на глазах изумленных младшекурсников, сочинять дипломные за трое суток, освежаться под брызгами газонного фонтанчика, промокая насквозь перед самым экзаменом, выгуливать по красному ковру у деканата Рикушину мышь Васю… О Рики Лия наслушалась много историй. Рассказывали, как однажды зимой Рики пришла в инст, впервые в жизни в юбке, и с большим букетом желтых тюльпанов. Пришла к третьей паре, когда на дворе уже было совсем темно. В тот вечер она дарила цветы всем знакомым девчонкам, а девчонки устроили громкий праздник в честь Восьмого марта, который с легкой руки Рики был перенесен на двадцатое января. Говорили, что Рики не любит дни рожденья. Что славна драматическими love-stories. Что крышу у нее рвет не по детски. Что она не курит траву, но в это не верят даже самые близкие ее друзья. Что, возможно, у нее любовь с Маруськой, или с Динкой с третьего курса, или с Динкиным парнем Тёмом, что тоже вполне вероятно. Рассказывали, что вечером, когда темнеет, и закрываются институтские кафешки, мальчишеская Рики и норковая Маруська пьют коньяк и курят трубку под лестницей в верхнюю столовую. И что их ни разу за четыре года никто не попалил. И чего только не рассказывали. Как в зале ожидания, По переулкам памяти Мелькают непонятные Созвучия и образы. А где-то коридорами Бегут мои знакомые. А может, только кажется, Ведь очень тихо вечером, И люди неизвестные Давным-давно покинули Мою обитель детскую. А я сижу, невидная, На самой дальней лестнице. Листок упал за окнами, И все труднее дышится От слез дождливой осени. Лии хотелось, чтобы все это принадлежало ей. Чтобы эта Рики, со всеми о ней разговорами, со всей своей одиозностью и китчевой детскостью была ее, Лиина. Бесплатно и навсегда. Пора было решаться. На следующий день Лия приехала в институт за два часа до начала лекций и села на скамеечку надеяться, что Рики сегодня все-таки придёт на занятия. Лия нервничала. Она решила набраться смелости, подойти к Рики и пригласить ее на прогулку в сквер под верным предлогом - выпить пива. И там ей признаться в любви. Все должно быть романтично. Любовь, все-таки! Лии не хотелось, чтобы Рики ее послала. Лия волновалась: Рики, если приезжала именно на пары, то четко шла в инст, нигде не задерживаясь, ровно за минуту до начала. А что, если она уже давно в аудитории? Ждать пришлось долго. И вот Рики появилась, на пары не спешила, ее перехватили друзья, она закурила сигарету и стала общаться с какой-то девушкой с курса. Лия исподтишка наблюдала за Рики. Длинная сигарета в длинных пальцах, серебряное кольцо – как обручальное, тонкие руки, подрагивающие от холода и нервно прячущиеся в длиннющие рукава свитера. Невпопад ответы на восклицания однокурсников. Усталый взгляд, - чем она живет, эта непонятная девушка? Поговорить с Рики Лия так и не решилась. Ни в этот день, ни в последующие. Осень подходила к концу, и надвигалась сессия. Лия, наблюдая за Рики ненароком, только тихо вздыхала. Рики замечала неожиданные взгляды Лии, удивлялась и понимала все или почти все. Ее собственное страдание сменялось на неизменное одиночество. Она уже почувствовала: в этом человеке она не встретила друга. Души могут быть очень близки, в этой жизни или в забытых прошлых. И совсем необязательно выносить это на повестку дня, пытаясь качество духа между двумя перевести в количество встреч, слов и ненужных диалогов. Жизни не близки, взглядов не понять. Лишь одной Звезды вечная печать... Многие вокруг просто не способны понимать. Все друзья, ничего о ней не знающие или приблизительно знающие что-то, в глубине души считают ее ненормальной, осуждая резкие проявления ее индивидуализма. Рики знала, что значит оставаться одной, после того как некогда близкие перекидываются на сторону других, говорящих гадости, и этим существующих. Не раз она замечала Лию среди таких... Я пойму тебя, как никто другой. Приходи сюда, приходи домой. Мой желанный гость, Мой незваный гость, Мой любимый гость, Мой печальный гость. Наша жизнь полна нам широких врат. Здесь пути вперед и пути назад. Посмотри, мой друг, Мой волшебный друг, Самый верный друг, Одинокий друг! Я тебе спою песнь своих песней, Чтобы в трудный час вспоминал о ней. Веселей, мой брат, Будь смелей, мой брат. Где пути вперед, Нет дорог назад! *** Рики могла совершаться только через Лию. Обойти это, иначе придумать, пересочинить невозможно. Резонанс произошел, теперь наступало время извлекать звуки: пора играть. Дальше следовать к самой себе без Лии Рики не могла, как не может золото сделаться кольцом, не вымывшись, не переплавившись. Лия это чувствовала. И такое с ней было впервые. Раньше она обходилась без чувств, спокойно живя их имитациями и сплошными мыслями. Лия любила Рики такой, какой она станет потом, спустя некоторое время. Для Лии Рики была неизменным Future. Любила бы Лия уже свершившуюся Рики? Рики, переставшую быть вечной девочкой, интересной оттого лишь, что она всегда только будет? Ведь быть ребенком – это всегда быть будущим. Иметь место быть. Быть в перспективе. Случиться потом. Иметь протяженность во времени. Этим Рики Лию и завораживала. Читая свое будущее в Лииных глазах, свершалась, проживая каждый свой сегодняшний день, а без Лии – развоплощаясь. Лия не была для нее такой же, как любые другие: точкой отсчета, пунктом, пристанищем. Лия была дорòгой. Куда бы Рики по ней ни шла – она больше не была одна, становилась сущей, сбывалась, как мечта какого-то незнакомого ей сумасшедшего. С тех пор, как Лия появилась в ее жизни, глаза Рики стали плотно закрываться во сне, и она посапывала, как сытый младенец. Лия понимала: расстаться с Рики – значит лишить ее плоти, оставить ее одну, поместив в еще несвершившееся в бытии небытие, но потенциально возможное. А с другой стороны, у Лии был вполне реальный, привычный Тигра, понятная и ощутимая жизнь: в столице, в большой квартире, в учебе, в статусе, в неудивляющем безлюбовьи. Как она говорила, на безлюбовьи и секс – любовь. Это была такая обычная и простая формула жизни, которую Рики сразу же, без спросу, переписала по-своему, показав, что жизнь без любви – как тень без человека. Но ведь верить этому было вовсе необязательно! Лия поверила. А теперь старательно, как последняя зануда, прибирала в своих мозгах. «Длинношеее! Мика Хаккинен, позор финской нации!» – ругала она себя. С Тигрой все проще. Потому Рики и не может с ним оставаться: Тигра не понимает, что нужно все время бежать на шаг впереди нее, выхватывать фонариком ее проекцию, хватать за руку и втаскивать на ее собственный путь. Правила игры строги: при этом дорогу нельзя выдумывать, нельзя от нее прятать, нельзя пускать все на самотек. Тигра ищет Рики Indefinite, и находит частями. Теми, которые при Тигре имеют возможность сбыться или сбывались раньше. Но всей Рики он нигде обнаружить не может. Если бы мог! Не видать бы ей, Лии, своего Тигры, как просторной квартиры на Гоголевской. С ней, с Лией, Рики сбывается: будущее время просто передается настоящим. Она сбывается почти вся, во всем своем многообразии, во всей своей невозможности – и сразу стремится жить, нажиться, изжиться, пока она есть. Она затмевает собой все. Она требует Лии всей. Жизнь из функции превращается в процесс, не подчиненный конкретной цели, кроме проживания себя самое. Рики из процесса становится функцией, а средством и целью является Лия. Если же Лии нет, то жизнь Рики вновь становится функцией, а сама она – процессом. Аз есьмь. Исследуйте меня, изыскивайте, изучивайте: я – без смысла. И единственный ответ на все ваши вопросы – вы напрасно тратите время. «Рики – моя творческая реальность, а Тигра – документален». – Лии, в какой-то момент, казалось, что ей очень даже повезло. Когда кажется, надо креститься. Недавно ей рассказали в инсте, что Рики встречается с Тигрой. Больше года. Рассказали случайно, как всегда, по доброте душевной. Между прочим. А с Рики она встречалась уже давно. И тут - такая новость. Лия немедленно послала на фиг всякую экзистенциальность, а ирреальной части своей сущности беспардонно заткнула рот. Она не волновалась по поводу того, что Рики может увести у нее Тигру. По идее, Тигра мог уйти давным-давно. Точнее, ее, Лию, выставить за дверь. Что в планы Лии не входило. Но хрен с этим, все не так просто. Потому что Тигра до сих пор не ушел. Правда, Рики ей признавалась, что у нее есть еще парень, точнее, она как-то не так говорила, просто, что мол, в общем, кто-то наличествует в ее жизни. Никогда не вдавалась в подробности, не выказывала эмоций, не давала волю чувствам. Этот парень представлялся плодом фантазии, и Лии, по крайней мере, о своем присутствии никак не заявлял. Видимо, дожидался, когда она сама обо всем узнает. Как могло случиться такое совпадение? Как это все могло случиться??? Именно тогда, когда умирала мать Тигры. Именно тогда, когда Лия переезжала в его квартиру. Именно тогда, когда всю ее жизнь кто-то крутанул, как волчок, поставил на красное, и рулетка не подвела… А Лия ставила на зеро. И правильно делала: этот кто-то оказался альтруистом и щедро поделился с ней выигрышем. Тира сразу же предложил ей вариант: жить втроем. Ну, хотя бы попробовать. Честь обработать Рики предоставил Лии. Лия прощупала почву. Абстрактно. О Тигре ничего не сказав. Рики ее послала. Ей давно уже не хотелось экспериментов. Этим и подписала себе приговор: Лия была классической стервой, сдвинутой на слове «муж». Она была равнодушна к тому, какие у Рики с Тигрой отношения. Ей не нравилось то, что для Рики он был своим, он принадлежал ей, он слушался ее – а такого от соперницы не перенесет ни одна красивая девочка в песочнице. Это она, Лия, могла бы решать, встречаться Тигре с Рики, или нет. Это она, Лия, должна была испытать всю гамму оттенков чувства власти, только она одна могла распоряжаться своей годами выстраданной монополией на этот дом, на эту семью – ее семью! – и на Тигру. Тигра не смел, не имел права чувствовать что-либо без разрешения. Он обязан был знать, что только одна Лия всех на свете и умнее, и румяней, и белее. Вот если бы он это знал, в этом бы жил, вжился бы в это, как чучело в свою выпотрошенную шкуру – тогда решение принимала бы она. Тоном: «Дорогой, ну ты же знаешь мое мнение, поступай, как считаешь нужным!» Лию взбесило, что ее не спросили. «Я приехала сюда не для того, чтобы остаться никем, – сотни раз говорила она себе. - Мне ничего не стоит овладеть этим городом. Этот город всегда готов отдаться – нужно лишь его взять. Все, что я здесь хочу – это мое. И я совершенно не виновата в том, что здесь, рядом со мной, обитают всякие фифочки, родившиеся здесь же и расхаживающие по нему в тапках, как дòма - из кухни в туалет. С ними можно прикольно общаться, до той поры, пока они не начинают тупо переглядываться, вдохновленные моим незнанием каких-то их киевских детских фенек. Почему-то их это коробит, как будто я пускаю дым им в лицо. Хотелось бы мне думать, что им не нравится то, что я не собираюсь возвращаться в Яремче. Но на самом деле, им, по-моему, параллельно. Очень жаль! Я бы мечтала всех их скопом заселить на хутора, чтобы они учились там со своим маникюром картошку копать, и украинскому произношению. Да ладно, все равно учусь я лучше всех в нашей группе, у меня будет красный диплом, потом на работу устроят. А этим избалованным, амбициозным столичным жительницам ничего достигать и не надо – зачем же наступать на горло собственной интеллигентности? Каково, если женщина фригидна, а мозги у нее на месте матки? Короче, они мне – не соперницы». Вообще, Лия была порядком расстроена. Нужно было что-то решать. *** Рики сидела на скамеечке в Пушкинском парке, глядя на черный памятник. Пушкин тряхнул кудрями: - Ну, чего уставилась? - Глаза есть – вот и смотрю! – отвечала Рики и вновь погружалась в свои заиндевевшие мысли. До знакомства с Лией она не бывала в этом парке ни разу в жизни. Именно Лия впервые притащила ее сюда. Рики Пушкинский парк совсем не нравился. Возможно, у некоторых киевлян имелись в отношении него какие-нибудь ассоциации, но у Рики он не вызывал эмоций. Он напоминал помойку, которая провозгласила себя мусороперерабатывающим заводом. Мрачная, небрежно оформленная по периметру проломами старого забора, поросшая бурьянами территория. Интересными здесь были только белки, приходившие иногда из парка КПИ. Рики совершенно не понимала, зачем в ее жизни взялся этот дождливый, заросший парк, похожий на очень небритого, некогда интеллигентного бомжа. Призвание этого парка, как считала Рики, быть территорией для ссор. “Место для празднования разводов” – думала она. А вообще-то, если прикинуть, с возникновением в Рикиной жизни Лии появился не только Пушкинский парк. Еще – яр, Татарка, площадь Космонавтов… Места, чем-то очень напоминающие Пушкинский. Будто картинки из путеводителя по Киеву семидесятых годов. Лию эти места вдохновляли. Рикушу – угнетали. Но она старалась не подавать виду, чтобы не обижать Лию. Вот так и начинаются расставания. Они, как выясняется, кем-то спланированы заранее. *** Лия не могла прожить без Рики и получаса. Хотелось Рики присвоить, сделать из нее беспросветную домохозяйку, чтобы она постоянно была под рукой. Но Лия не могла позволить себе этого: во-первых, потому что в ее доме домохозяйка – Тигра. Во-вторых, мешали Лиины творческие амбиции. То есть, амбициям мешала Рики. Она всегда придалбывалась: «А зачем? А почему?» Ей было, на самом деле, плевать, зачем и почему. Но было важно, знает ли Лия ответы. Есть ли в том, что она делает, смысл. Лия же жила по принципу «сама не ведаю, что творю». Иногда получалось хорошо и даже как-то реализовывалось (Лия чудесно рисовала), но чаще ее творческие подвиги оставались незамеченными. Они с Рики были уверены, что всему – свое время, но Рики, хоть старалась об этом не говорить, считала, что одним лишь выплескиванием чувств и эмоций на полотно сыт не будешь. У Лии был огромный талант, но не было мастерства. Она делала, знала, что, но не понимала, зачем. Ее творчество резонировало соответственно: нравилось, вдохновляло, завораживало, но не продавалось. Лия не искала причин. Точнее, она была уверена, что причина кроется в недостатке чувства, от которого она творила. И она бросалась на поиски новых чувств и новых эмоций, создавала новые картины, разрушая свою жизнь и жизнь тех, кто ее любил. Многие же ею просто пользовались. Но желаемого отклика все не происходило. На самом деле, то, что она делала, в ее стране еще не было коммерциализированно, не был отлажен механизм повышения спроса на такие произведения. Но понимать это Лии было слишком сложно. Это ее грузило. В общем-то, ее вполне устраивало, на худой конец, и просто признание какого-нибудь очередного любовника. Более благодарного зрителя, чем Рики, нужно было поискать. У Рики было образное мышление, и Лииными картинами она думала. Вообще, Рики встретилась на ее жизненном пути вовремя: Лии как раз была нужна новая батарейка. Рики подошла как нельзя кстати. Таких, как Рики, у Лии раньше не было. Лия даже надеялась, что такое огромное чувство, какое она испытывает к Рики, вдохновит на потрясающие шедевры, которые уж точно завоюют сердца всех. Прикольным было то, что Рики и Лия принадлежали к разным знакам Зодиака. И если Лии необходима была толпа, то Рики всегда искала общества. Но не в смысле некой социальной избранности или благосостояния. Она не выносила душевного плебейства, брезговала стереотипами, особенно в искусстве, которое, по ее мнению, должно постоянно переосмысливаться, функционировать, развиваться. Рики не могла общаться с людьми, для которых был важен статус, деньги, прочие социальные мульки. Тем более что по работе ей приходилось со многими такими сотрудничать, чему она отчаянно сопротивлялась, выискивая себе все более и более творческие должности. Лия же в теориях ничего не понимала. Она была творцом по своей сути, а по характеру – эгоисткой. Ей было нужно признание. Чем большего народу – тем лучше. Она создавала тончайшие вещи, но вместо того, чтобы нести их в дорогой салон, продавала, фигурально выражаясь, на рынке. Она ходила на базар исполнять классическую музыку, стараясь заглушить своей слабенькой скрипкой «По-видимому, девки, цэ любов». Конечно, фиг ей это удавалось. Но после она плакала каждый раз, как ребенок. И Рики ее успокаивала. Она не смела Лию жалеть: собственные амбиции Рики рядом с Лией гасли, как свеча под дождем – Рики считала, что вся она не соизмерима и с сотой частью Лииного таланта. Брожу по городу, как сумасшедшая, Не исчерпавшая своего одиночества Руки-улицы отовсюду тянутся Со всех сторон север и мои полночи. Не слушай меня, юродивую, Душою больной извечную, Слагающую рапсодии, Теряющую их в вечности. Не выносила, не выкормила, Разбила полет-иллюзию, Твои пути возвеличила, Свои дороги – сузила. Стихи болят в бесконечности – Судьба ведь такая маленькая Одиночества – наши чаяния И признаки изначалия. Как это глупо: ждать, что человек, которого любишь, изменится! Со стороны ясно видны и достоинства, и недостатки, которые так и тянет подправить. В общем-то, именно с помощью Рики и могла только произойти в Лии трансформация. Чтобы Лия, наконец, стала искать смыслы в себе, а не в ободранных с любовников чувствах. Рики знала, что по-другому – никак: иначе обе они теряли суть. Они не могли быть друг с другом, не меняя друг друга. В попытках изменить друг друга они творили каждая – саму себя, переставая создавать картины и тексты. Они все время должны были держаться в точке вот этого Земфириного: «Я множу окурки, ты пишешь повесть». Если это состояние исчезало, перемены сразу теряли смысл. Внутренние трансформации каждой из них неизменно сублимировались, они не могли быть принесены в жертву пусть и женскому, но все равно обывательскому роману. Они расставались, изменяли уже сложившимся бытовым привычкам, стряхивали высушенный ил. И – начинали активно меняться. Лия воспринимала внешние изменения: Рики нет, пошли любиться. Заводила страстные, драматические романы. Рики мучалась от Лииных (именно ее!) измен и своих, внутренних изменений. Она ощущала себя калейдоскопом в руках Бога-ребенка, успевающего фиксировать возгласами сменяющиеся орнаменты. Их отношения были спором с ложным аргументом, головоломкой, не имеющей решения. Как варианты возможных ответов предлагались: злость, раздражение, зависть, ненависть. Все они примерялись к замочной скважине. Мольберт пылился, сохли в ручках чернила. По ночам, в разных концах города, они читали «Цветник духовный». Но друг без друга они не могли. Изменения вне друг дружки признавались недействительными. Рики учила Лию работать от собственной, Лииной же, батарейки. А Лия, как специалист в фотоделе, старательно проявляла Рики в жизнь. Это тоже оказывалось делом непростым: если Рики проявилась бы не в свою собственную жизнь, а в чью-нибудь чужую, даже Лиину, кадр считался засвеченным. Но так как своей жизни без Рики Лия не представляла, засвеченных кадров получалось много. *** «Все науки, культуры, языки соединяются в одном целом. В Боге – как же это Целое еще назвать? Мы привыкли воспринимать их как частности – но они вовсе никакие не частности, хотя те из них, в которых мы живем, очень сильно влияют на наше восприятие мира. Если уже в наше время существует понятие междисциплинарности (что бы мы без нее делали), то вскоре все науки сольются в одну-единственную дисциплину – Богологию (не путать с богословием). Она будет познавать Вселенную методами всех признанных и непризнанных наук. И тогда даже школьнику будет раз плюнуть проверить алгеброй любую гармонию, а лингвисту написать текст по созданным инженерами чертежам. Тогда можно будет легко определить с помощью геометрии грани реального и легендарного в «Повести временных лет», развить медицину благодаря психологии, а методы биологии использовать в изучении грамматики. Неспроста уже сегодня в педагогике существует «целостный принцип»: обучение должно реализовывать совокупность пяти измерений. Педагоги говорят о кросс-культурной грамотности, развитии непредвзятого взгляда на мир, осознания состояния планеты и понимания динамики мировых процессов, а также возможностей и последствий выбора… Демократия – выше нашего понимания. Нам сложно представить общество, состоящее из реализующихся личностей. Проще сознавать себя управляемой кем-то массой, функционирующей ради самовоспроизведения и существующей бесцельно. Просто наш разум стал бесцелен. «То, что отличает нас от животных». Ведь, в принципе, раз мы можем понимать, как мы функционируем, то по идее, можем разобраться в том, зачем мы такие есть. Затем, что можем искать Бога внутри себя. Можем искать во вне. А можем – не искать. Или не Бога. Других альтернатив нет. Все-таки, живем в трехмерном пространстве. Мы, только-только получив некоторые новые возможности – словно ребенок машинку! – первым делом заявляем, что мы так и знали, и теперь отправимся в этой машинке в кругосветное путешествие. Позже, когда гаснут софиты, и никто нас не видит, мы берем эту машинку в руки, рассматриваем, пробуем на прочность: поедет ли? Заигрываемся и отрываем ей колеса. Машинки нет. Жизнь – продолжается. Мы не делим явления на плохие и хорошие. Каждому явлению присуще огромное количество модификаций, восприятие которых зависит от наших внутренних состояний. Плохое и хорошее – это не признаки явления, а составляющие. Поэтому нам нельзя причинить ни плохого, ни хорошего: нас нельзя наказать. Потому наш добрый Бог зарекся применять к нам силу. Разве что если мы начнем хамить, когда подрастем. Он может выпороть ремнем, но вообще Он – противник рукоприкладства. Зачем нам давали машинку? Чтобы мы развлеклись, капризничая, или чтоб заинтересовались: сначала одной, потом разными модельками, а вскоре – и настоящей техникой? Играя в песочнице, мы себе глупых вопросов не задаем… Мы привыкаем подчиняться». Рики курила в кафе, пила любимый грог и прикалывалась над своими мыслями. Рисовала их на салфетке: в виде оливок в семейных трусах, в виде зонтиков, которые едят верблюды вместо колючек… Она была печальна. Сегодня ей стало понятно, что люди не знают, что такое любовь. Точнее, что означает это слово. Все, все, все люди перестали, давно перестали это чувствовать. Они перестали петь о любви. Они перестали любить своих детей. Они разучились любить друг друга. Совсем. Рики по ночам снилось это чувство. Но просыпаясь, она его совсем не помнила. И ей становилось очень тоскливо. Детство таяло, как мороженое. Таяли миражи. *** - Как тебе родина Ференца Листа? – спросил Тигра, когда автобусные мытарства в Карпатах и в ночной пробке на мосту через Тису благополучно завершились. Их водила по простоте душевной пробку объехал, на радость дружественным соцлагерным венграм: они его сразу же оштрафовали на 22 евро. Теперь водитель был злой и пытался воплотить свои юношеские мечты о лаврах Шумахера, стебал буржуйскую привычку ездить с включенными габаритами и путал педали. - Нормально! – Рики, осоловевшая от долгой бессонницы, ненавидела водилу и считала минуты до знакомого венгерского генделика. Минут хватало на два с половиной часа, и очень не хотелось в Будапешт. Он ее нагружал, но она с нетерпением ждала Вену. Рассвет ознаменовал первыми холодными лучами солнца большие изменения в ее жизни, железными жалюзи снаружи на окнах домов, ухоженными полями и исчезновением грязных, обшарпанных буренок. Вечером – въезд в Шенген. Автобус – отстой. Из-за него пришлось четыре часа тусовать на скамеечках вдоль трассы, под сенью огромных пропеллеров. Мимо проносились итальянские, немецкие и французские авто – их владельцы приостанавливались, типа, водички купить, и с интересом рассматривали загорающих на лавочках совков. Любопытно, видите ли. Границу Австрии пересекли не без вопросов. Внешние таможни Шенгена - единственные, где украинских граждан бесцеремонно заставляют вылазить из автобуса, выстраивают их по ранжиру в специальном загончике и требуют предъявлять в окошечко морды и паспорта лично. В принципе, нормальная процедура, занимающая десять минут, но проголодавшийся, усталый автобус еще долго поминал неблагородных австрияков, которые не могли никак позабыть нанесенные их дедушкам в Отечественную войну обиды. Австрияки многое, видимо, помнили. А вот благодаря кому они получили независимость в Первую мировую? Рики было страшно оттого, что она пробудет рядом с Тигрой так долго. На душе скребли кошки, которые обычно с ее душой быстро договаривались, внушая необходимость внезапных исчезновений и прогулок самим по себе. Но из мчащегося по Австрии автобуса так просто не убежишь. Она изнемогала. Поэтому приходилось, набрав полные легкие воздуха и сжав кулаки, отвернувшись к окну, терпеливо сидеть в этой задолбавшей быстроходной повозке, переполненной бесчисленными, и к сожалению, бесплотными образами Лии. - Что ты планируешь делать в Вене? – спросил Тигра. Спросил бы еще, что она собирается делать в его сердце! Или в своих мозгах. - Балдеть. Рики Веной бредила. Вена была для нее лекарством ото всех неурядиц. Этот удивительный город контрастов был так на нее похож: Вена и Рики были сделаны из одного теста, в жилах девушки и в улицах города тек один и тот же дух, питающий обезбашенные и свободные организмы любой национальности. Но шикарная, роскошная Вена – ох, хитра, мать! – всем душевно показывала свои скверы, концерты и музеи, и лишь Рики знала, почему старается обойти все это десятой дорогой. Потому что в Вене дело в другом… Ей не хотелось Вену с кем-либо делить. Распростившись с Тигрой и товарищами около памятника Марии Терезии, Рики первым делом уселась здесь же, на деревянной скамейке, с вытянутыми ногами. Было необходимо сменить застоявшийся воздух в легких на вот этот, венский: лечебный, сумасшедший, заколдованный. Нужно было посидеть, осмотреться. Как тут памятники? Они, как Милеи, иногда оживают, и могут стоять сейчас немного не так, как стояли год или два назад. Потом Рики спустилась в подземный переход, который был не только переходом со множеством выходов, но и прелюдией к метрополитену. Она искала свои сюрпризы. Она была пальцем, на котором красовалось кокетливое колечко Ринга. Переход был забит киосками с сувенирами и картами города. И еще был довольно примитивный, но бесплатный туалет. Рики вошла в первую дверь – очереди не было. Она решила дождаться людей и занять за ними. Присела на корточки, опершись о кафельную стену. Железная дверь дернулась, и в туалет вошла девушка лет восемнадцати-двадцати, продвинутого вида, как многие фройляйн ее возраста в Европе. Не обращая на Рики никакого внимания, она вытащила из рюкзака фольгу, развернула ее и стала старательно разглаживать. Затем она высыпала на эту фольгу коричневато-серый порошок и стала выжидающе рыться в карманах, разыскивая остальные предметы для совершения своей нехитрой алхимии и ожидая, когда все лишние из дабла свалят. Рики, советский придурок, сидя рядом, зачарованно смотрела на эти приготовления. Вот и первый подарок. Воплощенное производное от имени Рики и картошки фри. В туалет заглянула девчонка из Рикиного автобуса. Ошарашенно кивнула головой в сторону наркоманки: Рики, мол, а это чего такое? - Видишь, у нас народ поскромнее будет! – громко стебанулась Рики. Австрийка, словно кипятком ошпаренная, резко и совершенно осмысленно взглянула на нее, впилась в Рики долгим, медленным взглядом. Рики даже стало не по себе. Девчонка наверняка ничего не знала по-русски, но она занималась своими приготовлениями с таким отрешенным и сконцентрированным выражением, что казалась куклой – и вдруг такая яркая эмоция! Раньше Рики подобных лиц не встречала. Предел концентрации. Как у самурая. - Да ладно, Рики, ты конкретно не права! В Австрии – очень высокий процент безработных и алкоголиков! – уверял ее как-то Тигра. - А по-моему, в Вене – всепоглощающее чувство безопасности, шумная жизнь реально начинается в одиннадцать вечера, и народ толпами гуляет ночью. И даже после двух-трех носятся стайки яркой пионерии, - убеждала его Рики. - Пионерии? А взрослых нефоров ты видела? - Представь себе, да. Тигра, помнится, побледнел. - Я наткнулась на них на выходе из метро, рядом с Бабочкой, - продолжала Рики. - Наши «трубочисты» сразу вспомнились мне милыми зайчиками, не то, что эти австрийские убоища, пахнущие страхом и любопытством, как уличные собаки. - Дальше я знаю: ты познакомилась… - Тигра предоставлял Рики окончить фразу. - К твоему счастью, я не знаю немецкого. Для инглиша же они совсем упитыми были. Правда, у них там стена классная – какой-то уличный арт. Я ее сфоткала, Маруське в подарок: ее такое прет. А чувакам нравились мои феньки. - …И бесстыдная славянская морда! - Ка-анечна! Но пытаться увидеть в них что-то цивилизованное – бес-смыс-лен-но. Грязные трусы масскульта. Я помню, они выглядели модно, со всеми примочками, но откровенно запачканные и укуренные. Их было очень много. - Там обколотые все больше тусуют. Нужно лучше знать нравы буржуазных стран! – Тигра слушал Рики и взволнованно улыбался. – Ты хоть целоваться к ним не полезла? - Ты мне еще, аки мама, запрети общаться с нехорошими мальчиками! Попустись. Я тогда была в шоке: как? в высокопарной Вене? Детские площадки, художественные скверы, умиротворенные набережные, велосипедные дорожки и места для прогулок этих приколотых… те пункеры и близко не показались мне «своими», не стану врать. Какие они мне свои! - Или ты им… - Да. Вот она, венская обезбашенность: обколотые юнцы гирляндами обрамляют тротуары центральных штрассе, смотрят, никакенные, в одну точку, и их никто в обезьянник не тянет. Ну, такое природное явление. Национальные достопримечательности для ознакомления туристов. - Они аккумулируются себе в переходах, и может быть, их совсем не много, и легко контролировать их, когда они на виду, - принимался размышлять Тигра. - May be… *** «Ночью оттаял Дунай…» 350 километров австрийского Дуная. Рики часто пыталась вообразить, как бы выглядел Крещатик, если б Дунай протекал ровно в его середине? Такой вот узенький Дунай, как в Вене. Как раз по длине крещатицких подземных переходов. Характер города был бы совсем иным. В Вене у Рики случались истерики. Она приезжала в этот город, чтобы отдаваться ему, так, как она не могла отдаться ничему другому. Вена поглощала ее всю и заставляла надолго забыть о чем бы то ни было. Рики вынырнула из шумных колодцев улиц, выплескивавшихся на набережную. Рядом красовалась старинная обсерватория. Здесь, неподалеку, в тенистом парке, у Рики и была назначена встреча с одним интересным персонажем. Вообще, в Европе девушки на улицах не курят. Дурной тон. Рики очень стеснялась, если с сигаретой попадала на глаза какому-нибудь туземцу. Но сейчас была глубокая ночь – вряд ли ктото набрел бы на одинокую девушку, смолящую сигарету в старинном венском парке. Она села на скамейку на берегу озера, закурила и стала наводить порядок в расхристанных мыслях. Она ощущала тогда, что поездка ей не сулит ничего хорошего. Расстаться с Тигрой для нее было бы бедой, которая, почему-то, замаячила на горизонте. - Вряд ли я думала, что этот человек сможет быть со мной, любить меня на самом деле. Я просто очень хочу, чтобы меня любили. Для него я оказалась не злой девочкой, не умной девочкой, не очаровательной девочкой, не необыкновенной, а никем. Только с ним я становилась такой как все, - подробно рассказывала она дереву неизвестной породы, росшему по соседству со скамейкой. С Тигрой она переставала быть ненормальной. Он терпеть не мог, когда Рики убегала. А ей снилось счастье, в котором не было покоя. - Здравствуйте, украинская фройляйн! - Добрый вечер, товарищ Бетховен, - Рики улыбнулась своему собеседнику. – Я давно уже вас жду. Беспокоилась, что не различу вас среди памятников. - Да, давненько мы не виделись! – Бетховен хитро прищурился. – А почему «товарищ»? - Это шутка. В глубине души Бетховен сочувствовал коммунистическим идеям. - А-а… Ну что, Рики, как вам венские девушки? - Жаль, что их не продавали в нашем институте. - Что??? Девушек нельзя продавать! - А булочки – можно? - Да, вы правы. Сплошная дискриминация. Булочек тоже очень жалко. - Девушки в Вене – двух пород. Одни – дочки черных догов, другие – ошибки юного коккера. Первые невероятно красивы и фантастически строги. В набор входит пучок из волос, темно-синий костюм, велосипед. Вторые – взъерошенные, проглюченные восьмой фортепьянной сонатой. - Почему? - Сами подумайте, какой должен быть товар, чтобы в Вене не глючило музыкой? - «Патетической»? Вы мне льстите… - И не думаю. Хоть разочек загляните в киевскую среднюю школу на урок музыки. Ну что, давайте начнем? - Давайте. Хотя, Рики, мы так редко имеем с вами «стрелка»! Может, фиг с ним, с интервью? Так поболтаем? - Делу время – потехе час. В прошлый мой приезд сюда интервьюируемым был господин Клаус, некогда посол Австрии в Украине. Помнится, я приперлась в его посольство, с перепугу, в короткой юбке. Ну, костюм, типа, все такое, статус, удостоверение. Умная была, восемнадцатилетняя. Не знаю, как шотландцы в юбках ходят, - мне сия наука никак не дается. Я ощущала себя слоном в кимоно. Раз и навсегда в тот день решила: статус – говно, я – тоже, из двух зол выбирают меньшее. По возрасту. На следующий день явилась в посольство на вычитку в репперских штанах, откуда-то из-за угла выскочил дедушка Клаус, помахал рукой, крикнул «Привет!», похвалил материал и побежал дальше творить международную политику. В тот день я на многое забила в жизни. - О, статус! – Господин Людвиг цокнул языком. - Стоуна не читали? Это просто комплекс высокомерия. А его оборотное проявление – самоуничижение, понимаете? - О, да! Фиг с ними, тупыми заморочками, нужно быть самим собой, творить и отрываться! Мне кажется, скоро австрийский парламент примет соответствующий закон… *** - Итак, господин Бетховен, вы, несомненно, помните, что в 2005 году Будапештской музыкальной академии исполняется 130 лет. Не вспомните ли вы, чье имя она носит? - А чего тут вспоминать. Ее основал Лист, этот симпатичный мальчишка. Помнится, я поцеловал его. Он играл как-то в моем присутствии…Ну, потом средства массовой информации раструбили, будто я его таким образом благословил… Ерунда. Талантливого человека целует Бог. - Но ведь в вашей жизни тоже был подобный случай… - Вы о моем знакомстве с Моцартом? – Бетховен скромно улыбнулся. – Ему было за тридцать, а мне – только семнадцать. Кем я был для него? Но я в то лето был полон надежд. И тут - такая встреча! Сам Моцарт! Ему нелегко приходилось в Вене: все завидовали, распускали сплетни… Современная желтая пресска – фигня по сравнению с тем, что тогда говорили. Но я им восхищался. Мечтал брать у него уроки. А в сентябре умерла моя мать, мой самый близкий друг, и мне пришлось вернуться в Бонн, где прошло все мое детство. Нужно было поднимать младших братьев… - Но ведь еще до ваших первых концертов в Вене вы уже были известны! - Какое там! Это у Листа была яркая судьба… Я же почти с рождения пахал на органе, клавесине и скрипке, зарабатывал деньги. Мои предки – и отец, и дед – служили придворными певцами в Бонне. Отец обучал меня самостоятельно, уготовив мне свою же судьбу. Педагог он был весьма посредственный, толку от учебы не оказалось никакого. Но тогда, в раннем детстве, мать повезла меня в Голландию, где мои импровизации имели успех. Может быть, нам не стоило оттуда возвращаться. Все же, вторая родина… После смерти матери отец спился, а я поступил в Боннский универ на философский. Вы не слышали мои революционные песни? - Не-а, не приходилось. Это правда, что вы учились у Сальери? Что, Моцарт вас уже не восхищал? - У Моцарта тогда были большие проблемы. О нем совсем забыли. Вольфганг Амадей жил в небольшом доме на одной из улочек Вены и дописывал музыкальное сопровождение собственных похорон. Как в воду глядел: ему оставалось не более полутора лет… Вы намекаете, что это Сальери помог ему на тот свет отправиться? Пушкин, конечно, талантливый юноша… Но поймите: Моцарту завидовал не только Сальери! Жаба давила всю Вену! Сложно себе представить, сколько затаенной злости хранят утонченные, аристократические венские улицы! Ха, я читал в книжке, что Австро-Венгрия владела Украиной! - Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Не будем отвлекаться. (Редактор берет ножницы, нечистоплотно матерится и вырезает сие). - Ладно. Я действительно учился у Антонио Сальери. Так посоветовал мне великий Гайдн. Именно благодаря Гайдну я вернулся в Вену, чтобы покорить ее… - Вам не жарко в эмпиреях? - Да ну, иногда кажется, что все это мне просто приснилось. Гайдн случайно услышал в Бонне мое выступление, и забрал меня и моих младших братьев в Вену. Через 11 лет, 2 апреля, состоялся мой первый открытый концерт в придворном театре. В День смеха я выступать не решился. - А через год вы уехали в Венгрию? - Да, и там моя жизнь круто изменилась. Судьба сыграла со мной злую шутку. Я влюбился в семнадцатилетнюю итальянку. Она с ума сходила от меня. Ей нравилось, что я шастаю в одиночестве по лесу, и неизменно притаскиваю домой новую гениальную сонату. Джульетта (какое имя!), конечно, сама пыталась немного играть. Брала у меня уроки. - И как, успешно? - Девушка, не хамите! Вы ж понимаете, я был весь в музыке. А она была вся графиня. В общем, зиму и весну я провел в Гейлигенштадте, под Веной. На природе. Честно говоря, я болел. Глухота косила наши ряды: такие же точно проблемы, я слышал, были у Маши Башкирцевой… Это правда, что она – украинка? - Она родилась в Украине. Не отвлекайтесь! (Сие редактор тоже вырежет). - Ну и что вы думаете? Юная Гвичарди… - Думаю, она вышла замуж. - Той же осенью! Представляете? В общем, я написал Девятую симфонию и окончательно потерял слух. Ромео из меня не получилось. - Что ж, если бы вы посвятили «Лунную сонату» не ей, а какой-нибудь симпатичной австрийке… - Это было невозможно! Их интересовали только йодли. Блатной квадрат. *** К лавочке на берегу озера подвалили Шуберт и Шопен. Интервью пришлось прервать. - Рики, привет! Здравствуйте, товарищ Бетховен! - Привет! А почему “товарищ”? – Людвиг ван возмущенно откинул назад голову и посмотрел на молодых людей из-за плеча. - Шутка! – Хором отвечали они. – Баха! - Вот была бы шутка, если бы Мендельсон-Бартольди не нарыл в библиотеке его рукописи! – пробурчал Бетховен. – Путь радуется, шутник! - Слушай, Рики, у вас в стране еще не написали “Прикол” какой-нибудь? – улыбаясь, спросил Шопен. - Есть у нас такой композитор – Верка Сердючка. Инструментал возлагает на нее большие надежды. Послушайте на досуге, всем вам будет интересно. - Господин Бетховен, я давно хотел вас спросить: почему вы умерли, так и не дождавшись моих концертов в Вене? – задиристо спросил Фредерик и предусмотрительно отошел подальше. - Сопляк! – Бетховен стянул с головы парик и швырнул им в Шопена. - А меня вы случайно не помните? Вы же наверняка должны были слышать мои выступления! Может припоминаете, я балладу играл одну, “Лесной царь” называется. На стихи Гете, подступился к мэтру толстячок Шуберт. - И ты сопляк! – воскликнул Бетховен и потянулся рукой к лысой голове. – Ой, я же без парика! - Да ну, забейте! – Шопен осмелился и подошел поближе, протягивая старику парик. – Мы, вообще-то, за вами. На летней сцене сейчас начнут симфонию ля мажор. Ты пойдешь, Рики? - О, Моцарт! – Людвиг засуетился. – Что ж, Рики, печально, но что поделаешь: пора прощаться. Желаю всего хорошего! И не пиши обо мне никакой хреномуди, O.K? Прихрамывая из-за натиравшей туфли, он порывисто побежал к выходу из парка. Шопен и Шуберт, усмехнувшись, переглянулись. - Круто, что ты снова приехала! Как тебе наши велосипедисты? Не наезжают? – Шопен щелкнул зажигалкой. – Ты в курсе, кстати, что я так и не вернулся в Польшу? - Не ври. В Польшу вернулось твое сердце. Если не ошибаюсь, его замуровали в стену собора Святого Креста в Варшаве. Шопен стушевался. - Ну, могла бы и промолчать… - Он надул губы и обиженно посмотрел на Шуберта, ожидая защиты. - Чего ты расстраиваешься, Фредерик? Ты же у нас бессердечный! – Шуберт равнодушно затянулся дымом. – Слушай, Рикуш, а подолбить нету? - Я не курю траву. - Извини, забыл. Ну, рассказывай, где ты побывала сегодня? - Проходила курс антисовковой терапии. На… забыла название улицы. Она залита огнями витрин, напоминает киевский Пассаж, только гораздо шире и длиннее. Попадаются красивые фонтаны, окруженные скамейками, или просто лавочки под волшебными фонарями. Со всех сторон, на нижних этажах домов, светятся огромные витрины. Повсюду сувенирные лавки, магазины одежды, музыкальные – вот так идешь – магазины, магазины… И кафе. - Как на Крещатике? – Спросил Шопен. - Да, но все гораздо масштабнее, ярче и богаче. Улица – полновластное владение пешеходов, красивой, спокойной, удовлетворенной жизнью публики. Кстати, в Вене на этой улице, как мне показалось, очень мажорный народ прохаживается. - Мечта каждой женщины! Изобилие магазинов и богатых мужчин! – хихикнул Шопен. Шуберт курил, не перебивал и внимательно слушал. - У всего есть противоположности. – Рики сделала большой глоток пива из бутылки Шуберта. – Даже у того явления, которое ты именуешь женщиной. Знаешь, впервые попав в эту улицу, я, помню, совсем перестала соображать и очень испугалась. Настоящие роскошь и богатство очень меня испугали, оказавшись банальными границами моего восприятия. - Почему? - Я не против иногда выпить кофе в дорогом ресторане, хотя думаю, это неудачное для кофе место. Но в роскошном дворце, как австрийцы… По-моему, это уже слишком. Так вот, эта улица когда-то стала для меня этим самым «слишком». Я глотала воздух. У меня был глубокий шок. Я не знаю, было ли мне хорошо или плохо. Просто это было не для меня! Я была бы не против знать теоретически, что есть люди, у которых – такая жизнь, которые ходят по таким улицам, но мое присутствие там было смешным, несуразным. Мне очень хотелось, чтобы прекратилась эта толпа, эти огни, эти огромные ровные дома, этот шум, эта музыка уличных музыкантов… Хотя бы на пять минут, чтобы я могла очухаться. Я потерялась на этой невыносимой улице внутри себя. Сидела на лавочке под фонарем, и мне было безумно страшно, я была одна на всей планете. - Знаешь, об этом нужно написать музыку! – оживился Шопен. - Хлынул дождь. Столики завернули в скатерти, и уличные кафе исчезли в одну секунду. Респектабельная толпа рассеялась по ресторанчикам. Осталась лишь эта длинная каменная улица в огнях, с магазинами без порогов, и я под фонарем. - Подожди, не так быстро, я записываю! – Шопен корябал ручкой по нотным листам. - В расщелине домов я увидела маленькую темную площадь и нырнула туда. Несколько полуосвещенных громадных витрин на средних этажах черных зданий – гигантские затемненные витрины, в которых сидели за столиками страшные австрийские люди, в пиджаках, с газетами, и чинно пили кофе. “Так вот они какие, буржуи!” – подумала тогда я. И вернулась назад, в этот сияющий ужас. Я была в состоянии просроченной сосиски: не годна уже ни на что, остается лишь подцепить вилкой и выбросить вон. Мне казалось, что вот-вот меня выкинут из этого сна, в котором мне привиделось все то, о чем я в жизни не знала. - Надо было ехать в Гюртель. - В дупель? Сам езжай! На самом деле, возможно, надо было. Но я обломалась… Ну что, провожу вас немного, - проговорила Рики, расстроенно глянув на часы. Она очень устала трепаться. За воротами парка Шопен и Шуберт распрощались с Рики около сахарно-ажурной беседки, оказавшейся на поверку сценой, залитой светом, на которой играл волшебный симфонический оркестр, а на площадке около сцены кружились в вальсе красивые пары. Мечта начальника киевского управления культуры. Рики не стала слушать Моцарта. Действо наверняка затянется до утра, а у нее, как у Золушки, времени было всего-то полтора часа до отъезда в Италию. Рики бродила улицами, шарахаясь от светящихся массивных дворцов, широкие двери которых были распахнуты настежь, хвастаясь пурпурными коврами и покачиваясь отражениями в пьяном хрустале. Сама Вена – большущий дворец. Рики не могла привыкнуть к Вене. И была счастлива в той безмерной любви, которую ей радостно дарил этот город. Вена отдавала всегда очень много, но никогда – всего. Вена была покорна и самодостаточна. Она была настоящей женщиной. С кольцевым обрамлением. Вена в мировой цивилизации уже состоялась. А Киев – еще нет. Для Киева anything goes. И это вдохновляло. Долгие часы посреди гигантской Вены, в состоянии отрешенного, неизъяснимого одиночества. *** Лия вернулась в Киев в конце июля. Тигра был в Италии, Рики уехала в Австрию. Лии было немного жаль, что они с Рики не отправились вместе. И еще напрягало, что Тигра уехал с Рики в одном направлении. Крейзанутый город скрипок и нариков… За окном валялась тяжелая, как спившийся бич, погода. Лия смотрела на блестящее холодное солнце, скатывающееся по наклонной, и пыталась представить на некой плоскости, кроме близкого и ощутимого Киева, еще и нереальную, может быть, вовсе не существующую Вену. Где смещаются времена, перемешиваются нравы, исчезают ожидания. Где-то там, около собора Святого Стефана, бродит маленькая Рики. Тигра, помнится, очень обрадовался, когда она, Лия, как бы между прочим сообщила ему о предполагающемся отъезде Рики в Австрию. Он сказал, что Вена для Рикиной души – сейсмически опасная зона. Оказалось, проявлять Рики в реальность были способны не только люди, но и некоторые города. До такой степени, что она даже начинала хотеть детей. От Рима - мальчика, от Вены – девочку. Местные жители с радостью предлагали свои услуги, но их предложения, конечно же, игнорировались. «Вы же – не города!» Лия Рики ревновала. На Лию смотрел закат. Небо раздевалось перед сном, танцевало стриптиз. В ночи небо оказалось негром. Может быть, Тигра еще до отъезда расстался с ней…Может быть, он смог ей все объяснить… Рики бесило, когда Лия с Тигрой говорили о ней за ее спиной. А они последние месяцы все время так поступали. Рики была единственной темой всех их ночных разговоров. Тигра упрямо старался переубедить Лию в том, что лучше бы Рики оставалась с ними, и жили бы они одной семьей дружно и счастливо. Лию, честно говоря, задолбали оба. Она всегда искала простые выходы и только для самой себя. Но она точно знала, что делить Тигру с кем-либо еще, путь даже с самой любимой на свете девушкой, ей не выгодно. И она перед тем, как уехать в Яремче, произнесла своё окончательное «нет». Рики об этом не имела понятия. Лии не хотелось ей объяснять. Было одно только желание: проснуться наутро и о Рики больше не вспомнить. И отправиться на розыски нового любовника, которому уж точно бы не удалось проникнуть ни в Лиину душу, ни стать для Лии иной реальностью. Пускай Рики будет тенью преследовать ее в снах. Но уж лучше пусть все любовники будут частью этой банальной, мещанской жизни, знают свое место и никогда не становятся для Лии большим, чем она сама. А Рики… Сама виновата! Нечего носиться по жизни, превышая скорость. Вена наверняка смягчит удар. *** Улицы в Вене – длинные каменные рельсы, сквозь которые попрорастали громоздкие строгие дома. Улицы, сверху покрытые высоким звездным небом. Вена, как и любой другой готический город – точно корзина: улицы разлетаются лучами от больших и маленьких площадей, и поперек радиусов связываются лозинами переулков в плетеное полотно. Вена – как спил старой дубовой ветки. По тонким капиллярам улиц Рики выбралась к знакомой кафешке у Троистой колонны. Прикольная официантка, выражавшаяся неудобоваримой бурдой из смеси итальянского с немецким, подбегала каждую минуту, стремительно смахивала все со стола, а потом ставила обратно. Рики игра нравилась: при возникновении официантки нужно было быстро хватать в руки чашку, тарелку, пепельницу и держать все это в руках, пока та, пошарив своей темпераментной тряпкой по столику, не исчезала за стойкой, впрочем, только для того, чтобы через три минуты со своей тряпкой появиться у столика снова. За кофе Рики вспоминала, как Лия дарила ей подарки. «Она всегда дарит мне подарки, как наивный ребенок, в знак примирения или в знак радости, причем через пять минут снова портит мне настроение так, что мне уже не до подарков. Потому я очень боюсь, когда она дарит мне чтонибудь! Для нее дарение подарка означает, что акт доброты в мой адрес полностью совершен, с меня довольно, и теперь обо мне нужно надолго забыть. Мне же – как тупо! – важна сущность подарка, желательно, позитивная. А когда подарок – только лишь очередной знак аналогического общения, он меня печалит. Как и все в Лии». Но не думать о Лии не получалось. Рики очень сильно беспокоило одно нелюбимое ею ощущение. При его появлении хотелось, как со столика, схватить в руки чашку своей любви, чтобы ее ненароком не смахнула гиперактивная официантка. Хорошо, когда остается блюз, если любовь уходит. А вот если человек, которого любишь, теряет человеческий облик, не просто закрывается от тебя, не просто отдаляется, а вообще перестает быть человеком – вот это, пожалуй, самое страшное. Любовь, не любовь – но тут уж пытаешься достучаться, отогреть, как Кая, стараешься понять, понимая, что ничего не поймешь, потому как понимать нечего… Страшно видеть свой конец в любимом человеке. Страшно ощущать, что тебя в нем больше нет. Страшно понимать, что взаимной любви меж людей теперь не бывает. Таков конец их любви, у которой не было начала. Невзаимной любви. Это конец любви, которой просто не было. Но человек-то был! И хочется его тепла. А он – все меньше похож на человека. Или ты в нем – уже труп? И повсюду – лишь вонь разложения гнилой памяти. Спасаешься по сохранившимся чудом кусочкам паркета. И любишь, любишь, любишь… После Рики сидела на тротуаре и делала наброски Троистой колонны. Бездумно водила карандашом по бумаге, надеясь захватить хоть один какой-нибудь элемент. Вена выпита почти до дна. Остался последний глоток, и – время бежать на автобус. Но как-то фигово все… Кто-то на ее месте отымел бы Вену и спокойно б уехал. Рики не хотелось иметь: зачем стремиться к чувству, когда Вена и так проливается чувствами внутрь её души? Рикуше было привычно ходить по краешкам судеб. А здесь, на площадях душ соединялись, как улицы, миллионы фатумов. Иметь всё это не хотелось, все было без имени, без имения, а чтобы впитать, чтобы назвать, необходимо больше времени. Больше времени не бывает. Рики иногда могла растягивать моменты, но сегодня был не ее день. Она пила остатки своей Вены и впитывала кожей Вену чужую. Можно было бы сказать, что она чувствовала себя одинокой старухой, слушающей в себе звенящую пустоту покинутого всеми пространства. Но Рики не так ощущала. Ее реальность была забита до отказа всевозможными явлениями и образами, семами и цифрами, логосом и эросом, как ракета, взвивалась вверх и переворачивалась факелом салюта в альбом для рисования, который Рики всегда носила с собой в кармане. Рики реагировала на бушующую вокруг нее жизнь, как на электрический ток. Жизнь была и внутри, разряд за разрядом… Как говорил, кажется, Караченцов в «Цирке»: если видишь перед собой смерть – значит, ты болен. Рики видела жизнь. «Вы меня не теряете!» *** Лии на мобильный позвонила Маруська. - Слушай, ты не знаешь, Рики в Киеве? - Нет. - А-а… Я не могу ей дозвониться на мобилу. Вышел их с Лениным материал сегодня: умора! У нас в редакции все матерятся, обзывают Рикушу выскочкой. Ты уже читала? - Нет. Это хорошо: главная постпозитивистка всех времен и народов – выскочка! - Я скину тебе текстик на мейл. Почитай обязательно, потом Рики проинформируешь, хорошо? А то у меня работа. Лия не успела объяснить Маруське, что вряд ли у нее теперь будет возможность, а точнее, желание что-то Рики передать. Но открыла почтовый ящик. Текст был длинным. Назывался он «Выбери меня, выбери меня, птица «Голубь» завтрашнего дня!» В начале июня Киев ожидает «главное рок-событие лета» - совместный концерт групп «Лелик» и «Болик» в киевском Дворце спорта. Об этом головокружительном событии столичные журналисты узнали из пресс-релиза известной промоутерской компании «Стопка», курирующей молодежный фестиваль «Голубь». Как следует из данного пресс-релиза, мы не просто дорогие друзья, но нам даже «рады сообщить, что кому как, а вот для всех нас приход лета, кроме перманентного солнца, будет ознаменованным всякой массой различных событий, в том числе и от фестиваля «Голубь». который и обеспечит это самое, как выразились авторы релиза, «энергоизлияние» - концерт, о коем сказано выше. То есть, такие имена, как «Slade» и Кен Хенсли (которые тоже собираются выступить в столице) отдыхают. Хотя, ясное дело, на вкус и цвет… Пресс-релизы «Cтопки» читать – всегда одно удовольствие, но данный в нашей редакции вызвал ажиотаж. Журналисты прибегали утром на работу с надеждой сообщить сотрудникам потрясающий ультиматум, который «Cтопка» предложила «дорогим друзьям»: «Просим всех желающих посетить пресс-конференцию и концерт групп «Болик» и «Лелик» звонить и писать в компанию «Cтопка». Условием аккредитации, как всегда, является анонс события. Размер анонса - не менее 1/2 газетной полосы либо 2 анонса меньшего объема. Для телеканалов – 2 анонсирующих сюжета (видеоматериалы можно переписать в «Cтопке».). За качественными фото и текстом анонса (в случае необходимости) обращаться в ближайшие дни». Мы, было, кинулись к компьютеру, срочно строчить анонс – чтобы всенепременно попасть на «главное рок-событие лета» бесплатно. Потом немного подумали – и уселись в кресла. Ждать, что же напишут в ближайшие дни наши собратья по перу из других изданий. Первая же «ласточка» в половину газетной полосы в каком-то еженедельнике не заставила себя ждать. С нетерпением стали читать, но нас ожидало разочарование: текст был без купюр переписан с пресс-релиза «Cтопки». Впрочем, столичные пишущие орлы и раньше не перетруждали свои перья, поднаторев в компьютерной каллиграфии. Нас удивил, скорее, сам пресс-релиз, написанный, естественно, в помощь меньшим братьям мощной промоутерской компании – музыкальным обозревателям. Если в Киеве таковые имеются, они же не станут, из-за неоспоримой загруженности работой, вникать в детали, а попросту кинут текст релиза на газетную полосу – хорошо уже, если ошибки исправят… В этом пресс-релизе сотрудники «Cтопки» сообщают столичным журналистам, что в последнее время активно лишали куска хлеба МВД и СБУ: «Как сообщала «Cтопка», в мае этого года некими аферистами была предпринята попытка нечестного «отъема денег у населения» путем продажи липовых билетов на концерт этих групп, который не планировался, и о котором сами группы понятия не имели. Афера с этим концертом была раскрыта совместными усилиями продюсера данных групп и оргкомитета фестиваля «Голубь»…». Специалисты компании, конечно, герои, но пусть все же пояснят нам, неотесанным, как можно отнимать деньги честно? Видимо, продюсерам групп, о которых идет речь, «Cтопка» объяснила это доходчиво, после чего «было принято решение: если «Болик» и «Лелик» кому-то и доверят организацию своего большого концерта в киевском Дворце спорта, то только «Голубю» всеукраинскому фестивалю с известным именем и сложившейся репутацией». Хорошая самореклама, не правда ли – дешево и сердито? Молодцы! Нам есть чему у вас поучиться! Теперь о следствии и колобках подробнее. «Пресс-релизы. Фестивалем «Голубь» раскрыта афера с киевским концертом «Болика» и «Лелика». На днях компании «Cтопка». стало известно о концерте групп «Лелик» и «Болик», который якобы должен был состояться в киевском Дворце Спорта 18 мая 2003 года», - сообщают промоутеры. Таким образом, точной датой начала сыскной деятельности компании является «на днях». Когда, что стало известно, и когда должен был состояться концерт, которого не должно было состояться, мы из текста релиза не поняли до сих пор. А вы говорите, лето, солнце… Скорее, перманентные новости. Осетрина второй свежести. Впрочем, времена года меняются, словно звезды в калейдоскопе, и в том же релизе «Cтопка» предлагает нам проанонсировать уже июньский концерт вышеуказанных групп… Вот уж нет сомненья: к талантам по ночам приходит муза, к музыкантам раскрученных групп – промоутер. Зачем – рассказывать не будем, продолжим - о последствиях. Следующий комментарий высосанного из пальца рекламного хода – «скандала» вокруг незаконного анонса майского концерта московских гостей работниками пресловутой компании был дан на откуп журналистам: вот вам слова чиновников, вставляйте их в контекст, какой хотите. Ну что ж, если нарушать закон – так всем вместе. Раз высказывания должностных лиц приведены в релизе, перепишем их и мы - без зазрения совести: «Это не просто «кидалово», фактически – то же самое пиратство, явление в нашем шоу-бизнесе нередкое, - комментирует ситуацию Клан (руководство компании – прим. авт.), - это самая настоящая провокация против фестиваля «Голубь», который состоится именно в этот день!..». Позвольте поинтересоваться, в какой? Дальше он говорит, хотя мы этого и не слышали, но верим «Стопке»: «Слава Богу, нам удалось предотвратить массовый обман, которому могли поверить тысячи киевских меломанов, успокоить наших давних друзей и партнеров в Москве, которые стали всерьез опасаться за репутацию «Болика» и «Лелика» в Украине». Мы, например, поняли этот комментарий так: у нас в шоубизнесе «кидают» при помощи парусов и абордажных крючьев, а где-то, на далеком острове, есть шоу-бизнес, на котором это явление – редкое. Провокация же против фестиваля «Голубь» катит (выражаясь сленгом уполномоченного лица) на высшую меру, а «пиратство» в отношении творчества гостей из России – это неприятность, конечно, досадная… Далее, судя по мнению авторов пресс-релиза, в игру включаются Киевсовет и Верховна Рада: «Я как депутат Киевсовета не могу остаться в стороне, - добавляет Клан, - и считаю своим долгом обратиться к коллегам в Верховной Раде, которым давно уже следовало бы принять закон о лицензировании концертной деятельности в Украине. Без этого закона любой «комбинатор» может выпустить в продажу билеты, и большой процент зрителей, людей, в общем-то, доверчивых, может «повестись» на внешне правдоподобную афишу и потерять деньги. Другого цивилизованного способа защититься от концертных афер не существует». (Орфография сохранена). Приятно, конечно, что большой процент зрителей у нас доверчивый (как это в народе называется?..) Но вот о нецивилизованных способах защититься от концертных афер хотелось бы узнать поподробнее! Естественно, «коллеги в Верховной Раде» в ближайшее же время бросятся на амбразуры – защищать российских музыкантов от всеукраинского «пиратского» беспредела. Мысль об этом будет еще долго охлаждать наши журналистские души в жаркие летние вечера… Познакомили нас заочно и с виновниками дыма без огня: музыкантами групп, выступление которых в Киеве станет «главным рок-событием лета». Весело: только у трех членов группы «Болик» есть фамилии. Для остальных же обозначены только их любимые сценические псевдонимы: Рыжий (понятно, Болик) и Леший (понятно, Болик). Даже у небезызвестного актера ныне, а в прошлом кик-боксера Дона Вилсона в афишах значилось: Don (Dragon) Wilson. А наши герои всеми силами стараются отвечать принятому у лиц пубертатного возраста, пёсиков и зеков стилю: вместо имен носить клички. Видимо, это очень “продвинуто”… А у второй группы, которая вместе с “Бо” посетит Киев, как ни странно, фамилии имеются! Что касается “Лелика”, в релизе о нем сообщаются “последние новости”: «Прошлый год начался для группы «Лелик» с моратория на гастрольные выступления - музыканты взяли тайм-аут после продолжительного тура «Чаплин», в который ездили с группой «Болик» в течение 2001 года. Исключение было сделано лишь для зарубежных вояжей - в январе «Лелик» выступил в лондонском клубе «Астория-2», а в феврале дал концерт в Тель-Авиве. В мае список заграничных выступлений пополнился концертами в Берлине, прошедшими в рамках Фестиваля русской культуры в Германии». Таким образом, слово «мораторий» обретает свое словарное значение лишь в пределах родной страны и на сбор денег по заграницам априори не распространяется. Далее нас уверяют, что «по итогам 2002 года сайтом nepopsa.ru «Лелик» был назван «лучшей отечественной группой», а также был номинирован в категории «лучшая рок-группа» на получение премии канала «Муз-ТВ». А мы то думали, что рок-группы – это те, которые, как минимум, играют рок! И были уверены, что для псевдорокеров существуют более адаптированные определения, как-то: русский рок, брит-поп, поп-рок, готик-рок, гомик-рок и т.п. Жмем руки товарищам, делающим вышеуказанный сайт: как музыканты вы потрясающе компетентны! Мы по сравнению с вами – всего-лишь киевские журналисты, и вручать музыкальные премии до сих пор не додумались. Сидим тут, в редакции, читаем релиз: «12 ноября (ровно через два года после своего первого московского концерта в СДК МАИ) в клубе «16 тонн» «Лелик» отыграли специальный концерт для 300 поклонников, билеты на который не поступали в открытую продажу, а разыгрывались на сайте коллектива». И долго прикидываем: если речь идет о московском клубе, расположенном неподалеку от станции метро «Ул. 1905 года», как в нем вместилось аж 300 человек? Три пехотных роты солдат… Журналистская школа учит не отзываться негативно о работе коллег. Хоть пресс-релиз агентства нас и насмешил, мы, в общем-то, не о глубокоуважаемых друзьях из «Cтопки». Откровенная дешевизна пи-ар акций компаний-монополистов еще долго будет хорошим поводом для написания «музыкальных обозрений» столичными журналистами. Мы же, как все, любой ценой готовы заполучить заветные «бейджики», чтобы собственными глазами узреть «главное рок-событие лета». Как видите, наш анонс на полполосы уже готов. Осталось лишь запросить у «Cтопки» ею обещанные качественные фото… Не успела Лия дочитать до конца, как ей на мобилу, ухохатываясь, снова позвонила Маруська: - - Ну что, прочитала? Не знаю, кто из них умнее – Рики или Ленин, только теперь с ними никто сотрудничать не будет! Хотя ребята правы: этой «Стопке» надо бы президентские выборы курировать… Я уже задолбалась в их пресс-релизах ошибки исправлять. Если такой релиз начальству в руки попадет, меня тут же и убьют, за то, с кем я сотрудничаю! - Не понимаю, Машка, им что, больше всех надо? – Лии была недовольна материалом. - Кому? - Ленину с Рики. Дебилы! - Ха! Ребята из той газеты, где вышел этот текстик, знаешь что сделали? Они отправили его мейлом по базе во всевозможные издания. Коллегам, почитать. Оказывается, люди из других газет проговаривались, что Ленин и им этот текст предлагал, но там отказывались, потому что не хотели поссориться со «Стопкой» и потерять возможность на шару ходить на концерты! - И правильно! – Лия не понимала Маруську. - Что правильного! «Главное рок-событие лета»! «Лелик»-то все равно не выступил… Рикуша с Лениным правы: пиарить можно все, что угодно, зарабатывать деньги не очень сложно и нарушая закон – это не новость, это всем известно. Но журналистам такие релизы слать – значит, считать их за быдло… - А что ж ты хочешь, - прервала Лия Маруську. – Мы и есть быдло… Как говорит наш шефредактор, вас таких, журналистов, на базаре много. Выбирай любого. Позови, говорит, только, денег предложи – и вы тут как тут. *** «Когда-то были такие большие люди, что, бывало, по лесу ходили, как по траве… Они менялись каждый день, и в любой вечер каждый из них засыпал другим человеком. Они носили хлопковые брюки и серьги в носу. Они красили волосы в разные цвета. А тогда уже, как наши люди начинались, един великан и наткнулся где-то на нашего пахаря с быками, плугом и лозиной. В те времена не рождалось героев – ими становились те, кто умел говорить громко. В тот век не любили природу, а воспитанием наших детей занимались специальные организации. И вот один из тех как наткнулся на наших, так собрал их всех на ладонь и принес отцу, крича: «А глянь-ка, каких я нашел мышат!» Отец глядь – а мышата-то непростые! Говорит он: «Не мышата это, сынок, это люди такие, которые после нас будут! Станут они рождаться, чтобы быть дешевой рабочей силой. Станут они рождаться, чтобы отказываться от чувств и скрывать эмоции, чтобы бояться быть самими собой. Писатели их будут неграмотными, и таковых превознесут. Поэты и художники их будут конъюнктурщиками, и их прославят. Их искусство опустится на самое дно, станет продажной девкой, потерявшей всякое достоинство. Эти люди будут в науках весьма учены, особенно мастеровиты окажутся в общении и знании времен, но самих себя совсем понимать не смогут. В их времена людьми будет легко управлять. Они смогут сопротивляться правлениям, лишь собираясь в общества и отказываясь от своих личностей. Редко в их обществах родятся те, кто отречется в себе от массового. Такие будут гонимы и презираемы. В их времена будут управлять силой скрытой, лицемерной, и словами громогласными и ложными. Настанет, сынок, их поколение, а нашего и следу не будет. Отнеси-ка их, сын, назад и положи, где взял. Пришлось углядеть тебе конец нашего века…» Полусонная Рикуша читала сборник древних украинских легенд. Тигра курил на балконе. Фестиваль в Карраре закрылся вчера, и Тигра вернулся в Ауллу. Он был очень мрачен. Рикина простуда встала между ними необоримой стеной. Для разговора нужны были силы. Оба понимали, что лучше обойтись без слов, но Тигре непременно хотелось сказать. Тигра пошел топить свою совесть в ванной, Рики пила парацетамол. К ночи температура упала. Они выбрались на улицу и медленно направились к старинным укреплениям, служившим современной Аулле смотровой площадкой. Уселись на древних валунах, свесив ноги в пропасть, целовались и молча смотрели на засыпающие деревеньки, ютившиеся по отрогам гор. Кеды Тигры упрямо сталкивали вниз по склону мелкие камешки. - Рики, знаешь, Лия – мы с ней живем вместе. Ну, она моя жена… Горы вышли из тени. Горы засинели вдали так ясно, как никогда. Зелень лесов залила воздух изумрудной краской. Свет деревенских окошек заслепил глаза. - Знаешь, я общаюсь с тобой даже больше, чем с ней. Ну, дело в том, что я не хочу, чтобы ты подумала, что ты мне безразлична. Это не так. - Как раз это я и без тебя знаю. – Рики равнодушно затянулась ментоловым «Кимом». - Ну, и еще – она очень любила тебя. Любит. В общем, это правда. - Ну и что? - Рики, я сейчас дебильство скажу, но пойми, я хочу знать, что ты думаешь обо всем этом. - Зачем это тебе? – Рики курила, начиная заметно нервничать. – Как говорила Зинаида Гиппиус, если надо объяснять, то не надо объяснять. - Надо. Потому что я принял идиотское решение. Я решил остаться с человеком, который не любит меня, которому я нужен, но безразличен. Вскоре у нас с ней родятся дети, родители будут довольны нашим браком, у нас обоих будет хорошая работа, и жить мы станем, как все. Прекратятся мои фестивали, мои вечера, освещенные твоей улыбкой, останутся в прошлом твои умные мысли и наши интеллектуальные разговоры. Я брезгую сам собой. Но, сам не знаю почему, я на все это согласен. - Если тебе необходим квалифицированный психотерапевтический совет, так и быть, послушай. Это все - просто инстинкт. Так что не парься. Это когда-то ты думал, что важно быть самим собой и делать то, что хочешь. Ты из этой идеи вырос. Пора примерить новую: жить мол, надо, как надо, а самим собой быть ни к чему – это слишком трудно. Знаешь, многие люди живут счастливо, и лишь время от времени их пронзают воспоминания о потере чего-то неощутимого. Тебя такая память не минет. - Но Лия не хочет ничего с тобой. - Она никогда и не хотела. А может быть, я не хотела. Чтобы состояться, нам давно пора было разойтись. - Она по-любому состоится. Потому что у нее есть я. Она знает, что я дам ей все, и она никогда не останется одна. - Прекрасно. - Не ехидничай, я знаю, что говорю. Но она тебя действительно очень любит. - Да, она любит меня - уничтожать. Для меня это, Тигра, не новость. Это не любовь. Эта вся мура называется ненависть. - Зависть. - Может быть, и зависть. Мне все равно. Нечему завидовать. - Рики, многие, очень многие завидуют твоей свободе, твоей искренности и твоей потусторонней способности знать. - И – нагадив мне в душу, вновь отправляются жить своей мещанской жизнью? Поздравляю их всех. И вас с Лией в том числе. Тигра, давай завершим этот тупой разговор. Если тебя интересует, что я чувствую, сообщаю: ничего. Всё, удачи. Тигра не стал говорить ей, что уедет в Массу сегодня же ночью. Рики это было и так понятно. Она спустилась с валунов, и, сунув руки в карманы, поспешила в гостиницу. У нее снова начинался жар. Тигра долго глядел на спящие деревни, курил и размышлял о том, что все аптеки уже закрыты, и он не сможет оставить Рики никаких лекарств. О том, что он всегда знал, что Рики останется сама по себе. Без него. И о том, что он, Тигра, на самом деле, если разобраться, ни в чем совершенно не виноват. *** Лучина моя, лучинушка, Березовая… Что же ты, моя лучинушка, Неясно горишь… Рики сидела на каменной ограде в центре итальянского городка Ауллы, в самом живом его месте на парковке, самонадеянно провозгласившей себя автобусной станцией, и с отвращением созерцала горные пейзажи. С дороги то и дело соскальзывали быстрые мотороллеры, сплошь засиженные чернявыми барышнями. Девчонки ехали с моря или с работы. Их ждал веселый вечер с зажигательными ragazzo. Рики ясно представляла себе, как Лия будет обзванивать посвященных подружек: - Ну, ты знаешь, я решила оставить Рики. У нее в последнее время столько проблем – с ней просто невозможно общаться. Ты же понимаешь, что ее проблемы по сравнению с моими! Сама не знаю, как я со всем разгребусь… Муж? Да, представь себе, она бегала за ним! Нет, конечно, она не в его вкусе – ему нравятся только очень красивые женщины. Но все же на что-то она рассчитывала… И непосвященных: - Рики? Подружка? Ну, я бы не сказала, что – подруга. Скорее, ученица. Я учила ее рисовать. Знаешь ведь, что добрые дела наказуемы. Людям помогаешь, обучаешь их, помогаешь им развиваться, а они даже спасибо не скажут. Эта Рики… Где ей было меня понять? Больная на голову девушка, все никак не вышедшая из пубертатного периода… Рики представляла себе это, и ей становилось противно. …Что же ты, моя лучинушка, Неясно горишь? Али ты, моя лучинушка, В печи не была?.. А с Тигрой они негласно договорятся больше никогда не вспоминать ее, Рики, имя. И Лия сразу же заведет себе очередного любовника. А может быть, любовницу. …Али ты, моя лучинушка, В печи не была? Али ты, моя березовая, Не высушена?.. Она не помнила, сколько и чего она пила в тот вечер в «Рондо». Она не помнила, с кем знакомил ее Эмануэле. И утром, каким-то чудом оказавшись в собственной гостиничной кровати совершенно одна, подумала, что жизнь не врет: она прекрасна. …Лучина моя, лучинушка, Березовая… Что же ты, моя лучинушка, Неясно горишь… *** Конец осени. Мерзлый парк, атакованный облетающими желтыми листьями. Коричневое здание в его глубине: стены, пропахшие прогорклой кашей – родной запах интерната, к которому Маруська так привыкла. Этой гадкой кашей давно пахла и ее, Маруськина, длинная косичка, и старый реглан, и тонкая форменная плиссированная юбка, одетая поверх вытертых джинсов, в соответствии с интернатской модой. Протекающая сталинка готовилась к наступлению зимы, девятой Маруськиной зимы в интернате. Устраивала оборону против промозглой серости длинных будней – праздничные концерты и музыкальные вечера. Пора было бежать в зал, репетировать. Маруська разучивала к праздничному вечеру песню Натальи Орейро. Cambio dolor por libertad cambio heridas por un sueno que me ayude a continuar cambio dolor, Felicidad que la suerte sea suerte y no algo que he de alcanzar… У первого окна в коридоре на третьем этаже пустынного учебного корпуса стояла странная девушка в яркой куртке и длинном красном шарфе, много раз обмотанном на шее. Девушка, прижавшись носом к стеклу, грустно смотрела вниз, будто внутрь себя, в усыпанный тлеющим осенним листом внутренний двор. Там по дорожке куда-то боязливо спешила черноглазая, молчаливая Ксюшка. Воспитательница, видимо, приказала что-то принести быстрее, и Ксюшка летела в соседний корпус в кое-как наброшенной на худенькие плечи растянутой кофте, в короткой форменной юбке с голыми же коленками. Ксюшка каждый день бегает туда-сюда по несколько раз. Как не простужается? «Значит, Ксюшка тоже не успевает в кружок», - Маруська подумала, что нужно подойти к учительнице, сказать ей, что сегодня никого не будет. Она, вероятно, расстроится: вон, ждет их, совсем как школьница, дышит на стекло и рисует пальцем картинки. Но в глубине души Маруська злорадствовала. Впрочем, она сама этого не понимала: просто возникло такое приятное ощущение, как у паука, подбирающегося к накрепко связанной клейкими нитями мухе. Маруська собиралась получить неосознанное, непонятное, мстительное удовольствие здесь и сейчас, так удачно, неожиданно даже. Просто знала она, Маруська, что учительница только похожа на маленькую девочку, на загадочную фею из другого мира, который снился Маруське когда-то каждую ночь в ее сказочных детских снах. Но теперь Маруська снам не верила: она знала, что учительница приезжает сюда, чтобы рассказать им об ином мире, о другой жизни, которая бурлила там, за воротами интерната, в которую они все так стремились и которую так ненавидели. А учительница ту жизнь любила. В той жизни она была принцессой, ездившей в дорогих черных машинах, читавшей книги в уютных укромных кафе, бывавшей внутри телевизора и шикарных витрин, знавшей недосягаемую, чужую, не предназначенную интернатским красивую любовь, которой эта девушка, как виделось Маруське, была пресыщена. Зачем она приходит сюда, в эти коричневые стены, выкрашенные изнутри масляной краской, в узорах из толстеньких мальчиков в украинских вышиванках, одиноко и весело топающих по колосящимся желтогрудым полям? Зачем? Здесь любовь другая, коллективная, никогда не сомневающаяся, не колеблющаяся: ведь она либо есть, либо ее нет. Зачем привозить сюда этот вирус, это знание о нормальной жизни, о той жизни – с мамами и папами в теплых собственных квартирах, за гудящим новостями собственным телевизором, - о жизни, которая там, за воротами, считается нормальной? Маруське эта девушка, вообще, нравилась. Все же, в ней было много такого, ну, скажем, привлекательного. Во-первых, она никогда их не жалела. Во-вторых, она умела, как и они, интернатские, ничему не удивляться. В-третьих, если ее спрашивали, говорила все, как есть - то, что чувствовала, и считала, что они – такие же люди, как и все, что им никто ничего не должен. Это их подкупало. Она была очень обаятельна, и Маруська не возражала еë полюбить. Может быть, когда-нибудь, со временем. Маруськины друзья были того же мнения. - Здравствуйте! – бойкая Маруська подошла к ожидающей девушке. - Привет! – обернулась та, отколовшись от оконного стекла. Теплый взгляд, не меняющийся, что бы они, интернатские, ни вытворяли. - Я не могу прийти в кружок. Мне нужно репетировать песню, - проинформировала Маруська. – Ну, разве что, после хора… Идиотская манера обитателей этих стен говорить в безапелляционном тоне, утвердительными предложениями, выражая все свои чувства и эмоции одним коротким местоимением «я». - Нет, Маруська, после хора не получится. Вы и так уже украли у меня полчаса. Занятия должны начинаться вовремя. Других, я так понимаю, тоже не будет? За окном быстро темнело. Над интернатом висело вылинявшее небо. - Вадик ходит со мной на вокал, а Ксюшка, наверное, дежурит. Остальные собираются в город: вечером нас везут в оперу, - отбарабанила Маруська. Запах прогорклой каши измазывал лицо, руки, запутывался в волосах. - Понятно. Что ж, желаю удачи. - А когда занятия в следующий раз? - Не знаю. Думаю, по расписанию. Маруська попрощалась и направилась в зал. Девушка краем глаза заметила, как в противоположном конце коридора нарисовалась красивая, обеспокоенная Ксюшка. Она бежала к завучу, а наткнулась на стоящую у окна учительницу. «Блин, я же совсем забыла, что сегодня – журналистика!» «Блин, Ксюшка наверняка забыла, что сегодня – журналистика!» Сейчас снова будут терпкие оправдания. - Здравствуйте! – Ксюшка проговорила, как всегда, тихо, улыбаясь, и как все интернатские, с любопытством глядя прямо в глаза. Здесь дети читали по глазам, с редкой виртуозностью определяя, кто перед ними – чужой или свой, а главное, зачем. – Маруси не будет, они с Вадиком на репетиции. А я сегодня дежурю. А потом мы едем в оперу… В общем, привычные отговорки. Все как всегда. - Знаете, я написала стихи и сказку. – Ксюшка извлекла из кармана кофточки смятые листы. – Я отдам их вам, ладно? По роду ее деятельности, у девушки дома уже имелось приличное собрание сочинений девчат из колоний и тюрем, а теперь к ним прибавляется сиротская лирика. В такие моменты спасительно полезно вспоминать, что ты – циник. Ксюшка, как и Маруська, и как Вадик, искренне полагает, что уж точно явится на следующее занятие. Учительница знала, что этого не случится. Ксюшке, Маруське и Вадику, самым творческим личностям в интернате, было по четырнадцать. Девятиклассники, вполне взрослые люди. Но они были детьми, которые, на самом деле, взрослыми не станут никогда. Каждый – по разным причинам. Маруська, учись она в обычной школе, запросто сошла бы за дочку уважаемых родителей. Она была сообразительной, не без способностей, каждое лето бывала заграницей, что весьма благотворно сказывалось на ее развитии, была симпатична и весьма упорна. Но в обыкновенной школе она оказалась бы банальной троечницей. Здесь, в интернате, она была звездой, потому что запах прогорклой каши не отравлял ее, не мешал ей активно двигаться по своей донельзя ограниченной жизни, замкнутой в стенах коричневой сталинки. Этот запах не удушал ее, Маруськины амбиции не страдали гипоксией. Тут она чувствовала себя на своем, очень понятном и привычном месте, здесь она была очень жива, в этих гулких полутемных коридорах, в длинных вечерах, проводимых неизменно в актовом зале или в игровой комнате перед телевизором. Маруська пришла сюда из детдома, и для нее интернатская жизнь, периодический выбор существования в одном из лагерей – либо в учительском, либо в хулиганском, был для нее вполне приемлем и обычен. Ее высоко оценивали в первом лагере и уважали во втором: она знала правила игры и умела за себя постоять. В отличие от многих поселенцев этого заведения, подобранных на улице или ставших отказниками в спецшколах, в отличие от тех, которым было чрезвычайно сложно смириться с коллективным сознанием и сытой несвободой, она спокойно пользовалась всеми благами своего положения. Ее должны были учить, должны были возить во Францию и выплачивать регулярно карманные деньги, - ведь это она, Маруська, сирота, у которой тоже когда-то были родители – красивые, интеллигентные, богатые. И она знала, что бедное, невротическое, волею судьбы сей крест на себя взвалившее государство в лице ее учителей и воспитателей, а иногда – дядей в костюмах, с резиновыми лицами и подарками, не лишит ее той великой судьбы, для которой она, Маруська, изначально и была предназначена. Здесь, в интернате, плохо было не детям: плохо было тем, кто их обслуживал. Дети об этом знали. И реагировали по-разному, как когда: то с благодарностью, отвечая любовью на любовь, то с пресловутой детской жестокостью, вытаскивая из учительских карманов последние копейки. Малыши, в большинстве своем, не помнили своих родителей, свою жизнь до интерната или до детдома. Они не знали иных пространств, иных измерений. Но знали, что они, те, кто живут здесь, судьбой избранные, и этим нужно правильно пользоваться. Многие из них были как цыганчата, только что ничего не просили вслух. Знали: дадут и так. Дадут обязательно. Дадут то, что их сверстники там зарабатывают непосильным трудом и примерным поведением. Дадут, и еще упросят взять. Маруська – с маникюром, в модной, красивой одежде, уверенная в своих блестящих интернатских знаниях, не была заинтересована выказывать нос за ворота родной сталинки. Казалось иногда, что Маруська вообще ничего не чувствует. Она была полностью адаптирована к жизни без родителей, без семьи, к окрикам воспитателей и наигранным ласкам директрисы. От всего негативного, что происходило в интернате, Маруська была совершенно изолирована, а иногда озорниками сама и верховодила. Она не была доброй с друзьями, с воспитателями, с чужими. Дружила с маленьким, инфантильным Вадькой, боготворившем ее и обожавшим, словно старшую сестру. Маруська была эгоистичной и злой. Так бы подумал каждый, если бы не слышал, как она поет. Cambio dolor por libertad… Так поют одинокие дикие ангелы. *** «Да, мрачное место!» – заметила она, когда впервые вошла в ворота этого интерната. Теперь она припоминала свое первое знакомство с этим заведением. Поздняя осень, холодный промозглый день. Дождь, пронизывающий ветер. Сидеть бы дома, греться чаем. Но она почему-то вырывается из калейдоскопа журчащих улиц «почти центра» в тишину, в которой никогда раньше не бывала, в не свою жизнь. Аллея – ровная, как спина балерины. В ее конце – усадьба советского покроя, центральный вход безнадежно заперт. Куртка и «кенгурушка» уже отчаялись ее согреть. «Куда я попала?» - вопрос назойливее мухи. Первой живой душой, которую она в тот вечер здесь увидела, оказалась Ксюшка. «Это дитя точно придет на занятия!» – загадала она тогда. Откуда-то из-под дома появилась девчонка, тоненькая, с голыми ногами, в странной, почти прозрачной черной юбке. Короткий, обеспокоенный взгляд в сторону неизвестной посетительницы. Посетительница замечает: какое удивительное у девочки лицо, и глаза – те самые «карие вишни»: холод, мол, дело житейское. Ощущение дежавю здесь отныне не покидало. Ведь в наш век неточки незвановы не рождаются, – посетительница была в этом уверена… когда-то. Все тут несоизмеримо с чем бы то ни было, по чему мы привыкли равняться, живя с внешней стороны зеленых ворот. И глазищи девчонки светились чем-то таким, что потрясает – почти неиспытанным раньше, вдохновенным, небесным. Глаза – зеркало души, а журналисты вряд ли имеют на этот счет иллюзии… Посетительница тогда ущипнула себя за руку: может, снится? Эта невразумительная в городском формате усадьба с ежащимися от холода аллеями, эта девочка, выскочившая, в зябкой кофточке, на мороз и хозяйственно бегущая куда-то… И любопытствующая барышня в яркой курточке, пытающаяся понять, зачем она тут. Такие дети, как Ксюшка, учительнице были наиболее понятны. Девушка обладала безошибочным чутьем на потенциальный талант, а в таких, как Ксюша, талант мог оказаться очень уж незаурядным. Четырнадцатилетняя Ксюшка трансформировалась, трансмутировалась постоянно, хотя сама этого не знала. Все, что окружало ее, не воспринималось ею напрямую: все, что питало Ксюшины чувства, эмоции, мысли, пропускалось через фильтр творчества, и превращалось в стихи, в сказки, а если нет – то в потрясающий взгляд ее глубоких, по-девичьи обворожительных и по-детски добрых темных глаз. В отличие от Маруськи, Ксюша не жила ничем реальным: как робот, выполняла распоряжения воспитателей – поди туда, принеси то. Днем, как и все, сидела на уроках, силясь сосредоточить внимание на учительских объяснениях. Это, впрочем, было безыдейно, потому что слова сразу же превращались в неправдоподобно ярких быстрых птиц, цифры – в шелестящие деревья, знаки препинания – в забавные цветы, растущие прямо в небе… Ксюшиной привязки к реальности было достаточно, чтобы считаться нормативно здоровой, овладевать школьной программой на тройки и называться послушной девочкой. Она покорно принимала окружающий ее реальный мир, и даже пыталась в нем как-то существовать, но внутри нее почти ничего реального не было. Зато был идеал Теплой Жизни – где никогда не бывает Холода, злобного чародея, в чьем плену по нелепой случайности оказалась она, Ксюшка. Будучи так не похожей на Маруську, Ксюшка не строила никаких планов, упрямо мечтая о мире, где булки растут на деревьях, белочки собирают для маленьких девочек орешки, а добрые дяди и тети всегда готовы разрешить любые ее, Ксюшкины, материальные проблемы. Ее несоответствие хоть какому-то подобию реальной жизни было шокирующим. Но не менее шокирующим оказывалась глубина ее чувства, живого, неподдельного, которое она дарила всему, что нуждалось в ее любви. Ксюшка ждала. Смиренно, тихо, как Золушка, терпящая издевательства мачехи и сестер, она ждала своего Золотого Дворца и Доброго Принца. Учительница никогда не могла посмотреть на Ксюшку без зажатой за ресницами слезы. Для любого художника, для любого искателя Человека Ксюшка могла бы стать самым лучшим образцом, предметом для восхищения. Ксюшка в своей сути была совершенна. Но в реальности ей еще предстояло таковой стать. При мысли об этом у девушки в длинном шарфе начинало больно покалывать в сердце. *** - Come j’ai mal… - Рики мурлыкала под нос песенку Милен Фармер. – Я не журналист. Я не писатель, - сказала она как-то Маруське. – Я не могу создать ничего нормального. - Ну, в таком случае, я и подавно не журналист, - пожала плечами Маруська. – Я, в отличие от тебя, не могу создать ничего ненормального. - Нет, ты не понимаешь… У Рики со своей профессией складывались тяжелые отношения. Впрочем, как и со всем, что ее привязывало. Маруська об этом прекрасно знала, хотя нормальной головой никак не могла уяснить, почему Рикуша, на редкость способный, профессиональный масс-медийщик, в бессилии колотит бутылки о каменную стену в институтском дворе, в то время как многие сидят на своих ставках в 150 у.е и радуются. Рикуше, - Маруська об этом знала, - платили гораздо больше. Если Рикуша этого хотела. Но ее дурацкие тумблеры в который раз молниеносно переключались, и Рики увольнялась. Говорят, в жизни нужно делать то, что делается легко. Маруська долго с сочувствием наблюдала, как Рики упрямо пытается воплотить в жизнь этот нехитрый принцип, удачно навязанный ей извне. Рикуше все давалось просто, но она ни в чем не могла остаться, ни к чему не привязывалась, ничем не мотивировалась, даже высокой зарплатой. Ей, похоже, хотелось всего и сразу, ее обвиняли в амбициозности и амбивалентности, но юношеский максимализм никак не выветривался из ее смутьянской души. Маруська, было, стала считать это Рикушиной инфантильностью. Но потом вдруг Маруську стали озарять догадки. Проблема заключалась в том, что Рики не могла не создавать тексты. Потому что любые занятия, кроме этого, были для нее исключены. Разве что вязание-вышивание, но Рики оказалась в этом удивительно, талантливо бездарной. Она часами мучила швейную машину, и потом, как ребенок, рыдала над испорченной вещью, которую она старательно, под чьим-нибудь умелым руководством, пыталась подшить, зашить или ушить. В конце концов, одна из приятельниц швейную машинку отобрала силой, а Рики пожелала успехов на дипломном поприще. Примерно то же было у Рики с точными и естественными науками. В этих областях она чувствовала себя собакой, которая все понимает, а сказать не может. Точно так же она не могла взять интеграл или найти искомое «икс». Хотя, по иронии судьбы, хорошо окончила математическую школу. Вообще, она гениально запоминала на уровне семантики любые тексты, и воспроизводила их в какой угодно логической последовательности. И этого умения ей было мало, она упрямо стремилась к чему-то еще. Но судьба – этот всесильный рок, играющий нашей возлюбленной подарочной свободой из богемского стекла, словно игрушкой, хитроумно, ход за ходом в шахматной партии, перекрывала Рики возможности. Рики же, по недомыслию прошляпив одну из мудрых ловушек соперницы, неожиданно получила шах. Глупая и в детстве очень даже выгодная болезнь вдруг предстала досадной преградой, стала прозрачным колпаком, под которым Рики тщетно билась слабенькой тонкокрылой бабочкой. Судьба продолжала партию, но теперь вела игру, гоняя продуманные, но не те Рикушины решения по шахматному полю. Маруська, внимательно наблюдавшая за партией, видела правильный, спасительный для Рики ход. Судьба хотела, чтобы теперь, когда пришел час, Рики отказалась бы от кучи дел, от бешенного жизненного ритма, от происшествий и увлечений, которыми она окружала себя, и принялась бы покорять свои собственные, внутренние Эвересты. Судьба, сжалившись даже, нашептывала этот правильный ход, но Рикуша крутила пальцем у виска или показывала средний палец: еще чего! Вокруг нее все должно танцевать под “common everybody, dancing tonight”. Она обожала путешествия и фейерверки. И каждое утро умывалась огнем. *** Рики досконально знала свой город и снаружи, и изнутри. Но для путешествий она предпочитала не мысли, а улицы, не фантазии, а поезда, не воображение, а самолеты. («Наверное, это было глупо!» - подумала Рики через сто лет, сидя на мягкой именной тучке и затягиваясь сигаретой). Рики не выходила из дома на улицу – она возвращалась в нее. Прибывала и узнавала вновь, как давно не виданного друга. В этих встречах судьба ей не отказывала, руководствуясь, видимо, особым мнением насчет сиих прогулок. Судьба хотела, чтобы Рики возвращалась с улиц домой. Именно такое возвращение для Судьбы было принципиальным. Она настаивала на этом. Стояла нервной мамой на балконе и верещала на весь двор: «Ри-и-ки! До-о-мо-о-й!» Рики умела возвращаться на улицы, но не умела возвращаться с них. Таковой была магия ее города. Другие города ее отпускали. Киев – нет. Город Оранжевых Ленточек всегда приберегал для нее что-то интересненькое. Она могла возвращаться лишь туда, где ее не ждали, потому что там можно начинать все сначала, а это даже интереснее, чем начинать совсем новое. Она не могла пойти на поводу у Судьбы. Границы Рикиного реального мира, на самом деле, были четко определены. Ей не пришлось, к сожалению, жить, как, например, сироты, на нейтральной полосе или даже на границе. Безграничными в нашей реальности бывают только внутренние пространства. Ее реальный мир был заперт в родительских, съемных или дружественных квартирах, потому она всегда стремилась из, а не в. Короче, оказалось, что и у таких даровитых дипломатов, как Судьба, терпение не резиновое. Рикушино состояние здоровья с годами стало ухудшаться. Словно до поры до времени, созданный в ней изначально взрывной часовой механизм оставался почти незаметным даже для врачей, регулярно проводящих кастинги наших самых красивых болячек для участия в том или ином запланированном неведомыми продюсерами мероприятии, но в назначенный час был запущен чьей-то недрогнувшей рукой. Вообще, вроде, печальная такая история. Доктор, осматривавший Рики, произнес: - Сегодня первый день, дорогая моя, из тех, которые вам осталось прожить. - И сколько их? - Я не кукушка. В тот день они сторговались на более-менее приемлемой цифре, когда Рики приняла все варварские условия лекаря-посла. Отказ от карьеры, нагрузок и нервов были первыми пунктами. Вообразите-ка, будто Папуа Новая Гвинея объявила войну США. Рики войну Судьбе объявлять не стала. …Районы-кварталы, Жилые массивы, Я ухожу, ухожу Красиво… Слышала о болезни только Маруська. Но она немного знала Рики, и ей невозможно было думать, что болезнь – первопричина Рикушиных метаний. Для остальных же окружающих, для всего мира эти метания представлялись, вообще, сплошной мистификацией, а Рики – непредсказуемым мистификатором. В этом было что-то от Дали. Что-то – от Булгакова. Что-то – от Леонардо да Винчи. Что-то дикое и великое. - Ничего великого, – отвечала Маруське Рики. – То, что я пишу не по своей воле – это правда, по крайней мере, на сегодняшний день и только для меня. Мне больше ничего нельзя делать, понимаешь? А для того, чтобы создавать тексты… «…Тебе нужен стресс» – подумала Маруська. Ей было известно, что Рики не произнесет вслух окончание этой фразы. Дело здесь было в Рикиной недопроявленности в жизнь, недовоплощенности. Рики была профессиональным журналистом, она не любила сочинять. Ее тексты рождались из жизни – в каких угодно проявлениях, в каких угодно ракурсах. Чтобы фотографировать словами, Рики был необходим импульс, мощный жизненный импульс, который она могла получить лишь в бурном потоке жизни, перипетий, сюжетов, событий. А ей было туда нельзя, и Судьба, на самом деле, не сильно-то и наехала: она предупреждала о том, что так будет, честно, еще в детстве. Только тогда Рики должна была оберегаться от будущего, сейчас – от настоящего, а в будущем, когда патология, наконец, будет компенсирована – от прошлого. И вся грязь превратилась в серый лед. И все идет по плану. Происходящее с Рики было упрямым стремлением в непосильную жизнь, и неизбежным, усталым, надорванным, ослабленным, измученным возвращением из нее домой, лечиться, восстанавливаться, думать. Недостаточность была не только физической, но в большей степени энергетической. На то, чтобы жить, Рики не хватало энергии. Брать от людей пришлось бы слишком много. Ей этого не хотелось: она мечтала стать самой собой. Она становилась способной на отдачу сразу же, как только появлялся импульс. Как только в ней возникала энергия, Рикуша могла реализовываться, свершаться, воплощаться, жить, так, чтобы все танцевало вокруг нее под “common everybody, dancing tonight”. Она становилась такой, как все. Но когда энергии не было… Рикушей уже в двадцать лет были поняты, прочувствованы стариковские лавочки – островки покоя, еще в жизни, еще в пучине, еще не затопленные, не разметанные водой, где можно было отдыхать, и все видеть, все слышать, все ощущать – жить, одним словом, любуясь, услаждаясь если не приключениями и тайнами глубин, так красотой высоких волн и гулких раковин, артефактов реального бытия, выбрасываемых на берег. Когда энергии не было, становилось очень плохо. На журналистику не находилось сил, Рики вдруг исчезала сразу изо всех редакций, со всех тусовок. Со временем к ее исчезновениям привыкли, хотя на пользу ее карьере это не шло. Но Рики не видела пользы в карьере. Она создавала собственные жизненные ритмы, организовывала ноты в тактах, меняла октавы, расставляла акценты. Но писать тексты в моменты бессилия она не могла. Вообще не могла создавать никакие физические формы. Не могла думать. Иногда - тихо звучала. Как нота. Музыку жизни она записывала мыслями в собственной памяти. Она и окружающих воспринимала так же: вот девушка – попсовая песенка, вот этот человек – фуга, вот эта – соната, а вон тот – симфония. Очень редко встречались люди с репертуаром. В большинстве своем, все были радиоприемниками, бесконечно крутили низкопробное, эфэмное одно и то же. А Рики предпочитала концерты. Для жизни ей были нужны чистые, непридуманные чувства. «Ну, те, - сказала бы Мери Поппинс, которые не включают». Рики не смотрела телевизор, не занималась серфингом, не шастала по подземным коммуникациям. За романтичными чувствами она шла в филармонию, за адреналином – в горы, за впечатлениями – в Рим или Вену, за случайными ощущениями – на балет. Она играла в людей, как в шашки, и с удовольствием становилась шашкой в чужой игре. Или шла в церковь. Таинства пробуждали в ней жизнь, неподдельную, настоящую, живую, которая освещала Рики своим теплым, целительным светом, но не задерживалась, испарялась сквозь кожу. Чтобы эта жизнь в ней осталась, Рики было необходимо полностью принять церковную жизнь и свою женскую долю. В этом животрепещущем месте священник благословлял и произносил: «Иди с Богом. Господь управит». От советов, как ей жить, он воздерживался, то есть, никак ее не проецировал. И, как считала Рики, очень был в этом прав. Если, конечно, его правота хоть что-нибудь значила в соотношении с Божьей волей. К монастырской жизни у Рики не было ни призвания, ни здоровья, а в мирской можно было жить только замужем. Священник разводил руками: жена из Рики, тут уж и комару понятно – как из кастрюли мочалка. В общем, Судьба после каждого своего неизменно точного хода давала Рики право на реванш. Рики не просила переиграть ходы. Если и считала наперед, то все возможные варианты, а когда не видела всех, совершала один-единственный ход, который только и мог быть потенциально правильным. При случае и Судьбу атаковала – ведь иначе играть неинтересно. Лия любила только ту, заряженную Рики. Такой Рики можно было питаться бесконечно, и она не исчерпывалась, видоизменялась в богатом спектре своих характеров, типажей, символов, продолжалась, все время разная, непостоянная – мечта художника. Но Лия знала о существовании другой Рики – пустынной, высохшей, как травинка в песке, как ручей, загнанный в коллектор. Лия хорошо знала Рики, изживающую саму себя, впечатляющуюся своими же чувствами, думающую о собственных же мыслях, любящую свою же собственную любовь, восторгающуюся своими восторгами… Лии в такие дни, а то и месяцы, вообще ничего не доставалось. И она старалась из Рикушиной жизни исчезнуть. Но что самое неприятное, приходилось вспоминать, что у любовников есть не только права, но и некоторые, хоть бы просто общечеловеческие, обязанности. Ну, ободрить там, если другу плохо, позвонить, слово молвить. Подарком, может быть, порадовать. Вдруг какой-нибудь симпатичный сюрприз станет для Рики тем самым импульсом, который не только вернет ее к жизни, но и вдохновит на новые свершения? «Рики как африканская река» - недовольно думала Лия. Она никогда не дарила подарков Рики-безбатарейки. Иногда лишь совершала попытки порадовать ее сюрпризом, но этими благими намереньями оказывалась вымощенной дорога в ее, Лиин, ад: Лии не хватало чувства отдать безвозмездно, она дарила Рикуше подарки только с ценниками. Рики это было все равно, точнее, в моменты дарения Лией подарков Рики бывало уже плохо или еще плохо, и нужно было размышлять о том, как сделать так, чтобы стало хорошо. Нужно было выгребать. Лучшими помощниками были природа и город. Точнее, его иные измерения. *** Виктор Ильич вытащил из пачки сигарету, помял ее пальцами. Протянул пачку Саре. - Нет, спасибо, я теперь не курю, - откинулась она на спинку стула. - Ну, тогда и я не буду. – Виктор Ильич бросил сигарету в пепельницу. - Что вы, курите, пожалуйста! – Сара улыбнулась. – Вы можете, наконец, рассказать мне, как вы познакомились с Рики? - Да, было дело… *** Сентябрь - осень еще зеленая и дождливая. В пустынном дворе, на холодной площадке в центре семи ветров горела рябина. С ресниц Рики спрыгивали задиристые непоседливые капли. Непонятно со стороны совсем: то ли плачет девушка, то ли это дождь играет в догонялки? Впрочем, до этого никому нигде никогда не было никакого дела, слава Богу. Ти зраджуєш мене – у котрий раз. А я сміюся, смішна, і не б’юся По венах склом у відчаї, бо ти – Ти зраджуєш, я – тільки веселюся. Хіба що, знаєш – я такий хробак, Я повзаю й не зважуюсь літати, Бо комусь треба повзати, щоб птах, Який літає, міг би їсти й спати. Я тебе не викреслюю з життя, Але й не буду тебе споминати. Адже назад немає вороття, А я щаслива, й хочу більше стати… Тебе не буде поряд – ну то й що? Комусь пощастить тебе мати поруч, Він дасть тобі енергії – ключом, Якої я не можу… Що ж, пробач… Я, мабуть, знаєш, найщаслива в світі! Тень отца Гамлета наматывала круги, и вслушиваясь в Рикины мысли, размазывала по черепу насморк. Дождю хотелось веселиться, но Рики было не до приколов. Она сидела на красно-зеленой качеликачалке, у ног валялась пустая пачка «Моге». Вытирая капли со щек, Рики докуривала последнюю сигарету. «Если нет в кармане пачки сигарет, значит все совсем ужасно на сегодняшний день», думала она втайне от окружающих. В голове путались строчки незаписанных дневников. Кирпичная стена с разбившимися, выпавшими камнями. Рики думала, глядя на нее, что любовь тоже очень легко разбить - о собственную душу, о свое неизменное одиночество. Устав от слов, разговаривая с деревьями, почти взрослая женщина, такая маленькая девчонка. Приходили на память слова Янки: Порой умирают боги - и права нет больше верить Порой заметает дороги, крестом забивают двери И сохнут ключи в пустыне, а взрыв потрясает сушу, Когда умирает богиня, когда оставляет души Огонь пожирает стены, и храмы становятся прахом И движутся манекены, не ведая больше страха Шагают полки по иконам бессмысленным ровным клином Теперь больше верят погонам и ампулам с героином Терновый венец завянет, всяк будет себе хозяин Фольклором народным станет убивший Авеля Каин Погаснет огонь в лампадах, умолкнут священные гимны Не будет ни рая, ни ада, когда наши боги погибнут Так иди и твори, что надо, не бойся, никто не накажет Теперь ничего не свято... Глупо так жить. Ей слышалось в ответ на ее слова: - Я тебя люблю! - ответ: - Мелочь, а приятно! И все становилось на свои места. Жизнь сливалась в критической точке одиночества, в которой не могло быть больше ни друзей, ни близких, ни любимых. Было неважно, любят ли ее, ждут ли. Главное, что она пыталась сохранить в душе, оставаясь собой тогда, когда хотелось сойти с ума. Она и в самом деле всегда была сама по себе. Холодная осень, которой наплевать на эти мысли, на эту память, на эти бессмысленные диалоги. Так жить глупо. Можно все бросить на этой площадке, оставить себя, как пустую пачку сигарет на скамейке и уйти в новую жизнь, которая кажется невозможной без всего того, что было в той, прошедшей и покинутой, - но все же она есть. Только обычно о ней ничего не знаешь и не догадываешься, и думать об этом не хочешь. Рики размышляла, тупо глядя в кирпичную стену. Что она пыталась там разглядеть? Она бы банально ответила: саму себя. Рики думала не о жизни после смерти. Она пыталась себе представить. «Вот, любишь человека, счастлив с ним, хочешь с ним быть. И предположить даже не можешь, что тебя подстерегает чужая жизнь, иная любовь, другое окно, незнакомая дверь. Поверишь ли ты, если скажут, что это – твоë несбывшееся, которое наступает для тебя неотвратимо?». Душа, собравшись в комок, истошно кричала: «Нет!!!». Разум нашептывал: «Не надо быть кому-то нужной! Нужно просто БЫТЬ. Не тебе решать, нужна ты или нет. Просто БУДЬ». Если можешь. Если любишь. Если никак иначе БЫТЬ ты не хочешь. В двадцать три прожить все. Никогда не прорваться сквозь эту стену. Но как надоело разбитой душе валяться под этой стеной! Так глупо жить. Сколько можно лежать и лежать И смотреть в небеса? Сколько можно просить и просить, Чтоб упала слеза? Сколько можно терпеть и терпеть, Крепко сжав кулаки? Как, устав, насовсем позабыть Все мечты и стихи? Уходить в темноту за веками, Свои крылья ломать… Научиться не думать стихами, Научиться не ждать. *** - Было дело… - Задумчиво повторил Виктор Ильич. Сара внимательно слушала. Лия, сидя на кухне, как всегда, курила и дожидалась с работы Виктора Ильича. Тигра должен был вернуться с репетиции еще нескоро. Виктор Ильич вымыл руки, прошел на кухню. Как только поужинал, Лия протянула ему вишневого дерева трубку: - Поговорим? - Что ж, конечно, поговорим, Лия. – Виктор Ильич всегда незаметно так вздрагивал, когда Лия передвигалась по квартире, делала уборку, готовила еду. Его не покидало ощущение чего-то инородного. Хотя, зря он так – неплохая, в общем-то, девочка… - Вы в курсе, что у Тигры – роман? – Лия взяла с места в карьер. - В смысле? Ты себя имеешь в виду? – Виктор Ильич размеренно набивал трубку пахучим табаком. - Нет, не себя. По-моему, это и так понятно. – Лия резко одергивала складки юбки, снимала невидимые пылинки со свитера. Виктору Ильичу стало неприятно. - У него – роман, потому что на твоих картинах в последнее время изображается вот эта твоя подружка, кажется, Рики? - Виктор Ильич, вы весьма догадливы. Точнее, хотите так думать. То, что я пишу в картинах – это всего лишь образы, имеющие очень опосредованное отношение к действительности. Вы же режиссер, должны понимать… - Я понимаю. – Виктор Ильич глянул на Лию исподлобья. - В любом случае, вы не встанете на мою сторону, я знаю. И поэтому радостно сообщаю: у Тигры – роман именно вот с этой особой, которую я, по своей наивности, изображала в картинах. - Так. И что? Ты собираешься уходить? - Я? Нет, конечно. Это Тигра собирается уходить. Только он еще об этом не знает. Виктор Ильич не замечал, что его трубка потухла. Непросто было выпутаться из этого комка слипшейся Лииной паутины, которой невидимо был оплетен весь их дом. - Так, понятно. Меньше всего мне хочется быть в этой истории арбитром. Чего же ты желаешь от меня? - Поговорите с Тигрой. Объясните ему, что лучше бы ему выбрать меня, чем эту полоумную фифочку. Сами понимаете, так будет лучше. И для меня, и для вас. – Лия, посчитав разговор оконченным, принялась мыть посуду. *** Je vis hors de moi et je pars A mille saisons, mille etoiles. Comme j’ai mal… Рики встала с кровати, влезла в джинсы, забросила за плечо рюкзак и отправилась в Рим. Забравшись в метро на станции «Termini», она поехала в центр. Римская толпа, как ни странно, ее не грузила. Кроме того, Рим – самая лучшая на свете жилетка при любых печалях: успокаивать так, как он, не умеет ни один город на свете. Он не смотрел жалостливо, волнительно, как Киев, бездействующе и сочувствующе разводя руками… Он не пробегал мимо, как беззаботная Вена. Он не приостанавливался досадливо, как торопливый Будапешт. Рим брал за руку, как ребенка, и уводил в сказку. Je n’verrai plus comme j’ai mal Je n’saurrai plus comme j’ai mal Je serai l’eau des nuages… «Я – ничья не Галатея, - упрямо думала Рики, топая от собора Святого Петра к мосту Ангелов. – Я – своя собственная. И ничья другая. Мой ничей путь». Реальность изменилась в один миг. Был Тигра – нет Тигры. Была Лия – нет Лии. И как-то так странно это все: год они существовали, никак в Рикином сознании не совмещаясь, а потом оказалось, что это она – была, была когда-то, была случайно, и ее не стало потому, что она не совместилась в их сознаниях. Со стороны это выглядело прикольно, и Рики, как увлеченный коллекционер ощущений, приклеила на новое для себя чувство дикого опустошения яркий ярлычок. Лучший на сегодняшний день экспонат в коллекции. Коллекция почти собрана. Не хватало только беззаветной-любви-к-ней и еще кое-чего. Если сюжет ее жизненной истории – концентрический, то представить это кое-что невозможно. Если же сюжет хронологический, можно пофантазировать. Рики было неизвестно, случайно ли она обнаруживает неожиданности, - она находила их там, где никому из ее сверстников не пришло бы в голову искать. Она любила курить на широченном подоконнике под куполом цирка, травить анекдоты с осветителями. Ей нравилась литургия. Еще она обожала преподавать. Ученики – это единственный вид людей, к которым невозможно привязаться в виду их бесконечной, естественной изменчивости. Еще очень привлекали, возвращая к жизни, всяческие процессы в природе. Изменения в ней, помимо явственной перемены погоды, происходили на грани грубых чувств и тонких ощущений, образуя невиданную смесь, ошарашивающую энегрию. На этой дальней границе Рики находила целые ничейные жизни, или такие мысли или чувства, которых иным хватило бы на целую судьбу. Они валялись, неприкаянные, по канавам и водостокам. Эти границы проходили в ее городе, как она приметила, через центры «сталинских» кварталов. В ее стихах, в ней самой, если стихи было не на чем записать, или было в облом, такие найденные в грязи высокие чувства сгорали в один момент, и для ее реального бытия требовалось новых. Приходилось пускаться в новые путешествия по внутренним мирам. «В общем, жизнь можно делать потише, погромче, - считала Рики. – Кому как больше нравится». Площадь Венеции, Венеция, мост Veccio, fontana di Trevi, собор Святого Креста, галереи, червоточины переулков… Рики с удовольствием бросила бы тапком в того, кто гнусавым тоном простуженного мещанина вещал бы о скучной буржуазности, о попсовости, о китчевости и старческих маразмах Западной Европы. Здесь были улицы городов Рикушиной души, коридоры апартаментов ее натуры. Она была и Сабиной, и Джуной, и Лиллиан одновременно , но здесь, в Риме, она ощущала, как сквозь ее кожу прорастают характеры, чувства, мечты, и становятся на ней самой, на маленькой Рики-земле, пышным зеленым садом, разбрасывающим семена, дающим приют животным и птицам, становящимся для людей тем единственным, кому можно слово молвить: слово, словно Одиночество… Лия искала в ней то Майкла, то Дональда – она могла искать в Рики кого угодно, но найти могла только Поля. С ней Рики была Лиллиан, вечно разочарованной самым любимым на свете Джеем, поднимающейся по лестнице дешевого отеля в черном плаще Сабины, Джуной, ни за что не разгаданной легкомысленным Дональдом – но без нее, без Тигры, без никого вообще она всегда была юным Полем. Поль – удивительный и самый лучший ее портрет, самый любимый любовник ее собственной, внутренней Джуны, которой именно Поль и принадлежал. Мистическая Джуна и несвершившийся, совершенный Поль – две ее скрытые ипостаси, ее естество и ее игра. Трансформация шла не души в мире, не мира в душе: калейдоскоп сменялся лицами, словами, хороводами, кассетами, кистями, усталыми образами банальных серебряных поэтических браслетов, игрушками, иностранными языками, языками пламени и милостью Божьей. Все было гораздо проще: Рикиным Джуне и Полю не нужен был мир, им нужно было только быть. Но именно мир связывал их воедино. Именно в этом мире они расходились, умирали, гибли, разбивались, разлетались, задыхались друг без друга, а вне мира все происходило иначе. И об этом Рики совсем ничего не помнила. Может быть, Джуна и Поль, оказавшись вовне земных понятий, становились Собой, становились единым целым, той Рики, которая снилась себе в снах, в теплых снах, напоминавших ей то, от чего она была безнадежно оторвана, отъята. Может быть, им и не нужен был мир. Но он был необходим всей, целой Рики. Она не была сторонником соотнесения себя только с самой собой, лишь с проявлениями своего внутреннего «я», которым давались красивые французские имена. Ей не нравился постмодернизм. Он был чемто очень похож на нее, но попросту ей не нравился. Она абсолютно не стремилась обосновывать существование в себе сущего. Ей было довольно и того, что она - есть, и знает об этом. По сути, здесь только люди и Бог могут понимать, что такое Душа. И как она может быть. Такая фишка. Je ressens ce qui nous separe Me confie au gre du hasard Je vis hors de moi et je pars A mille saisons, mille etoiles. Comme j’ai mal… L’exil. *** Ты – эпоха. Твои потертые джинсы, затянутые ремнем гораздо ниже талии, - в Киеве тогда еще таких не носили, и все шушукались вокруг тебя: «А что у нее со штанами?» – «Ничё, штаны такие!» За тобой никто не успевал. И твое потрясающее равнодушие быстро входило в моду, где бы ты ни появлялась. Когда ты вернешься, все будет иначе, И нам не узнать друг друга. Когда ты вернешься, а я не жена, И даже не подруга… Ты пела у костра на Шипоте, на Диве, на берегах Финского залива и Каролино-Багаса, старенькая, потертая гитара звенела в твоих руках, и звучал твой голос, чуть хрипловатый на тех гласных, на которых у тебя заканчивалось дыхание. Ты еще тогда, в девяностых, читала в компаниях на память стихотворения из первой, раритетной книги Анжелики Черняховской и пела песни «Салюта абсурда». Твой город мыслей, валяющихся на забытых антресолях, андеграундных поэтов, нераскрученных музыкантов – твоих шебушных чувств, твоих расхристанных любовей. Твоей фантазии - гальки, пущенной к горизонту по днепровской воде. Как я завидовала таким, как Наташа , - кто выпускал книжки с посвященными тебе стихами! Пой, себе не прекословь, Не ломай себя на слове! Вера в Бога стоит крови, Если этот Бог – любовь. (Наталия Тараненко) Рики несуразно творила свою эпоху. Маленькая, талантливая стерва. Маленькая злая девочка. Индустриальная орхидея. Think I new right through, you’re a Man in the Rain. Or the Man who sold the world. *** Освещенная светом тонким, В легком танце кружит Земля, Тает в теплых ладошках ребенка Конец февраля. На чердачном окошке затихнув, Я рифмую все звуки снизу, Подбирая под рифмы ритмы По холодному звону карнизов. Но все песни в снегу разливаются Так заливисто, громко и звонко, И осколки переливаются, Забавляясь, в руке ребенка. Рики никогда не подписывала посвящений. Но всегда их запоминала. Этот стишок она мысленно подарила одной девчонке, случайно встреченной ею, кажется, в тот злополучный вечер накануне Рикиной поездки в Рим. Рикуша смутно припоминала лица каких-то людей, очень быстро говоривших по-итальянски, с которыми ее бесконечно долго знакомил Эмануэле, которые задавали ей бесконечно длинные вопросы, заводили с ней неимоверно нудные разговоры. Имя девчонки она не запомнила. Всплывал в памяти лишь треск мотора, черный мотоцикл, черная майка, две кожаных флорентийских феньки и серебряный браслет, короткие, темные, как провал в памяти, взбитые, как сливки, волосы. Какой-то мальчишка. Как не мальчишка? Странно! Да нет, (манерно), Эмануэле ты прикалываешься! Впрочем, по фиг. Очень приятно. Рики. Помнилось еще, что девчонку встретили гулом. Каждому было что-то от нее нужно. Она не села за общий столик – уединилась с тремя парнями в углу, на деревянных скамеечках, мелькнули пакетики, деньги, защелкали зажигалки… Минут двадцать порешав какие-то вопросы, она бросила шумной компании равнодушное ciao, и кадры пробежали в обратном порядке: черные взъерошенные волосы, шлем, черный мотоцикл, трескот. В общем, к стиху девчонка не имела никакого отношения. Ну так, чуть-чуть. Образ. В самом деле, просто образ. Ничего личного. Трансформация беспросветной тоски во что-нибудь позитивное. Ну не пропадать же добру зазря?! *** - Я встретил их на улице тут, неподалеку, - рассказывал Виктор Ильич. - Рики, такое вот совпадение, работает в одной организации, располагающейся рядом с нашим домом, в соседнем здании. Ну, вот они и шли с Тигрой: наверное, он провожал ее на работу. Мне нужно было поговорить с ним… И вообще, я понимал, конечно, что у него есть законная жена, но что он сам, в сущности, то ли не представляет, что происходит, то ли не задумывается. И еще мне казалось, что я очень виноват перед ним. Я должен был все ему сказать. Но они шли мне навстречу – оба совершеннейшие дети, в бултыхающихся джинсах, с яркими рюкзаками, держась за руки. Эта рыженькая девчушка мне сразу же очень понравилась. Одного взгляда мельком было достаточно, чтобы увидеть: она не из тех, кому нужно поймать Тигру, она хотела бы его выпустить на волю, как неожиданно влетевшего в форточку, пригретого и вылеченного воробья. Она - женщина, рядом с которой мужчина может состояться. Стать тем, кем он хочет, а не тем, кем придется. От этого солнечного ребенка пахло свободой. Я прекрасно знал, что женщины, получившие статус жены, склонны меняться, проявляя вдруг свои тщательно скрываемые не лучшие свои черты. Не знаю, смогла бы Рики стать кому-либо женой, может быть, только Тигре, которому, в самом деле, очень хотелось свободы. Он попросту не сознавал, что официально женат на Лии, и как вообще этот нелепый брак с ним случился. Лия была для него чем-то неотъемлимым и очень взрослым, несмотря на то, что была его младше. Лиина жизнь окончательно и бесповоротно свершилась именно в этом браке. Лия, бесспорно, получила все, к чему стремилась. А Тигра только собирался жить. И мне стало его невозможно жалко. И очень было жалко эту милую девочку с золотыми кудряшками, заливисто смеющуюся вместе с Тигрой. Жизнь была у них, в их крепко сжатых ладонях, которыми они держались друг за друга, будто связанные вместе воздушные шарики. Жизнь была вовсе не там, не в большой паучьей норе на Гоголевской… Они подошли ко мне, поздоровались. Девочка – весело глядя в глаза, Тигра – отводя взгляд в сторону. Но ладонь подружки он сжал еще крепче. - Познакомься, это – Рики. Рики, это мой отец, Виктор Ильич. Мы еще раз усмехнулись друг другу и разошлись в разные стороны. Тигра явился домой через полчаса. - Тигра, ты знаешь, Лия поставила условие: чтобы ты расстался с этой Рики. Тигра сплевывал вниз, перегнувшись через балконные перила. Ветер запутывал его черные вьющиеся волосы, вил из них верëвки. «Молчит, в благородство играет, ишь ты!» – отметил я про себя. - Пап, мы с Лией сами решим это как-нибудь, ладно? - А как же девочка? - С ней все не так просто. - Я знаю, она с Лией, как бы это сказать, встречается. - Да, это само собой. Только Рики не знает, что Лия – моя жена. Меня же Рикуша воспринимает больше как друга, чем как любовника. - Это заметно, но… - Но я хотел, чтобы Рики была со мной, и теперь она со мной, и для меня это очень важно. - А она сама чего хотела? - Это сложный вопрос. Жизни, наверное. - В смысле? - Рики - это женщина-ребенок, она постоянно свершается. Она – женщина для взрослых мужчин, а не для тех, кто сами еще дети. Когда у нас все это замутилось, я был совсем пацаном, с Лией эксперементировал. Но время опытов прошло, и Рики стала мне необходимой, а Лия – скучной. Рики не бывает завершенной, однозначной, понимаешь? Она не укладывается в бытовые отношения. Знаешь, благодаря ей я лучше понимаю маму… - Да, я, кажется, улавливаю. Но Рикины отношения с Лией? - Как раз они мне ясны. Я для Лии – способ жить внешней жизнью так, как она того хочет. Для нее Рики – способ жить внутренне. Рики ее понимает. Впрочем, она всех понимает. Ну и вдохновляет, конечно: Рики очень разнообразна, в ней - десятки разных людей. Но Лия Рики не любит, потому что не хочет ни ей, ни кому-либо другому, на самом деле, что-то давать. Ее принцип – только брать, как можно больше. Но это сразу нелегко в ней разглядеть. Лия с виду такая творческая, загадочная особа… Свою нелюбовь от Рики она тщательно скрывает, потому что хочет Рикушей владеть. Ну, Рики, наверное, это ощущает, но не может поверить. Ведь когда-то она ожидала от Лии взаимности. - Зачем же – от Лии? - Потому что Рики не хочет совершаться через кого бы то ни было. Она не способна быть привязанной, проникнутой кем-то, скованной. Она хочет, чтобы ее воспринимали как целостность, способную развиваться независимо, самостоятельно. И еще она хочет при этом, чтобы ее любили. Ну, понимаешь, как девочки маленькие: играют в куклы, а потом забывают о них. Им становится с куклой неинтересно, потому что она ничего собой не представляет, не изменяется. Зато Рикуша – не кукла, она настоящая, и меняется постоянно, и потому не хочет, чтобы ее всегда любили одинаково. Ей хочется, чтобы все ее изменения любил кто-то один. И она права – именно перемены в ней и интересны. Она – как планета. Лия же смогла ее принять и не привязывать, но не сумела любить. Впрочем, Лия и не собиралась… Для Рики будет трагедия, когда она это поймет. А Рики нельзя трагедий. Она из-за них не реализовывается, исчезает. Ей по жизни противопоказаны отрицательные результаты. - Может, она и не поймет. - Да ну. Разберется во всем, поверь, и очень скоро. А я уже почти научился ее не привязывать, не узурпировать. И я ее люблю. Я совсем не хочу ее потерять. *** Рики открыла почтовый ящик. В нем висело письмо от Маруськи. Привет! Теперь убедилась, что без цели лучше не идти никуда. Яркий тому пример - вчерашняя прессуха после спектакля. Короче, актеры так и не дождались не то чтобы вопросов из зала, инициатива по этому поводу исходила от директора театра, Проскурни! Ну вот сели, посидели, как на похоронах, а потом вдруг: ну что, есть у кого-нибудь какие-то вопросы? Короче, долго уговаривал, стебался и вдруг достебался до первого вопроса. И понеслась. Прослушав весь треп умников-смельчаков, Проскурня решил утереть всем присутствующим носы. Рассказал подробно историю театра Л. Курбаса. А потом добавил, типа, что в старину, мол, журналисты знакомились с историей объекта интервью. Всем было, типа, стыдно и все его, типа, слушали. Просто основная часть присутствовавшей там журналистской публики - фаны «Пятницы», которые пришли за автографами. А вторая составляющая – такие, типа меня, кому очень надо было что-то накрапать, но было по фигу, что. Актеры не вынесли и, прервав естественно развивавшийся ход событий, удалились. Зашибись. Сам спектакль тебе бы понравился. Это дистиллированный вариант пъесы Кулиша "Хулий Хурына". Речь шла о чиновниках, журналистах и предвыборной кампании. Для меня, как в сказке Пауло Коельо, все, что демонстрировали на сцене, оказалось как раз к месту. Это был дополнительный инструктаж к сожительству с моими тараканами, правда, в более комедийном, чем твои прогрузы, жанре. Как же меня перло! Народу было - не пробиться. Мест не оказалось вообще - все заняла аккредитованная пресса. Пришлось прильнуть к ногам актеров – усесться прямо на сцене. Довольно, замечу, душевная была обстановка - сидеть между ног вдохновленного мена. Но это не главное. (Знаю, надо было сразу во врезку, но – эмоции!) Короче, для тебя инфа: завтра весь институт в приказном тоне загонят в актовый зал. Пол будет брать какой-то депутат или что-то в этом роде, по-моему, Обобрович. Может придешь, чтобы его охладило в следующий раз? Или, может, просто идеи какие-нибудь есть? Понятно, такие, чтобы его попустить? Мур Банальный рабочий момент. Маруська хотела посоветоваться, как ей поинтереснее отработать для газеты на собрании в актовом зале. Впрочем, это собрание было позавчера. И тем же вечером Маруська уже умчалась в командировку. Вот еще одно письмо: спрашивает, чего ей ждать на работе по возвращении. Рики и Маруська сейчас работали вместе. Творили новый журнал. Рикуша была начальником одного из отделов, Ленин управлял рекламой, а Маруська – техслужбой, и еще литредактировала. Письмо Маруськи как раз кстати: Рики не знала, куда девать свои заблудшие мысли. Привет, Маруська! Уже думала не стучать тебе писем, но ты же просишь к твоему приезду тебя морально подготовить. Всего я тебе, конечно, не расскажу, но в общих чертах попробую. Просто у нас с появлением Ленина пошел такой движняк, что все меняется в день по несколько раз, уследить за процессом крайне нелегко, а разобраться в нем – тем более. На разговоры с Лениным о рекламе у всей редакции уходит очень много времени, посему с кем-нибудь еще разговаривать уже физически невозможно. Утро понедельника, как правило, ощущается всеми нами, как вечер тринадцатой пятницы. Сейчас ключевым процессом в редакции является мое общение с Лениным. Он, в силу самых разных историй, в редакции занял прочно-оригинальную позицию, не без моего участия. Он – банк, в котором мне пришлось открыть счет. В общем, последнее слово на совещаниях и во всех процессах, как правило, нашими общими стараниями остается за нами. Сейчас наша задача – выпустить пилот, пока директор в отпуске. Мы сидели тут все последние выходные, с техотделом, крутили-думали наши мысли, чтобы наладить процесс. Ленин похож на таксу, которую я каждый день выгуливаю по коридору «ЛитУкраины». Такая милая такса, которая уверена, что выгуливает меня, и от радости поднимает лапу под всеми деревьями. Моя задача – отслеживать, под какими именно. Потому что это очень важно для истории украинской журналистики. Мы, с одной стороны, понимаем, что находимся в приблизительно равных мыслительных категориях, думаем похоже (сказалась одинаковость нашего диплома), и конечно, должны общаться. Мне приходится общаться с теми, с кем я работаю. То есть, было принято решение, чтобы никакой из отделов не тянул одеяло на себя, чтобы все дружили между собой и придумывали наши стратегии вместе, чего мы и придерживаемся, потому как если это исключить, то все вообще развалится. Это я к тому, чтобы ты не удивлялась, почему я так много внимания уделяю Ленину. Это правда, что у тебя седьмого день рождения? Спешу тебя поздравить: мне выдали твою зарплату, триста баков. О прочих справах. Две недели у меня нигде ничего не выходило, к тому же я поссорилась с Лией и тяжело заболела: бронхит, отит, охренит и т.д. Я узнала, что вышел таки материал о «Голубе», и к сожалению, ерундистика о Бучч. Об Оленьке. Нет, Маруська, ты недооцениваешь моей покладистости. Насчет Оленьки у меня вообще нет иллюзий. В следующий раз бери на практику менее хитровставленных студенток. Просто, не без твоего участия, я стала испытывать чувство вины от того, что вела себя с ней похамски, потому и пошла вам навстречу со всей этой историей ее практики здесь. Ну, и не только поэтому… Но потом она подтвердила мои наихудшие опасения, и ты даже не представляешь, каким образом. Ну и, помимо прочего, были и другие нюансы, которые меня бесили. Сначала я ясно видела, что ей по фиг, с одной стороны. Она приняла решение срать там, где ест. А с другой, ее не покидает какое-то чувство страха, замешанное на моем имидже и твоем авторитете. Она больше всего на свете боится, что я расскажу тебе хоть часть того плохого, что увидела в ней, или скажу тебе, что она – ноль без палочки. (Ой, давай посплетничаем! Такой кайф!) Почему она этого боится, я не знаю, но это как раз и не важно. Эта мысль ее повергает в такой шок, что она готова, как она выражается, валяться у меня в ногах. Представь, как это меня выводит. Я и говорить-то с ней по своей воле не начала бы, ну разве что, через пару лет. Причем мы с Лениным сразу же задвинули на нее так, что практически не общаемся. Ты ошибаешься: если бы ты знала, насколько я о ней не думаю! Но она мне, похоже, нужна. Ленин против нее, хочет ее сдыхаться, и он прав, конечно. Но я не даю ее в обиду, потому что она мне может сильно пригодиться. Хотя Ленин говорит, что я могу вырастить из нее леди Иуду (из чайника делать паровоз, который меня и задавит, как он выражается). Причем это очевидно, и я с ним согласна. Оленька – совсем не то, чем кажется. Но я решила все же забить на опасения. Последние действия Оленьки рассчитаны на то, чтобы до твоего приезда реабилитироваться – чтобы она предстала перед тобой аленьким цветочком. Это ее мечта, на которую мы ее спровоцировали. На это и давим, этим и контролируем. Наконец-то в последние дни намек на какую-то отдачу от нее начался, и даже Ленин согласился, что я, по-видимому, права. И если я найду, где у нее кнопка, должна, как он считает, рассказать ему, чтобы он нашел такую же кнопку в своем менеджере, в Юле. Последнее мне, кстати, давным-давно удалось. Впрочем, мне пофиг, но, реально, последние две недели была такая креза, что заниматься чем-либо дельным не было смысла и сил. Если из такого говна удастся сделать, в смысле журнала, что-то приемлемое посредством еще большего говна, то бишь, нас – ну, аплодисментов не надо… Вот такое вот оно хреновое лето. Зима, то есть. А осенью будут выборы. В газетах начнется дурдом. Суши сухари, Маруська. Пока-пока. Привет от техотдела. Ждем. Маруська, кроме смысла текста, знала, что в нем еще – очень много матов, употреблявшихся исключительно в качестве эпитетов к существительному «директор». Он, престарелый тигипковец, как и Лиин ред, не уставал повторять, что журналистов на базаре много, и если их коллектив откажется работать, то быстро отыщутся другие. Которые и за сто баков будут вениками крутиться. Понятно, экскрементальными. И питаться желудями. Типа, редакцию это пугало. Редакцию не пугало ни-че-го. Она, редакция, знала свое дело, и знала еще, что без нее, без этой команды, никакого журнала не будет. Они курили в комнате, ваяли хорошие тексты в стол и думали о будущем. Все равно они знали, что проект закроется, потому что у Ленина вообще не было рекламы. Потому что на рекламу директор поставил заоблачные, нереальные цены. Такие, что даже ас Ленин беспомощно разводил руками. Потому что им все это, вся эта, с позволения сказать, журналистика, нереально осточертела. Собственно, журналистская работа как таковая, в принципе, ничегошеньки не стоила. Ее, в общем, не существовало. Так, рокировки предвыборные. Черкали тексты на тупые темы, - это, как гласил диплом, должен уметь каждый! Но редакция задвигала на диплом. Потому что каждому из них приходилось быть не-только-журналистом, но шарить и в корректуре, и в редактуре, и в менеджменте, и в техпроцессе. А за это им не доплачивали. Банально. Сидели и курили. Сидели и курили. Сидели и курили. Сидели и курили. Сидели и курили. Сидели и курили. Сидели и курили. Сидели и курили. Сидели и курили. Сидели и курили. Сидели и курили. Сидели и курили. А потом закрылся журнал, и окончилась зима. *** - Слушай, так я не понял, что у тебя с Тигрой? – Эмануэле заказал третий грог, ему было тепло и любопытно. - Ничего. Мы разошлись с ним, уже давно. Почти год прошел. – Рики неприятно было говорить, но ломаться, отмалчиваясь, было противно. - Но, получается, ты не работаешь – чем же ты живешь? Может, ты замуж вышла? – Эмануэле громко расхохотался от собственной шутки. - Нет, не вышла. И не выйду. Я не люблю завязываться. - Тогда есть идея: поезжай работать к нам, в Ауллу. - Зачем? Ты обалдел? - Да не пугайся ты так! Поедешь на три месяца, оформим документы. Моей тете нужна образованная девушка, которая ладит с детьми. У нее два одиннадцатилетних сына. Но в Аулле ученого человека не найдешь, а выписывать из другого города в Италии – слишком дорого. Проще взять на это место девушку-иностранку, из Восточной Европы, например. У вас же тут многие хорошо образованны! А платить можно меньше. Ведь две тысячи евро в месяц, думаю, тебя устроят? - Вполне. - Ну так что? Поедешь? Будешь жить у моей тети, в Аулле, у нее там большой дом, а сама она – прекрасный человек. В городе тебя знают, и с нами тебе не будет скучно. Может, и забудешь, наконец, своего Тигру. «Если бы - Тигру!» - Кстати, ты у нас некоторым очень понравилась. - Забей. - Работа будет непыльная, не пригрузит, поверь. У тебя будет полно свободного времени. Я своей тетке уже рассказывал о тебе. - Смешно. Но вовремя. Ладно, Эмануэле, давай звонить, тогда уж, твоей тете. *** Сара подошла к окну, распахнула рукой тяжелую зеленую ставню. Прикрыла лицо ладонью, задумалась. Как ей было тяжело и в то же время прекрасно! Как чудесно то, что с ней происходило, и о чем она никому не могла рассказать… Ей было легко делиться с друзьями своей радостью от того, что на прошлой неделе они с Рики ездили к ее, Сары, родителям в Милан, и в клинике ее отца Рики обследовали и заверили, что она будет чувствовать себя хорошо: что со здоровьем у нее теперь все в порядке, и ничего страшного уже не грозит. Кроме того, Рики вполне сносно говорила поитальянски, вовсю гоняла на мотоцикле и чувствовала себя вполне здоровой. Сара клялась себе, что изменит ее жизнь. Но объяснить кому-то, что происходит на самом деле… Но от одного Рики отказалась наотрез: остаться в Аулле навсегда. Сказала «нет», и все. А на все последующие доводы Сары отвечала, что не понимает ни слова. Сара же не могла себе представить, что в один прекрасный день Рики уедет в свой далекий Киев и возможно, и скорее всего, никогда больше не вернется в Лигурию. Сара вспоминала, как вчера вечером Рики, сидя на брусчатке мостика у ручья, протекавшего через весь крошечный городок, такой родной Саре от самого рождения, что-то, наконец, стала о себе рассказывать. Сара тогда с жадностью ловила каждое Рикушино слово: за предыдущие три месяца редко кому в Аулле доводилось слышать ее голос. - Знаешь, Рим… Хотелось тут все увидеть, все запечатлеть в памяти. Я была не против знать теоретически, что есть люди, у которых – такая ужасающе-шикарная жизнь, которые ходят по таким старинным улицам, но мое собственное присутствие там было смешным, несуразным. Я представляла себя в виде инопланетянчика из клипа Моби… Сара слушала ее, и у нее в душе возникало странное, непривычное ей чувство какого-то умиления. Сама она десяток раз точно бывала в Риме, красиво там, конечно, но разве могла бы сама она так подметить, вообще что-то высказать об этом городе? Какая все же она удивительная, эта ragazza angosciata, странная, как море – терпкое, горячее и медитативное, такое родное и привычное Лигурийское море. А еще Рики такая же точно, как круглая цветастая галька. - У нас всегда так – соборы, старинные улицы, - ответила ей Сара вчера. – Честно говоря, я не обращаю внимания. А ты так интересно все рассказываешь! Лицо Рики вмиг изменилось. Она печально посмотрела на светлую воду под мостом, встала, и, не взглянув на Сару, быстро отправилась по душной strada в центр города. Тонкие песни слетают с губ: Легкие глупости вечно врут. Льется небо из облаков Белым снегом из всех веков. Звонкий смех и тяжелый грех – Смейся, плача, тоскуй, шутя. За каймою прозрачных век Смерть невинная, как дитя. Наших комьев тупая грязь, Наших мыслей немая связь. Размечтаемся – об обман, Затеряемся – за туман. По теченью весны-реки С миром пустим свои стихи. Бродила по узеньким улочкам до поздней ночи, пока, наконец, на какой-то смурной площади ее не обнаружили поднятые на ноги друзья Сары и не увезли ее домой, спать. Вчерашний вечер был тяжелым. А Сара вынуждена была теперь думать, как остановить Рики, как не дать ей уехать в Киев. *** За окнами стало совсем темно. Того, что за окнами было темно, совсем не было видно: полумрак комнаты от темени улиц отделяли деревянные зеленые ставни. В маленькой гостиной помещались два желтых дивана, круглый между ними столик и узкий коридор. Точнее, этот длинный коридор, вдруг расширяясь, и образовывал уютную гостиную в квартире Сары. Сара любила повторять: «Гостиная – это желудок моего дома». Столовой не было, а в кухне она никогда не ела и не готовила. Три высоких торшера слабо освещали лица парней, итальянцев высоких и грациозных, - именно о них по дереву большой скамейки на центральной площади почему-то было вырезано: «Такой-то – гей». Сара бы не взялась утверждать, что в ее стране, а уж особенно в той области, где она родилась и жила вот уже двадцать три года, царит толерантность. Вряд ли. Кому, как не ей, не знать! Только почему эти надписи посвящались её лучшим друзьям, Сара не понимала в упор. Парни молчаливо сидели напротив друг друга на диванах, закинув ногу на ногу, и не глядя друг на друга. Каждый из них был погружен в какие-то свои странные мысли. Одним из этих парней, если попросить один из торшеров посветить поярче, оказывалась сама Сара. Время от времени, под неодобрительными мимолетными взглядами друзей, Сара щелкала зажигалкой и нервно стряхивала в пепельницу обгоревшую сигаретную пыль. Попеременно, будто бы сговорившись, все присутствующие в гостиной с немым ожиданием поглядывали на выкрашенную в лимонный цвет дверь, словно нарисованную, как котел в камине папы Карло, на желтой коридорной стене. Эта дверь вела в комнату Рики. Вдруг один из парней прервал молчание. - Сара, а тебе не кажется, что ты сошла с ума? - Кажется! – Сара печально и с вызовом взглянула на вопрошавшего. - Ну зачем тебе понадобилось селить Рики у себя? И вообще, зачем тебе все это надо? Ты же у нас и так – одиознейшая фигура, в нашем-то деревенском консерванте. Но к тебе тут уже все привыкли. А она? Ходит по улицам, как приведение: на работу – с работы, на дискотеках не показывается, в «Рондо» - тоже. Зато в барах на побережье мы ее видели не раз! Так что, это она с нами общаться не хочет? Или как? - И что она там делает, в этих барах? – равнодушно спросила Сара. В принципе, она и так знала ответ. - Да ничего. Сидит. Курит. Пьет ром. У Ниггера, знаешь, крутой ром. Мы спрашивали у него: говорят, ни разу не напилась. - Я тоже не замечала! - Да как ты заметишь – ей от Ниггера ехать сюда на мотоцикле два с половиной часа! Но все же, Сара, сколько еще это будет продолжаться? Жили мы тут себе спокойно. Как мой дед говорит – стоит в Аулле чужаку появиться, сразу напряг. - Так и говорит? - Не, ну это вольный перевод… Короче, я просто не узнаю тебя: одна эта девчонка дурацкая в твоей голове! - Она не дурацкая, Джакопо! – Сара раздраженно прервала его и продолжала молча курить дальше. - Да ну, прекрати! По тебе тут сохнет полрайона, а тебе экзотики захотелось! Сара внимательно посмотрела Джакопо в глаза. Он продолжал: - Все бы ничего, но ты перестала тусоваться с нами, мы же не видим тебя почти! Ты все с ней пропадаешь. А ради чего, скажи? Она же просто отмороженная! Она совсем тебя не любит. - Ну, Джакопо, брат, не горячись, - вмешался Эмануэле. – Я с Рики даже получше, чем Сара, знаком. И скажу тебе, Рики – классная девчонка, правда, с большими странностями, но у них в стране многие – такие! Хотя, ведь и Сара у нас не подарок. Но знаешь, Сара, я, в принципе, с Джакопо согласен: ничего у тебя с Рики не выйдет. Зря ты эту кашу заварила! - Слушайте, вы! Так вот, поймите одно: я ее люблю. Все, баста! – Сара резко откинулась на спинку дивана. - Ну, хорошо, можешь ли ты тогда объяснить, почему она – словно с креста снятая? – не унимался Джакопо. – Что-то не похожа она на влюбленную! - Успокойся! – проговорил Эмануэле. – Я знаю: у нее была несчастная любовь. Наверное, она до сих пор переживает. - Да кто ж сейчас из-за любви переживает? – воскликнул Джакопо. - В наше время, чтобы тебя полюбили, нужны серьезные основания – не какие-нибудь! Сара молчала, удрученно затягиваясь дымом. Потом ответила: - Слушайте, мне, честно, плевать, что там у нее когда было. Ну, помню я этого Тигру. Ни рыба, ни мясо. Так, одно фанфаронство. И о девушке ее кое-что слышала. Тигра сам в «Рондо» рассказывал. Рики, правда, все больше отмалчивается… - Ага, я помню, как она только сюда приехала: ни с кем не разговаривала, кроме Эмануэле. - Рики по этому поводу шутит: «Не люблю чужих!» – рассмеялся Эмануэле. - Ну вот, и я говорю: что же это такое? Это мы – чужие? Так что ей нужно от тебя? Вопрос был адресован Саре. Она внимательно рассматривала тихий полумрак и блики на потолке. - Знаешь, Джакопо, я вот сейчас только поняла: мне ведь никогда раньше не доводилось любить. Многие дарили мне себя, многие старались меня привязать, подчинить себе. Им я все время была должна что-то за их безбашенную любовь. Любовь эту, впрочем, я принимала, не брезгуя: так повелось. Да ну, вообще, чего париться? Есть любовь – хорошо, нет любви – ну, значит, есть какие-нибудь там отношения. Многие, наоборот, приходили ко мне со своей любовью, как с просьбой: чтобы я избавила их от страха одиночества, чтобы напоила из животворящего источника своих страстей, разнообразила их жизнь фантазиями наркотических историй. - Так у всех, в общем. – Джакопо недовольно потянулся к сигаретной пачке. - Не знаю. Они не верили, что мне, на самом деле, все это не под силу. - Да ну! - Да, наверное. Я не понимала, как одиночества можно бояться. Зачем его бояться? Я жила, и смерть всегда была моим главным ожиданием от жизни. Я ждала наступления смерти, как ребенок ожидает подарков к Рождеству. Будто бы до Рождества еще долго, еще много-много дней, которые малыш проживает, которым радуется, в которых играет своими любимыми игрушками… Но несколько раз в неделю он тайком подходит к настенному календарю и считает, сколько еще этих чисел осталось до праздника. Священник объяснял мне, что стремиться к смерти – грех, а я отвечала ему, что в момент ее наступления тоже будет вершиться Божья воля, и я смиренно приму ее, вот и все. Я говорила ему, что очень люблю жить и очень не люблю об этом думать. Но вот это ожидание праздника, когда, наконец, меня отпустят отсюда, из заточения, из бреда, из суеты, от которой нигде не спрятаться – оно не покидало меня. Короче, Рики меня удивила: она оказалась первым человеком, оказавшимся в моей жизни, не испытывавшим страха одиночества и не просившим от него спасти. - По-моему, Сара, ты ошибаешься, - возразил Эмануэле. – Рики, как мне кажется, очень одинокий человек. - Да, это так. Но я не ошибаюсь! Я о другом говорю: она, как и все другие, очень одинока где-то внутри, но это одиночество в ней – нечто природное, как ее золотистые волосы, глубокий голос, голубые глаза. Она не бежала от своих одиночеств, наоборот, любила их, жила в них и без них своей жизни не представляла. Я увидела в ней это – и влюбилась бесповоротно. Тогда же, в «Рондо», когда Эмануэле привез ее туда впервые. - Да уж, ты любишь понаблюдать за девушками, с которыми мы знакомимся где-нибудь в Черренто или на побережье! Чтобы поскорей увести, наверное! – заметил Джакопо. - Да ладно! Знаешь, мне впервые захотелось помочь другому человеку свершиться. Я тогда наблюдала за ней, и меня не покидало ощущение, что вот она – развеселившаяся, с грустными глазами, простуженная, смолящая ментоловые сигареты, уверенная в себе, яркая, эмоциональная – что она вся какая-то незаконченная. Ее жизненности, общительности вот этой чего-то недоставало, и печаль на ее лице тоже не была завершенной. Мне очень захотелось помочь ей жить – так, как она именно этого хочет. Я чувствовала, что она знает, чего хочет: базаря с вами, она искала это что-то, неизвестное ей самой, не имеющее имени, в каждом вашем жесте, слове, мысли, в ваших голосах. И знаешь, когда мы стали встречаться, я убедилась, что права: по крайней мере, ЖИТЬ у нее стало получаться. - Ясное дело, Сара! – буркнул Джакопо. – Ты ведь – сильная натура. Вообще, ты у нас все время лучших девчонок отбиваешь. Чем ты их берешь – тебе же, вроде, нечем? А? - Лучше не выступай! – улыбнулась Сара. – И не придалбывайся к Рики. ОК? На самом деле, Джакопо вовсе и не сердился. Рики ему нравилась. «Добрая девочка!» – считал он. Но Джакопо сильно волновался за Сару: меньше всего он хотел, чтобы счастливая, жизнерадостная Сара разочаровывалась. *** Привет, Сара. Знаешь, в голове было столько мыслей в ответ на твое письмо, но мне было лень записывать их, и я их все растеряла. Тем более, знаешь, я вот сейчас напишу много слов, а отошлю тебе только два или три из них. Остальные мне, скорее всего, покажутся скучными, и я от них избавлюсь. Так что не обижайся. Я должна тебе сказать: ехать прошлым летом в Европу с моей стороны было сумасшествием. Представь, например, у лыжника сломаны обе ноги, а он наравне со всеми становится на олимпийскую дистанцию. Это глупо, да? Неразумно. Я сейчас вытру это письмо из папки «Мои документы», и его содержание канет в Лету. Сознавать это очень приятно. Все же, я неисправимый манипулятор. Дурная привычка манипулировать самой собой. Просто, как тебе рассказать о том, что я чувствую? Ты, конечно, ждешь, что я скажу что-нибудь о том, как скучаю по тебе, думаю о тебе. Соринка, знаешь, не думаю совершенно. Ты – моё несбывшееся. То, что я больше всего на свете сама в себе ненавижу. Ты то, что может со мной случиться когда-нибудь. Ты – вот это самое ощущение, вот эта острая неожиданная сосулька на крыше киевского почтамта, ты – моя неискоренимая нелюбовь к метро и обожание маршрутных такси. Ты – комок земли, брошенный в мою новую прическу с балкона шаловливым ребенком. Ты – загородные резиденции наших правителей, по которым я нычусь во сне, словно вор, ищу что-то, что непременно спасёт от чего-то страшного мой народ. Ты – сумерки революций из моей любимой песни. Я общаюсь с тобой телепатически. Я не допускаю тебя в мою реальность. Я тебя просто игнорирую. Как в чате. Так вот, путешествия были мне противопоказаны из-за моих предощущений. Но тогда, когда я поехала в Италию с Тигрой, я ещё всё чувствовала по-другому. Наверное, на что-то надеялась. Или просто не заметила приближения несбывшегося. Прозевала. Я ощущала тогда, что моя судьба в Тигре завершена. Уже не имело значения, как это состояние могло реализоваться, в какой сценарий расставания. То, что мы уже разошлись и с ним, и с Лией тоже, я знала внутри себя еще по дороге в Ауллу, и чтобы этого не узнать в реальности, я не должна была туда ехать, понимаешь? А с другой стороны, я ведь не фаталистка. Просто я иногда чувствую наперед. Как говорят здесь, в Киеве, художники: «Рики – уникально впечатлительная девочка». Потому я и смирилась со всем заранее. И все-таки поехала. Добравшись до Вены, я отчаянно бросилась разыскивать свою судьбу. Я хотела убедиться, что она без Лии, без Тигры все же существует. Что, окончившись в них, я не завершилась навсегда. Это мне было очень важно понять. Ведь если бы я не в Киеве родилась, а в Вене, я точно была бы музыкантом, я спасалась бы от одиночества в венских кафешках, бродила бы часами по венской набережной, курила бы в венских парках. Понимаешь, внешне я бы жила совершенно другой жизнью, чувствовала бы другими чувствами, думала бы мысли по-немецки, но одиночество оставалось бы тем же. Ясно, при условии, что я была бы мной. Мне было важно ощутить, чем мое венское одиночество отличается от киевского. Я нашла не десять отличий – больше. Если б моя судьба началась не в Киеве, а в Вене, я натворила бы делов! Еще не познакомившись с Лией, я ожидала чего-то великого, я чувствовала, как оно наступает. И наступила Лия. Представляешь, я сразу ее узнала. Но тогда, в те годы, до встречи с ней, я не пропускала ни единого чувства, ни единого ощущения, ни единой мысли, которые происходили во мне или вокруг меня: я упрямо, скрупулезно сверяла их с непонятным тем, что от рождения было спрятано в самом секретном тайнике моей души. Я бесстыдно доставала из него это что-то, и сверяла с ним все и вся, что встречалось мне во мне или в окружающих. Им казалось, что я чересчур откровенна, что я выворачиваюсь наизнанку – наверное, так оно и выглядело со стороны. Но я не понимания их искала: я пыталась их разглядеть, заметить хоть какое-нибудь сходство с этой моей тайной, с этим несбывшимся. Я не ждала, пока судьба сама приведет меня к искомому. Я знала, что именно вот это и было судьбой: отыскивать мое несбывшееся. Я перерыла в моем городе все закоулки. В Киеве закоулки такие, которые позволили себя перерыть. А Вена бы не позволила, отныне я точно это знаю. Каждый из венских закоулков норовил бы стать моей судьбой, обманывал бы меня, уводил бы с пути истинного. Я прожила бы сотни чужих жизней, так и не отыскав своей собственной. Осознав это, я перестала понимать: живу ли я в городе, или это город – во мне. В городе ли я стараюсь растворить свое одиночество, или я вынуждена существовать в одиночестве города? Но я чувствовала, что, путешествуя по городам, я путешествую по чужим одиночествам. Люди прячут одиночества в своих квартирах, а квартиры надежно скрываются в городах. Города похожи на квартиры… Понимаешь? *** - Рикушу я встретил снова, когда она вернулась из Австрии. Специально зашел к ней на работу – это единственное в городе место, где ее возможно наверняка обнаружить в выходные дни. Мне было важно поговорить с ней. Тигра приехал из тура, мрачнее тучи, стал возвращаться домой далеко заполночь, а то и вовсе оставался ночевать в гараже. Впрочем, Лия, довольная исчезновением Рики, жила себе без проблем. Она продала все картины, изображавшие Рики, или те, которые Рики нравились. Я сам не очень понимал, чего хотел от Рики. Мне было важно спросить у нее… Сказать ей… Она провела меня в курилку – маленькую такую комнатку под лестницей. Заперла на засов обшитую железным листом дверь, устало и вопросительно посмотрела на меня. Она только что закончила лекцию. Мы долго молчали. Курили. Потом я спросил ее: - Ну что, втянули они тебя в авантюру? Она помолчала еще немного. Улыбнулась. - Священник, когда-то давно, тоже меня об этом спрашивал. Беги, говорил, на фиг из этого плена. То есть, от Лии. - Что ж не ушла? - Любила. Это потом уже поняла: любовь – не повод, чтобы оставаться. Я много рассказывал ей в тот вечер о своей покойной жене, о том, как подрастал Тигра, о романе актрисы и студентки-провинциалки… Она терпеливо слушала. Ей, конечно, все это было неинтересно, но я чувствовал: она должна знать. Меня постоянно мучила одна жестокая мысль. О том, что за смертные грехи расплачиваются дети. Гены огненные. И я не хотел… Лия уже ждала ребенка. То есть, я ждал внука. *** Рики вовсе не собиралась никого прощать. Кого? За что? Виктор Ильич старался перебросить Саре мост от Рики-прошлой к Рики-настоящей. Но Сара-то знала, что таких Рики не существует! Рикуша вновь и вновь бывала иной, и снова и снова должна была воплощаться. Сара не видела в этом проблемы. Она не искала настоящую Рики. Саре не жалко было подарить Рики свою сильную любовь. Наоборот, это даже прикалывало. Или было очень приятно. Она сама ещё не разобралась. *** Киев осыпался осенними дождями. В ночь на Хэллоуин опали почти все клены. Убедиться в этом можно было легко: стоило лишь полюбоваться из окон маршрутки, переезжающей Днепр по Патона, холмами Городского сада. Я втрачаю вірші в маршрутках, За банальним не бачу вічне. На порозі скидаю пута: Повертаюся з миру в вічність. Переповнена до нестями, Не висловлюю, і не збагну, Чом не знайду стежинок прямих, Чого варта і чого прагну. На порозі – січень і холод В світовій суєті-константі. В нім – нічим невгамовний голод, Поза вічним дикунські танці. За порогом – знов світ і суміш Невсвідомленого чекає. Я втрачаю вірші в маршрутках, І не знаю, нащо складаю… Лия считала, что Рикина любовь не делала для нее того, что должна была. Так зачем же ей тогда было быть? Для Лии Рикина любовь была ненавистным ребенком, живущим с мачехой, которая, будь ее воля, своего мужа не делила бы ни с кем. Даже с малышом, обожающим, доверчиво заглядывающим в глаза, восхищающимся ее талантом, обозначившим ее жизнь, придавшим ей смысл. Лия как-то сказала ей: - Рики, говорить с тобой вообще невозможно. Ты хоть сама-то на себя со стороны посмотри! Думаешь, ты ангел? Не заблуждайся! Ты высокомерна, всех пытаешься научить, всех стараешься исправить. Надоело! - Ну, извини. - Чего? - Извини, говорю. - Во чудачка! Я ее ругаю, а она извиняется! – Лию выводила эта манера. - Понимаешь, Лия… Спасибо, конечно, что ты помогаешь мне список пополнить, для исповеди. Облегчаешь мне ковыряние в моих негативах. Но мне жаль, что ты не видишь во мне хорошего. Ведь если ты меня любишь, так не должно всё быть. На этом они и поссорились. Рики долго читала скучную книжку, случайно попавшуюся под руку. Лии вышла из кухни, подошла к ней, обняла: - Прости, я, наверное, погорячилась. - Да ладно… - Рики знала, что вскоре за этим «прости» последуют очередные злостные наезды. Лииной доброты надолго не хватало. Истинным чувством Лии к Рики было стойкое, как запах гари, раздражение. - Слушай, неужели я так часто тебя ругаю? - Продолжала Лия. – Знаешь, у меня все время такое чувство, словно ты на всех смотришь свысока, словно все люди – здесь, а ты – Там. - Да, я в самом деле очень высокомерна. - Перестань строить из себя правильную девочку!.. В общем, они тогда снова поругались. *** Пусть я буду кружиться в белом платье, танцуя вальс. Пусть полы в огромной зале отражают бликами свет ярких ламп. Пусть я буду собой (той, неизвестно какой). Я буду понимать все-все-все и перестану говорить глупости. Я буду легкая-легкая, и перестанет болеть голова. А вокруг не будет этих непонятных рук, ног и хаоса мыслей – только Шопен, и полы в огромной зале, отражающие… Танец в реанимационной. Я буду пить мелодии из прозрачных бокалов, и наконец-то, перестану испытывать жажду на прочность. Снег я буду видеть только из окна: на улице его никогда не окажется. И не придется думать о будущем, о несвершившемся, которое вечно теряется в несуществующем. Горячий чай станет именно горячим. Я научусь забывать сны. И белое платье (ха-ха, какая пошлость с моей стороны здесь подумать, что это пошлость!), белое платье – это теперь небанальность, и кружиться – это просто быть снегом, и голова не пойдет кругом – это ведь не безумство, а просто мечта. Танец, празднующий жизнь. Мечты сбываются. Но ведь это наскучит когда-то. О нет! Разве может «быть скучно»? Слова, пусть они перестанут сковывать меня («она любит ходить на танцы – она любит ходить в танце – она любит ходить смотреть на танцы»). Это будет дом – мой. Я в нем, и еще не знаю о тебе. И знать не хочу. Не хочу! Только Шопен. И это конченое белое платье. Кто его на меня напялил? И кого-то я очень жду. Я вдруг пойму все свои капризы, все непоследовательности: fillette capricieuse. Темница сыра и пуста, И стука не слышно часов На стенах умолкших квартир. Э –э! Я уже не образ! Я – реальная маленькая я. А ты – сказка. Ты просто есть, а я тихонько пою. Здесь звуки роняются в грязь, Здесь песни рождаются в мир, Чтобы пропасть. Полонез. Такая вот музыка. Кажется, это была цитата Здесь люди до боли ясны, Как шаг от стены до стены. И словно распятие – стих, И словно молчание – миг… Такая вот вечная молодость. *** Зимняя, заснеженная, светящаяся, мигающая разноцветными огнями витрин улица Льва Толстого. Горят огни фонарей и окон. За ними кто-то пишет свои легенды. Рики сидела на холодном белом подоконнике и играла в любимую игру – в наблюдения. Большой серый магазин на углу уже закрыт. Поздно. А днем там продают хрусталь. Этот хрусталь покупают люди, у которых странные судьбы. Этим покупателям жизнью предназначено надевать меховые шапки, выходя на улицу, буравить сапогами мокрый снег, проползая к магазину, аккуратно выносить из него коробки с хрусталем и фарфоровой посудой, втаскивать их в свои дома и торжественно, под одобрительные восклицания родственников, ставить в сервант. Есть люди, которым для самоутверждения достаточно хрусталя. Им не нужно хотеть особенной жизни. А еще, казалось, они, эти люди, очень счастливые. Энергия наполняла их, как монгольский хан – свои сокровищницы. Они, смеясь, ругаясь, толкаясь, сновали в магазин и из него, ловили такси и попутки, складывали на сиденья свои хрустальные коробки и мчались куда-то, к своим толстым, улыбающимся детям, к своим хозяйственным, не терпящим измен женам или мужьям. Они единственные в раме окна, эти люди под серым магазином, были довольными и шумными, звенели на разные лады, также как и их хрупкая, хрустальная жизнь. Проползает внизу троллейбус. Так, запоминаем рекламку! Реклама на троллейбусах – самое интересное в нудных буднях больничных поселенцев. Наутро они с девчонками позвонят по телефону-автомату, висящему на лестнице, по этим рекламным номерам и станут говорить глупости. И будет весело. Реклама – с креативными картинками, со сладкими слоганами – была киевлянам еще в диковинку. Народ пока не привык к тому, что не только продукты питания можно активно рекламировать, но и что-нибудь промышленное, одежное, моющее. Желудки еще помнили вкус дефицита и несъедобных, в общем-то, купонов. Яркая реклама на троллейбусах казалась дикостью. Первые годы украинской независимости. Рикуша вспоминала, как независимость случилась в ее жизни. Вдоволь наплававшись, она валялась на берегу Черного моря, собираясь прогуляться в одно из своих самых любимых мест – в дом Волошина. Уже натянув футболку, она, было, направилась к выходу с пляжа. Но там, у ворот, несколько человек, сидя у радиоприемника, взволнованно переговаривались, и что-то они говорили такое, отчего все вокруг загоравшие поднимали головы, как кобры под дудочку, и внимательно прислушивались к крикунам. Вокруг них стали собираться люди – перепуганные женщины, растерянные мужчины… Слышалось странное, уродливое, пугающее слово “путч”. Шипучка. Чека. ЧК. Рики спросила какую-то женщину: “А что такое путч?” Та ей ответила: “Это в Москве такая революция”. “А что означает эта революция?” – допытывалась одиннадцатилетняя Рики. “То, что домой теперь не попадем. Все билеты расхватают. А ехать надо срочно, сегодня”. “А почему сегодня?” “Потому что завтра везде могут быть войска”. “Война?” “Может быть, и война”. Рики стянула с себя футболку, завязала ее на голове и бросилась в море. Она спешила на соседний пляж, где отдыхали друзья ее мамы. По берегу идти пришлось бы долго: пляжи были отгорожены друг от друга высоченной железной сеткой, надо было обходить. А вот проплыть возможнее: нужно было лишь перетерпеть касания скользких, желтых камней под ногами, в том месте, где под причалом обрывался забор и обнаруживался маленький лаз. Рики героически преодолела все препятствия, она захлебывалась водой, у нее болели руки, и в ушах гудело, как волны под мостом, страшное, непонятное слово “путч”, которого они никогда раньше в школе не проходили. Но что такое революция, это и она, и все другие советские пионеры знали прекрасно: Ленин, “Аврора”, родной далекий Питер… Когда в школе рассказывали о революции, ее учительница, коренная ленинградка, неизменно торжественно спрашивала Рикушу о ее тетях-дядях, бабушкахдедушках, братьях-сестрах, доселе живущих там, в северном городе, которому регулярно снятся перемены. И весь класс, поголовно родом из выбеленных украинских хат, почему-то завидовал Рики, зачарованно слушая об Эрмитаже, о Невском проспекте и о легендарной “Авроре”. Рики была очень горда тем, что она все это видела собственными глазами. Она одна со всей школы, и еще ее классная руководительница. И многие приходили к Рики после уроков, послушать на старинной радиоле странную песню про Линахамари, про “адрес короткий у моряка”. Еще у Рики имелся настоящий зимний моряцкий тельник и старинный складной нож. Нож был талисманом, а доставшаяся по наследству тельняшка носилась в школу вместо свитера. Рики доплыла до соседнего пляжа, и, выбравшись на берег, как-то сразу, неожиданно увидела мамину подругу, к которой, в общем-то, и спешила. Крича издалека: “В Москве – путч!”, Рики бросилась к ней. Люди, не слышавшие радиоприемник, спокойненько загоравшие под прозрачным южным солнцем, вскакивали со своих мест, хватали бегущую по гальке девочку за руки, расспрашивали, собирали вещи, спешили к выходу, к телефонам-автоматам. В общем, вскоре Украина стала независимой. Уже в сентябре, в школе, им осторожно, украдкой, опасаясь, приказали снять пионерские галстуки. Дети не снимали. Всю зиму ходили с ними явно, не смиряясь: как же так – столько учились, столько старались, чтобы завязать на шею заветные красные тряпочки еще в четвертом классе, а тут такая лажа. А потом еще долго таскали галстуки в карманах. Той же зимой учителя спешно придумали лекарство от косившей школьников чумы – потайной пионерии. Выдумали какой-то “союз каштанчиков” с желто-зелеными галстуками, которые, впрочем, уже не были такими магнетичными и притягательными, как красные, и раздавались всем насильно, даже отъявленым двоечникам. Школьники дружно послали “каштанчики” далеко, и неумолимо стали превращаться в потерянное поколение пофигистов переходного времени. До конца школы оставалось всего ничего, каких-то пять лет. Но за эти годы вот это поколение идейных юных пионеров, не умевших задумываться о течении своих странных советских жизней, жизней сельских детей и редких в этой школе отпрысков молчаливых интеллигентов, прожило столько всего: главенство районного криминала, бесконечно делившего между собой рынки, магазины и пивные ларки, смерти многочисленных одноклассников как бы от туберкулеза, подростковые любови в пыльных блочных квартирах, запугивание большеглазых школьниц в коричневых формах - беспросветное хамство и издевательским беспределом в адрес тех, кто отказывался крутить романы с урками с рынка и школьной гопотой, или слыл в школе слишком уж умным. Старушка-вахтерша, запуганная одиннадцатиклассниками и прикармливаемая ими хлебом с докторской колбасой, безропотно открывала им поздним вечером двери школы. Ученики ширялись в тепле до позднего вечера, развлекались с девятиклассницами в школьном туалете и делали еще много всего такого, о чем чистеньким одноклассникам, приходившим наутро учиться, не следовало бы знать. Учителя увольнялись, менялись, не выдерживали или молчали. Отмалчивались после драк на дискотеках, после обнаружения шприцев под школьной лестницей, после прыжков с крыш красивых, покинутых школьниц, наслушавшихся “Ласкового мая”. Немного повыступали, лишь когда дочки первых в истории Украины “челноков” простились со школьными формами и заявились в школу в ультрамодных велосипедках. Столько всего Украине еще предстояло пережить… В Рикином городе тогда каждый был за себя, защищая себя не от моральных агрессий, а от вполне реальных физических атак. Тогда – в те годы, когда считаться неформалом было ещë иногда опасно, и когда Труба была хоть и грязной, кафельно-желтой, вонючей, но реальной отдушиной от грозного, глупого, серого, криминального, анархистского молодого социума. И быть тут самим собой можно было только вопреки всему, что окружало по жизни. Но и Труба не становилась панацеей. Рики вспоминала, как к ней, сидевшей на бетонном бортике у метро, подошел некий Доктор, известный в те времена на тусовке олдовый хип. Изучающе посмотрел на нее и стал быстро-быстро морозить ей какую-то заумь. Взрослый, усатый, худой мужик в очках и она, школьница с распахнутым в мир взглядом, перепуганно затягивавшаяся дешевеньким “Беримором”. Она что-то вяло отвечала ему, впрочем, ей было по фиг, что. Вскоре Доктор с друзьями ее покинул. Как выяснилось, он быстро поставил диагноз. И к ней подбежала подружка с круглыми от ужаса глазами: - Рики, что ты там Доктору говорила? - Да ничего, не помню. - Слушай, он там всем рассказывает, что ты сама себе очки сбросила, что не принято здесь на заумные вопросы заумно отвечать… В общем, он смеется, говорит, что ты – маленькая дурочка. Рики равнодушно затянулась сигаретой. - Софийка, а ты что об этом думаешь? - Ну, это же тусовка! Ты же понимаешь, Доктор – такой олодовый. Это же круто! - Софийка, а по-моему, это всё – детский сад. - Но ты же сама – неформалка! - Ну, пусть неформалка. Но что, ты считаешь, что мне важно “добро” твоего Доктора? - Нет, но… - Знаешь, это то же, что и у нас на районе. Фигня. Видите ли, я посмела сказать то, что мне в данный момент хотелось. И за это меня надо наказать! Ребята, зачем же так напрягаться? Это, как раз, и есть социальные правила, и ничего в них нет неформального. - Все равно, ты еще маленькая, чтобы об этом рассуждать. А Доктор – олдовый. - Ну и вымпел ему на шею. На Рикину подружку Софийку тусовка повлияла банально. Домашняя девочка в феньках, сама родом из дальнего столичного массива, охотно гуляла с любым, кто обращал на нее внимание. Труба заживо погребала всех симпатичных девочек, которые задерживались в ее стенах более чем на десять минут: к таким подходил пионер из тусовки и предлагал присоединиться. Девочек встречали очень тепло, пили с ними пиво, привечали, очаровывали, гипнотизировали, уговаривали, влюбляли – и ехали к девочкам же на флэт, чтобы утром покинуть их в горьких размышлениях о тяжкой женской доле. Но в девочках, жаждущих об этом поразмышлять, никогда недостатка не было. Демократичность, блин, Системы. Софийка оказалась одной из таких. Появившись на тусовке, она больше уже не ловила каждое слово Рикуши. Теперь ее кормили словами дядя Доктор и его друзья. Рикуше это все было нестерпимо скучно. Ведь уже через год блокнот с ее стихами будет бродить по Киеву из рук в руки, уже через год ее подберут на рок-концерте знаменитые апологеты киевского андеграунда, которым Доктор почитал за честь пожать руку, и уже через год ее имя будет скромно стоять за кулисами многих столичных богемных мероприятий, и она перестанет быть маленькой, никому не известной девочкой, а станет самостоятельной клеткой этого радушного здоровяка по имени Киев, его новой кровью, ему необходимым, противовирусным витамином С. В этом городе тишина. И старинных домов оскал. Я кому-то ещё нужна. Меня кто-то вчера искал… “Кажется, шаги медсестры. Нырнуть в постель? Да ну их всех в баню! А с другой стороны, если заметит – уложит спать и будет проверять каждые пять минут, пока в самом деле не отключусь. Ура, не заметила! Значит, сидим”. Все так далеко… Все знакомые ей люди так далеко. А здесь – звезды, город, круглая площадь, сонный университетский парк. Ночь-одиночка. Еще почти нет песен и стихов, но уже есть гитара и некоторые навыки бренчания. Гитару тихонечко пронесли сюда, в больницу. И теперь пропахшими лекарствами вечерами, освещенными резкими лампами дневного света, почти всё её отделение собирается в крошечном Женькином боксе и поет песни, Цоя, преимущественно. А через несколько лет эти песни будут бездарно исполнять в Трубе, и аскеры станут выклянчивать за это деньги. У нее же, у Рики. У самой основной цивилки этого города… Немногие аскеры знали, что у нее самой всего-то – древние феньки на руках и пачка сигарет на кармане. Пройдет совсем немного лет, и в Трубе не останется ни единого друга. Все вырастут. А сейчас в ее жизни еще нет Тигры. Еë ещë никто не понимает. Сейчас всё только чувствуется и ожидается. Из-за облака выпала круглая, блестящая луна. Горят огни фонарей. Дома по-стариковски вздыхают во сне. “Эта ночь – для чуда” – подумала Рики. И чудо случилось. Не успела Рики ничего сообразить, как ее тело исполнилось невобразимой легкости и радости, и каждая его клеточка потянулась к небесам. Рики встала на подоконник, нажав на защелку, открыла форточку и вылетела в окно, как случайный сквозняк, живущий безаботным выскальзыванием в щели. Она поднялась над крышами домов. Строгие профессора-деревья удивленно вскидывали ветви ей вслед. За молчаливыми окнами, в бликах мигающих слабых огоньков, Рики видела гениальных поэтов, творящих свои шедевры. Они тоже замечали ее, потрясенно поднимая глаза и провожая взглядом промелькнувшую сказочную тень. Летать было забавно. Она приветственно махнула рукой группке светящихся душ, спешивших в роддом – рождаться. “Утром, - представила Рики, - в новостях ведущий объявит: “А сегодня в Киеве появились на свет семь мальчиков и восемь девочек!”. И улыбнется”. Рики видела людей, жестоко ругающихся за неплотно задвинутыми шторами, и людей, гуляющих по ночным улицам, держась за руки и улыбаясь друг другу. Но люди за шторами никогда не смотрели в ночные окна, и вдохновиться примером влюблённых не могли. Рики присела на краешек дымохода. Она чувствовала: сейчас произойдет что-то важное. Улица… Молодая женщина катит коляску. В ней – девочка, похожая на маргаритку. Рики бежит по улице вместе с девочкой, похожей на маргаритку – они спешат на английский. Молодой аспирант подарил маргаритку девочке, которую мама везла в коляске. Девочка, похожая на маргаритку, улыбалась бойкому лысоватому преподавателю, которому Рики подарила на день рождения красивую маргаритку. Сидя на крыше, Рики натянула майку до самых коленок. Поверьте, летать зимой по небу в одних трусиках – дело прохладное! Видели бы медсёстры. Пора возвращаться – греться. Но тело её уже послушно подчинялось закону земного притяжения. Взлететь не получалось. Вздохнув, Рики выбралась через чердак в подъезд, и оттуда – вниз, на улицу. Она оказалась во дворе того самого хрустального магазина. Быстро перебежав пустынную улицу, скользнула в ворота больницы, скрипнула дверью мимо задремавшей дежурной и залезла в свою постель. Наблюдения или сны? Это она поймет лишь наутро. *** Рики курила на балконе. Было раннее, холодное утро. Таким же точно морозным утром она сидела на камнях старинных укреплений в Аулле, где когда-то давно целовалась с Тигрой в последний раз. Внизу, под стеной, на дороге, прожужжал мотоцикл. «Во придурки, ездить в такую рань!» – подумала Рики. Через секунду мотоцикл влетел на стену и затормозил около Рики. Мотоциклист снял шлем, выпустив на волю обстриженные черные кудряшки – так, чтобы им и не снилось виться. Сара, как всегда, бросила свое сухое «ciao» и упала рядом с Рики на стену, на то самое место, где год назад сидел Тигра. «Всё знаки!» – суеверно подумала Рики и отодвинулась от Сары в сторону. Та молчала, свесив ноги в пропасть. Тем утром они долго проторчали на стене, так и не произнеся ни слова. А вечером Сара объяснялась в прихожей Джоаны, тетки Эмануэле. - Не волнуйтесь, пожалуйста, она будет прекрасно жить у меня! – Сара смотрела сеньоре прямо в глаза своим известным на весь район непреклонным, упрямым взглядом бархатных, оливковых глаз. С того дня Рики вообще перестала понимать, что с ней происходит. Все просто все равно. Уже не пустишь ввысь По радуге – реки, По брызгам – нити снов. Мы не затем живем. Мечтанья-чужаки Запутали наш путь, Разрушили наш дом. Все больше стало слов. Длиннее стали дни. Расходится любовь. Душа теряет свет. Все больше – не о том. Все чаще – ухожу. И в этом ничего Особенного нет… А Сара носилась с ней, как с ребенком. *** Рики обнаружила себя внутри тесного дольмена и попыталась вспомнить, сколько прошло времени с той поры, как она тут оказалась: минута? год? тысячелетие? Она чувствовала себя экзотическим растением, пересаженным в другую землю. Растением, которое родной, настоящей своей земли и не знало. Но и корни его – уже ведь в ином чернозёме… Рики сочиняла письма и в графе «куда» фиксировала: «тот свет». Письма предназначались Рикушиным будущим (точнее, небудущим) детям. Она сбежала из Италии в Крым, к своим старым знакомым, имевшим домик в Алупке и завернутым на язычестве. Они путешествовали в горах, по древним пещерам, по городам ЮБК. Очень часто, поутру, Рики добиралась маршруткой к Кошке и поднималась к поселениям тавров, засыпала в каменных тарелках, часами смотрела на далеко внизу плещущееся море, сидя на уступах утёсов. Вспомнила, почему-то, о непременно, обязательно пережитых когда-то тупых процессах передач книг-документов (всякой ерунды, непригодившихся или случайных деталей несостоявшейся любви) через новых Лииных любовниц – ее, Рикиных, старых подруг. Ощущала, что Лия стала для нее глубокой чёрной ямой, точно такой, в которой Рики иногда приходилось просыпаться во сне. Рики чувствовала тогда, что Лия стала ее смертью: она, Рики, еще вроде бы жила, но на самом деле, давно уже умерла. Она понимала, что это – вовсе не парадокс, что это - Православие. В своих ужасных снах, в той холодной, страшной пропасти Рики вдруг очень хотелось проснуться. Так хотелось, что невозможно было воспротивиться этому несусветному, незнакомому во сне желанию, и она просыпалась. Открывала глаза, ещё долго дышала часто-часто, ещё долго боялась домашних теней, бродящих по комнате, и всё вспоминала: Лия, черная яма… Как говорят французы, сердце женщины – это кладбище. Как же так? Как же так может быть? Ведь они же так любят друг друга! На немые Рикины вопросы неожиданно, при случае, ответила Маруська. - Понимаешь, мне тоже нравится заводить «левые» романы. Просто так, для разнообразия. Но я никогда не влюбляюсь в этих случайных людей. Я все равно остаюсь с тем, с кем живу. - Слушай, а ты, когда изменяешь, задумываешься о том, что чувствует вот этот человек, который с тобой живет, который тебя любит? - Нет, не задумываюсь. - Вот это мне интереснее всего. – Рики, глядя с хитрецой, улыбалась. – Знаешь, мне не бывает важно, кто кому изменял и с кем. Меня, до поры до времени, не напрягало, что Лия явно жаждала для себя новых историй. Но она реально оскорбила меня одним: тем, что действительно совсем не понимала, что я чувствую. Вообще, она воспринимала меня так, словно мне в принципе не присущи чувства. - Я и раньше тебе говорила, что Лия сама не знает, кого она в действительности любит. – Маруська горько усмехнулась. – Ты ведь меня не слушала! Думаю, она ни тебя не любила, ни предыдущих своих любовниц, и последующих тоже любить не будет. Но она сама не понимает этого. Естественно, ей необходимо оправдать свою тягу к перемене чувств, то, что она не способна принести кому-нибудь счастье – и она старательно переписывает свои банальные графоманские истории по жизни, превращая их в придуманные, а не прожитые вовсе, толстые и бесполезные романы. - Прямо как я – свои повести! - Да ну брось! - Маруська, я не понимаю: зачем вообще нужно изменять? - Так… Ну, поскольку я догадываюсь, что ты вряд ли будешь призывать меня к скороспелому замужеству и семейной жизни по «Домострою», то… Отвечу - не все могут так, как ты: разладились отношения – все, до свиданья, adieu. Ты не умеешь изменять своим чувствам. Либо любишь – либо перестаешь существовать в чьей-то жизни. А люди, чтоб ты знала, ну так, для общего развития, не практикуют крайностей. - Любить душой, ты хочешь сказать, это крайность? - Наверное… - И им не скучно? - Конечно, им становится скучно. Но они втягиваются. Привыкают. Тут типа любишь, там изменяешь… Оборвать отношения, прекратить насовсем, в один миг, внезапно, чтобы впустить в свою жизнь что-то новое, свежие свободы, привычки, надежды – немногие на такое решаются. Ты у нас, Рикуш, не от мира сего – так зачем тебе всё это знать? По-моему, ты рассталась с Лией уже очень давно, может быть, почти от самого начала ваших отношений. Что-то главное прервалось для тебя быстро, но ты все же ожидала от Лии спасения. Она зомбировала тебя уверениями в том, что будто бы любит. - А я всегда отвечала, что это – неправда. - Это и было неправдой. Но ты-то все равно ей верила! Ты хотела ей верить. Ну что было с тобой делать? Сидя в дольмене, Рики вдруг вспомнила этот разговор. Как давно он произошел! Прошло уже больше года с того момента, как Лия навсегда исчезла из ее жизни. По возвращении Рики из Ауллы, когда она рассталась с Тигрой, они все ни разу не виделись даже в институте: прошло немного времени, и Лия родила дочку. И назвала ее в честь отца, Тигряной. Тигре очень нравилась эта песня Анжелики Черняховской, услышанная им когда-то на концерте «Золотые сказки Земли». В бесконечном пространстве космических глубин Продолжается Жизнь, продолжается Жизнь, Рождением нового Человека, Рождением новой Звезды, и песни Поэта, Рождением новой Звезды… Как по небу скользнула белокрылая птица, Это лебедь кричит, это сердце стучится. Это вечный свет Добра и Любви, Это счастье гореть сквозь года пронеси, Это счастье гореть пронеси. Глаза твои на небо ложатся, Отражением земли хотят на нем остаться, Отражением рек и цветов всех красок, Отражением лиц, отражением масок, Отражением в капле дождя. В бесконечном пространстве космических глубин Продолжается Жизнь, продолжается Жизнь, Рождением нового Человека, Рождением новой Звезды, и песни Поэта, Рождением новой Звезды… Короче, Лия взяла тогда академку. Рики вспоминала, как в те, первые, непривычно одинокие недели ныкалась по киевским кафешкам, скрупулезно описывая в тетрадке свои состояния, придумывая к ним образы и сюжеты романов или подыскивая к ним же факты для создания публицистических текстов. Каких-нибудь навороченных статей об искусстве. Ваять их так, чтобы никому не пришло в голову вякать: «А это всё вы о себе написали? О своей жизни?» Рики любила посмеяться над интервью продвинутых писателей и над позициями некоторых современных критиков. Сии личности, почему-то, упрямо именовали рассказы, эссе или, в лучшем случае, повести романами, а Рикуша с ними и не спорила: «Если бы я написала сама о себе, вам бы уж точно никогда не пришлось бы печатать мои кафешные потоки сознания!» Но она терпеть не могла ничего писать о себе. И говорить даже. Вообще не любила. Рики помнила, как пускалась в многочасовые путешествия по улицам зимнего Киева, по странному пути старшего Турбина или президентского кортежа, по своим собственным тропинкам, проложенным когда-то, еще до знакомства с Лией, и понимала, что ничего вообще не меняется: ни за дни, ни за месяцы, ни за годы. Хотя кажется, что все, как раз, наоборот: ритмы, хаос, движняк. Ей было непонятно только, почему она вообще так долго помнит о Лии. Почему именно вот её никак не отделит от себя, никак не забудет. Рикуше казалось, что Лия нагло вторглась в её сердце и не хочет выселяться. Этот Лия-фантом провоцировал Рики, зачем-то, на долгое одиночество, психологическое, физиологическое, цепкое, не терпящее возражений, увлечений, которого Рикуше, вполне готовой пуститься во все тяжкие, совершенно не хотелось. Но бесплотная, несуществующая Лия упрямо её не отпускала. - Это – наркотик, - говорила Рики священнику. - Да, совершенно верно! – согласно кивал он головой, будто был в курсе дела. Но как ей спрыгнуть с этой любовной иглы, посоветовать так и не смог. «Желание, терпение, сила воли» – говорил он. Рики, соглашаясь, точно так же кивала головой. «Ага, мёртвому припарки!» – думала она про себя. «Конечно, припарки! – отвечал священник. – А как же? Смертный грех умерщвляет душу еще при жизни, но при жизни же можно еще отмолить его, саму явь исправить!» «Перед священником не нужно упорствовать. То, что он говорит, всегда верно, если ты реально с этим согласен» – думала в ответ Рики. Идеалы увлекали ее с самого детства. С того, видимо, злополучного урока русского языка, двадцать второго апреля, в день рождения Того-кого-нестоит-называть, первого в тот день урока, на котором Рики, создавая сочинение, посвященное виновнику торжества, каждую букву разрисовала немыслимыми узорами, всяческими завитушками, украшениями. Получился уникальный текст-картина, символически изображавший великие идеи Главного Героя. Но учительница почему-то оценила его на обидную «четверку», выставленную вот именно за «изобразительность слов». Училке не понравилось. С тех пор Рики знала уже всегда, что самые сногсшибательные состояния свободы, любви, мечтаний – в общем, лучших идеалов, которые, теоретически, людям хоть капельку доступны, спрятаны в категорических «нельзя», в раздражённых одёргиваниях, в равнодушном неразумении, во всем самом-самом скучном на свете. Рики никогда еще так не влюблялась раньше. И не хотела этого. Она не любила привязываться. Осознав когда-то, что от Лии не спастись, Рики попыталась, будто бы, с ней договориться. Чтобы Лия, хотя бы, не была такой жестокой, чтобы старалась чуть-чуть ее понимать. С Лией надо было договариваться по-хорошему. Лия постаралась немножко: так и быть, она ведь – вовсе не садистка! Но вскоре это нудное занятие - «понимать» - ее утомило. Рики стала вянуть на глазах. Стала терять сознание на улицах и в транспорте, стала болеть самыми нелепыми болезнями, стала казаться прохожим тяжелой наркоманкой. Маруська была права: вот тогда, в те сложные, мрачные месяцы Рикуша и удрала от Лии. Тушите свечи, господа, Спектакль кончился. И вот За ним открылась пустота За вырезанной тьмой ворот. Вы вышли. Неземная даль Открылась вам. Все совершенней Вам видятся года, года И мимолетные знаменья. Смеетесь вы. А у ворот Встречает вас любовь-зазноба, И скромно проводить до гроба Она готова без забот. Но что же вы? Молчите вы, И забываете о главном, Наивный баловень судьбы, Мучитель маленький забавный. Готовый небом пренебречь, Готовый выбросить на небо Другой любви остатки хлеба И в птицу зарядить картечь. Ну что ж! Невинные забавы! Увы, спектакль жаждет славы В устах немудрых чудаков. Что ж делать, если мир таков. Там, за воротами судьбы Вам до меня не будет дела: Быть может, птица улетела, Случайно спасшись от пальбы. Хотя наяву они прожили вместе еще долго. Рики вспоминала, лёжа на теплых крышах дольменов, как раздражали её любые действия окружающих: будто бы деятельность что-то значила сама по себе, будто обозначала миллионы потерянных «я» в кожаных пальто, пуховых куртках, пушистых шубах. Внимание Рики не фиксировалось на действиях людей: Рики их воспринимала, как следствия. За яркой мишурой движений, разговоров, устремлений Рики всегда, неизменно чётко видела маленьких, растерянных «я», которым хотелось чего-то совершенно иного. Рикушу не интересовали люди, зацикленные на собственных действиях. Она любила Людей Свободных. Может быть, потому, что ей очень хотелось прибиться к ним, как Гадкому Утенку – к прекрасным белым лебедям. Но она таких нигде не встречала. Ведь жила она в большом, бурлящем городе, в огромном шумном доме, в который всегда вынуждена была возвращаться. И в ее жизни существовали необходимости. И необходимейшей из них была сама жизнь. *** В 1874 году популярный французский журнал «La revue de France» напророчествовал, что через сто лет в восьмидесятитысячном Киеве будет жить в два раза больше человек. Французы ошиблись в расчетах. Точно в указанное время в Киеве было два миллиона жителей, а спустя двадцать пять лет – уже три. За широким долом, за серой рекой, на поросших деревьями склонах раскинулся странный город. Диковинные закоулки, дикие парки, реликтовые настроения. Холодные озёра, полгода – плохая погода, три месяца – отсутствие солнца, в пику питерским белым ночам – депрессивные, серые зимы. Словно дорогие сердцу сувенирные статуэтки, радующие глаз с книжной полки, повсюду – памятники, скульптуры и барельефы, с которыми связаны определенные клетки вымерзших организмов теплокровных киевлян, упрямо норовящих выпасть из зимней спячки. Квартиры здесь – хоббичьи норы, а сами жители относятся к редкой породе мыслящих существ, которые, изо дня в день, перебирая в офисах скучные бумажки, слушая по вечерам голубого гипнотизера, бросая любимых, заставляя своих детей сморкаться в платочек, заботясь о близких, тупея от повсеместного суржика, хавая горячий борщ в городских столовых, знают наверняка, что однажды в их двери настырно постучат незнакомые гномы с седобородым волшебником во главе, и уведут неведомо куда, за дальние дали, разыскивать предназначение. Люди, живущие в этом городе, вообще, мечтатели. Каждый из них спит и видит себя героем. И каждый из них очень умен, чтобы точно знать, что он – не герой. Пока что. Но можно ведь просто пофантазировать. Как древняя София, с высоты своих лет умиротворенно взирающая на грешный индастриал. Дома, выросшие кругами и полукругами. Самонагревающиеся спирали вечного двигателя. Дворцы Медичи здесь не приживутся. Понадобился бы совершенно иной ландшафтный дизайн. Чашка утреннего кофе (размешивая сахар, улицы, окна, взгляды). Здесь много рыбаков и кошек. И рыбок – хозяек кафешек. А еще много мелких сошек, старых плошек, модных фишек. Знаменитые киевские повести – родом из поэм, старые романы – из эпопей. Тут можно быть самим собой, можно – чьм-нибудь прилагательным, глаголом, или, на худой конец, местоимением. Кованые решетки мостов, свадебные платья, ракеты, летающие по Днепру, или тающий, тонкий лед. Здесь сложно быть продвинутым. Здешние обитатели – люди постпервобытные. С выкрашенными в каждый-охотник-желает-знать волосами, с яркими камушками в носах-ушаххрящах-позвонках, в цветных капюшонах, в красочных шнурках в косах и ботинках. Рики вдруг очень захотелось домой, в город своего одиночества, в мир своей любви. Повести происходят из лирик. На холмах Грузии лежит ночная мгла. На холмах Будапешта – туристы. На холмах Киева – благодать Божья. Всё состоялось. Город знает Несбывшееся каждого своего жителя. И обещает победу. *** Сможешь ли Ты не спросить ни о чем? Сможешь ли Ты принять все, как есть? Сможешь ли Ты просто БЫТЬ, позволив мне балансировать на грани Твоих судеб маленькой пушинкой, навечно теплой? Можешь ли Ты слышать мою молитву миру, в котором я всегда буду одна? Рики отправила по воздуху в адрес Лии последние свои мысли по поводу. Она вышла в тамбур, руки не хотели высовываться из рукавов реглана, но нервно ухватили тонкую сигарету. Рассвет играл с бликами колец. Может быть, здесь её когда-нибудь отыщет Сара. Рики взволнованно нажимала кнопки телефона. Она затягивалась сигаретой и ощущала, как город наполняется присутствием её: её воздухом, её утром. Теперь она есть. Она уже здесь: волшебное создание, удивительная ненужность, дурацкая бесполезность, привычка, случайность, любовь. Она сама. Снег из холодных облаков. Сорвется день с цепи веков. Какая блажь, какой пустякТепло дарить не за любовь, А просто так… Оборванной струной звенев, В глаза печальные смотрев, Стихи – земле, и в небеса Оборванные голоса. Спасибо всем. Рики хотелось узнать, когда она снова вернётся в свой город. Размеренный голос в телефонной трубке произнёс: «Поезд «Симферополь-Киев» прибывает в 10.30». Киев 2002-2004