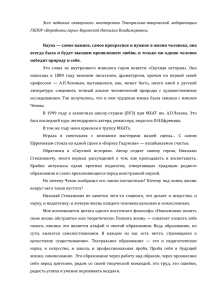Петербургский театральный журнал
реклама
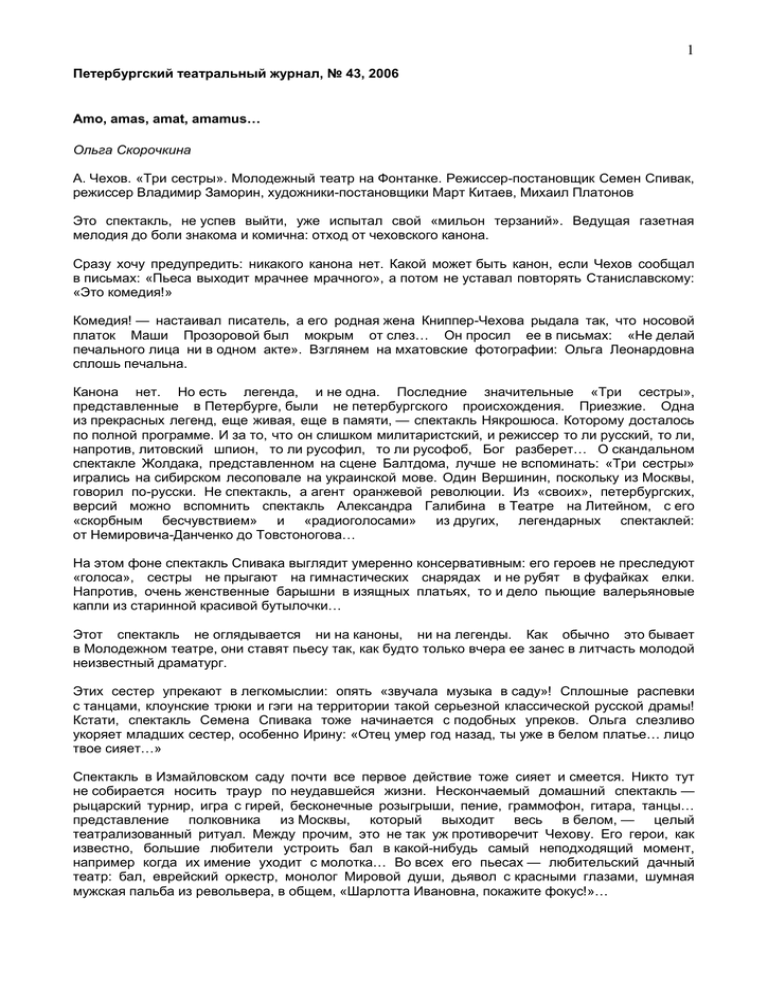
1 Петербургский театральный журнал, № 43, 2006 Amo, amas, amat, amamus… Ольга Скорочкина А. Чехов. «Три сестры». Молодежный театр на Фонтанке. Режиссер-постановщик Семен Спивак, режиссер Владимир Заморин, художники-постановщики Март Китаев, Михаил Платонов Это спектакль, не успев выйти, уже испытал свой «мильон терзаний». Ведущая газетная мелодия до боли знакома и комична: отход от чеховского канона. Сразу хочу предупредить: никакого канона нет. Какой может быть канон, если Чехов сообщал в письмах: «Пьеса выходит мрачнее мрачного», а потом не уставал повторять Станиславскому: «Это комедия!» Комедия! — настаивал писатель, а его родная жена Книппер-Чехова рыдала так, что носовой платок Маши Прозоровой был мокрым от слез… Он просил ее в письмах: «Не делай печального лица ни в одном акте». Взглянем на мхатовские фотографии: Ольга Леонардовна сплошь печальна. Канона нет. Но есть легенда, и не одна. Последние значительные «Три сестры», представленные в Петербурге, были не петербургского происхождения. Приезжие. Одна из прекрасных легенд, еще живая, еще в памяти, — спектакль Някрошюса. Которому досталось по полной программе. И за то, что он слишком милитаристский, и режиссер то ли русский, то ли, напротив, литовский шпион, то ли русофил, то ли русофоб, Бог разберет… О скандальном спектакле Жолдака, представленном на сцене Балтдома, лучше не вспоминать: «Три сестры» игрались на сибирском лесоповале на украинской мове. Один Вершинин, поскольку из Москвы, говорил по-русски. Не спектакль, а агент оранжевой революции. Из «своих», петербургских, версий можно вспомнить спектакль Александра Галибина в Театре на Литейном, с его «скорбным бесчувствием» и «радиоголосами» из других, легендарных спектаклей: от Немировича-Данченко до Товстоногова… На этом фоне спектакль Спивака выглядит умеренно консервативным: его героев не преследуют «голоса», сестры не прыгают на гимнастических снарядах и не рубят в фуфайках елки. Напротив, очень женственные барышни в изящных платьях, то и дело пьющие валерьяновые капли из старинной красивой бутылочки… Этот спектакль не оглядывается ни на каноны, ни на легенды. Как обычно это бывает в Молодежном театре, они ставят пьесу так, как будто только вчера ее занес в литчасть молодой неизвестный драматург. Этих сестер упрекают в легкомыслии: опять «звучала музыка в саду»! Сплошные распевки с танцами, клоунские трюки и гэги на территории такой серьезной классической русской драмы! Кстати, спектакль Семена Спивака тоже начинается с подобных упреков. Ольга слезливо укоряет младших сестер, особенно Ирину: «Отец умер год назад, ты уже в белом платье… лицо твое сияет…» Спектакль в Измайловском саду почти все первое действие тоже сияет и смеется. Никто тут не собирается носить траур по неудавшейся жизни. Нескончаемый домашний спектакль — рыцарский турнир, игра с гирей, бесконечные розыгрыши, пение, граммофон, гитара, танцы… представление полковника из Москвы, который выходит весь в белом, — целый театрализованный ритуал. Между прочим, это не так уж противоречит Чехову. Его герои, как известно, большие любители устроить бал в какой-нибудь самый неподходящий момент, например когда их имение уходит с молотка… Во всех его пьесах — любительский дачный театр: бал, еврейский оркестр, монолог Мировой души, дьявол с красными глазами, шумная мужская пальба из револьвера, в общем, «Шарлотта Ивановна, покажите фокус!»… 2 У героев этого спектакля — шутовские повадки. Если не дают чаю, давайте пофилософствуем… В Молодежном философствованию нашли альтернативу — музицирование. Если счастья нет, то герои намерены по крайней мере не впадать в уныние. Первый акт Спивак ставит так, будто внял жанровым увещеваниям Чехова и простодушно поверил: комедия! Тузенбах с Соленым разыгрывают в честь именин Ирины рыцарский турнир — выбегают под музыку в шлемах и со шпагами, на игрушечных бутафорских лошадках, а она — принцесса в мантии и короне, стоит на стуле, как на троне… В этой же короне она читает монолог о труде, вспорхнув по лестнице, — и все дружно ей аплодируют, как на детском утреннике… «Утро туманное, утро седое…» — старательно выводит Ольга на два голоса с Вершининым, неловко, нечаянно признаваясь в любви к нему… Чебутыкин с Ириной воодушевленно танцуют джигу. Непонятно, отчего злится Маша: «Раньше было много народу, а теперь полтора человека, как в пустыне». Какая пустыня? Ансамбль песни и пляски! Даже старый глухой Ферапонт — туда же! У него свой концертный номер, свой кураж — пляшет «барыню», принеся пирог от Протопопова. В дом не пустили ряженых — но герои этого спектакля сами немного ряженые. Бесконечными дивертисментами готовы залатать рвущуюся, сбивчивую, неподвластную им материю жизни. Нянька Анфиса у Чехова говорит про музыкантов, которых не пустили в дом: «Уходите с богом, сердечные. Горький народ. От сытости — не запоешь». Вот и герои «Трех сестер» — горький народ. Поют и играют, будто хотят отвести беду. Остановить время, мчащееся сквозь них, словно скорый поезд. Проблема этого спектакля — не в отступлениях от некоего чеховского канона. Скорее — в его отступлениях от им самим заданных правил игры. Прекрасно, что все у них искрится и они пением и танцами пытаются одолеть тяжелый механизм жизни, ее тоску, ее безнадежность, ее обыденное течение. Но у Чехова это всегда — прерванное пение, сорванная музыка. Комедия — мрачнее мрачного. Звук лопнувшей струны. Те сцены, в которых этот звук расслышан и сыгран, выигрывают. Но, увы, он расслышан далеко не всегда. Мне нравится генеральный сценический образ, заданный в сценографии Марта Китаева. Рельсы рассекли длинную сцену Молодежного театра, и герои расположились прямо на шпалах. Дома нет, это даже не вокзал, не зал ожидания, где можно притулиться, отогреться… Я знаю, что это противоречит чеховским ремаркам, любовно описывающим дом Прозоровых… Но, на мой взгляд, это не противоречит чеховскому чувству надвигающейся катастрофы и всегда стерегущей людей бездомности. Беда нависает над играющими в лото, музицирующими, пьющими чай людьми. Но что, спрашивается, Андрей закладывает в банке и зачем в третьем акте пожар? В человеческой жизни всегда есть чему гореть, и человеку всегда есть что терять. Чехов писал не пьесу для любителей театра бытового жизнеподобия, и поэтический театр на территории чеховских драм давно обрел вид на жительство. Поэтому железнодорожная прогорклость, бесприютность и тревожно мигающий станционный фонарь вместо уютного домашнего абажура — приметы этой жизни. Отобрав у чеховских героев дом, режиссер при этом пытается их «одомашнить»: белые чехлы на стульях, гитара и клавесин — всегда к услугам… Поселив героев на рельсах — не задал игрового алгоритма неприкаянности и бездомья. Иногда они ведут себя как ни в чем не бывало, как будто находятся внутри прекрасного уютного обжитого дома… В то время как невозможно не видеть, что стол, за которым пьют чай и играют на гитаре, — примостился на рельсах как-то ненадежно… Но иногда бездомность, миражность существования вступают в свои права и обретают художественную выразительность. На именинах у Ирины все сидят за длинным столом и поют о том, как уходит время, и герои так странно освещены, каким-то рассеянным холодным светом, и лица их так безучастны и в то же время напряжены… Эта сцена одна из тех в спектакле, которые в ладу со сценографией, с его «железнодорожным» бездорожьем, иссяканием жизни… Вроде сидят все вместе за столом — но каждый по отдельности, замерли и поют, пытаясь 3 разогнать обступающий их морок, остановить время, — и не в силах ничего разогнать и остановить… Или Андрей вдруг застывает посреди монолога, и видно — человек выхвачен из вязкого кошмара своего одинокого существования. Которое точнее будет назвать умиранием. Или старая нянька Анфиса (замечательно сыгранная Натальей Дмитриевой) начнет хвалить казенное жилье у Олюшки, дескать, сроду так хорошо не живала, и эта ее «казенная» неприкаянность вдруг высветит их общую судьбу — хоть старых, хоть молодых, хоть гражданских, хоть военных… Или с Соленым вдруг случается истерика — и он кричит в припадке, что «черемша — лук, и в Москве два университета!», и все пытаются его сначала под дразнить, потом сдержать, а у него помутнение рассудка, душевный сдвиг, и видно, как эти мило музицирующие люди загнали человека в отчаянный тупик, из которого ему уже по добру не выбраться. Начав спектакль как комедию, к середине действия режиссер резко меняет вектор и вводит тему отнюдь не комическую. Мрачнее мрачного. Разлад, разнобой. Важнейший чеховский мотив. Все начинает разбиваться вдребезги. Человеческие связи напрягаются и рвутся, и всем становится уже не до музицирования. К сожалению, сыграть это «вдребезги» в спектакле удается далеко не всем. И тогда сам спектакль дает «разнобой»… «Amo, amas, amat, amamus…» — это Маша отвечает сердито, на грани нервного срыва, спрягая глагол «любить» по латыни, — на реплику Кулыгина: «Жена моя, славная… Люблю тебя, мою единственную»… Глагол «любить» в «Трех сестрах» спрягают все персонажи (кроме разве что Анфисы и глухого Ферапонта), все признаются друг другу в любви (чудная, божественная, люблю блеск ваших глаз, вы не такая, как все, люблю глубоко, не могу жить без вас!) — или же в нелюбви (любви нет, что же делать, отстаньте, замолчите, прекратите!). Идет просто перекрестный обмен признаниями — и никто никого не слышит. Чеховские пять пудов любви драматически уравновешены пятью пудами нелюбви. Или любви несчастливой, неразделенной, отвергнутой, обманутой, опозоренной. Пожалуй, пять пудов нелюбви в «Трех сестрах» Молодежного театра перевешивают. При всей многолетней приверженности театра Семена Спивака к любовным кружевам и нежным чувствам, на этот раз эти чувства и кружева подверглись серьезным испытаниям. Чебутыкин мечется по сцене с дымящим самоваром: «Милые мои, хорошие мои, никого у меня кроме вас нет…» — беспомощно озирается: их у него тоже нет. Никого нет в комнате. Его никто не стал слушать. Вершинин внятно говорит: «У меня дочь больна!» Маша его в упор не слышит, примеряет кокетливо и дерзко его военную фуражку на свою бедовую голову, включает грамофонную пластинку, зажигает свечи и подводит его к любовному объяснению. Маша жалуется: «Я просто страдаю, когда вижу, что человек недостаточно тонок». При этом самый нетонкий человек в спектакле — именно Маша. Она то и дело картинно вынимает рубашки из сундука и расшвыривает их по сцене. «Шершавое животное» Наташа терпеливо подбирает их, складывает обратно… И какое значение имеет цвет ее пояса? Эти детали увидены в спектакле отчетливо и трезво — без грез. Вершинин здесь совсем не герой-любовник. Валерий Кухарешин играет постаревшего влюбленного майора, который дослужился до полковника, но выглядит, несмотря на военную выправку, комично, нелепо. Его впору дразнить влюбленным полковником. Станиславский играл благородного седого взволнованного красавца, но он ведь никому эту трактовку не завещал! В исполнении Кухарешина военная выправка и страсть к философствованию скрывают сильнейшую неуверенность, жизненную неустойчивость. Кто сказал, что влюбленный человек исключительно прекрасен? Он пытается поначалу щегольнуть, выглядеть перед сестрами как «только что из Москвы», но как быстро исчезает блеск, и остается жалкая неуверенность… И его любовные объяснения — трам-та-там! — выглядят беспомощно, комично, хоть и трогательно. 4 Вершинин умоляет неоднократно: дайте чаю! Полжизни за стакан чаю! Чаю полковнику эти воспитанные люди так и не дадут, занятые своими делами. И это — дорогой гость. Что уж говорить о недорогих и нелюбимых. Между тем «нелюбимые» в этом спектакле — сыграны лучше всех. Их «amo-amas…» остаются в памяти как лучшие мгновения этого спектакля. Пожалуй, никогда на моей памяти не звучал так ясно мотив униженной любви, любви разочарованной. Леонид Осокин не играет Андрея как будущего профессора, он эту тему обходит, не всем же быть профессорами, зато как пронзителен монолог в финале, когда в мертвом человеке вдруг просыпается такая тоска по подлинной жизни. «Куда ушло прошлое, когда я был молод, мечтал и мыслил…» Он играет звук лопнувшей струны, говоря языком чеховских ремарок… Скучный учитель гимназии Кулыгин — кто и когда сочувствовал этому зануде, который вечно появляется некстати и все делает невпопад? Между тем актер Петр Журавлев замечательно играет драму этого никому не нужного человека. В ночь пожара он, привыкший блюсти глуповато-церемонную форму, вдруг укладывается на стулья. И мы видим сильнейший душевный слом, сыгранный чрезвычайно просто. Как нелепо и горячо он убеждает всех и себя, что любит Машу, в то время как Маша прощается с Вершининым, как этот человек-футляр пытается вести себя по-рыцарски на необъявленном, совсем не рыцарском турнире и приклеивает себе идиотские усы, безнадежно пытаясь всех хоть как-то рассмешить в явно невеселый час. Разнобой. Вдребезги… Но, конечно, главное событие этого спектакля — Соленый. Роман Нечаев смешал все карты. Не противореча тексту, не вступая в конфликт с драматургией и ни в единой сцене не перетягивая одеяло на себя. Пожалуй, это случилось впервые — чтобы пришлось так остро сочувствовать не убитому Тузенбаху, а его убийце. Когда Станиславский писал, что нет маленьких ролей, он определенно рассчитывал на Нечаева. Надо видеть, как он по-детски влюбленно смотрит на Ирину, как все время счастливо улыбается, как признается ей в любви и как нежно целует занавес, в который она от него прячется… Он готов стать отнюдь не бутафорским ее рыцарем. В его положении, разумеется, есть что-то жалкое, но актер играет влюбленность отнюдь не жалкой. Нечаев играет счастливого человека, которого по ходу пьесы милые тонкие люди доводят до умопомрачения. Его самого подстреливают, как вальдшнепа. Расстреливают смешками, унижают бесконечным подтруниванием, забирают небрежно гитару, когда он пытается спеть со всеми, сбивают, заглушают, убивают в нем жизнь… Если кто влюблен по-настоящему в этом спектакле и переживает настоящую драму, так это он. Тем более что с соперником получилась незадача. Александр Строев просто не рожден для роли Тузенбаха — это нормально, и тут ничего не поделаешь. Этот артист от природы мужественен, гармоничен и красив. И от этих качеств ему не спрятаться. Непонятно, почему Ольге он показался таким некрасивым в гражданской одежде, что она даже заплакала. Ему все к лицу, и все он носит с одинаковой элегантностью. При этом режиссура то и дело задает ему острый рисунок: то заставит его пройтись по рельсам — и он неуклюже-косо зависнет в воздухе, то Ирина свяжет ему, спящему, шнурки — и он грохнется, проснувшись… Но артист Строев уверенно стоит на земле — и острый рисунок Тузенбаха пропадает даром… Он явно не влюблен в Ирину и даже не пытается это имитировать. И поэтому Ирина со спокойной улыбкой ему признается: увы, любви нет. Глагол «amare» в этой драматической связке не проспрягали… Невнятная, размытая линия. Что же милые сестры? Есть замечательный групповой портрет: когда улягутся ночью на диване, как в детстве, заснут, вытянувшись в общую линию, друг на друге… Но вообще-то, больше они играют «враздробь», сильного сестринства и тонкой душевной переклички не наблюдается. Мне приглянулась лишь младшая. Анне Геллер дан дар лучезарных, сияющих улыбок — она умело и щедро пользуется им и, кажется, освещает все вокруг. Но ее улыбки адресованы — всем и никому, она улыбается в никуда… Жизнь-пустоцвет. Она начинает роль простодушно: «Бог даст, все устроится», заканчивает трезво: «Жизнь уходит и никогда не вернется». Замечателен контраст между первым и вторым действием: во втором ее не узнать — сгорбленная, истеричная, какая-то высохшая девочка-старушка. Принцесса, вдруг ставшая 5 ведьмой, как в страшной сказке. Невеста, «обернувшаяся» старой девой. «Жизнь забивала нас, как сорная трава…» Роскошную мантию сменяет серое мышиное платье. Она «выровняется» к финалу, присмиреет — но уже не сможет так лучисто улыбаться… Маше (Светлана Строгова) режиссер дал очень рискованный рисунок, прочертил ей чуть ли не хулиганскую линию. Иногда кажется, она играет Машу из «Чайки» — все время ходит в черном, пьет, курит и дерзит… Молодая актриса красиво и «декадансно» курит сигарету в длинном мундштуке, напивается, свистит, всех задирает… Но для такого рисунка нужна актриса и личность экстра-класса и экстра-шарма. Некоторые мизансцены, драматически очень выразительные, намечены как бы пунктиром. Хотя должны выстреливать, как ружье. Например, когда в сцене прощания Маша «складывается» в плетеный саквояж, стоящий возле Вершинина, и закрывает над собой крышку. Ольге (Екатерина Унтилова) — напротив, задача занижена, эта актриса могла бы справиться и с более серьезным решением. У нее вечно плаксивый тон, даже когда призвана утешать других, она говорит чуть не плача… Много в этом рисунке не сыграешь. Но у нее есть одна понастоящему драматическая сцена в финале второго акта. Она сидит, безжизненно уставившись в одну точку. Ирина зовет ее, тормошит, кричит — Ольга ее не слышит. Сестры сидят рядом, вместе — и будто на расстоянии в миллион световых лет. Так их разметало в ночь пожара. Вдребезги. Враздробь. Раздор. Мне показалось, прощальный монолог, когда сестры стоят, прижавшись друг к другу, — дань финальной чеховской ремарке. Потому что весь спектакль игрался про то, как их дом — подобно маминым часам в руках Чебутыкина — разлетается вдребезги. И как их жизнь — катастрофически не в их руках и не зависит от их желаний. И никакого душевного единения к финалу… Может, и не стоило это единение играть напоследок? А стоило отыграть тему, которая так сильно, так нервно пульсировала в спектакле и прорывалась сквозь их беспечное музицирование. Это тема миражности, призрачности человеческих связей. Времени, которое сильнее человека. Иррационального, «слепого» течения жизни, чей смысл от человека скрыт. А ему остается только принять ту жизнь, которая выпала. Независимо от того, назовут ее через двести-триста лет высокой или смешной… Ноябрь 2005 г. Ольга Скорочкина театральный критик, кандидат искусствоведения, доцент СПГАТИ, редактор «Петербургского театрального журнала». Печаталась в журналах «Театр», «Петербургский театральный журнал», «Искусство Ленинграда», «Московский наблюдатель», «Театральная жизнь», в научных сборниках, петербургских газетах. Живет в Петербурге.