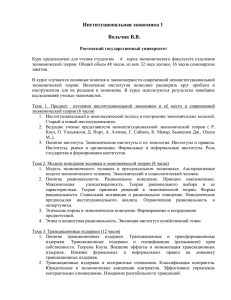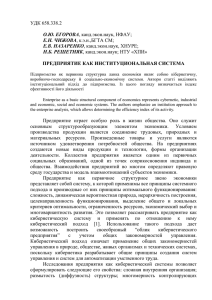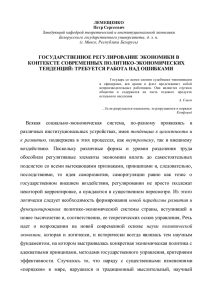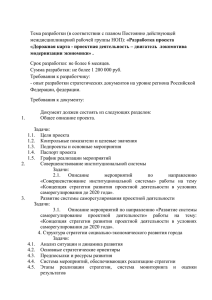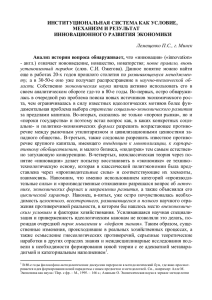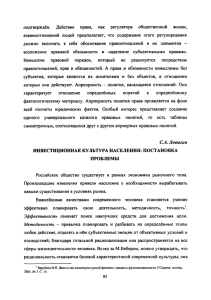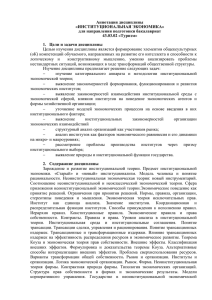будущее - Высшая школа экономики
реклама
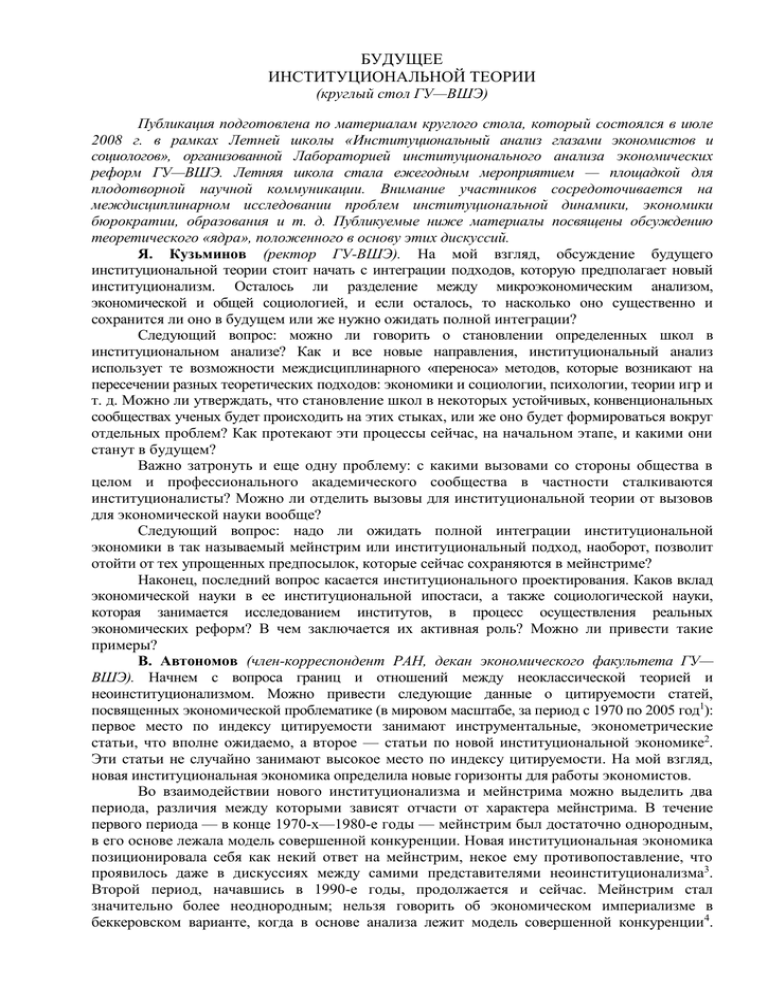
БУДУЩЕЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ТЕОРИИ (круглый стол ГУ—ВШЭ) Публикация подготовлена по материалам круглого стола, который состоялся в июле 2008 г. в рамках Летней школы «Институциональный анализ глазами экономистов и социологов», организованной Лабораторией институционального анализа экономических реформ ГУ—ВШЭ. Летняя школа стала ежегодным мероприятием — площадкой для плодотворной научной коммуникации. Внимание участников сосредоточивается на междисциплинарном исследовании проблем институциональной динамики, экономики бюрократии, образования и т. д. Публикуемые ниже материалы посвящены обсуждению теоретического «ядра», положенного в основу этих дискуссий. Я. Кузьминов (ректор ГУ-ВШЭ). На мой взгляд, обсуждение будущего институциональной теории стоит начать с интеграции подходов, которую предполагает новый институционализм. Осталось ли разделение между микроэкономическим анализом, экономической и общей социологией, и если осталось, то насколько оно существенно и сохранится ли оно в будущем или же нужно ожидать полной интеграции? Следующий вопрос: можно ли говорить о становлении определенных школ в институциональном анализе? Как и все новые направления, институциональный анализ использует те возможности междисциплинарного «переноса» методов, которые возникают на пересечении разных теоретических подходов: экономики и социологии, психологии, теории игр и т. д. Можно ли утверждать, что становление школ в некоторых устойчивых, конвенциональных сообществах ученых будет происходить на этих стыках, или же оно будет формироваться вокруг отдельных проблем? Как протекают эти процессы сейчас, на начальном этапе, и какими они станут в будущем? Важно затронуть и еще одну проблему: с какими вызовами со стороны общества в целом и профессионального академического сообщества в частности сталкиваются институционалисты? Можно ли отделить вызовы для институциональной теории от вызовов для экономической науки вообще? Следующий вопрос: надо ли ожидать полной интеграции институциональной экономики в так называемый мейнстрим или институциональный подход, наоборот, позволит отойти от тех упрощенных предпосылок, которые сейчас сохраняются в мейнстриме? Наконец, последний вопрос касается институционального проектирования. Каков вклад экономической науки в ее институциональной ипостаси, а также социологической науки, которая занимается исследованием институтов, в процесс осуществления реальных экономических реформ? В чем заключается их активная роль? Можно ли привести такие примеры? В. Автономов (член-корреспондент РАН, декан экономического факультета ГУ— ВШЭ). Начнем с вопроса границ и отношений между неоклассической теорией и неоинституционализмом. Можно привести следующие данные о цитируемости статей, посвященных экономической проблематике (в мировом масштабе, за период с 1970 по 2005 год1): первое место по индексу цитируемости занимают инструментальные, эконометрические статьи, что вполне ожидаемо, а второе — статьи по новой институциональной экономике2. Эти статьи не случайно занимают высокое место по индексу цитируемости. На мой взгляд, новая институциональная экономика определила новые горизонты для работы экономистов. Во взаимодействии нового институционализма и мейнстрима можно выделить два периода, различия между которыми зависят отчасти от характера мейнстрима. В течение первого периода — в конце 1970-х—1980-е годы — мейнстрим был достаточно однородным, в его основе лежала модель совершенной конкуренции. Новая институциональная экономика позиционировала себя как некий ответ на мейнстрим, некое ему противопоставление, что проявилось даже в дискуссиях между самими представителями неоинституционализма3. Второй период, начавшись в 1990-е годы, продолжается и сейчас. Мейнстрим стал значительно более неоднородным; нельзя говорить об экономическом империализме в беккеровском варианте, когда в основе анализа лежит модель совершенной конкуренции4. Возникла новая основа для экономического империализма: прежде всего, предпосылка асимметрии информации (в частности, этому посвящены работы Дж. Стиглица, удостоенные Нобелевской премии). Мейнстрим стал ближе к действительности, теперь его представители в большей степени склонны усваивать сведения, которые поставляют другие, отчасти конкурирующие направления, причем и новая институциональная, и поведенческая экономика, которая в этот период также сделала шаг вперед и вошла в мейнстрим. Речь идет не только о статье Д. Канемана и А. Тверски5, которая в упомянутом ранее рейтинге занимала второе место. Здесь можно говорить, например, и о нейроэкономике, и о других направлениях, предполагающих, что объект можно измерить с помощью объективных методов и приборов. Эти направления оказались востребованными и в новой экономической теории. Таким образом, в настоящий момент нет явного противопоставления и явных парадигмальных различий, происходит то, что всегда бывает с неоклассической теорией. В рамках неоклассики обычно обнаруживается слабое место, а затем, подобно песчинке, которая, попадая в раковину, становится жемчужиной, некое нововведение становится частью неоклассической теории. В настоящий момент, на мой взгляд, тенденция такова, что институциональную экономику отличают от неоклассики уже не столько по методу, сколько по предмету. Предметный круг новой институциональной экономики, который был очерчен в самом начале, сохранился и даже расширился. А. Шаститко (д. э. п., профессор экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, генеральный директор Фонда «Бюро экономического анализа»). Если взять за точку отсчета известную статью Р. Коуза 1937 года6 и сравнить описанные в ней подходы с теми, что сложились в неоклассике к 1930-м годам (в частности, с предложенными в работе Дж. Робинсон7 о несовершенной конкуренции), то можно отметить значительные различия в представлении о том, что такое исследовательская программа в рамках экономической теории. Однако если обратиться к более поздним трудам, когда начался процесс операционализации категориального аппарата, и рассмотреть, что же считалось неоинституциональной, новой институциональной экономической теорией, новой теорией организации отраслевых рынков — этот ряд можно продолжать, — становится очевидно: то, что это простая программа, границы которой можно легко отследить и зафиксировать, — лишь иллюзия. Когда говорят, что институты имеют значение, и показывают, в каком смысле они имеют значение с точки зрения индивидуального выбора, размещения ресурсов, экономического развития, — это, видимо, в некоторой степени признак институционального подхода. Однако если говорить о таком ключевом методологическом вопросе, как модель принятия индивидуальных решений, то в моделях управления поведением исполнителей по-прежнему использовалась предпосылка полной рациональности. Если рассуждать в таком контексте о том, что же это за институты, в которых используется предпосылка о полной рациональности, то возникает справедливое опасение: вероятно, не эти институты должны были бы исследоваться. Проблема, которая приобретает особую остроту для неоинституционализма 1950 —1960-х годов (в определенной мере она сохраняется и по настоящее время), связана с использованием так называемых гибридных моделей, в которых предпосылки о нулевых трансакционных издержках и полной рациональности в одних измерениях экономических обменов соседствуют с предпосылками о положительных трансакционных издержках и ограниченной рациональности в других измерениях. Насколько это осмысленно — вопрос спорный, однако это хороший пример того, почему, на мой взгляд, стоит поставить под сомнение существование четких парадигмальных границ между неоклассикой и неоинституционализмом. Достижение подобной четкости проблематично даже для такой категории, как ограниченная рациональность, ибо, как известно, существуют по крайней мере две интерпретации данного термина. Ограниченную рациональность можно рассматривать как частный случай полной рациональности. В этом варианте рассматривается ряд оптимизационных задач, которые учитывают издержки постановки задачи разных порядков, а точнее — издержки постановок задач более низкого порядка. Если ряд издержек окажется сходящимся, то в принципе в результате можно получить, что ограниченная рациональность является частным случаем полной рациональности. А если это не так, то необходимо рассматривать отдельно полную рациональность, рациональность, избирательно ограниченную по субъектам, и, наконец, собственно ограниченную рациональность, и в этом случае, переходя от одного типа к другому, исследователь попадает в другую плоскость. С. Гроссману и О. Харту8 удалось продвинуть понимание природы неполных контрактов в экономической теории далеко вперед. Однако при более детальном анализе возникает вопрос: вписывается ли используемая ими модель принятия индивидуальных решений в тот самый новый институционализм, о котором писал О. Уильямсон? Если сравнивать модели неполных контрактов в уильямсоновской традиции и в традиции Гроссмана—Харта, то ответ на этот вопрос вовсе не очевиден. Существует определенная сложность классификации моделей, навеянных разработками Уильямсона, но построенных на совершенно других методологических предпосылках. Что касается взаимодействия экономической теории с другими дисциплинарными областями, то к перечисленным Я. И. Кузьминовым психологии и социологии стоит добавить право. Сложность взаимодействия с психологией состоит в специфике ее объекта, в особенности, если речь не идет о социальной психологии. В этой области существует множество школ, что, видимо, связано как раз с особенностями объекта9. В этом смысле право — более перспективная тема для обсуждения. Здесь есть даже сфера или площадка для взаимодействия между экономистами и юристами: нам, например, удалось опробовать метод междисциплинарной дискуссии в контексте обсуждения оценок регулирующего воздействия, которые были использованы в рамках реализации концепции совершенствования корпоративного законодательства10. Было идентифицировано полтора десятка ключевых проблем, по которым была проведена оценка регулирующего воздействия. Сделали это экономисты, но оценки регулирующего воздействия обсуждали не только участники рынка, но и практикующие юристы. Оказалось, что это вполне возможно. Юристы понимают язык экономистов, если говорят люди, которые понимают и правовую сторону вопроса, понимают, что это не только формальный экономический анализ. Если говорить о вызовах, я бы остановился на вопросе о взаимодействии экономического экспертного сообщества и лиц, принимающих политические решения в широком смысле слова. Здесь возникает достаточно серьезная проблема. Когда мы подготовили оценки регулирующего воздействия11, оказалось, что реализовать наш проект не так просто. Помимо того, что требуются определенные затраты, при ближайшем рассмотрении обнажаются интересы, раскрытие которых было бы нежелательно. Как только на одной площадке сталкиваются группы с разными интересами и одни говорят о том, что такая-то запись в законе негативно скажется на их интересах, а другие утверждают обратное, внести соответствующие изменения в законодательство становится гораздо сложнее. С этой точки зрения всегда возникает вопрос: при объективном существовании определенной возможности есть ли группа, которая будет заинтересована в изменении принципов обсуждения и принятия системообразующих правил игры? Даже если брать высшее политическое руководство, на мой взгляд, здесь многое зависит от временного горизонта планирования: четыре года или 20-25 лет — это очень значительная разница. Говоря об опыте Фонда «Бюро экономического анализа» как независимого аналитического центра в сфере экономической политики, можно опираться на результаты взаимодействия с широким кругом ведомств с 1997 по 2005 гг. Мы попытались провести «инвентаризацию» предложений, разработанных по всем направлениям социальной и экономической политики, и проследить, что с ними произошло. Результаты получились неоднозначными: зачастую те рекомендации, которые отвергли или проигнорировали, через какое-то время неожиданно оказывались востребованными. Причины часто были неясны, во многом, вероятно, из-за объективного недостатка публичности политики. Я. Кузьминов. Действительно, экспансия институциональной экономики в политику обнаруживает интересы, «упакованные» в формальные юридические формулировки. Это характерно для любого взаимодействия теории и действительности. Теория предлагает метаязык, который общество в том или ином варианте принимает, наделяет некоторым сакральным значением — это или ценностное значение, или понимание того, что этот язык допущен к объяснению политики. Уже через 5 — 10 лет, как мы можем наблюдать на примере России, пользуясь этим общепринятым, политизированным метаязыком, начинают скрывать реальные интересы, и стимулов к преодолению этого метаязыка и к выходу анализа за некоторые формальные рамки нет. Это характерно отнюдь не только для институциональной экономики. Вероятно, вторжение экономической науки А. Смита, Д. Рикардо и их последователей в политику было связано с таким же сопротивлением носителей реальных интересов, «упакованных» в ценностные конструкции абсолютистско-феодального порядка. Доказательство нерациональности соответствующих порядков, предлагаемое экономической теорией, сопряжено со значительными политическими рисками, что и обусловливает такое сопротивление. С этим связаны и сложности внедрения институциональной экономики в реальную экономическую политику. Например, в 2005 году мы подготовили доклад о выращивании институтов12, в котором постулируются достаточно простые вещи: бесплатных реформ не бывает, реформа — это не просто издание нового закона, необходимо вкладываться в поощрение тех факторов, которые принимают новые правила игры, адаптировать институты к уровню культуры, инвестировать в культуру. Есть целый ряд реформ, которые можно провести с минимальными ресурсами (они уже были проведены в 1990-е годы), а есть те, которые безресурсными быть не могут и требуют дополнительного инвестирования (их еще предстоит провести). После того как это было сказано и доведено до сведения высших кругов власти, они так ничего и не сделали. Сейчас принимается концепция долгосрочного развития13, абсолютно не обеспеченная ресурсами, потому что это удобно, сохраняются политический баланс и часть ресурсов, которые должны были быть распределены заранее, чтобы тем самым окончить всю игру с носителями интересов. Когда цель развития, скажем, инфраструктуры или здравоохранения, только постулируется, но не подкрепляется должными ресурсами, появляется поле для игры. Такое положение поддерживается не только начальством, которое не хочет связывать себе руки, но и значительными группами носителей реальных интересов в любых из этих секторов. Дело в том, что возникает возможность сохранить ряд неэффективных форм, которые должны были уже уйти хотя бы потому, что экономическая наука — в данном случае институциональный анализ — показала, что их работа неэффективна. Другой аспект, на котором стоит остановиться, — это проникновение идей в общественное сознание. В рамках нашей общей экономической и правовой культуры для экономически активного населения нет особой разницы между институциональным подходом и просто экономическим или просто правовым. В базовом школьном образовании экономика и право отсутствуют. Такая ситуация не позволяет обществу сколько-нибудь серьезно контролировать политику; трудно защищать базовые права. Поэтому не стоит ожидать, что отвергнутые предложения институционалистов будут реализованы опосредованно, в корпоративной, региональной, муниципальной политике. На мой взгляд, неоинституциональная теория войдет в политику напрямую, но это произойдет несколько позже. Адаптация политики под выводы, постулируемые неоинституциональной теорией в течение пяти лет, может занять в России порядка десяти лет. Применительно к другим странам это не так, поскольку уровень зависимости политики от экономической теории иной и различается в зависимости от сферы общества. Существуют сектора, традиционно очень чувствительные к теории: в первую очередь к теории финансов, монетарной теории и т. д. В контексте политики в области прав собственности и их урегулирования последние десять лет развития корпоративной жизни на Западе и целый ряд корпоративных крахов и кризисов доверия показали, что и там существуют те же самые проблемы. В то же время ученые с конца 1970-х годов описывают и асимметрию информации внутри корпораций, и риски для держателей титулов собственности, которые с этим связаны, и проблемы, сопряженные с сокращением времени принятия необходимых решений. Вад. Радаев (д. э. н., профессор, первый проректор ГУ—ВШЭ, заведующий кафедрой экономической социологии). Несложно предположить, что институциональная экономическая теория будет развиваться и ее значение будет расти, а также что интегрироваться в мейнстрим она не будет. Это связано с общей логикой развития социальных наук, которые в значительной степени развиваются за счет ревизии собственных предпосылок. Данный процесс имеет кумулятивный характер, предпосылки подвергаются сомнению одна за другой. Действительно, мейнстрим стал очень неоднородным, и это связано с тем, что в последние десятилетия оказывалось все более сильное давление на более-менее жесткие дисциплинарные границы. Эти границы постепенно размываются, и в результате карта социальных наук сильно изменилась. Останется ли экономическая теория или социология в том виде, в каком они есть сейчас, — вопрос открытый. У институциональной теории есть шансы на выживание в силу определенной привлекательности, но привлекательность может дать и обратный эффект — появляются серьезные вызовы. Основа таких вызовов для неоинституциональной теории именно в том, что все говорят об институтах, это понятие у всех на устах. При этом нельзя сказать, что с ним полностью удалось разобраться. Даже в самом простом определении институты — это не только правила поведения, но и правила, с помощью которых контролируется их соблюдение. Так, например, есть правила дорожного движения — хрестоматийный пример правил и институтов — и есть некоторые правила, которые регулируют деятельность ГАИ (ГИБДД). Часто к институтам относят также и субъектов, которые занимаются поддержанием правил. В этом случае и правоохранительные органы, и государство — это тоже институты. Институтами также называют сети и организации. Здесь возникает масса неясностей. Получается, что институты - это правила поведения, а также субъекты действия и следствия этих действий. Социологи без особых раздумий говорят, например, об институтах семьи, образования и здравоохранения, то есть о широких сферах социальных отношений. Если все понятия столь нечетки, размыты, то, изучая институты, можно преспокойно говорить обо всем и использовать любые инструменты, что вряд ли идет на пользу институциональным теориям. Другой вопрос: с кем стоит сотрудничать институционалистам? Безусловно, необходимо взаимодействие с юристами, хотя организовать его достаточно сложно: они придерживаются совершенно формальной аргументации. В частности, для юриста явление либо соответствует закону, либо незаконно. Таким образом, понятие неформальной (или теневой) экономики, существующей в российской реальности, очевидное и фундаментальное для экономистов, работающих в институциональной традиции, и социологов, — для юристов не актуально14. На сотрудничество с психологами, которое также представляется необходимым, рассчитывать не приходится, потому что экономисты уже давно, десятилетиями используют формальные психологические категории и не готовы менять своего подхода15. Взаимодействие институциональной экономики и социологии также сопряжено с трудностями. Кажется, что существует множество точек соприкосновения. Более того, специалисты в области экономической социологии — американцы и в меньшей степени европейцы — строили свою теорию, в отличие от остальных социологов, на прямых заимствованиях из новой институциональной экономической теории, совершенно не скрывая этого, хотя и весьма критически относясь к идеям Уильямсона. С этой точки зрения социология оказывается ближе к экономической теории, чем все остальные дисциплины, но при этом взаимные отношения либо отсутствуют, либо остаются напряженными. А. Шаститко. Если возвращаться к вопросу взаимодействия экономистов с юристами, то стоит отметить, что подходы у последних все же не всегда одинаковы. Есть юристы, которые в основном занимаются, условно говоря, теорией государства и права. Существуют практикующие юристы, которые работают в судах и не понаслышке знают, что и как происходит в реальной жизни. Когда мы готовили оценки регулирующего воздействия, нам удалось поработать именно со вторыми, и этот опыт оказался успешным. Известно высказывание Коуза: если вы хотите понять, как работает экономическая система, почитайте юридическую, правовую литературу. Действительно, пока в работу не включится юрист, который знает механику правоприменения, экономистам многое бывает непонятно в том, как в реальности функционируют те или иные механизмы. Сложно обойти и проблему определения институтов. На одной из конференций, которые проводит общество по новой институциональной экономике (ISNIE16), в 1999 или 2000 г., имели место дебаты между О. Уильямсоном и Д. Нортом по вопросу о соотношении понятий институтов и организаций. Выяснилось, что содержание данных понятий разное, и это видно по целому ряду нюансов. У Уильямсона фирма — это организация (а не институт), что в общем-то противоречит позиции Норта, согласно подходу которого фактически получалось, что организации — частный случай институтов. Вместе с тем содержательный анализ организации без учета внутриорганизационных правил невозможен. Если же анализировать внутриорганизационные правила с соответствующими механизмами, обеспечивающими их соблюдение, то мы снова возвращаемся к определению института. Таким образом, важно понимать, о чем идет речь: за одними и теми же словами может скрываться разное содержание. В том числе и поэтому внутридисциплинарный и междисциплинарный обмены далеки от совершенства: разница в понимании очень значительна17. Если говорить об обмене идеями, то здесь, на мой взгляд, использование индексов цитирования, которые, по сути, являются индексами упоминаемости, может привести к ряду неточностей. Коуз в свое время говорил, что хотя его работы стали активно цитировать в 1960-е годы, реальная операционализация институциональной экономики началась с середины 1970-х годов. Таким образом, упоминания — это, безусловно, важно, но реальное использование идей, их интеграция в рамках операциональной модели не всегда происходят в то же самое время, когда начинается их активное обсуждение. В. Автономов. Стоит сказать еще несколько слов о психологии. Не так давно, благодаря появлению томографов, родилась новая область экономической теории — нейроэкономика. Она демонстрирует удивительные результаты. Выяснилось, что когда человек на самом деле думает рационально, у него работает передняя часть мозга, когда же он поступает по привычке, действуя автоматически, у него задействованы остальные части мозга. Профессор ГУ-ВШЭ Дмитрий Репин вместе со своими коллегами из MIT18 провел эксперимент с использованием томографа. Испытуемыми были люди, которые играют на бирже. Выяснилось, что логически, рационально думают, как правило, новички, люди, которые еще плохо знают биржу. У профессионалов и у экспертов принятие решений происходит автоматически, они узнают знакомую ситуацию и, не задумываясь, применяют так называемое «правило большого пальца» (rule of thumb), то есть один из привычных рутинных способов поведения. Этот пример показывает, как могут взаимодействовать психология, экономическая теория и, безусловно, институционализм, потому что привычное поведение — это законная область исследований институционалистов. Так формируются новые многообещающие области знания. Я. Кузьминов. Каждый из нас имеет множество формальных возможностей. На практике мы используем лишь одну сотую, максимум — одну десятую того, что могли бы использовать с нашей квалификацией. Любое осмысленное и рациональное творческое действие — это большая затрата энергии и большой риск. Большая затрата энергии — потому что мы биологические существа, большой риск — потому что мы вступаем туда, где наши усилия являются только одним из факторов, влияющих на успех, а других мы можем не знать. Именно поэтому любые успешные действия копируются точно так же, как они копируются в организации и в обществе, возникают рутины и происходит экономия, которую зафиксировал профессор Репин: трейдер действует точно так же, как человек, который давно водит автомобиль и не тратит, в отличие от того, кто впервые сел за руль, энергии рационального мышления на переключение передач. Какое действие будет рациональным — вопрос интересный. Рациональными будут оба действия. Во-первых, безусловно, рационально будет прибегнуть к рутине, если эта рутина приносит успех. При этом важно не путать рациональное поведение с когнитивным усилием, оно его зачастую не подразумевает. Закон — это тоже рутина. В частности, многие политики не задумываются, насколько рациональны их действия, когда они следуют законам. Они абсолютно правы, потому что если бы они каждый раз думали о том, стоит ли им выполнять тот или иной закон, то последствия могли бы быть печальны. Одна из фундаментальных предпосылок экономики вообще и институциональной экономики в частности состоит в том, что, выбирая рутину, мы поступаем рационально, так как высвобождаем пространство для целого ряда рациональных и осмысленных действий, на которые в противном случае у нас не хватило бы времени. А. Шаститко. В этом контексте стоит обсудить то, что В.С. Автономов предложил в одной из своих работ, посвященных проблемам построения моделей поведения человека в экономической теории. Речь идет о разграничении функциональной и инструментальной рациональности. Важно понимать, в каком смысле мы используем термин «рациональность». Функциональность возникает тогда, когда субъект действительно осуществляет выбор: наблюдает альтернативные варианты, сопоставляет их, выявляет наиболее предпочтительный для себя, действует в рамках выбранного варианта. Инструментальность — это объяснение того же самого поведения, но со стороны исследователя. Следование рутинам действительно может считаться рациональным поведением, прежде всего, с точки зрения исследователя, потому что в процессе социализации многие действия совершаются автоматически и не являются результатом выбора человека. Экономика изучает общество взрослых людей, оставляя за рамками изучения множество психологических аспектов. Каким образом устроен процесс социализации, как автоматизируются восприятия, действия? В неоклассике у индивида существуют функция полезности и бюджетные ограничения, и они никак не связаны между собой. Возможно, благодаря тому, что в институциональной теории ограничения несколько разнообразнее, можно наблюдать некоторые перемещения из одного класса предпосылок в другой. Такая постановка вопроса приводит нас к проблеме автоматизма восприятия: насколько человек свободен в выборе того, что для него автоматическое, а что — нет. На мой взгляд, если бы он был абсолютно свободен, то все психоаналитики остались бы без работы. Однако даже если человек понимает, что именно в его жизни его не устраивает, и осознает, что это мешает ему жить, самостоятельно справиться с этим очень тяжело. В некоторых случаях, насколько мне известно, существует условная граница — 50 лет, за пределами которой психоаналитики просто не берутся работать с клиентами. В этом есть нечто важное и для экономистов, чтобы поразмышлять о природе рациональности выбора и роли автоматизма в поведении. Вад. Радаев. Стоит заметить, что примерно 100 лет назад Макс Вебер ввел еще одно разделение рациональности — на формальную и субстантивную. К формальной рациональности он отнес все то, о чем уже шла речь: формальность и инструментальность. Имеется в виду выбор в рамках заданной системы координат. Субстантивная же рациональность связана с изменением предпочтений и порядков ранжирования, то есть с выходом в другую систему координат. Я. Кузьминов. Мы задавали вопрос, свободен ли человек в выборе автоматического поведения, и отвечали отрицательно, обосновывая ответ тем, что есть некая «рутина рутин». На мой взгляд, это не так, рутины рутин не существует. Человек по-прежнему остается объектом анализа экономистов как полноправный носитель рационального начала. Однако есть и второй вопрос, зеркальный по отношению к вышеупомянутому: насколько человек свободен в выборе не автоматического поведения, в выборе рациональной позиции? В какой степени ему навязывается выбор, который de facto является чужим выбором (на чем строится психологическая и социологическая стороны маркетинга)? На навязывании выбора построены политические технологии, в ряде случаев — организация труда. Возможность навязать человеку рациональность, чужой, заранее предопределенный выбор — очень интересная проблема для экономического анализа. В какой степени мы можем анализировать маркетинговые стратегии в рамках экономической науки? Насколько успешно можно анализировать образовательные стратегии и стратегии лечения? Мы должны перейти от анализа равновесий, то есть от анализа оптимальных точек поведения, к анализу траекторий, к выбору этих траекторий. Если мы полностью откажемся от рациональной составляющей поведения, то как экономисты смиримся с тем, что этим будут заниматься без нас, — а желающих много. Если же мы решим, что можем что-то привнести, то это будет очень серьезным расширением и предмета, и инструментария экономической науки, в первую очередь качественным расширением математического аппарата, получением иного математического аппарата теории принятия решений. В. Автономов. Позицию Я. И. Кузьминова подтверждают и нейро-экономические исследования, которые я уже упоминал. Дело в том, что прежде чем «сбросить» задачу в передние или задние доли мозга, некий орган, который связан с органами чувств, оценивает, что именно произошло. Если при распознавании обнаруживается что-то знакомое, то начинает работу автоматический режим, если незнакомое — задача передается в передние доли мозга для рационального осмысления. Рутины рутин нет, и первоначальное, быстрое сканирование происходящего случается обязательно. Можно еще раз вспомнить о разных степенях рациональности и выбора степени рациональности: действительно, в экономической теории существовали теории переменной рациональности, например X. Лейбенстайн много писал об этом, рассуждая об Х-неэффективности. Рациональность всегда стоит больших издержек, рациональное поведение самое трудоемкое. Оно «включается» либо под давлением обстоятельств, которые заставляют человека делать выбор, либо под действием «суперэго» — влияния общества, которое считает, что в определенной ситуации нужно подумать и потратить какие-то усилия. Эти два фактора заставляют человека мыслить рационально даже тогда, когда ему этого не хочется. Часто с феноменом переменной рациональности исследователи связывали экономические циклы: во время бума люди могут позволить себе не думать, не мыслить рационально, но, когда наступает кризис, они вынуждены вернуться к рациональному мышлению, рациональному выбору. Вад. Радаев. Если экономисты действительно хотят расширить понимание выбора, то им, вероятно, придется более серьезно отнестись к мотивации поведения. Дело в том, что экономисты ограничены в своем видении мотивации: чаще всего это либо эгоистический экономический интерес, либо другие мотивы, редуцированные к нему. Нужно отказаться от вменения мотивов по принципу «as if», изучать структуру мотивации, как это делают психологи и социологи. И окажется, что поле выбора ограничивается не только дефицитом ресурсов и когнитивными способностями человека, что нужно принимать во внимание и вопросы манипулирования интересами, следования или не следования нормам, обычаям, ценностям. В этом аспекте сотрудничество с социологами для экономистов было бы весьма полезным. А. Шаститко. От того, как моделируется процесс выбора и принятия решений, во многом зависят дальнейшие теоретические построения. В общественных науках параллельно существуют различные дисциплинарные области, которые во многих случаях занимаются похожими вещами. Вероятно, это свидетельствует о том, что не существует универсального инструмента анализа реальности, который позволил бы легко дать комплексный ответ на все поставленные ею вопросы. Поэтому, занимаясь экономическими исследованиями, нужно понимать, что, выбрав эту стратегию, можно рассчитывать на определенные результаты, но не стоит ожидать слишком многого относительно того, что в принципе можно получить. Поэтому надо наблюдать за тем, что делают исследователи в других областях. Далее несколько замечаний относительно равновесия. Один из фундаментальных приемов экономической теории, которую принято было называть неоклассической, — это анализ экономической системы методом сравнительной статики. Однако если внимательно присмотреться к модели индивидуального выбора, то можно обнаружить, что как такового выбора в ней нет. Не случайно самый последовательный противник неоклассики в части равновесного подхода — неоавстрийская школа экономической теории. Ее представители конкуренцию определяют по-другому: конкуренция — это не состояние на рынке, где существует много субъектов и где барьеры входа на рынок отсутствуют, это процесс выявления новых ресурсов и новых возможностей использования известных ресурсов. В рамках неоавстрийской теории можно обнаружить особую трактовку альтернативных издержек не только в плане последовательного субъективизма, но в смысле ограничений на всеобщность применения субъективистских принципов. Операционализировать используемые неоавстрийцами понятия гораздо сложнее, чем в случае новых институционалистов, но задуматься над возможностями такого применения надо. Если говорить о различиях в базовых понятиях, то может возникнуть вполне обоснованный вопрос: почему не существует единого понятийного аппарата, своеобразного словаря, который, как следует из того, что говорилось ранее, так необходим? Идея создания такого словаря действительно привлекательна с точки зрения экономии на издержках коммуникации, но проблема состоит в том, какую версию формулировки того или иного понятия выбрать. Понятия в научном обороте обладают свойством конвенциональности. И всегда найдутся те, кто будет не согласен с формулировкой, которая выбрана для словаря. Таким образом, с одной стороны, существует проблема коммуникации между исследователями и лицами, принимающими решения, а с другой стороны, существуют разногласия и в самом научном сообществе, и ликвидировать их не представляется возможным. Такая попытка была предпринята в СССР — последствия для экономической теории дают о себе знать и сейчас. Экономисты шутят: если вам кажется, что ваша жизнь улучшается, это значит, что вы чего-то не учли. Если мы более аккуратно просчитаем издержки, которые будут связаны с созданием такого словаря, то тогда можно будет говорить о принципиальной возможности реализовать эту идею. См. работу: Kim Е. H., Morse A,, Zingales L. What Has Mattered to Economics Since 1970 // NBER Working Paper No W12526. 2006 2 Alchian A. A., Demsetz H. Production, Information Costs, and Economic Organization // Engineering Management Review. 1975. Vol. 3, Iss. 2. P. 21-41; Jensen M. C, Meckling W. H. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure // Journal of Financial Economics. 1976. Vol. 3, Iss. 4. P. 306-350; Williamson О. Е. Transaction-Cost Economics — Governance of Contractual Relations // Journal of Law and Economics. 1979. Vol. 22, Iss. 2. P. 233-261; Fama E. Agency Problems and the Theory of the Firm // The Journal of Political Economy. 1980. Vol. 88, Iss. 2. P. 288-307. Fama E, Jensen M. С Separation of Ownership and Control // The Journal of Law and Economics. 1983. Vol. 26, No 2. P. 301 — 325; Grossman S. J., Hart O. D. The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Vertical and Lateral Integration // The Journal of Political Economy. 1986. Vol. 94, No 4. P. 691-719. 3 Пример тому - дискуссия между Р. Познером, считавшим, что не существует отдельной институциональной теории, а есть лишь неоклассическая микроэкономика, и Р. Коузом и О. Уильямсоном, которые отстаивали противоположную точку зрения. Последние имели все основания считать свою позицию верной, так как в этот период новая институциональная экономика характеризовалась не только другими объектами, но и другими методами исследования, более реалистичными казались ее предпосылки: асимметрия информации, ограниченная рациональность, оппортунистическое поведение. 4 См.: Беккер Г. С. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по экономической теории. М.: ГУ—ВШЭ, 2003. 5 Kahneman D., Tversky A. Prospect Theory - Analysis of Decision under Risk // Econometrica. 1979. Vol. 47, No 2. P. 263291. 6 Coase R. H. The Nature of the Firm // Economica. 1937. Vol. 4, P. 386-405. 7Robinson J. Economics of imperfect competition, L.: MacMillan, 1967. 8 Grossman S. J., Hart O. D. Op. cit. 9 Например, в рамках исследовательских направлений психологии достаточно проблематично определить, кто является контрагентом. 10 Результаты проекта см. в: Использование оценок регулирующего воздействия для совершенствования корпоративного законодательства / Под ред. Р. А. Кокорева, А. Е. Шас-титко. М.: ТЕИС, 2006. " Инициатором данной работы выступал А. В. Шаронов, тогда заместитель министра экономического развития и торговли. 12 Кузъминов Я. И., Радаев В. В., Яковлев А. А., Ясин Е. Г. Институты: от заимствования к выращиванию. Опыт российских реформ и возможности культивирования институциональных изменений / К 6-й Международной научной конференции «Модернизация экономики и выращивание институтов», Москва, 5-7 апреля 2005 г. М.: ИД ГУ-ВШЭ, 2005. 13 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 г. 14 Возможно, это не относится ко всему сообществу юристов, однако мой опыт пока свидетельствует об обратном. 15 Экономическая психология существует, но с тех пор, как в 1992 г. в Академии народного хозяйства была проведена крупная конференция по экономической психологии (основной организатор С.В. Малахов), ничего не изменилось, никаких особых прорывов пока не наблюдается. 16 International Society for New Institutional Economics (ISNIE) - международное сообщество по новой институциональной экономике. 17 Например, три года назад мы предлагали студентам проанализировать одну из глав доклада Всемирного банка на предмет владения элементами институциональной теории, и выяснилось, что, определяя институт, его авторы забыли упомянуть механизм, обеспечивающий соблюдение правил. 18 Massachusetts Institute of Technology (MIT) - Массачусетский технологический институт. 1